Сергей Смолицкий На Банковском
Предисловие автора
Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обнов-лённее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела.
Н.С.Лесков. «Запечатленный ангел»– Пап, а когда люди женятся, они всегда в другой дом жить уезжают?
Пашка сидел, подперев кулачками пухлые щеки, и смотрел на стену. Человеку четыре года – самое время для неожиданных вопросов.
– Обычно стараются. А что?
– А с собой что-нибудь берут или всё новое покупают?
– Что-нибудь берут. А ты почему спрашиваешь?
– Я, когда женюсь, с собой на новую квартиру отсюда обои возьму. Мне эти обои очень нравятся.
Я помню, как оторопел, когда это услышал.
Обои на стенах ком, наты, в которой шел наш разговор, были ужасные – ядовито-желтые, в мелких пестрых пятнышках. Мы въезжали в эту квартиру в ма, рте семьдесят седьм, ого, когда добыть в Москве приличные обои было огромной проблемой: они тогда продавались в единственном магазине около «Профсоюзной», и м, ногочасовая очередь перед его дверьм,и образовывалась задолго до открытия м, етро. Сейчас это уже трудно себе представить. Нам же по сложным обстоятельствам,, о которых речь впереди, перебираться приходилось быстро, и ремонт отложили на потом.
Но дело было совсем не в качестве обоев. Я вдруг пронзительно осознал, что сидевший передо мной маленький человек уже, сам того не понимая, любил свое родное гнездо, и эта стандартная квартира в бетонной коробке, стоящей на краю захламленного пустыря, всегда, всю его жизнь, будет ощущаться и помниться именно в таком – родном – качестве.
Мое отношение к нашему жилью в Черемушках было совсем другим,. Конечно, я радовался, впервые в свои двадцать семь лет оказавшись в квартире с горячей водой, где кухню, ванную и уборную не нужно делить с соседями. Я любил ее, но любовью скорее снисходительно-отеческой, чем сыновней: от м, еня зависело, какой ей стать. И – так уж в-ытло – вселение в эту новую отдельную квартиру связалось в моем сознании с утратой моего родного гнезда в центре Москвы, где жили три поколения моих предков. Многие стоявшие вокруг вещи, вполне уместные в старом московском жилье, здесь выглядели странно, но мне претила даже мысль поменять их на новые. Эти вещи хранили память о многом и о многих. А ведь именно добро и любовь, которые излучают старые – старинные – вещи, и превращают их из хлама в реликвии.
Предки мои – коренные, в нескольких поколениях, московские интеллигенты, и на протяжении большей части двадцатого века их жизнь тесно переплеталась с судьбами многих людей, оставивших заметный след в нашей культуре 6 и истории. Кого-то мне посчастливилось видеть самому, о ком-то слышать от старших, а о некоторых дружеских связях моих родных я узнал слишком поздно, когда задавать вопросы стало уже некому. Помочь найти информацию могли лишь вещи – письм,а, докум, енты, рисунки, фотографии и надписи на книгах. Когда я собрал вм, есте стоявшие порознь автографы, составилась удивительная ком, пания – прямо живая история: Леонид, Борис и Евгений Пастернаки, Давид Бурлюк, Юрий Олеша, Илья Ильф, Константин Симеонов, Мария Максакова, Ираклий Андроников, Наталья Ильина, Самуил Маршак, Семен Лунгин с Ильей Нусиновым, Александр Крон, Лев Аннинский, Николай Акимов, Елизавета Ауэрбах, Серафима Бирман… А потом к ним прибавились книги с подписям,и поэта и океанолога Александра Городниц-кого, американского режиссера Джеймса Камерона и капитана Жака-Ива Кусто. Это уже мне. Я перечислил лишь самые известные имена, но здесь далеко не полный список.
Многое я узнал, разбирая старые документы, а что-то поманил по рассказам старших. Мысль о том,, что все эти факты могут быть интересны и за пределами круга моих родственников, что необходим,о как-то их оформ, ить, у м, еня периодически возникала, но за каждодневной суетой всё руки не доходили. Да и основные профессиональные дела, сугубо технические, лежали далеко в стороне от круга интересов предков, бывших поголовно гуманитариями. Однако мысль о необходимости записать все, мне известное об истории моей семьи, возникала снова и снова, особенно когда что-нибудь читая, натыкался на такие, например, высказывания:
Мы проживали, тратили вещественные наследства наших отцов: не умели сберечь и умственные наследства, ими нам переданные.
Сколько капиталов устной литературы пропустили мы мимо ушей! Мы любили слушать стариков, но не умели записывать слышанное нами, то есть не думали о том, чтоб записывать. Поневоле и приходится сказать, с пословицею: глупому сыну не в помощь богатство!
(П.А. Вяземский. «Старая записная книжка».)В оправдание моих предков, почти не оста, вивших пись-менныьх воспом, ина, ний, нужно, пожалуй, упомянуть, что ИХвре-мя учило больше молчанию – просто из чувства самосохранения. Но м,не-то бояться стало уже нечего.
А потом был звонок из Петербурга: там совершенно незнакомые мне люди собирали материалы об одном из моих родственников, докторе Залм, анове. Они хотели организовать его 8 музей. Я написал подробное письмо, в котором изложил то, что знал на тот момент, и понял: всё! Надо начинать. А начав, увидел, что знаю очень мало, да и то, что знаю, нуждается в уточнениях, наведении справок и архивных разысканиях. И все это – в свободное время, так что работа шла медленно.
По мере продвижения я давал читать уже готовые главы знакомым. И тут открылась одна любопытная вещь. Не раз выходило так, что, возвращая рукопись, человек отзывался о прочитанном в целом, что-то уточнял, что-то критиковал, а потом говорил: да, кстати, знаешь, ведь у нас была похожая история, – после чего рассказывал какое-нибудь свое семейное предание, абсолютно никакого отношения к написанному мной не имевшее. Вначале даже появлялась легкая досада: ведь я писал совсем не о том!
Когда же ситуация приобрела характер закономерности, я понял – вероятно, нащупанная мной тема занимает людей не только фактами. Просто сказанное князем Петром Андреевичем Вяземским полтораста лет назад справедливо и сегодня. Многим есть что вспом, нить и рассказать, но, к сожалению, немногие это делают.
Вот я все же собрался и сделал.
Пускай моя любовь как мир стара, – лишь ей одной служил и доверялся я – дворянин с арбатского двора, своим двором введенный во дворянство.
Б. ОкуджаваКогда-то давно
Кирова двадцать два дробь два квартира десять – это первый адрес, который я запомнил наизусть. Коммуналка, где соседствовали семь семей, – одна уборная, одна кухня с двумя плитами (восемь конфорок), у каждой семьи свой кухонный стол с полкой над ним. Ванна с газовой колонкой появилась уже на моей памяти. Примусов не помню, хоть мама и говорила, что я их застал.
А вот купание в корыте на кухне при веселом оживлении соседей и соседок помню. Это мне года три-четыре.
Наша комната была самая большая в квартире – 45 квадратных метров. Маленьким я катался на велосипеде вокруг обеденного стола. Жили втроем с дедушкой и мамой. Папа с другим дедушкой и бабушкой жили недалеко, «на Водопьяном»1 (теперь этого переулка нет).
Квартира располагалась на втором этаже, и наши три окна выходили в Банковский переулок. Серая громада доходного дома Строгановского училища напротив (№ 24 по Кирова) заслоняла свет, у нас всегда было темно. В самые длинные летние дни, когда солнце поднимается высоко, оно на час-другой освещало наш подоконник, а в комнату не заглядывало никогда, вся жизнь проходила при электрическом свете. Когда, начиная с шестидесятых, знакомые стали переезжать в новые отдельные квартиры, мама, приходя в гости, всегда шла к окну – посмотреть, «сколько неба из него видно». Нам-то на отдельную квартиру надеяться было нечего – в советские времена «улучшение жилищных условий» полагалось, если на жильца приходилось меньше шести квадратных метров жилплощади – куда ж нам, с нашими сорока пятью на троих, а потом и на двоих. У мамы за всю жизнь и был фактически один адрес – не считая двух лет эвакуации и двух лет замужества – в этой комнате она лежала в люльке, здесь ее и в гроб положили.
Дедушка-то успел сменить несколько адресов, но это было в его раннем детстве, еще до гимназии. Знаю, что какое-то время их семья жила дальше по Мясницкой, в доме 32, где аптека, и еще где-то недалеко, в переулках, ближе к Маросейке. А потом, в конце девяностых (тысяча восемьсот девяностых), прадед снял эту квартиру. Тогда ее номер был 31, а дом числился как «дом Сытова на Мясницкой». Можно сказать, что там и началась наша история.
О прадеде я знаю очень мало. Звали его Лев Семенович Штих, он был отоларингологом. Имел частную практику и работал врачом на кондитерской фабрике «Эйнем» (в советское время – «Красный Октябрь»). В квартиру, о которой идет речь, доктор Штих переехал, когда семья его составилась уже полностью: младший сын, Миша, помнил переезд. Шестикомнатная квартира в центре удовлетворяла доктора со всех сторон: в ней легко размещались кабинет, детская, гостиная, комната для прислуги и несколько спален – семья-то большая. Вот она, семья доктора, на фотографии. Толстая картонка с золотым обрезом. Внизу – золото: герб, восемь медалей и изящная надпись: «В.Чеховскiй. Москва».
Прадедушка сидит, исполненный чувства собственного достоинства, облокотясь на тонконогий столик и пряча в усы полуулыбку. Рядом стоят жена и старшая дочь. Средний сын – в кресле, на нем штанишки до колен с пуговками, на шее – белый бант. Это – мой дедушка. Младшему сыну на карточке года два. Щекастый, с золотыми кудряшками, в матросской курточке и длинной юбочке, напуган происходящим. Фотографии больше ста лет, но она совсем не выцвела. Композиция идеальна, как в учебнике – лица образуют правильную фигуру, впереди мужчины в темном, сзади – дамы в светлом. В. Чеховский не зря получал свои медали.
Вот другое изображение прадеда – на картоне, смешанной техникой. Рисовал Леонид Осипович Пастернак, они со Штихами дружили семьями. Лев Семенович в гостях у Пастернаков. Судя по дате – 1892 год – дело происходит в квартире дома Лыжина, на углу Оружейного переулка и Садовой. Прадед о чем-то жарко говорит с Карлом Евгеньевичем Пастернаком, кузеном художника. Сидят давно, по-московски уютно. От вина, закусок и фруктов перешли к чаю, прадед курит. О чем эта горячая беседа? Об искусстве? О политике? О детях? Московские интеллигенты во все времена любили поговорить за столом о важном, в этом за сто лет мало что изменилось – разве что темы. Но что-что, а темы для важных разговоров жизнь всегда подбрасывала в изобилии.
Какой он был, Лев Семенович? Что любил есть на обед? Что читал? Какую слушал музыку? Как ухаживал за прабабушкой? Есть фотография, сделанная в венском ателье, на ней под руку стоят прадедушка и прабабушка – совсем молоденькая. Может, это свадебное путешествие?
Московский интеллигент конца позапрошлого века – это слишком расплывчато о родном прадеде. Но я почти ничего больше не знаю. Думаю, однако, человеком он был сильным. Из дедушкиных и Мишиных воспоминаний у меня в памяти почти не осталось фактов, скорее ощущение какой-то душевной общности – в чем-то мы похожи.
Прадед умер 26 апреля 1930 года, о чем его семья сообщила в газете «Известия» на следующий день. Моей маме было тогда три с половиной года – Лев Семенович успел понянчить внучку.
Самый младший на снимке Чеховского – карапуз Миша – прожил долгую жизнь, пережил брата и сестру, похоронил единственного сына – четырехлетнего Валечку, а потом, на склоне лет, и любимую племянницу – Натуську, мою маму. В последние годы с восторгом играл с правнучатым племянником – щекастым златокудрым херувимчиком Павликом. Успел написать стишок на рождение другого правнучатого племянника – своего тезки. Из всех, кто когда-то давным-давно стоял и сидел в ателье Чеховского на Петровке, 5, моих сыновей увидел он один. Когда он умер, младшему Мише было полтора, старшему Паше – четыре. Паша его практически не помнит – я спрашивал. Нашу квартиру в Черемушках дядя Миша никогда не видел – старенький и больной, он никуда не выходил дальше двора дома на Беговой.
Банковский и вокруг
Но дальше, дальше в путь. Как душно и тепло! Вот и Мясницкая. Здесь каждый дом – поэма, Здесь мне все дорого: и эта надпись Пло, И царственный почтамт, и угол у Эйнема2. С.М. Соловьев. Московская поэмаКороткий Банковский переулок – чуть больше семидесяти метров длиной – образован всего двумя домами, № 1 и № 2 на левой и правой сторонах соответственно. Раньше, еще в XVIII веке, он назывался Шуваловским по домовладению графа Петра Ивановича, личности весьма известной, одного из тех, с чьей помощью взошла на престол Елизавета Петровна. Как многие деятели той поры, Шувалов «отметился» и в военном деле, и в политике, и в экономике.
Именно он стоял у колыбели первых российских банков. Одному из них – Ассигнационному – граф продал свой дом на Мясницкой, после чего ближайший переулок и стали называть Банковским.
Он напрямую соединяет Мясницкую улицу с Кривоколенным переулком. Оба образующих его дома, таким образом, разными своими сторонами выходят на Мясницкую улицу, Банковский и Кривоколенный переулки и имеют дробную нумерацию. Та часть города, которая с детства осознается человеком как своя, для меня представляла собой неправильный четырехугольник, ограниченный с северо-западной стороны улицей Кирова (Мясницкой), с юго-запада – Армянским переулком, с северо-востока – Чистопрудным бульваром и с юга – переходящими друг в друга улицами Богдана Хмельницкого и Чернышевского. Две последние, правда, даже в советские времена часто называли по-старому – Маросейкой и Покровкой.
Мясницкая улица, на которую парадным фасадом выходил наш дом, имеет давнюю историю – ей больше пятисот лет. Когда-то по ней езживал в Немецкую слободу царь Петр. В послепетровскую эпоху Мясницкая была дворянской улицей. Пушкин, помянувший в своих стихах не так много московских названий, о ней как раз отозвался с большой теплотой в «Дорожных жалобах»:
То ли дело быть на месте, По Мясницкой разъезжать, О деревне, о невесте На досуге помышлять!Смешно, но мне почему-то приятно, что моя родная улица навевала Александру Сергеевичу такие уютные мысли. А совсем неподалеку, в Кривоколенном, на старом особняке, есть и посвященная ему мемориальная доска: здесь, в доме Веневитинова, осенью 1826 года приехавший из михайловской ссылки Пушкин читал «Бориса Годунова».
Кстати, название моего родного переулка я встречал и в мемуарах наших современников – Сергея Образцова и Кира Булычёва; оба вспоминают Банковский как один из первых адресов детства.
Короткое время в конце 20-х – начале 30-х Мясницкая называлась Первомайской, но после того как через нее проследовал привезенный из Ленинграда гроб с телом убитого Кирова, улица надолго стала Кировской.
Район этот входил в ту часть Москвы, которая подверглась в пореформенный период, наступивший около 70-х годов XIX века, особенно большим изменениям. Вообще тогда Москва менялась быстро и кардинально, урбанизировалась, что от мечали практически все писавшие о ней авторы. В «Спутнике зодчего по Москве» 1895 года читаем: «В рассматриваемый период времени Москва значительно изменила свою физионо-мию.<…> В это сравнительно короткое время некоторые части города стали совершенно неузнаваемы.» Или в более позднем путеводителе Звягинцева и Ковалевского 1915 года: «Реформы и прежде всего отмена крепостного права <…> изменили радикальнейшим образом условия, определявшие экономическую и социальную жизнь Москвы. С этой поры деревенская усадебная Москва безвозвратно уходит в прошлое, стремительно формируясь в законченный тип современного большого города».
Вот еще цитата, из Е.И. Кириченко, «Москва на рубеже столетий»:
Особенно показательна <… > судьба Мясницкой улицы, где находился почтамт и по которой шло главное движение от центра к Николаевскому, Ярославскому и Рязанскому вокзалам. Не случайно она в числе первых оснащалась самыми современными тогда видами благоустройства: в 1870-х годах получила газовое, в 1890-х годах – электрическое освещение, а в начале ХХ в. была вымощена брусчаткой. В 1870-х годах на Мясницкой была проложена одна из первых линий конножелезной дороги. То же повторилось в начале нашего столетия с трамваем.
В итоге к рубежу XIX – XX столетий на старой московской улице, какой была Мясницкая, осталось пять-шесть зданий, относящихся к эпохе особняков. Они стоят и поныне, большая их часть сосредоточена в дальнем от центра конце улицы.
Конечно, просвещенные современники, любившие свой город, не были равнодушными свидетелями перемен, происходивших с Москвой. Споры, очень похожие на современные, велись и тогда. Да, собственно, за сто лет они и не прекращались.
Вот – газета «Голос Москвы» за 8 января 1913, статья «Москва, теряющая свой облик». Среди спорящих – художник Виктор Васнецов и хранитель Оружейной палаты В.К. Трутов-ский. Они разделяют опасения, что «Москва, с ее узорными церквами, пестрыми главами колоколен, с ее башнями и стенами, с низенькими тихими домиками» может «потерять свой характерный, ни с чем не сравнимый облик, превратившись в обычный шаблонный город общеевропейского типа», что ее заполоняют «многоэтажные безобразные, без всякого стиля дома, похожие на гладкие ящики», что «когда появятся метрополитены, трамваи и проч., когда будут уничтожены исключительные по своему историческому значению места, как Хитров рынок, – Москва станет обыкновенным безличным европейским городом».
Мне всегда казалось, что люди, пишущие или говорящие об «обычных шаблонных городах общеевропейского типа» или «обыкновенных безличных европейских городах», на самом деле никогда их не видали, поскольку, на мой взгляд, все эти города как раз обладают своей исключительной физиономией. Вряд ли кто-нибудь, даже в большом патриотическом запале, назовет шаблонными или безликими Рим, Париж, Вену, Лондон, Копенгаген, Прагу или Варшаву. Но это к слову.
Справедливости ради автор статьи предоставляет слово и приверженцам противоположной точки зрения – председателю комиссии по городскому благоустройству Н.В. Щенкову и архитектору Р.И. Клейну. Эти господа справедливо полагали, «что Москва не в состоянии удержать старинный оттенок», что «теперешний азиатский характер города – все эти кривые улички, неправильную планировку построек и странную окраску домов – необходимо уничтожить» и «Москва должна принять европейский вид».
Таким образом, пользуясь терминами второй половины XX века, можно сказать, что Штихи поселились в районе новостроек: подавляющее большинство домов вокруг были возведены в период между началом 1890-х и Первой мировой войной. Надо заметить, что строили здесь в основном известные архитекторы: Р.И. Клейн, Ф.О. Шехтель, О.Р. Мунц и многие другие крупные московские зодчие. Сегодня фотографии этих зданий печатают в книгах о памятниках архитектуры соответствующего периода, никто не называет их безобразными, без всякого стиля, или гладкими ящиками.
Дом № 22 построил в 1893 году архитектор Дмитрий Николаевич Чичагов. Это была, наверно, последняя его работа: в 1894-м Чичагов умер. На могиле поставили памятник по собственному проекту архитектора.
Вообще Чичаговы были архитектурной семьей, причем работали они преимущественно в Москве. Основоположник династии – Николай Иванович вместе с Тоном строил Большой Кремлевский дворец. Архитекторами стали три его сына: Дмитрий, Константин и Михаил. Сын Дмитрия, Алексей, продолжил семейную традицию. Он участвовал, в частности, в строительстве Музея изящных искусств.
Д.Н. Чичагов построил в Москве много зданий. Самые известные – это Городская Дума (впоследствии музей Ленина), Тургеневская читальня и часовня Александра Невского на Моисеевской (Манежной) площади. Часовню я не застал, а в читальне занимался и в школьные, и в институтские годы. Снесли ее в конце 60-х. Красивое было здание.
Дом № 22 по Мясницкой особо не выделяется своей физиономией – это истинный буржуа («деловит, но незаметен»). Вместе с домами № 20 и № 24 он создает как бы единый ансамбль рядовой городской застройки: три дома почти одной высоты, стоящие шеренгой, дети своего времени – разные, но чем-то похожие. Думаю, что, прожив в нем больше четверти века и видев бесчисленное количество раз, я все же не узнал бы его на фотографии или плане, изображенным отдельно, вне контекста улицы.
Образующие единый квартал три дома – по Мясницкой, Банковскому и Кривоколенному, – видимо, строились без общего плана: они имеют разное число этажей и разную их высоту. Так, окна четвертого этажа, выходящие в Банковский, приходятся вровень с окнами третьего этажа по Мясницкой. Однако, явно разностильные, они всегда (и в дореволюционных справочниках, и сейчас) обладали общей нумерацией: наш адрес никогда не писался как «Банковский, дом 2», всегда было – Мясницкая (или Кирова), дом 22/2.
Владельцем этих трех примыкавших друг к другу доходных домов был потомственный почетный гражданин Сергей Иванович Сытов. Не знаю, заключал ли прадед договор найма квартиры с ним самим или с управляющим – Александром Александровичем Зайцевым.
Об этих людях мне неизвестно ничего, кроме имен и фамилий. Но само появление доктора Штиха с семьей в этом районе и в этом доме, как следует из сказанного, явление вполне закономерное. Представитель нарождавшегося среднего класса России, интеллигент в первом поколении, пробившийся своим умом и упорством, он был тем, кого американцы называют self-made man.
Для меня именно к таким, как прадед, относится девиз, который часто помещали на фасадах домов постройки первых советских лет. На литых чугунных барельефах было написано: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Почему советская власть выбрала именно этот лозунг, мне непонятно. Слова его в значительно большей степени, чем к пролетариату, относятся к уничтоженному революцией среднему классу.
Старик Коршунов
В моей жизни образ прадеда впервые возник – упоминанием – с появлением старика Коршунова. Как его звали, я не знаю, в разговорах взрослых – мамы и дедушки – он всегда фигурировал именно так: старик Коршунов. Со слов дедушки получалось, что когда-то давно старик был пациентом прадеда и с тех пор приходил регулярно по разным поводам. Дед сказал: «Отец его вылечил. Он долго болел, а отец вылечил», – и понятие «прадед» впервые наполнилось чем-то неосязаемым, но конкретным.
Коршунов был хромой, бородатый, очень старый и круглый год ходил в пальто. Жил он где-то у нас во дворе и работал столяром. Если портилось что-нибудь из мебели, заедала дверь или весной не открывались оконные рамы, звали Коршунова. Он приходил, сильно припадая на хромую ногу, чинил, что просили, брал деньги, кланялся и уходил. Расплачивался с ним всегда дедушка. По глупому обыкновению тех лет оба они очень смущались в этот момент, и деньги передавались как бы незаметно, хотя брал их Коршунов за честно сделанную работу.
Каким он был столяром, я не знаю: поводы для вызова были слишком мелкими, чтобы судить о работе всерьез. Сейчас я сделал бы все это сам и за большое дело не посчитал.
Время от времени старик появлялся без вызова. Он звонил два раза (к нам!), тихо бубнил что-то, сняв шапку, дедушка уточнял, сколько и до какого, и давал взаймы – когда пятерку, когда десятку «по-старому» (это когда пол-литра «Московской» стоили 21 рубль 20 копеек). Отдавал долг Коршунов всегда без задержки.
И еще Коршунов появлялся на праздники. Кроме «всенародных», он помнил дедушкин и мамин дни рождения и обязательно приходил поздравлять. Старик кланялся, стоя на пороге, опять бубнил что-то в бороду, дедушка благодарил, улыбался и совал мелочь из кулака в кулак. Кроме дедушки и мамы, Коршунов ни к кому в нашей большой коммуналке не ходил, а у нас возникал достаточно регулярно. Дед, сам с трудом исхитрявшийся растянуть семейный бюджет до очередной получки, иногда вздыхал недовольно: «пчела за данью полевой», но давал обязательно. Приходил старик Коршунов и консультироваться по поводу пенсии, и дед, профессиональный экономист и юрист по гражданскому праву, что-то ему перерассчитывал. Вообще старик относился к дедушке очень почтительно и всегда раскланивался на улице, старомодно снимая шапку. Наверно, он тосковал по настоящим господам. Тогда, в пятидесятые, это было трудно понять – особенно нам, детям второго советского поколения.
После дедушкиной смерти Коршунов появился всего раза два или три. Видимо, к маме, которая ему годилась во внучки, обращаться за деньгами старику было неловко, да и вообще он видел в ней человека из другой, советской жизни. При очередном его приходе у мамы не случилось денег (увы, ее обычное состояние). Она очень расстроилась тогда.
Больше Коршунов к нам никогда не приходил. Еще некоторое время я встречал его в переулках, сосредоточенно ковылявшего куда-то. Я здоровался, но он меня, кажется, не узнавал. А потом старик и вовсе исчез. Наверно, умер.
Гимназия
Итак, семья. Глава, Лев Семенович (по документам Нессанеле-Лейба Зельма-нович) Штих. Жена – Берта Соломоновна, урожденная Залманова. Их дети – старшая Анна, для родных – Нюта, средний – Александр, в семье – Шура (родился 26 октября 1890 по н.с.) и младший – Миша (23 августа 1898 по н.с.). На одной-единственной фотографии братья и сестра Штихи сняты со своим дедом, а моим прапрадедом Залмановым – благообразным, седобородым господином. Про него я знаю только, что звали его Соломон и был он купцом из Гомеля.
Сохранились Шурины и Мишины метрики. Судя по да там выдачи, документы выправлялись по поводу поступления в гимназию. Они, по-моему, любопытны, как всякий документ, выписанный больше ста лет назад.
М.В.Д.
Московского РАВВИНА Москва, апреля 28 дня 1897. № 420 Метрическое свидетельство.
Дано сие от Московского Раввина в том, что в метрической тетради части I о родившихся евреях по городу Москве за тысяча восемьсот девяностый год под № 319 графы мужеской значится акт о рождении следующего содержания:
Тысяча восемьсот девяностого года октября тринадцатого дня у вольнопрактикующего Врача Нессанеля-Лейба Зельмановича Штиха от его жены Басшевы (Берты) Зальмановой, здесь, в городе Москве, родился сын, коему дано имя Александр.
В чем подписью с приложением печати удостоверяю.
Московский раввин (Подпись).
Но это только начало документа. На обороте весь лист заполнен «писарским» почерком с завитушками:
На основании ст. 1086 т. IX Закона о состоянии, изд. 1876 г. Московская городская управа сим удостоверяет, что в метрической книге часть первая о родившихся евреях по г. Москве за тысяча восемьсот девяностый год в статье под номером триста девятнадцать мужеской графы значится так: родился октября тринадцатого Хешван одиннадцатого в 2 ч. утра обрезан октября двадцатого Хешван восемнадцатого Яузской части 1 участка доктора Эйбушица по Мясницкой улице, отец вольнопрактикующий врач Несанеле-Лейба Зельманович, мать Басшева (Берта) Зальманова сын, имя дано ему Александр; при этом в метрической книге не пополнена графа «кто совершал обряд обрезания».
Под документом печати управления пристава 1 участка Мясницкой части с припиской от руки: «Вид на жительство выдан» – и число, до которого действительна «прописка». По окончании срока действия печати обновлялись.
Интересно, сколько времени ушло у вольнопрактикующего врача или его жены на оформление свидетельства? Какие еще справки нужно было прикладывать и где их собирали? Когда я читаю сей внушительный документ, в моей памяти всплывают долгие часы, проведенные в ЖЭКах, домоуправлениях, паспортных столах и прочих милых заведениях. Хорошо бы узнать, как изменилось количество чиновников на душу населения в России за прошедшее столетие? Причем появление компьютеров, кажется, только осложняет жизнь и изощряет требования «инстанций».
Семья Штихов была музыкальной: двое старших детей, как и мать, играли на фортепьяно, младшего, как он говорил, «потянуло к скрипке», и только цепь случайностей, происшедших во время гражданской войны, не позволила ему закончить консерваторию. Как многие тогдашние интеллигенты, Штихи были далеки от религии и национальной еврейской традиции: родным языком для них являлся русский, в синагогу или церковь они не ходили. Однако числились иудеями, за что Шура и Миша в гимназии освобождались от уроков Закона Божьего (то-то радости!).
Тогдашние законы не позволяли расслабиться – только медаль за гимназию давала еврею право на поступление в университет, и только диплом о высшем образовании позволял жить в столицах, остальным полагалось проживать в пятнадцати окраинных губерниях, за чертой оседлости. А чтобы учащихся евреев не оказалось слишком много, действовал закон о трехпроцентной норме, ограничивающий количество лиц иудейского вероисповедания в учебных заведениях тремя процентами.
Впоследствии, при получении университетского диплома, Шуре предложили перейти в христианство, чтобы существенно облегчить себе жизнь. Дедушка отказался, сказав, что примет крещение, только если полюбит православную и она поставит это условием брака. Как в воду глядел – бабушка была русской. Правда, замуж вышла без всяких условий.
Из дедушкиных и Мишиных рассказов о детских играх я, маленький, запомнил главным образом оловянных солдатиков – вероятно, потому, что в моем-то детстве их не было: они появились только к концу пятидесятых и были грубыми и неинтересными. Может быть, и те, немецкие (Миша говорил – нюренбергские), дореволюционные, продававшиеся дюжинами в лубяных коробочках, ничего особенного собой не представляли, но в моем детском воображении они были прекрасны. И еще там фигурировала какая-то неопушечка, стрелявшая пистонами, – из нее вылетали резиновые пульки. При желании их можно было заменить ягодами рябины. Юные Штихи хулиганили: стреляли по окнам флигеля, стоявшего напротив, во дворе. За окнами жило семейство немцев с толстыми розовыми детьми. Думаю, что после попаданий стекла все же оставались целыми, но лица озадаченных немцев дядя Миша спустя сорок лет изображал уморительно.
С осени 1894 года Штихи стали соседями Пастернаков – Леонид Осипович получил квартиру при Училище живописи, ваяния и зодчества, от которого до Банковского переулка меньше двухсот метров. Шура с Борей были одногодками, они часто встречались, вместе играли. Младший брат Бориса, Александр, вспоминает об изобретенной друзьями сложной игре в морской бой с оловянными корабликами.
До меня из их детства дожила только книжка «Макс и Мориц». Я ее помню зрительно, потом она куда-то пропала. Стишки и картинки были смешные, но очень жестокие. Помню только:
– Я узнаю теперь заряд: Здесь духовым ружьем палят! Старик кофейником хватил И трубку в рот заколотил.Книжка сильно контрастировала с педагогически правильными стихами Барто, Чуковского и Маршака, на которых воспитывали наше поколение. Наверно, Олег Григорьев, придумавший в начале тысяча девятьсот восьмидесятых жанр «садистских стишков», тоже читал в юности про Макса и Морица.
Дети в подвале играли в гестапо - Зверски замучен сантехник Потапов.Это уже из детства моих детей. А тогда, сто лет назад, еще не придумали ни гестапо, ни даже сантехников. Братья Штихи играли в другие игры. Богатая тетя Соня Виноград, имевшая собственный выезд, подарила старшему, Шуре, на десятилетие дешевые часы, естественно, карманные. Он засел с ними в детской, открыл заднюю крышку и долго исследовал механизм. Поняв, что мешает колесикам вращаться быстро, вынул лишнее, продел нитку – получилась заводная лебедка, которая могла поднимать игрушки. Изобретение не встретило понимания со стороны родителей, талантливый механик-самоучка был наказан, испорченные часы конфискованы. А тетя Соня мелькнула в воспоминаниях только раз. Кроме имени, выезда да подаренных дедушке часов я долго ничего о ней не знал3.
Зато про «дядьку», брата Берты Соломоновны, Абрама Соломоновича Залманова, мне рассказывали много и увлеченно. Веселый и озорной, он часто играл с племянниками, должно быть, не всегда достаточно благонравно с точки зрения их серьезной матушки. Но о нем разговор отдельный.
То ли начитавшись книжек про спартанцев, то ли – по другому поводу, но как-то юный Шура решил проверить свою силу воли. Над способом (докторский сын!) ломать голову не стал: горчичник. Прилепил на грудь и долго терпел, а потом так и заснул. Отцу пришлось лечить огромный волдырь на груди «спартанца», но в целом к выходке сына он отнесся уважительно.
Помню, как я восхитился дедом, узнав эту историю: маленьким я очень боялся горчичников. Конечно, при необходимости терпел их безропотно, но считал, что переношу адские муки. Примиряла меня с этой процедурой плоская жестяная коробочка, в которой они у нас хранились. На ней между золотыми и зелеными узорами по-французски и по-русски с ятями и твердыми знаками значилось: «Горчичники товарищества В.К. Феррейн в Москве. Старо-Никольская аптека». И еще там был «царский» герб, большая редкость в пятидесятые. Хищный двуглавый, орел с коронами мне очень понравился, и я попытался его срисовать. Дедушка, застав меня за этим занятием, орла срисовывать запретил: в общей ментальности того времени старый российский герб еще прочно числился вражеским символом.
Учились братья Штихи в 4-й московской гимназии на Покровке. В разное время из ее стен вышло немало известных людей – назову хотя бы К.С. Станиславского и Н.Е. Жуковского. Здание гимназии (дом № 22) сохранилось, это бывший дом Апраксина, который в Москве в старину называли «комодом». Довелось посещать его и мне – там помещался райком комсомола нашего Бауманского района. Красивое, праздничное здание, один из немногих в Москве памятников барокко. От дома до гимназии с полчаса хода взрослого человека. Я представляю себе юных Штихов с ворсистыми ранцами за спиной и в длинных, до пят, шинелях, топающих зимой переулками в гимназию. Может быть, конечно, они ездили на конке, но для этого приходилось делать пересадку у Мясницких ворот. Получалось ли так быстрее или удобнее? Не знаю. Вопросы подобного рода начали интересовать меня, когда задавать их стало некому.
Шура был принят сразу и учился отлично – за восемь лет получил восемь наградных листов, окончил с золотой медалью. Дедушка вспоминал, что двойку он получил лишь однажды, за контрольную по математике – учитель дал ему персональную задачку, очень хитрую, «с ключиком». Листок с заданием тайком вынесли в уборную старшеклассникам, но и те решить не смогли.
Дед в детстве хорошо рисовал, занимался живописью. Сохранились его эскизы – карандашные, а потом и маслом, главным образом пейзажи, многие помечены – Лосиный остров, Сокольники. Среди сохранившихся набросков и портреты лучшего друга – Бори Пастернака.
У Миши дела сложились хуже: вступительные экзамены в гимназию он сдал, но по трехпроцентной норме принят не был. Через год пришлось повторять все еще раз, и в 1909 году Миша стал гимназистом.
С кем учился дедушка, в кого превратились со временем его одноклассники, мне неизвестно. Возможно, зная о судьбах многих из них, дед сознательно ничего не рассказывал. Детская память легко запоминает курьезы, и в моей сохранился учившийся с ним купеческий сын Петя Носов, невежественный пижон. Он именовал себя на немецкий лад Петер Назе и вошел в историю фразой в сочинении: «Мцыри был написан Пушкиным под обонянием Бальмонта» (перевожу: под обаянием Байрона).
«Отвечай мне поскорее, Шура!»
Со временем образовалась компания. Кроме молодых Штихов в нее входили близкие по возрасту двоюродные родственники из семейства Виноградов – Лена, Валериан (Валька) и Володя; Борис Пастернак, Вадим Шершеневич, Самуил Фейнберг, Борис Кушнер, Сергей Бобров, сын Льва Шестова – Сергей Листопад, Константин Локс, Сергей Дурылин и другие молодые люди, объединенные любовью к искусству, – в первую очередь, поэзии, – и музыке, конечно. Встречались в разных местах, часто – у Штихов на Банковском. Многие впоследствии стали людьми известными.
Взаимоотношения и интересы компании прекрасно описаны у Бориса Пастернака в «Охранной грамоте»:
Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением.
Часто подымали друг друга глубокой ночью.
Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовно ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных.
Я давал несколько грошовых уроков, чтобы не брать деньги у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивеньи. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире.
Александр Штих, как и остальные, тоже подрабатывал уроками – можно сказать, это была массовая профессия для молодых образованных людей той поры (вспомним многочисленных персонажей Чехова или Тэффи – студентов-учителей в богатых семействах). Шура сначала преподавал детям кондитерского фабриканта Эйнема, а затем учительствовал в семье Штуцеров. Глава семьи служил управляющим заводами в Романово-Борисоглебске. Я хорошо запомнил дедушкины рассказы об этом времени – прогулки на лодках под парусом, верхом и в санях, какая-то норовистая лошадь, с которой он совладал, не дав себя сбросить, и необычайно удачная утиная охота. Тогда вдвоем с кем-то из молодых Штуцеров они настреляли чуть не дюжину уток, но, вернувшись, тихонько сложили добычу на кухне, а домашним сказали, что пришли ни с чем. Остальная молодежь стала издеваться над неудачливыми охотниками. Пели куплеты цыганского барона, переделав слова:
Я – цыганский барон, Я стреляю ворон… —а потом, взволнованно лопоча по-немецки, с кухни прибежала хозяйка, неся в каждой руке за шеи по две утки.
Сколько раз дедушка побывал в эти годы за границей и где именно, я не помню, но Италию и Германию он видел точно. Помню его рассказ о путешествии в Альпах, как ехали из города в город дилижансом с компанией немцев. Дедушка весело смеялся, вспоминая, как немцы, занятые разговорами, равнодушно взирали на прекрасные горные виды по дороге. Однако они неукоснительно останавливали дилижанс во всех точках, упоминавшихся в путеводителе Бедекера; один из них зачитывал описание места, лежащего перед их глазами, по книге, после чего вся компания начинала громко восхищаться увиденным.
Как и все городские интеллигенты того времени, Штихи на лето обычно снимали дачу. Много лет подряд они жили в Спасском, вместе с родственниками – Виноградами. Борис Пастернак часто приезжал в гости. (Спустя несколько лет он напишет стихотворение, которое так и называется – «Спасское»: «Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском. Не сегодня ли с дачи съезжать нам пора?» – и дальше: «…и опять – вам пятнадцать», это – про Лену Виноград.) Необходимость в общении была постоянной, и, разлучаясь на время, друзья писали письма. Аккуратный Шура хранил письма друга – в итоге после всех катаклизмов двадцатого века сохранилось более четырех десятков Бориных писем к нему. Не последнюю роль в этом сыграло то, что Шура прожил жизнь на одном месте и квартира на Банковском сберегла папку с письмами Бориса.
«Дорогая душа!», «Милый Шура!», «Отвечай мне поскорее, Шура!», «Сейчас же напиши мне. Сжалься надо мной», «Я еще не получил ответа от тебя». Чем напряженнее духовная жизнь, тем чаще даты на штемпелях: Борис пишет другу по нескольку раз в неделю, через день, каждый день. Семнадцатого июля 1912 года – два письма.
«Знаешь ли, во что я верю? В предстоящий спутанный лес; во вдохновенность природы – и в твою дружбу».
«…Помнишь, я назначал какую-то далекую пятницу, <…> а потом вдруг в 6 часов я мчался на вокзал и зарывался с тобой в глубокое, глубокое лето».
«Поклон Нюте. Лене кланяйся. Поклонись и Мише. Перед Валей ляг, так и быть. Володя? Ну, провались перед ним сквозь землю».
20 июня 1910 года Боря приезжал в Спасское, где отдыхали Штихи с Виноградами. Пошли гулять втроем – Шура, Лена и Боря. Говорили, спорили. О чем? Очевидно, как всегда в молодости, о самом важном в жизни. Шура, доказывая свое, лег на шпалы между рельсами и сказал, что не встанет, когда над ним пройдет поезд (повзрослел: это вышло серьезнее горчичника). Лена уговорила его встать. Через несколько дней Борис написал в письме:
…тогда вечером я сел в купе на столик в уровень с полевой темью и весь окунулся в букет, который мы рвали втроем, между поездами. <…> Я очень много думал двумя образами, которые упорно кочевали за мной: тобою и Леной.
Ах, как ты лег тогда!
Ты не знаешь, как ты упоенно хотел этого; ты не спрашивай себя, ты ничего не знаешь; я тебе говорю – ты бы не вста,л. Можешь не верить себе – это третьестепенно. Я никому и ничему не верю, – но я это знаю, ты бы остался между рельс.
Ты ведь был неузнаваем.<…>
Но ты даже не подозреваешь, до чего я пошл!
Ведь в сущности я был влюблен в нас троих вместе.
Большая часть компании всерьез сочиняла стихи. Евгений Борисович Пастернак, сын и биограф Бориса Леонидовича, пишет:
Пастернак старательно скрывал от друзей и домашних свои первые литературные опыты. Семейное взаимопонимание было нарушено его необъяснимым и, казалось, неокончательным отказом от занятий музыкой.<…> Летом 1910 года исключением из общего правила были Александр Штих, который восхищался этими опытами и в своих собственных был близок им до подражания, и Сергей Дурылин, который умел увидеть в них, как он вспоминает, «золотые частицы, носимые хаосом», и поверить в его возможности.
И далее, уже о 1912 годе:
Александр Штих оставался самым близким свидетелем поэтических опытов Пастернака. Он восторженно принимал новые стихотворения, обсуждал и запоминал их строчки и образы и сам сочинял во многом похожие вещи. Вскоре после кончины Пастернака он принес нам свято сохраненные листочки шести стихотворений 1912 года, два из которых <…> были записаны им со слуха. На его понимание и поддержку Борис мог рассчитывать всегда. <…>
Далеко не с таким пониманием встретили Пастернака те, кто, считая литературу своим призванием, уже относились к ней профессионально. По воспоминаниям Локса, Борис Садовской, услышав чтение Пастернака у Анисимова, презрительно сказал, что «все это до него не доходит: „Все эти новейшие кривляния глубоко чужды мне“».
(Е. Пастернак. «Борис Пастернак. Биография».)
А Александр Гавронский, двоюродный брат Иды Высоцкой (той самой «девушки из богатого дома», дочери чаеторговца Высоцкого), «с великим трудом собрал, лицо в серьезную складку и, поборов внутренний смех, заявил о том, что „здесь излишек содержания в ущерб форме…“ или что-то в этом роде, „что это нехудожественно – и – слишком глубоко для искусства“». (Там же.)
В отличие от многих молодой Шура Штих оценил Борину гениальность сразу. Дружба их продолжалась. Борис мучительно метался в поисках своего призвания, стихи долго не считал главным в жизни, собирался стать композитором, философом. Преподавание философии в Московском университете его не удовлетворяло, и Пастернак уехал учиться в Марбург – тогдашнюю философскую Мекку – к профессору Когену. То марбургское лето 1912 года значило в жизни Бориса очень много – отвергнутое предложение Иде Высоцкой, разочарование в философии. Письма Шуре шли одно за другим: известны от 18, 27 июня, 3, 7, 9, 11, 14, 17(два письма), 18, 19, 22, 25 июля и далее.
Милый Шура. Господи – мне нехорошо. Я ставлю крест над философией.
…Шура, Шура; ты мне не поможешь: надо заразиться сейчас моим состоянием.<…> Захочешь ли ты это? Но пиши, пиши мне. А когда мы свидимся, я вложу уже тебе в уста все то, что мне нужно услышать от тебя. И тебе не будет трудно.
Подробно свои чувства и события того времени Пастернак описал в «Охранной грамоте» и «Марбурге». Но первым о принятом решении узнал Шура: «.я бросаю все; – искусство, и больше ничего» (11 июля 1912, Марбург). А вернувшись в Россию, Борис привез другу сувенир – бронзовый дверной молоток в виде чертика. Александр Львович хранил его всю жизнь на письменном столе, а после дедушкиной смерти мама повесила чертика над своим диваном, только попросила меня – двенадцатилетнего – отпилить неэстетичную верхнюю петлю для крепления (если молоток не использовать по прямому назначению, она вроде бы не нужна). Думаю, сейчас я уговорил бы ее оставить исторического чертика в первозданном виде. Но тогда, в 1962-м, отпилил и содеянным гордился.
Мама вообще не испытывала благоговейного трепета перед старыми вещами, когда они ветшали, эстетика значила для нее больше, чем факт раритета. Маленьким, задолго до прочтения романа Дюма, я был очарован французскими мушкетерами. Все в них выглядело для меня прекрасным: плащи, шляпы с перьями, сапоги с отворотами – все. И конечно же, шпага. Изящная, легкая, ею дрались так красиво, убивали так изысканно. В общем – мечта. Причем счастьем казалось просто постоять в Историческом музее перед витриной со шпагами. Подержать ее когда-нибудь в руках я и не надеялся. И как-то раз дедушка – мой дедушка Александр Львович, такой маленький, негероический и даже неспортивный, поняв мое отношение к этому предмету, засмеялся, полез в сундук и вынул оттуда… – я не верил своим глазам. Шпага. Клинок, правда, поржавел, но эфес! – бронзовый, с человеческой головкой вместо шишачка и с дырочкой для темляка. Ножны – кожаные, мягкие, местами рваные. Шпага оказалась дедушкиной. В армии он никогда не служил, но до революции она являлась частью студенческого парадного мундира. В общем, предмет скорее бутафорский, клинок из слабой стали легко гнулся, но все равно – хоть и студенческая, однако настоящая. Я был счастлив. Я ее трогал, таскал за собой, чуть ли не спать с ней ночью улегся.
Потом очень скоро меня увезли на дачу, куда взять шпагу, конечно, не разрешили. В мое отсутствие на Банковском случился капитальный ремонт. Как при всяком ремонте, выбросили много всякого старого хлама, в том числе и шпагу, попавшуюся маме под горячую руку в момент обновления жилья. Может, шпага и была некрасивая, я ее плохо запомнил – мне даже не довелось как следует с ней поиграть. Справедливости ради нужно сказать, что ошибку свою мама потом осознала, более того – даже пыталась исправить много лет спустя (я уже учился в институте), подарив мне шпагу, переделанную знакомыми художниками из спортивной рапиры. Честно говоря, мне до сих пор ее жалко, дедушкину студенческую шпагу.
А марбургский чертенок с отпиленным для эстетики крепежным ушком переехал с нами в Черемушки и занял почетное место на книжной полке.
Первые публикации
В 1913 году Борис Пастернак опубликовал первые стихи в альманахе «Лирика». Шура получил в подарок экземпляр с надписью:
Шуре Штих.
Другу, опоре в трудные минуты.
Б. Пастернак.
7 апр. 1913.
В том же 1913-м у Бориса вышла и первая собственная книжка – «Близнец в тучах». Дарственная надпись Шуре гласила:
Истинному, незабвенному другу, любимому Шуре, до скорой встречи с ним на подобной странице, от всего сердца Б. Пастернак 21.XII.1913.
Два стихотворения в ней посвящены другу Шуре – это ранние редакции известных стихотворений «Девственность» и «Венеция» Поскольку впоследствии они всегда печатались в поздней редакции, я привожу здесь ту, первую:
Ал. Ш. Вчера, как бога статуэтка, Нагой ребёнок был разбит. Плачь! Этот дождь за ветхой веткой Ещё слезой твоей не сыт. Сегодня с первым светом встанут Детьми уснувшие вчера, Мечом призывов новых стянут Изгиб застывшего бедра. Дворовый окрик свой татары Едва ль успеют разнести, — Они оглянутся на старый Пробег знакомого пути. Они узнают тот, сиротский, Северно-сизый, сорный дождь, Тот горизонт горнозаводский Театров, башен, боен, почт. Они узнают на гиганте Следы чужих творивших рук, Они услышат возглас: «Встаньте Четой зиждительных услуг!» Увы, им надлежит отныне Весь облачный его объём И весь полёт гранитных линий Под пар избороздить вдвоём. О, запрокинь в венце наносном Подрезанный лобзаньем лик. Смотри, к каким великим вёснам Несёт окровавленный миг! И рыцарем старинной Польши, Чей в топях погребён галоп, Усни! Тебя не бросит больше В оружий девственных озноб. ВенецияА.Л.Ш. Я был разбужен спозаранку Бряцаньем мутного стекла. Повисло сонною стоянкой, Безлюдье висло от весла. Висел созвучьем Скорпиона Трезубец вымерших гитар, Ещё морского небосклона Чадящий не касался шар; В краю подвластных зодиакам Был громко одинок аккорд. Трёхжалым не встревожен знаком, Вершил свои туманы порт. Земля когда-то оторвалась, Дворцов развёрнутых тесьма, Планетой всплыли арсеналы, Планетой понеслись дома. И тайну бытия без корня Постиг я в час рожденья дня: Очам и снам моим просторней Сновать в тумане без меня. И пеной бешеных цветений, И пеною взбешённых морд Срывался в брезжущие тени Руки не ведавший аккорд.В 1928 году Пастернак готовил издание сборника «Поверх барьеров», для которого переработал многие ранние стихи. Своего экземпляра «Близнеца в тучах» у Бориса Леонидовича не оказалось (как позже сам он написал: «.Не надо заводить архива, Над рукописями трястись»), и он взял дедушкин. Большинство стихов были сильно переделаны, причем правил Пастернак прямо по Шуриной книжке. «Венеция» и «Девственность» сильно изменились. Другое время, другие стихи. В переработанном виде стихотворения печатались уже без посвящений.
Шура тоже посвятил другу стихотворение, написанное в 1913 году. По свидетельству литературоведа Эдуарда Штейна, Борису Леонидовичу оно нравилось и много лет спустя:
Осень
Б. Пастернаку Тихо и печально в роще опустелой, Только бьется грустно пожелтевший лист. Воздух онемелый В хрустале лазури, как забвенье чист. Тихо и печально. Солнце холоднее. По утрам в тумане Долго цепенеет грустная земля. Тучи, словно к ране Льнут к земле, покоя черные поля. Солнце холоднее. И покорно сердце сну, который долог. Длится, длится, длится сумрак огневой. Тихий росный полог Опустила осень грустно над землей. И покорно сердце.В 1912-м в письмах Борис хвалил стихи и стиль друга:
…Из стихов, которые ты прислал мне, – наилучшее, замечательное по музыке: Звезды моей и т.д. Удивительно и то (по содержанию), где кровью отмечается счастья путь. Но я говорю это наспех тебе. Потому что – мы обо всем переговорим.
(11 июля 1912, Марбург.)
Милый Шура! Из твоего письма я унес на себе какие-то паутинки, кусочки хвои, сырость леса, отголосок какой-то речи простуженного: так оно естественно. Кстати – тебе удаются иногда поразительно краткие, выразительные определения – при помощи тех слов, которые редки в обиходе – но не редкостны – и которые поэтому не только всегда уместны, но и хотят исправить обиход.
(8 июля 1912, Марбург.)
Однако вскоре как поэт Пастернак сильно перерос друга юности. Шура готовил публикацию книжки и попросил Бориса помочь придумать название, псевдоним и, главное, написать предисловие. Но в 1914-м Пастернак уже понимал, что стихи друга слабы, а судить по счету ниже гамбургского в поэзии не мог, да и не хотел. Он ответил длинным письмом, где подробно объяснял причины, по которым написать предисловие не может:
1 июля 1914, ПетровскоеШура!
Какое тяжелое лето! Разрыв за разрывом!
И наши отношения тоже на волосок от гибели.
В твои руки предаю их и предаюсь. <…>
Если бы я написал тебе предисловие, то мог бы это только дружески искренно и художественно недобросовестно сделать. А это предисловие к стихотворениям – и вот я отказываюсь писать его. Минуту. Только при безусловном доверии могу дальше говорить с тобой. Самое грубое и жестокое о самом себе я уже сказал; хотя бы за это только слушай дальше. Я должен (чтобы писать в печати о твоих стихах) в воображении представить себе ту область, в которой одно только имя сейчас способно взволновать меня; но это имя принадлежит к целому течению; и этим именем то течение свято для меня. Всякое отступление отрезано мне: потому что Маяковский это я сам, каким я был в молодости, быть может, еще до Спасского, – и даже прошлое не сможет заступиться за твоего друга против его недруга.<…>
К чему тебе предисловие? Ты знаешь историю предисловия к «Близнецу»? От меня требовали собственного. Я отказал.<…>
Ты допускаешь возможность предисловия? Значит, есть у тебя сознание какой-то атмосферы и какого-то душевно-лирического строя, из коего они вышли; и может быть, этот строй, на твой взгляд, недостаточно ясно или, говоря о таком предмете, недостаточно неясно означен самими стихами? Тогда кто же, как не ты сам, способен наилучшее в этом духе предисловие написать. Тогда это было бы тем, что задумывал ты в своих статьях, что Николай Асеев в своем послесловии дал. Достань «Ночную флейту», и ты поймешь, о чем я говорю.
Есть другие предисловия – партийные. Я вообще не способен их дать. В данном случае нелепо было бы об этом и думать. <…>
Однако, единственное содержание этого письма уже настолько тебя против меня восстановило, что ты вероятно сочтешь преувеличением тот тон, в котором я говорю о трагедии моих первых шагов.
Напиши мне, пожалуйста, какие стороны хотел бы ты оттенить в заглавии или какое стихотворение думал бы сделать центральным в книге. Этим ты дал бы мне в руки путеводную нить – без которой я чувствую себя слишком произвольно неопределенно. То же и о псевдониме. Что бы ты хотел выразить в нем. Эти две услуги – с радостью окажу тебе, хотелось бы только угодить тебе и чтобы это возможно было – ответь мне, пожалуйста на эти вопросы.<…> Жду твоих распоряжений.
Твой Боря.
Но родителям тогда же Борис написал откровеннее:
Шура Штих осенью хочет свои стихотворения изда-вать.<…> Они лиричны, теплы, искренни, но бледны, там же, где он становится смелее, я невольно готов его спросить, к чему мне самому издаваться вторично в расширенном, дополненном и разъясненном издании.<…> Есть какая-то глубоко вырытая канава между вечно верным себе дилетантическим дарованием и себя не щадящим, вечно себе изменяющим дарованием художественным. О как неисправимо всегда и везде священнодействует дилетант. Какое отсутствие иронии над собой, смешка, легкости, простоты и какого-то будничного недоумения перед тем, как празднуют свои будни окружающие.
Шура отобрал для книги тридцать шесть стихотворений. Они неоднородны – и по настроению, и по силе. Но некоторые, по-моему, вполне заслуживают добрых слов. Как это, например:
И открывал мне каждый поворот Иные и неведомые дали. А я забыл, что дома у ворот Меня покинутые ждали. А я забыл и шел, и падал каждый шаг Как мысль о том, что я один на свете. Чертила даль таинственный зигзаг, И мне лгала о жизни. о поэте. О мне самом лгала. А разве я что знал О вечности, покинутой для дали. – Меня мой дом опустошенный ждал, Меня покинутые ждали.В итоге книга вышла – под собственным именем автора, с простым заглавием «Стихи» и без каких-либо комментариев – только текст и содержание. Однако это случилось позже, в апреле 1916 года. Борис тогда работал на Урале, в конторе химического завода. Шура прислал другу книжку по почте и получил в ответ письмо: «.от этого первого дыхания веет истинной свеже-стью.<…> Дай Бог тебе истинного преуспеяния на этом пути, я страшно рад за тебя.»
Несостоявшийся журнал
В июле 1914 года Александр Штих окончил курс Московского университета по юридическому факультету и получил диплом первой степени. На упоминавшейся мной метрике это событие нашло свое отражение: возле очередной печати пристава, гласящей, что «вид на жительство выдан», вместо даты следующей перерегистрации появилась запись «Бессрочно».
А в августе 1914 года началась Первая мировая война. Шура не подлежал призыву по зрению – уже на его детских фотографиях заметен характерный близорукий прищур. Борис Пастернак также избежал призыва – после падения с лошади в детстве у него одна нога была короче другой. По разным причинам из всей компании на фронт попал только бывший одноклассник Вали Винограда, Сергей Листопад, в которого была влюблена Лена, Валина сестра. В 1916 году Сергей погиб. Лена переживала эту смерть очень тяжело.
Странно, но война, как и революция, в воспоминаниях дедушки и дяди Миши занимала мало места. Молодых людей тогда больше интересовала литература. Шура Штих с Борисом Куш-нером задумали издание журнала. Они издали проспект с декларациями и условиями подписки.
При взгляде на проспект видно, что молодые издатели восемь с лишком десятков лет назад хорошо знали факт, не известный нам всю советскую эпоху: периодическое издание живет бо-44 лее за счет рекламы, чем за счет подписчиков. Но это к слову.
Но дальше проспекта дело так и не пошло. А весной 1916-го, за полгода до «Стихов», вышел «Второй сборник Центрифуги». В нем под псевдонимом Г. Ростовский было напечатано одно стихотворение Александра Штиха. Оно написано в 1914 году и в книге имеет посвящение Л.Л. (я не знаю, кто это).
…в мире около большого тернового куста на границе рассудка.(Крейслериана. Э.Т.А. Гофман.) Завит в эти путаные переулки Мой безумный, мой тяжкий танец, И невнятные слова, как у пьяницы, Срываются с помертвевших губ. Ах, не верьте, не верьте, не верьте. Шаги мои спутаны и гулки, Но это от боли, от боли, -От той, что сестра смерти, Сестра помертвевших уст. И путь один, один, туда – на границу рассудка, Где терновый куст.Мой (теперь мой) экземпляр альманаха «Центрифуга» весь пожелтел, края страниц потрескались и осыпаются. На титульном листе значится: «Книга отпечатана 5 апреля тысяча девятьсот шестнадцатого года в Москве типографией „Автомо-билист“ для книгоиздательства ЦЕНТРИФУГА в количестве ста восьмидесяти одного нумерованного экземпляра и девятнадцати именных». И чуть ниже, отделенное чертой: «Экземпляр Александра Львовича Штиха».
Елена
Во времена Хрущева рассказывали анекдот – как напишут про генсека в энциклопедии через тысячу лет: «Враг племени Мао. Современник Аркадия Райкина». Тогда это казалось смешным.
Самое смешное в этом анекдоте то, что те, кто его сочинял, отодвинули забвение Хрущева слишком далеко – сегодняшние дети про него уже не знают практически ничего, кроме того, что он стучал ботинком по трибуне ООН. Правда, про Райкина тоже почти забыли. Мы выросли в убеждении, что главные события истории – это войны, революции, перевороты, заговоры. Однако биографию Пушкина и его стихи подавляющее большинство людей знает лучше и подробнее, чем прочие происшествия и персонажей девятнадцатого века. Массовое убеждение противоречит массовому опыту. Так часто случается.
Если и в следующем веке в России еще будут читать и любить стихи, то – как знать! – возможно, многие станут считать самым значительным событием русской жизни 1917 года написание Пастернаком книги стихов «Сестра моя – жизнь», а совсем не Великую Октябрьскую. Книга стихов о любви, сочиненная влюбленным молодым поэтом. Героиней книги была Елена Виноград, которую Борис тогда любил со всей страстью:
Любимая – жуть! Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный. И хаос опять выползает на свет, Как во времена ископаемых.В биографии поэта его сын пишет об этом времени: «Стихи шли сплошным потоком, писались день за днем, как дневник, становясь вместилищем переполнявшей сердце радости, преодолением тоски и горя». И дальше: «Елена Виноград была не права, когда считала, что у них с Пастернаком нет будущего, – в стихах, посвященных ей, им обоим открывалось вечное будущее».
Думал, – Трои б век ей, Горьких губ изгиб целуя: Были дивны веки Царственные, гипсовые. Милый, мертвый фартук И висок пульсирующий. Спи, царица Спарты, Рано еще, сыро еще. (Елене.)Ее фотографии той поры очень красивы. В нее влюблялись. В одно время в нее были влюблены сразу и Борис Пастернак, и Шура Штих.
Милый Шура! Мне неприятно, что мы так расста-лись.<…>Ты, кажется, любишь Лену. Уже само предупреждение о том, чтобы ты со мной о ней не заговаривал, заключало бы довольно двусмысленности для того, чтобы на долгое время отказаться от всяких встреч.
Это неприятно и нескладно, но делать нечего.
Твой Боря.21 декабря 1917Однако разрыва не случилось. А вскоре, весной 1918, Елена Александровна вышла замуж.
Николай Александрович Дороднов тоже учился в одном классе с ее братом Валерианом. Он происходил из старообрядческой семьи, глава которой, его отец, владел мануфактурой под Ярославлем. В 1921 году у Николая и Елены Дородновых родилась дочь Татьяна.
Судьба Николая Александровича сложилась жестоко: дважды репрессированный, он умер в заключении – если верить материалам дела, в 1941 году от сердечного приступа. Елена Александровна пережила его на сорок пять лет.
Я знал ее как тетю Лену, уже седой старушкой. Она жила недалеко – в районе Разгуляя, около Елоховского собора, и нередко приходила в гости к дедушке. Особенно запомнилась ее манера говорить – певучая и мягкая, с богатыми модуляциями, но при этом очень сдержанная. Темами разговоров бывали последние художественные выставки (и она, и дедушка посещали их неукоснительно), театральные премьеры или новые книги, которыми они обменивались. Интерес к искусству в них нисколько не ослабел.
Я плохо рисовал. Классе в пятом, когда у нас появились учителя-предметники, рисование стал преподавать Моисей Фридрихович Шлитнер, человек увлеченный, чудаковатый и немного нелепый. Я написал «Моисей Фридрихович», но на самом деле я не знаю точно, как его звали. Половина школы звала его так, а половина – Фридрихом Моисеевичем. Он отзывался на оба имени. Самое интересное, что много лет спустя в разговоре с Любовью Павловной Добышевой, бывшей нашей директрисой, я спросил ее, как же звали нашего учителя рисования (а впоследствии и черчения). Оказалось, что и она не знала точно.
Моисей Фридрихович (пусть уж так) учил нас рисовать с натуры. Сначала чучело утки, потом манекен в школьной форме, а потом гипсовую копию Амура Фальконе. Я очень старался и считал, что кое-что у меня получается, а Амур так просто удался. Моисей хвалил, – наверно, из педагогических соображений, а может, потому, что за исключением двух-трех хорошо рисовавших ребят другие делали это еще хуже. В один из своих приходов тетя Лена, спрашивая меня об учебе, поинтересовалась и рисованием. Я с гордостью притащил ей альбом с Амуром. Она искренно расстроилась. «Шура! Сережа очень плохо рисует. Почему ты его не учишь?» Не помню, что ответил дедушка, меня тогда удивила степень ее реакции по такому пустячному, как я думал, поводу. Меня никогда не ругали за плохие отметки по пению и рисованию – считалось, чего Бог не дал, тому не выучишь. Видимо, тетя Лена придерживалась другой точки зрения и в полном неумении рисовать внука Шуры Шти-ха видела опасные признаки надвигающегося общего упадка культуры. Наверно, она была права.
Тетя Лена пережила всех друзей своей юности. Последний раз я встретился с ней, когда она приходила прощаться с умершим дядей Мишей. Маленькая седая старушка с тихим голосом, она говорила мне что-то хорошее, просила прощения (у меня!) за какие-то старые свои вины перед Мишей и Шурой, которые оба к ней всегда прекрасно относились. Извинялась, что в крематорий не поедет (кремация должна была состояться на следующий день). Говорила о внуках – младший, Коля, как раз закончил институт. Я вышел в другую комнату, чтобы оставить ее одну у гроба, попрощаться. Гедда Шор, подруга моей покойной мамы, спросила меня, кто это? Я сказал: «Тетя Лена, дедушкина двоюродная сестра. Знаете, у Пастернака стихотворение „Елене“?» Гедда, прекрасно знающая стихи Пастернака, громко охнула: «Царица Спарты!» – и зажала себе рот рукой: сказано было достаточно громко, чтобы услышали в соседней комнате.
Охранная грамота
Революция застала Александра Штиха в Романово-Борисоглеб-ске. Параллельно с учительством в семье управляющего Романовской льняной мануфактурой он состоял еще и заводским служащим. (Впоследствии всю свою жизнь дедушка проработал именно по этой, полученной в университете, специальности – гражданское право и экономика, причем именно в легкой промышленности.) В его бумагах оказалось несколько удостоверений, датированных осенью 17-го – началом 18-го годов, которые свидетельствуют о его участии в событиях того времени. Так, 23 сентября 1917 года секретарь профсоюза торговопромышленных служащих Александр Львович Штих избирается представителем этого союза в Комиссии по организации Уездного Совета Рабочих Депутатов. (Здесь к месту умилиться обилию заглавных букв: революционеры, упразднив на первых порах все чины и сословия, позаимствовали у предшественников пафосное написание – как раньше «Милостивый Государь», «Государь Император» и т.д.)
5 ноября член президиума Рабочего комитета фабрики Товарищества Романовской льняной мануфактуры А.Л. Штих командируется в город Москву в Комитет по льняной и джутовой промышленности, 12 декабря «приложением печати свидетельствуется», что он уже состоит членом Романово-Борисо-глебского Уездного Совета Рабочих депутатов. А января 10 дня 1918 года Продовольственный отдел при Ярославском Губернском совете Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов направляет члена Романово-Борисоглебского Совета Рабочих Депутатов Штиха в Петроград, в Министерство продовольствия4 для выяснения вопроса о плане снабжения Ярославской губернии продовольствием, просит «оказать все возможное содействие нашему полномочному представителю» в решении вопроса о продовольствии, а заодно и «оказать содействие в первую очередь при его проезде на первых поездах без задержки провозить по железным дорогам» (именно так в оригинале – С.С.). Что ж, приметы известные: раз у власти большевики, значит, и с продовольствием плохо, и проехать без мандата невозможно.
Однако вскоре так стремительно начавшаяся общественно-политическая карьера деда прервалась. Что послужило тому причиной, я не знаю – возможно, идейные разногласия, а может, непролетарское происхождение. Точное время его возвращения в Москву мне тоже неизвестно, однако я знаю, что уже зимой 1918-19 Александр Львович работал в Табачной секции Главсельпрома и жил в квартире на Банковском. Он, по-видимому, не согласился с Юлием Цезарем относительно того, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, и из Полномочного Представителя Губернского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов превратился в среднего московского служащего. Оно и к лучшему, я думаю. Мало кто из деятелей тех лет, занимавших высокие посты в начале революции, в дальнейшем избежал страшной участи.
Так или иначе, в начале 1919 года семья Штихов обитала в квартире 31 дома 2 по Банковскому переулку в полном составе. Жизнь в тот период лучше всего характеризуют слова Бориса Пастернака: «в года мытарств, во времена немыслимого быта». Интеллигенция была по теперешней терминологии «поставлена на грань выживания», только сейчас это выражение применяется в переносном смысле, а тогда – в прямом. Шла гражданская война. Советское правительство официально объявило политику Красного террора: лиц непролетарского происхождения по разнарядке брали в заложники. Их списки печатались в газете «Красный террор». В случае побед белых на фронте или других неудобных большевикам событий заложников расстреливали. Списки казненных публиковали в той же газете – правительство хотело, чтобы об этих действиях знали все и не находило нужным их скрывать. Заложников не путали с теми, кого арестовывали и судили за какие-либо прегрешения перед Советской властью вроде принадлежности (в прошлом) к «неправильным» партиям или высказывания небольшевистских идей. М. Лацис учил в той же газете:
Мы не ведем войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательства того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого.
В качестве заложников – по официальным данным – советская власть уничтожила несколько десятков тысяч человек.
Семью Штихов, однако, миновала самая страшная судьба (возможно, помогло то, что при новой власти они сразу пошли на службу?). Лев Семенович стал работать в госпитале. Миша в мае 1917 года окончил гимназию, получив серебряную медаль. В том же году он пошел работать в Наркомздрав и поступил на медицинский факультет Московского университета. Одновременно Миша учился в Московской консерватории по классу скрипки. Его учил преподававший тогда в Москве Р.Ю. Поллак.
К этому времени относится документ, в шестидесятые годы сданный мамой и дядей Мишей в Институт Маркса – Энгельса – Ленина. Бумага заслуживала того – она была собственноручно написана Лениным. При передаче ее в архив мама робко заикнулась об оплате, но ей строго заметили, что письма великого вождя мирового пролетариата – святыня, поэтому денег ИМЭЛ не платит никому. Дядю Мишу, как очевидца и участника событий, попросили написать в «Советскую Россию» статью об истории документа – охранной грамоты на нашу квартиру.
Забегая вперед, нужно сказать, что в результате целого ряда жизненных перипетий Михаил Львович Штих стал журналистом, поэтому статьи сочинять умел. Написанное им о ленинском документе тогда не опубликовали, но черновик сохранился. Сегодня многие его места читать смешно, однако жившие тридцать лет назад помнят, как выглядели статьи о деяниях Ленина. Интересно, каким получилось бы описание этих событий, доживи дядя Миша до наших дней. Привожу здесь черновик целиком, как я его нашел в Мишиных бумагах.
20-е января 1919 года… Какие дела первостепенной государственной важности решал в эти дни Владимир Ильич Ленин? Можно ли предположить, что этот день был для него менее напряженным, чем сотни других, рассчитанных по минутам, полных неимоверного, гигантского труда,? Судите са,ми. (Здесь предпола, галась вставка – перечень документов, подписа, нных Лениным в этот день, составленная по архивным да, нным.5)
Но еще нигде не было отмечено, что в безмерной занятости этого дня, занятости важнейшими государственными делами, Ленин нашел несколько минут, чтобы принять живое участие в судьбе одной московской семьи. Это была семья, старого врача Л.С. Штиха. И нам не обойтись без краткого рассказа о ней – рассказа, в котором содержится предыстория одного волнующего документа.
… Сын полунищего бродячего ремесленника из ковенско-го предместья, Лев Семенович Штих пробил себе дорогу редкостным упорством и многолетним трудом. С 14 лет он уже становится «самостоятельным человеком». Зарабатывает на хлеб и на обра, зование грошовыми урока,ми – репетирует ленивых оболтусов, сынков богатых скупердяев. (Много лет спустя эту невеселую первоначальную специальность отца и его необыкновенную па, мять не раз с благодарностью помянут сыновья – ученики Московской 4-й гимназии, хотя и ходившие, по-теперешнему говоря, в отличниках, но подчас тоже нуждавшиеся в «скорой помощи» по какому-нибудь каверзному латинскому переводу или сложной алгебраической за, даче.) Но вот, наконец, приобретена настоящая специальность. В середине 80-х годов окончен медицинский факультет Московского университета, и через некоторое время доктор Штих становится одним из лучших отоларингологов Москвы. У него большая квартира, но семья живет очень скромно, без всяких излишеств. Некоторые коллеги считают доктора Штиха «непрактичным человеком»: в его приемной добрую треть соста, вляют бесплатные па, циенты, а кой-кто из них выходит иногда из кабинета,, унося с собой гривенник или пятиалтынный на лекарство («Ладно, ла, дно, когда-нибудь разбогатеешь – отдаешь»).
Итак, перенеситесь мысленно в эту квартиру, которая является важным «действующим лицом» нашего рассказа – в квартиру № 316 в доме № 2 по Банковскому переулку. Приближается знаменательный день 20 января 1919 года, о котором мы говорили в начале. Квартира еще живет своей обычной жизнью того времени. Вечер. На кухне готовится приятный обеденный сюрприз: котлеты из конины и роскошные лепешки из картофельной шелухи с сахарином. Постепенно собираются «служивые» домочадцы. Приходит глава семейства из своего отборочного (? – С.С.) госпиталя, где он теперь работает ординатором. Появляется и повествует о делах «курительных» ста, рший сын Александр – секретарь коллегии «Гла, втабака,». Вслед за ним – младший, Михаил, юный делопроизводитель 2-го разряда одного из отделов Наркомздрава, молча, с хода берется за скрипку: он готовится к поступлению на старший курс Московской консерватории. В квартире – вполне мирное сосуществование двух музыкантов: уже упоминавшегося делопро-изводителя-скрипача и его сестры – пианистки Анны.
Но беда, как говорят, никогда не приходит одна. Сперва у доктора прибавляются свои, домашние пациенты: серьезно за, болевают дочь, жена и ее старуха-мать. А затем – гром среди ясного неба,, вернее, из канцелярии, расположенной напротив, через лестничную площадку. Там работает какая-то страхкасса, и ее начальство решило сделать свое служебное помещение попросторнее, и вот, районный жилотдел выносит грозное категорическое постановление: доктору Штиху Л.С. в срочном порядке освободить занимаемую им и его семьей квартиру.
– Куда же деваться?
Отвечают коротко и вразумительно:
– А это уж ваше дело.
Отец и старший сын заметались по разным вышестоящим инстанциям – имевшим и не имевшим прямого отношения к таким делам. Не имевшие – сочувственно ра, зводили руками. Имевшие – сухо подтверждали: постановление – окончательное. Выселяйтесь!
Кто же может помочь в беде? Вместе со всеми членами семьи тщетно ломает себе голову их близкий родственник доктор Залма, нов. Он – известный терапевт, один из руководящих работников На, ркомздрава,. Залма, нов лечит Надежду Константиновну Крупскую, его знает Ленин. Но, конечно, ни «срочно выселяемые», ни он сам даже мысли не допускают о том, чтобы как-то воспользоваться этим обстоятельством, попытаться привлечь внимание Ленина к таким мелочам.
Тем временем об этой передряге прослышала Анжелика Балабанова, работавшая в аппарате 3-го Интернационала. Она знала старого доктора как его па, циентка и как давнишняя знакомая его коллеги и родственника Залманова.
Она и позвонила ему по телефону «на Банковский» – аккурат в один из тех суматошных дней у нее появилась необходимость посоветоваться с ларингологом. Она услышала, что очередного приема больных не будет.
Но, видимо, еще лучше, чем они, знала она и намного вернее, чем впоследствии, понимала душевную отзывчивость и великую справедливость другого человека…
Впрочем, рассчитывать на какое-либо содействие с этой стороны тоже вряд ли приходилось: руководство жилотделом и Третий Интернационал соприкасались между собой примерно так же, как две параллельные линии, которые, по законам геометрии, пересекаются только в бесконечности. В общем, никаких надежд не оставалось. Оставалось только с часу на ча,с ожидать звонка в прихожей, вслед за которым появятся дюжие исполнители непререкаемого постановления и начнут вывозить вещи на какой-то неведомый склад.
И вот, вечером 20 января звонок прозвучал – долгий, настойчивый. Но, как ни странно, это были вовсе не «исполнители».
– Ничего не понимаю, – растерянно ска, зал гла,ва семьи. – Какой-то пакет из Кремля…
Он торопливо вскрыл конверт и увидел небольшой листок с текстом, написа, нным красными чернилами.
Он молча читал и снова перечитывал эти строки. Да, все это было реально и нереально: внезапная близость человека, чьей рукой только что были написаны эти строки.
Да, так там и было написано:
«Выселение семьи доктора Л.С. Штиха приоста,но-вить и не выселять ее вплоть до особого распоряжения, так как, согла, сно удостоверению т. Анжелики Балабановой, в семье несколько больных и несколько на советской службе.
В. Ульянов (Ленин)».
Это было невероятно, это с трудом умещалось в сознании. И надо было еще и еще раз, без конца перечитывать короткие строки, чтобы понять наконец все значение свершившегося, окончательно поверить в его реальность. Так они и делали. В доме в тот вечер «несколько больных и несколько на советской службе» ходили необычно взволнованные. И само существование 6о ленинского письма странным образом отодвигало на второй план повод, по которому оно было написано. И самое удивительное, самое радостное было даже не в том, что беда миновала, а в том, чья рука отвела эту беду.
«Самый человечный из людей»… Эти слова были сказаны много позже, годы спустя.
Да, именно так – и спустя годы – заново переживали тот вечер два близких мне человека – мой отец и его брат. А тогда, на следующий день, 21 января 1919 года они понесли ленинское письмо в жилотдел. Там, после довольно долгого ожидания они получили аудиенцию у одной особы – молодой и чрезвычайно энергичной. Едва услышав их фамилию, она сразу же раскипятилась:
– Вам русским языком было сказано: постановление – окончательное и обжалованию не подлежит!
И тут словно какой-то бес толкнул ее к последнему «решительному выпаду», который в данной ситуации приобретал вовсе неожиданный и даже несколько юмористический оборот:
– Больше не ходите сюда! – ска, зала она максимально повышенным тоном. – Ничего вам не поможет. Пускай хоть сам Ленин напишет!
– Да вот как раз сам Ленин и написал, – отозвался старший из посетителей. – Вот его распоряжение.
Начальница глянула,, и лицо у нее пошло пятнами. Потом она долго, придирчиво рассматривала совнаркомовский текст, подпись и, наконец, неохотно вернула подлинник письма.
– Вам этого достаточно? – спросили посетители.
И она, потупившись, прошелестела чуть слышно:
– Да, этого достаточно…
Из жилотдела возвращались взбудораженные и веселые. Могли ли они думать, что через пять лет, ледяным январским утром 1924 года, они будут молча и долго стоять в необозримой траурной очереди к дверям Колонного зала?
М.Л. Штих
(После 1963 года.)
Читая сейчас этот черновик, я вспоминаю старую пословицу историков: не то интересно, что автор говорит, а то, как он проговаривается. Думаю, что проговорки Мишиной статьи в отношении тогдашних порядков были слишком очевидны, поэтому ее и не напечатали. Как-никак посрамленной оказалась советская власть в лице местных органов. Эти органы действовали, очевидно, в полном соответствии с тогдашними порядками (законов не существовало), по которым человека (кстати, врача – их ни Маркс, ни сам Ленин к эксплуататорам никогда не относили) вместе с семьей можно выкинуть зимой на улицу. А остановить это удалось способом явно противозаконным – по знакомству. Подозреваю, что на самом деле в «те суматошные дни» все члены штиховского семейства метались по городу и обрывали телефон в поисках нужных людей, способных замолвить словечко в какой-нибудь высокой инстанции погрознее. Залманов в ту пору занимал высокий медицинский пост (об этом речь впереди), и он действительно был вхож к Ленину. Наверно, если бы дошло до «исполнителей», он «допустил бы мысль», «воспользовался обстоятельством» и лично «привлек внимание Ленина к таким мелочам». Да, собственно, он так и сделал – в случайность звонка Балабановой мне как-то не верится. Почему-то оказалось, что удобнее действовать через нее, а почему – нам сегодня, скорее всего, не понять.
Моим предкам повезло, у них оказались нужные знакомые. Записка Ленина – это был сильный козырь. Их друзьям Пастернакам повезло меньше: Наркомпрос неоднократно пытался выселить их из квартиры на Волхонке. Спасло заступничество Луначарского, который послал телефонограмму: «Леонид Пастернак находится под решительным покровительством Советского правительства, и на его мастерскую посягать нельзя». Видимо, все же этот козырь оказался послабее: Пастернаков не выгнали на улицу, но уплотнили, вместе с ними поселили в квартире многолюдное семейство. Мастерскую Леонида Осиповича всю заставили вещами, работать в ней стало практически невозможно.
Но больше всего в истории с ленинским письмом меня занимает следующее обстоятельство. Спустя несколько лет Михаил Штих поступил на работу в «Гудок», на легендарную 4-ю полосу. В этой газете тогда собралась достойная компания: Ильф, Петров, Катаев, Олеша и многие другие, ставшие впоследствии писателями очень или не очень известными. Отношения между молодыми литераторами были приятельскими, ежедневно после сдачи номера начинался общий веселый треп. Миша запросто мог представить сослуживцам в комическом виде благополучно разрешившуюся коллизию с посягательством на докторскую квартиру. В это же время в «Гудке» работал и Булгаков, часто заходивший в комнату сотрудников 4-й полосы и участвовавший в редакционных посиделках. Я думаю, что наше семейное предание вполне могло послужить прообразом известной литературной сцены, ставшей впоследствии классической.
Описание последнего разговора с энергичной особой из жилотдела в Мишиной статье поразительно напоминает сцену изгнания Швондера, пришедшего уплотнять квартиру профессора Преображенского. А документ, написанный Лениным на бланке Совнаркома, что это, как не та самая «Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня», – и правда, куда уж окончательнее?
«Дядькл Марба»
Чтобы говорить о дальнейшем, нужно подробнее рассказать еще об одном персонаже. Абрам Соломонович Залманов, младший брат Берты Соломоновны, дядька Александра, Михаила и Анны Штихов был личностью колоритной.
Родился он в России в 1875 году. После окончания гимназии поступил в Московский университет на медицинский факультет. Но медицины ему показалось мало, и Залманов поступает на юридический, глубоко занимаясь юриспруденцией, историей и сравнительным языкознанием.
Изучая все науки весьма фундаментально, он, будучи человеком веселым, находил время и на шутки: например, сочинял пародии на профессоров, подписывая их «Мадрид Лиссабонский».
В 1899 году Абрам Залманов принял участие в организации всероссийской студенческой забастовки, за что его арестовали и на несколько недель посадили в тюрьму. Об этом времени впоследствии он говорил: «К счастью, в библиотеке было много хороших французских произведений, которые позволили мне совершенствоваться в этом языке и не терять времени».
Однако после освобождения продолжать учебу в России он не мог. Залманов едет в Германию, в Гейдельберг, где заканчивает свое образование и в 1901 году становится обладателем своего первого диплома доктора медицины. Два других – в России и в Италии – он получит позже, в 1903 и 1911 годах.
Поразительно, что, изучая медицину очень глубоко и серьезно, Залманов не замыкался на ней одной: ежегодно на несколько месяцев он прерывал свои занятия и путешествовал. Но смотреть на мир глазами туриста ему было скучно, и блестяще образованный доктор знакомился с жизнью на свой лад. Во время таких каникул Абрам Соломонович успел поработать мастером на строительстве Сибирской железной дороги, контролером в поездах и юридическим репортером. Молодые силы бурлили, хотелось экзотики. Поэтому довелось ему заниматься делами и более редкими для интеллигента (тем более – тогдашнего): ходить в море за рыбой с поморами или с шарманкой по Италии, работать чистильщиком обуви на волжских пристанях и изображать араба – предсказателя судьбы. Русско-японская война застала его в Германии. Залманов сразу вернулся в Россию и стал военным врачом. Закончил войну он полковником медицинской службы, но, неудовлетворенный ни собственными медицинскими познаниями, ни состоянием дел в тогдашней медицине вообще, Абрам Соломонович продолжил свое образование. Свободно владея пятью языками, он стажировался в различных европейских клиниках и институтах у самых передовых врачей того времени – в Марбурге, Тюбингене, Вене, Флоренции, Неаполе, Болонье и Париже. В 1907 году его избирают членом Медицинской королевской академии Италии.
Вероятно, часто наведывался он и в Москву, где озоровал с племянниками, особенно с младшим, Мишей Штихом. Одна из его итальянских фотографий, присланных Мише, очевидно в конце какого-нибудь учебного года, подписана – явно перефразируя формулы гимназических похвальных листов – «Моему талантливому племяннику въ поощреше заслугъ на поприще хулиганства и мордобоя, а также за сквернословiе». Миша и Шура звали его «дядька Марба» («Абрам» наоборот). Когда ходили вместе гулять, дядька всегда что-нибудь выдумывал. Так, по рассказам дедушки, однажды он собрал на Кузнецком мосту толпу вокруг своей галоши. Заключал пари и говорил, что сейчас галоша пойдет. Люди не верили. Когда народу собралось достаточно и страсти накалились, Залманов ловким движением на ходу надел галошу на ногу и ушел.
В браке он состоял неоднократно. В первые годы ХХ века его женой была графиня Ольга Эммануиловна Сиверс, а сам Абрам Соломонович руководил лечебницей в Нерви – известном курортном месте на берегу Генуэзского залива в Лигурийском море. Это примерно в двадцати километрах от Генуи, где Ольга Эммануиловна имела свой дом. Лечебница называлась Villa Salmanoff. В рекламном проспекте лечебницы для справок указаны два адреса:
Nervi. D-r Salmanoff
Москва – Д-ръ Л.С. Штихъ,
Мясницкая, д. Сытова, кв. 31, тел. 142-48
В Нерви у доктора Залманова лечились многие деятели левого движения: Плеханов, Герман Лопатин, Клара Цеткин, Роза Люксембург, Анжелика Балабанова, Инесса Арманд. Сам он вспоминал и о том, как к нему обращались уцелевшие матросы с «Потемкина». Доктор находил для них работу и помогал материально.
Племянница Германа Лопатина Злата Александровна стала гражданской женой Залманова, и в 1912 году у них родилась дочь Лидия.
Злата Александровна воспитывалась под сильным влиянием дяди-революционера, поэтому взглядов придерживалась прогрессивных, свободных, я думаю, даже и по нынешним меркам. После рождения дочери они какое-то время жили все вместе – Ольга Эммануиловна, Абрам Соломонович и Злата Александровна с дочкой. В Италии в то время параллельно с итальянским гражданским кодексом действовал также знаменитый кодекс Наполеона. В соответствии с его положениями в свидетельстве о рождении дочери Злата Лопатина указала, что она является матерью и отцом новорожденной.
С Залмановым Злата Александровна прожила недолго. По воспоминаниям ее внучки бабушка часто говорила, что у настоящей женщины в доме не должно водиться мужчин и тараканов.
Лидию в семье звали Литли, официально – Литли Абрамовна Лопатина. Впоследствии она была дружна со Штихами, даже какое-то время жила на Банковском с матерью, мужем и дочерьми в крохотной комнатке, отгороженной от кухни.
Когда началась Первая мировая война, полковника медицинской службы Залманова назначили комендантом санитарного поезда. В этом поезде в октябре 1914 года побывал Алексей Толстой, писавший очерки с театра военных действий. Упомянут в них и наш родственник:
…Веселый и шутливый дух в нашем поезде поддерживается Абрамом Соломоновичем Залмановым, он – человек с неутомимой силой и страшной жадностью к жизни. Небольшого роста,, красивый, чисто выбритый, черный, с глазами всегда точно невинными.<…> От санита,ра до врача, – всем в нашем поезде понем, ногу внушил Залма, – нов это приподнятое отношение; ра, боте ли, отдыху ли, веселью отдаивать все силы. Некоторые еще сопротивляются, конечно, но молодежь восприняла его дух, и наш поезд считается образцовым. Вообще для русской молодежи подобный пример человека очень полезен. («По Галиции».)
Сам Залманов вспоминал эти времена пятьдесят лет спустя в письме к Мише: «[Я] остался тем же озорным студентом 40 лет, который водил моего приятеля А.Н. Толстого во время войны 1914 года на цепочке и демонстрировал его, как сына персидской королевы и леопарда. Толстой брал шапку в зубы и пытался собирать медяки. Больные, собравшиеся толпой, медяков не клали, но верили в зоологическое и геральдическое происхождение Толстого».
Не нужно думать, что жизнь в санитарном поезде была сплошным весельем. В очерке Толстого есть и другие слова:
Все эти веселые беззаботные люди десять дней назад вывезли из-под шрапнели и пуль пятьсот раненых солдат и сейчас ждали одного – как бы вновь допустили их подальше к самым боям.
Приезжая на побывку в Москву, полковник Залманов не изменял себе и продолжал хулиганить. Однажды он гулял с Мишей по Мясницкой, надев гимназическую фуражку. (Вспомним, что в те времена к соблюдению военной формы относились очень строго.) Племянники познакомились с его ординарцем, солдатом Сусовым. Где-то, очевидно, на ярмарке он «снялся на карточку». На фотографии – нарисованный аэроплан, а Сусов, просунув голову в специальную дыру, представляется героическим летчиком. Солдату очень нравилась эта фотография, он показывал ее братьям Штихам, а потом послал домой, надписав стихами собственного сочинения:
Жена моя Матрена, Летаю над тобой. Герой-доброволец СусовДядька рассказал племянникам, как Сусов выжил из их вагона второго врача, женщину, которая чем-то сильно его допекла. Герой-доброволец наловил в спичечный коробок клопов и выпустил в ее купе. Дама тут же переселилась в другой вагон. Эти и другие похождения Сусова описывает в своем очерке и Толстой, но я запомнил с дедушкиных слов только эти два и немного не так, как даны они у Алексея Николаевича.
В 1915 году Абрам Соломонович Залманов получает чин генерала медицинской службы и должность старшего врача – руководителя санитарных поездов.
Будучи знаком со многими русскими революционерами лично, Залманов через них, заочно, знал и Ленина, который часто передавал ему приветы. Поэтому совершенно естественно вышло так, что после революции он получил ряд высоких постов в Наркомздраве. Так, в числе прочего, он назначается директором всех курортов и организатором борьбы с туберкулезом. Участвует в законодательной работе, и благодаря его стараниям был принят закон, запрещающий строительство заводов ближе 15 км от городов. В это время он знакомится с Лениным лично и на время становится его и Крупской персональным врачом. В шестидесятые годы он описал свою деятельность того времени в письме к генерал-майору в отставке Михаилу Петровичу Еремину – коллекционеру, собирателю документов для музея Ленина:
Узнавши в октябре 1918 г., что я в Москве, Владимир Ильич захотел лично со мной познакомиться.
Жил он в маленьких трех комнатах. В одной жила Мария Ильинична, в другой – Владимир Ильич и Надежда Константиновна, в третьей, промежуточной, находился крошечный кабинет.
Не было лифта. У Надежды Константиновны была базедова болезнь. Сердце было расширено, и мне стоило больших трудов настоять, чтобы был сооружен подъемник, так как подниматься на третий этаж было очень трудно для слабого сердца Надежды Константиновны. Обстановка была спартанская. С трудом удалось мне перевести на один-единственный месяц Крупскую в детскую санаторию в Сокольниках.
По пятницам в 7 часов вечера за мной приезжал автомобиль из Кремля. У меня был пропуск в Кремль в любое время дня и ночи.
Если никого из приглашенных не было, Владимир Ильич беседовал со мною на политические, исторические и литературные темы, а также о положении дел на фронтах гражданской войны. Изредка после многих напоминаний удавалось мне по воскресеньям уговорить его покататься в открытом автомобиле. Никак не могу себе объяснить, чем я заслужил такое к себе отношение. Пациент он был на редкость непослушный. Оба они – он и Крупская – не были в состоянии долго лечиться.<…> Наша беседа всегда носила характер разговора двух студентов, до того Владимир Ильич был прост и ни одним словом, ни одним жестом не подчеркивал своего исключительного положения в мире.
В слово «студент» Абрам Соломонович вкладывал особый смысл, в нем была для него и философия, и жизненная позиция. Уже в глубокой старости он повторял: «Нужно до конца оставаться молодым студентом перед чудесами жизни».
Крымская одиссея
20 марта 1919 года Ленин подписал декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения». Для его реализации в Крым направлялся доктор Залманов в звании уполномоченного Совета Народных Комиссаров РСФСР. Для исполнения полномочий Залманову выдали мандат. На бланке СНК РСФСР рукой Ленина было начертано:
Удостоверение
Податель – Абрам Соломонович Залманов – лично мне известный советский работник, врач, работающий в Нар-комздраве.
Прошу все советские учреждения, железнодорожные, военные власти оказывать всяческое содействие врачу Залманову, едущему по делам службы.
Пр. СНК В. Ульянов (Ленин). 28.V.1919.
Вместе с Абрамом Соломоновичем отправился в качестве секретаря его племянник, Михаил Штих. Поехал на летние каникулы – командировка не должна была оказаться долгой. Мишино удостоверение намного скромнее, но куда ж в России, да еще при большевиках, без удостоверения?
Рос. Соц. Фед. Сов. Респ. (видимо, аббревиатура РСФСР еще не прижилась. – С.С.)
Народный комиссариат по просвещению Московская государственная консерватория 31 января 1919 г. № 3662
Удостоверение
Настоящее выдано из Московской государственной Консерватории Народного Комиссариата по просвещению Штих Михаилу Львовичу (Несанелевичу) для представления по принадлежности в том, что он в настоящее время состоит учеником Московской консерватории по классу скрипки.
Директор
Правитель дел.
Спустя годы Михаил Львович вспоминал эту поездку – как они ехали в отдельном спецвагоне, как он бегал с мандатом Ленина, требуя, чтобы вагон прицепляли куда надо. Потом они приехали в Симферополь.
В одно прекрасное утро, выйдя на улицу (два еврея с мандатом Ленина в кармане), они узнали, что в городе – белые, а на ближайшем перекрестке стоит казачий патруль и проверяет документы граждан. Деваться было некуда. Но Залманов выбрал лучший способ обороны – нападение.
В то время как племянник (по собственным его словам) уже прикидывал, на каком из фонарей их сейчас повесят, дядя начал громко возмущаться и потребовал, чтобы их отвели к офицеру. Тот находился недалеко. Когда родственники предстали перед ним, Абрам Соломонович сказал:
– Господин офицер, мы – врачи из Москвы, и, даю вам слово интеллигентного человека, никаких документов у нас нет. Вы верите слову интеллигентного человека?
Хорошо, что слову интеллигентного человека офицер поверил.
Однако командировка затянулась. Перебираться через линию фронта с советскими документами было очень опасно. Дядя с племянником пробовали попасть в Москву через меньшевистскую Грузию, но из этого тоже ничего не вышло. За время крымской эпопеи Миша дважды являлся на медкомиссию по призыву в белую армию. В результате консерваторское Удостоверение украсилось двумя печатями:
Подвергался 8 августа 1919 года в Ялтинском Уездном по воинской повинности присутствии поверочному освидетельствованию и признан совершенно неспособным к военной службе по статье 56 расписания болезней.
19 сентября 1920 года Мишу освидетельствовали повторно, но освободили уже по статье 17. Я не искал тогдашнего расписания болезней, и причины Мишиного освобождения от службы не знаю. Как не знаю и того, была ли эта причина настоящей или призывник умело «косил» от военной службы, пользуясь квалифицированными советами дяди.
Вернуться домой они смогли только после взятия Крыма красными, пробыв «в командировке» больше года. Однако почему-то родственники двинулись разными путями: Абрам Соломонович поехал на поезде, а Миша – морем, на старой, романтического вида парусно-моторной шхуне «Риск». В итоге Залманов оказался в Москве 14 ноября 1920 года, а Миша пережил новые приключения. Название судна оказалось пророческим: начавшийся шторм больше недели мотал потерявшую управление шхуну, а после его окончания оказалось, что паруса порваны, а двигатель не работает. Пережив целый ряд мытарств, переболев двусторонним воспалением легких, Михаил Штих попал в Москву только в конце зимы 1920-21. Несколько месяцев родные ничего о нем не знали. Когда он вернулся, его долго мыли (как он сам говорил, третьей водой еще можно было заправлять авторучки), а потом два врача – отец с дядькой – провели тщательнейший осмотр вернувшегося блудного сына. «Счастлив твой бог, Михайла», – резюмировал дядя.
Миша тоже в молодости писал стихи. Пережитое приключение описано им в стихотворении «Шторм»:
Все случилось очень просто: Замутилась бирюза, Налетел порыв норд-оста И – в лохмотья паруса! Оглушил шальным ударом, Сбрызнув веки снопом искр. Разве эта шхуна даром, Сослепу зовется – «Риск?» Вспомнишь ты и мать, и друга, Жизнь и ту, что жизнью звал, И опять – матросов ругань, И опять – за шквалом шквал. Думал – прямо в руки счастье? Может, скажешь – свет не мил? Гнется борт, и рвутся снасти, Мачту крепче обними! Где-то на другой планете Есть и кров, и порт, и мол. Может быть. Утешься этим! И когда в неверном свете На корму ползущий холм Рухнет – Поверни иначе: Скатерть, стол, уют, тепло. Там тебя, тревогу пряча, Ждут и плавят лбом горячим Запотевшее стекло. И – назад: огонь в гортани, Жажда, грохот, стужа, темь. Гибель? Защитись бортами! В мачту! Кровь из-под ногтей! И – стрелой, черпая краем, В самый тихий в мире порт. Эй! Все к трюму! Погибаем! Груз за борт!Великий лекарь
Через год после возвращения из Крыма Залманов навсегда покинул Россию. Сам он описывал свой отъезд так:
В ноябре 1921 года, когда накопилось у меня сознание неполности моих знаний, я поделился моим нравственным состоянием с Владимиром Ильичом. Он спросил меня: «А если Вам дать возможность выехать за границу?» Я ответил, что попытаюсь отыскать что-нибудь новое в основах. Назавтра я получил паспорт, деньги на дорогу и место в дипломатическом вагоне.<…>
На вокзал меня отвозил т. Гиль – шофер Ленина.
Залманов снова едет в Германию. Там он знакомится с книгой Августа Крога об анатомии и физиологии капилляров, удостоенной Нобелевской премии 1920 года. Идеи датского ученого оказывают на Абрама Соломоновича большое влияние, и он отправился учиться к продолжателю работ Крога, профессору Мюллеру в Тюбинген. Он снова студент – в 46 лет. Он снова работает в разных клиниках Европы. Однако скоро пребывание в Германии и Италии становится опасным для врача с еврейским именем и советским паспортом – а Залманов до конца жизни остался гражданином СССР. Доктор с женой Надеждой Сергеевной и сыновьями Андреем и Данилой перебирается в Париж, где много и плодотворно работает. В Париж к нему приезжают из Германии и других стран ученики и пациенты. Слава доктора, успешно побеждающего многие трудные случаи, распространяется широко. У него лечатся некоторые титулованные особы и члены правительств многих стран.
Но вскоре начинается Вторая мировая война, немцы захватывают Францию. Андрей ушел сражаться в Сопротивление.
В оккупированном немцами Париже Залманова нашел его гейдельбергский ученик, военный врач, носивший высокий чин в немецкой армии, и предложил возглавить Парижский госпиталь. Доктор отказался. Он сказал: «Я – гость Франции. Франция мне этого не предложила, и я не могу принять этого от вас». В бесчеловечных условиях самой жуткой из войн Абрам Соломонович продолжал жить по правилам человеческой порядочности.
Из-за начавшейся болезни Залманов попал в больницу. Кто-то выдал местным властям, что он еврей. Его должны были забрать немцы, однако о доносе стало известно друзьям. Бежать больной доктор не мог, но Бог хранил его и в этот раз. И снова, как и в Крыму, избавление носило характер детектива. Теперь его спас сын Андрей, который явился в больницу, переодевшись в эсэсовскую форму, и увез отца по подложным документам.
После того как в июне 1941 года началась война Германии с Советским Союзом, Залманова арестовали. Когда его привели на первый допрос и поставили перед сидевшим за столом молоденьким лейтенантом СС, доктор строго заметил ему, что он – русский генерал медицинской службы и никогда не слышал, чтобы в какой бы то ни было армии младшие по званию сидели, не предлагая старшим сесть. Он опять оборонялся – нападая. И опять победил: отныне на допросах он сидел. Немецкие офицеры отдавали ему честь. Вдумайтесь: офицеры СС отдают честь арестованному еврею, генералу русской армии, бывшему личному врачу главного коммуниста всех времен и народов. Такого не сочинишь.
Вскоре его отпустили под полицейский надзор. Доктор продолжал тайно лечить бойцов Сопротивления. Впоследствии Андрей, кавалер ордена Почетного легиона, жил в Будапеште. Московские родственницы – единокровная сестра Лит-ли и ее дочь – встречались с ним.
А сам Абрам Соломонович до самой смерти прожил во Франции. Энциклопедически образованный и мыслящий очень широко, доктор был недоволен главным направлением, в котором развивалась медицина в двадцатом веке. Он считал, что антибиотики, химические препараты и прочие средства официальной медицины слишком грубо вмешиваются в работу организма, мешая ему самостоятельно справиться с истинными причинами болезней. Полагая, что залог здоровой жизни – в поддержании правильных обменных процессов, протекающих в пронизывающих все тело человека капиллярах, Залманов разработал способы диагностики и лечения многих заболеваний. Свой метод он назвал капилляротерапией. Для лечения широчайшего спектра внешне совершенно непохожих друг на друга болезней Абрам Соломонович применял ванны. Добавляя в воду натуральные продукты – живичные скипидары, настои сена, листьев грецкого ореха и другие природные вещества и тонко дозируя температуру раствора и продолжительность процедур, Залманов добивался поразительных успехов. Свои взгляды и опыт он систематизировал и изложил в трех фундаментальных трудах. Книги «Тайная мудрость человеческого организма», «Чудо жизни» и «Тысячи путей к выздоровлению» вышли в Париже соответственно в 1958, 1960 и 1965 годах. Они были переведены на ряд языков и опубликованы во многих странах.
Экземпляр своей первой книги Secrets et sagesse du corps Абрам Соломонович прислал Михаилу Львовичу Штиху с надписью:
Милому, дорогому Мише на память о престарелом, но не устаревшем спутнике нашей молодости. «Умереть молодым въ 90 лет!» Всю жизнь был верен этому лозунгу. Твой А. Залманов. Paris. 1-IX-1961.
Забавная деталь: Абрам Соломонович, свободно владевший пятью европейскими языками, переводивший Пушкина на французский стихами, ошибся в русском правописании: вся надпись выдержана в правилах советской орфографии, но в предлоге вдруг выскакивает дореволюционный «ъ». Видимо, русским письменным доктору приходилось пользоваться нечасто.
После присылки книги между дядей и племянником завязалась переписка. В ней Абрам Соломонович очень живо описывал свой образ жизни и некоторые взгляды – медицинские и общие:
Милый мой Мишуха.
Каждый день собираюсь писать и каждый день: «звоны, стоны, телефоны».
Звонят, пишут, осаждают, досаждают. За всю свою жизнь не приходилось мне столько работать в ультрасгущенном времени, как последние 3 года, когда я ухитрился стать сверхмолодым писателем в сверхпочтенном возрасте. Кроме приема 4 раза в неделю при 6-ти часах работы должен просматривать две французских газеты, одну итальянскую, 2 французских больших еженедельника, один швейцарский, не говоря уже о медицинской и биологической литературе. Кроме того, каждую неделю просматриваю 2-3 свежеиспеченных книги по самым разнообразным вопросам и. все-таки собираю материалы и строю 3-й том.
Вчера получил письмо от одного московского профессора, крупнейшего физиолога, который заочно желает лечиться у меня по моему методу. Это почище калоши на Кузнецком мосту.<…> Вот уж никогда не рассчитывал на интеллектуальный флирт с Академиком, ибо был, есть и пребываю ультраантиакадемиком и остался тем же озорным студентом.
А главная моя работа – демистификация взглядов и учений о мире.<…> Когда пишу по-французски или по-русски, изгоняю из моих строчек ученый жаргон. Все можно писать простым, для всех понятным языком.
Не выношу пустых разговоров. Все время учусь.
В третьем томе, если не исчезну до его окончания, будет напечатана глава об историческом процессе, о его психических двигателях от Пунических войн до 1962 года.
Помнишь, как в августе 1914 г. я гулял с тобой в гимназической фуражке по Мясницкой? Молодое озорство меня не покинуло. Сейчас озорничаю только на моих консультациях, чтобы едкой шуткой, молниеносным сравнением оживить мрачный душевный строй моих запуганных больных.
На приеме исцеленные пациенты смотрят на меня по-собачьи преданными глазами, почти поют реквием в честь моего торжественного заката, а когда после моей медицинской мессы выхожу на улицу, мне до смерти хочется поднять по-собачьи ногу у фонаря, чтобы ошарашить моим жестом ультрашикарную парижскую даму.
Это написано, когда Абраму Соломоновичу было 86 лет.
А за пару лет до этого он спрашивал в письме свою дочь:
Читала ли ты роман Дудинцева в «Октябре»?
Известна ли тебе речь Паустовского в Союзе советских писателей 22 октября 1956 г. ?
Откуда этот человек черпал время и силы, я не понимаю.
И еще: «Когда устаю <…> пишу стихи». Нет, чтобы рассказать о нем по-настоящему, нужно перо Рабле.
Во всех письмах старый доктор делился радостью – его книги переводят, печатают, читают во многих странах. Кроме изданий во Франции, Германии и Италии его вскоре напечатали на португальском в Бразилии. Залманов вспомнил свой юношеский псевдоним – Мадрид Лиссабонский: «На старости мое озорство дойдет до Лиссабона». С особой радостью он встретил известие об издании первой его книги в СССР: «У меня большая новость: 1-й том моей книги выйдет в издательстве Академии наук. Нашлись издатели-друзья среди профессоров и врачей, которым пришлось по душе мое мировоззрение и вот – такой неслыханный сюрприз».
Однако дело затянулось, кроме «издателей-друзей» нашлись и коллеги-недоброжелатели. Своей книги на русском языке доктор Залманов так и не увидел.
Как многие русские интеллигенты, Абрам Соломонович не умел извлекать материальную выгоду из своей работы. Финансовые дела его обстояли неважно. В одном из писем – стишок:
От шумной славы я сгораю, Как без подпитки огонек, Обалдеваю и теряю Рассудок, вес и кошелек.«Если мои финансы поправятся, хотел бы тебя выписать на пару месяцев в Париж», – писал он Мише за год с небольшим до смерти. Эта мечта не сбылась.
Свой любимый лозунг, надписанный на подаренной Мише книге, Абрам Соломонович сумел воплотить в жизнь буквально: он прожил почти 89 лет, до последних дней работал, был сухопар, подвижен, элегантен и небезразличен к женщинам. Читал без очков. Выкуривал более пачки сигарет в день. Умер 20 января 1964 года за рабочим столом в своем кабинете.
Во французском журнале «Новости. Больничные архивы» был напечатан большой некролог. Автор, Роже Нейман, писал:
Врач, удивительная медицинская карьера которого началась в Москве в 1893 году, сам поставил себе последний диагноз уносящей его болезни, связанной с выходом из строя легких.
До последнего момента жизни он подавал всем окружавшим его людям удивительный пример мужества и человеческого достоинства.
Он улыбался, чтобы смягчить трагичность момента, которую хорошо осознавал. Улыбался, зная, что умирает.
Несмотря на его преклонный возраст, уход его, смерть доктора Залманова всех поразила. Многие жизни и умы были связаны с ним невидимыми нитями. Не только врач и ученый, он был им советчиком, другом и духовным отцом.
Сегодня его метод лечения признан во многих странах, периодически проводятся встречи последователей доктора с целью обмена опытом. На парижском собрании в феврале 2000 года были представлены 12 клиник, практикующих «скипидарные ванны по Залманову», из Франции, Англии и Италии.
К сожалению, на родине, в России ни одна из книг Абрама Соломоновича до сих пор не издана целиком. «Тайная мудрость.» печаталась дважды – в 1966 и 1991 годах, оба раза сокращенная почти вдвое. Несмотря на это, у нас есть ряд его последователей и почитателей. О Залманове пишут книги. В них плоды его трудов именуют зачастую уже не методом, а учением.
Один из авторов – Олег Мазур – ставит имя Залманова «в один ряд с именами Гиппократа, Авиценны, Галена, Везалия, Пара-цельса и других корифеев медицинской науки». Со мной связался доктор Юрий Яковлевич Каменев из Петербурга, он давно лечит по методу Залманова, собирает документы о нем, всячески популяризирует теорию капилляротерапии. Говорит, что считает целью своей жизни издание всех трудов Абрама Соломоновича на русском языке в полном объеме и открытие в Петербурге музея Залманова. Сам Юрий Яковлевич пишет книгу «Трудный путь доктора Залманова в Россию».
Литли
Дочь Абрама Соломоновича и Златы Александровны Лопатиной, Литли, приехала со своей матерью в СССР. Одно время жила в Воронеже, потом в Москве. Вышла замуж и родила двух дочерей: Ольгу и Анну, звавшихся в семье Эльга и Анка. В Москве они вначале поселились у родственников на Банковском, благо в большой квартире можно было найти место. Однако вскоре жилищное начальство нашло в этом какой-то непорядок, и Лопатиных переселили в Вешняки, тогда – московский пригород. Там они какое-то время жили в бараке, потом – в фанерном доме без удобств, вода в колонке. Злата Александровна сильно болела, десять лет не вставала, страдая от сильных болей. Литли много сил тратила на уход за матерью. Младшая дочь, Анка, тоже с детства сильно хворала. Однако все эти обстоятельства я узнал позднее.
Литли Абрамовна большую часть жизни работала диктором советского радио, вещавшего на итальянском языке. В конце пятидесятых, в хрущевскую оттепель, она наконец смогла поехать в гости к отцу в Париж. Гардероб для визита собирали по всем знакомым – точных сведений о том, что нынче модно во Франции, не было никаких. Литли была уверена, что она «на уровне» – друзья поделились лучшим. Вернувшись, Литли рассказывала, что первой реакцией отца, не видевшего дочь более двадцати лет, были слова о необходимости прямо из аэропорта ехать в магазин, чтобы прилично ее одеть.
Она была первым побывавшим за границей человеком, которого я увидел. Абсолютное большинство наших сограждан о поездке за границу тогда даже не мечтали. Тот же, кому выпадал счастливый случай, вернувшись, долго ходил по гостям, дарил разные грошовые мелочи и рассказывал, рассказывал.
Литли я запомнил и начал воспринимать как родственницу именно после такой встречи. Что она рассказывала об отце, о Париже, о Франции, я, конечно, не помню. Мне она подарила четыре фигурки из неведомого у нас материала – думаю, все же это была пластмасса, но обработанная по технологии, делавшей ее поверхность неотличимой от бронзы. Две поменьше – сантиметра по три в высоту – изображали средневековых воинов – одного в русском, а другого в западном доспехах. Два побольше – сантиметров по пять – были Бальзак и Гамбетта. Бальзак стоял в халате, с толстым животом, хмурый и сердитый. А Гамбетта в расстегнутом сюртуке, жилете и ловко сидящих панталонах произносил речь, жестикулируя левой рукой, а в правой держал листки с текстом.
Все фигурки были очень хороши. Их отличала от тогдашних (да и от большинства теперешних) игрушек аккуратная подробность мелких черт. Особенно мне нравился Гамбетта – такой возвышенно-благородный, порывистый и красивый. Потом я прочитал о нем в Энциклопедическом словаре: «франц. бурж. политич. деятель» и что он «пытался демагогически заигрывать с рабочим классом», был «министром внутр. дел в пр-ве „национальной обороны“, предавшем Францию» и прочие гадости. Я не поверил: мой Гамбетта был такой благородный, он не мог совершить ничего подлого. Все написанное я отнес на счет антикапиталистической пропаганды.
Литли, первая из взрослых, стала называть меня, маленького, «Сергей». Прямая, всегда подтянутая, она держалась с аристократической простотой. Можно было подумать, что она явилась к вам прямо из какого-нибудь английского или французского замка, где чинная прислуга и тихие разговоры за чаем, но уж никак не из барака в Вешняках с ведрами, дровами и больной родней. Я не помню тем наших разговоров (мы виделись нечасто), но замечательным было то чувство искреннего, неподдельного уважения со стороны взрослого человека, которое встречается так редко и которое так чутко улавливают дети. И еще было нечто в облике Литли, выделявшее ее, но не поддающееся определению. Формулировка пришла неожиданно. После ее похорон, на поминках, одна сотрудница рассказала, как Литли Абрамовна на правах старшего обучала ее тонкостям дикторского ремесла. Так вот, главное, на что она обращала внимание ученицы, было: «Исключите бытовые интонации»!
Любовь
Крымские скитания Миши в 1919-1921 годах имели для него важные последствия, поэтому на них нужно остановиться подробнее. Поехав на каникулы поработать с дядей, он не взял с собой скрипку, и в результате занятия прервались на полтора года. Миша пытался отыскать способ заниматься музыкой – она была слишком важной частью его жизни. Он нашел в Крыму владельца богатой коллекции музыкальных инструментов, отставного генерала, который сам не играл (или играл немного, по-дилетантски), и, объяснив ситуацию, попросил разрешения заниматься в его доме. Хозяин не согласился. В итоге Миша больше года не брал инструмента в руки.
В это время он писал много стихов. Годы спустя, разбираясь в Мишиных бумагах после его смерти, я нашел тридцать пять стихотворений того периода. Их география – Судак, Алупка, Ялта, Тифлис. На нескольких – только дата, без обозначения места. В одном стихотворении – краткое описание картины крымской катастрофы, которая спустя годы стала хорошо знакома советским читателям и зрителям из многих более известных источников. Стихотворение большое, и я привожу его в отрывках:
Небо – железный раскаленный колпак. В нем – зеленым эгретом – тополь. Сегодня вечером целая толпа Уезжает на Константинополь. В порту объявление: «Пароход Natale Принимает людей и грузы». И опять я гляжу в запретную даль, Как Робинзон Крузо. Не придем. Вы будете ждать, как ждали. -Годы на родину путь замели. Корабли уплыли в вечерние дали От враждующей, залитой кровью земли. Провожало много: сто или триста, Или больше. – Не знаю. Теперь мы одни. Близкая ночь. Опустелая пристань. В городе зажигают огни. Ни перевалов, ни проходов В страну оставленного нет. Огни далеких пароходов, Как призраки уплывших лет. Да, это – наяву и верно, Как горечь горьких слов во рту. Как эта грязная таверна В сыром, заброшенном порту. И Ты – о ком поют поэты -Не подходи: я пьян и груб. От этой красной, терпкой Леты Не оторвать уж больше губ. Вот жизнь – вся жизнь проходит мимо. Пусть. Есть еще один покой -Прижаться как к плечу любимой К столу трактирному щекой. Огни далеких пароходов Погасли. Ничего уж нет. Ни перевалов, ни проходов Туда – в страну ушедших лет.Тогда же Миша Штих познакомился с поэтессой Софьей Яковлевной Парнок. Она была значительно старше него. Впоследствии они долго дружили. Он посвятил ей одно из своих стихотворений. Парнок подарила Мише две книжки своих стихов, надписав их:
Михаилу Львовичу Штих – воспоминаньем о нашем милом Судаке.
Она же познакомила Михаила Львовича с Брюсовым, который одобрительно отозвался о его стихах. Но тогда, в Крыму, главным было не это. Миша страстно и безнадежно влюбился. Страстно – по молодости и по сути своей влюбчивой натуры. Безнадежно – потому, что молодая девушка с семьей уезжала в эмиграцию. Оба они понимали, что это навсегда.
Девушку звали Соня Мейльман. Из упоминавшихся мной 35 крымских стихотворений 8 имели посвящение «С». В них – трагизм вспыхнувшей любви, которая зародилась, уже зная время своего конца. Для молодых людей это действительно тяжкое испытание.
Незадолго до смерти в одном из разговоров дядя Миша рассказывал мне эту историю. Тогда я не успел как следует расспросить его и в итоге не знаю никаких подробностей, ничего.
Даже имя ее я узнал потом. Но помню боль, с какой он – восьмидесятилетний, проживший долгую и трудную жизнь, вспоминал ту крымскую историю. Сколько было суждено им пробыть вместе? Думаю, совсем мало. Большая часть стихотворений говорит уже о разлуке:
К навеки брошенному раю Забывший все пути – Адам -Я ничего теперь не знаю, Я душу за тебя отдам. Ты вся со мной и те – две ночи, На мысе дальнем огонек. А отчий дом и город отчий Стал так туманен и далек. Сгорел закат и море гневно. Молись враждующей судьбе. Моя далекая царевна, Я знаю путь один – к тебе.По возвращении, пережив страшное приключение на шхуне «Риск», Миша написал и другое стихотворение о начале этого, так драматически сложившегося плавания:
Отъезд
Не прощались. И вечер погас. И никто не жалел о разлуке. Только в море нащупали нас Темных мысов простертые руки. И зарылись по локоть в прибой В безутешном, беспомощном горе: Все, что было, уносит с собой Эта шхуна, ушедшая в море. Застилают, клубясь, облака Дальний сон мой, навеянный летом. Не зовите огнем маяка, Не маните последним приветом, - Без меня в эту ночь, – не вернусь! -Те, кто с вами остались, задремлют. О, какая прозрачная грусть Облекла эту милую землю. Встречный ветер затих, чуть дыша, Волны прошлого катятся мимо. Навсегда запомни, душа, Берега уходящего Крыма!Еще про любовь
Вернувшись в Москву, Миша узнал, что его учитель, Р.Ю. Поллак, уехал из Советской России в Германию. В письмах он звал Мишу к себе, но тот предпочел остаться. Занятия в консерватории возобновились уже с новым преподавателем, который оказался приверженцем другой, нежели Поллак, системы обучения. Он стал менять Мише постановку руки. Миша мучился. Кроме трудностей с учебой и обычных для всех тогда мытарств, его не оставляли воспоминания о потерянной любви. Уже в Москве он опять пишет о ней стихи.
Не надо сна. Я знаю и во сне, Что память злей и мстительней, чем коршун. Мне слишком больно думать о тебе, Но позабыть еще больней и горше. И на столе всегда передо мной Как образ – море, Ай-Тодор и скалы. А ты нашла ли новый берег твой, 88 Нашла ли то, что так давно искала? Мы нынче все развеяны судьбой По всей земле, как семена на пашне. Прости, мой друг, я и теперь с тобой -Такой далекой, близкой и вчерашней. Вот я стою, так крепко руки сжав… Одно осталось – погасив желанья, Готовить зелье из целебных трав Для братского холодного свиданья.Расставаясь, Соня попросила Мишу разыскать в Москве ее родственницу, Женю Лурье, которая в 1917 году приехала из Могилева учиться живописи. Миша подал запрос в адресный стол и вскоре познакомился с молодой художницей. Они оба любили музыку и поэзию. Она была умна, красива и талантлива – Миша не мог не влюбиться. Сам он спустя много лет писал:
Мы очень быстро и крепко подружились. Я стал часто бывать по вечерам в ее комнате в большом доме на Рождественском бульваре, я читал ей стихи, которые помнил в великом множестве – Блока, Ахматову и, конечно, Пастернака. В начале осени дядюшка мой стал устраивать в подмосковный санаторий на станции Пушкино мою сестру Нюту. Я нажал на него, и вместе с Нютой он устроил туда же и Женю. Время от времени я навещал их там. И однажды, когда мы с Женей сидели на скамейке в санаторном лесу, я прочитал ей два моих стихотворения (увы, далеко не блестящих), которые были посвящены ей. Одно из них «Портрет»:
Да, в сумерки яснее все улики. В такие сумерки. И ясно в этот час: Лишь на полотнах мастеров великих Есть женщины, похожие на Вас. Одни из тех, о ком столетья пели И за кого на смерть, ликуя, шли, На плаху шли и гибли на дуэли Поэты и мечтатели земли. Ах, все они давно лежат в могилах, И только Вам – стучаться у дверей, Чтобы искать своих родных и милых В каталогах картинных галерей.Когда я кончил, Женя как-то погрустнела и сказала ласково и непреклонно: «Миша, мы с вами останемся друзьями. Вы меня поняли?»
Я понял. И вскоре мы попрощались, я поехал в Москву.
Обратная дорога после этого разговора – еще одно стихотворение (по-моему, одно из лучших у Миши).
Эта боль – как туго затянутый пояс - До конца, до последней петли. По пригородам волочащийся поезд, Пустые платформы, плетни. И, врезан в тоску, и в вагонную давку, И в небо – далеким крестом Тот вечер, когда о судьбе моей справку Мне выдал Адресный стол. В залог, что с другою душой неразрывно, Как рельсы, склепают, свинтят Сообщники – Бог, захлебнувшийся в ливнях, И дачный погромщик – Сентябрь. Так надо, так, верно, кому-то угодно. Чтоб день был дождем пропылен, Чтоб лето казалось уже – земноводным Седых, допотопных времен. И плыли назад полустанки и поле, Мосты, огороды в селе, Чтоб кто-то – разбужен вагонным контролем В агонии шарил билет. Ищите! Ведь это душа моя – биться По стеклам, по лавкам устав, — Сдалась и с обратным билетом сонливца Вскочила на встречный состав. Вечер слезится в окне запотелом, Вместе со мною роняя слова, Захлебываясь падежами С Вами, о Вас, к Вам. Нечего делать: Подъезжаем. — Москва.О дальнейшем – по воспоминаниям Михаила Львовича с комментариями Евгения Борисовича Пастернака, сына поэта:
«…мы остались друзьями. Только теперь наши встречи происходили чаще у на,с в Банковском переулке. Женя очень подружилась с Шурой. А еще ей очень хотелось познакомиться с Борей, но их посещения как-то не совпадали по времени». (М.Ш.)
…Женя сделала портреты обоих братьев и часто вспоминала потом, что впервые увидела Борю на дне рождения Шуры Штиха. Пастернак читал тогда стихи, а Миша играл на скрипке. <…> Михаил Штих не запомнил первой встречи Жени с Пастернаком, ему запомнилось лишь нетерпение, с которым она потом стремилась увидеться с Борей. (Е.П.)
«И однажды, когда мы с ней были по какому-то делу на Никитской, я сообразил, что в соседнем переулке (он, кажется, тогда назывался Георгиевским) живет Боря. И мы решили наугад, экспромтом заглянуть к нему. Он был дома, был очень приветлив, мы долго и хорошо говорили с ним. Он пригласил еще приходить. И через некоторое время мы пришли опять. На этот раз я ушел раньше Жени, и она с Борей проводили меня до трамвая. И я как-то, почти машинально, попрощался с ними сразу двумя руками и вложил руку Жени в Борину. И Боря прогудел: «Как это у тебя хорошо получилось». Это было летом перед отъездом родителей Бориса Пастернака в Германию». (М.Ш.)
Пастернаки уезжали по инициативе младшей сестры Бориса – Жозефины. Она мечтала учиться философии, но в Московский университет ее не принимали из-за «неправильного» социального происхождения, пришедшего на смену национальному барьеру. Не знаю, что именно мешало ей стать студенткой: то, что ее отец – художник, или то, что он – профессор живописи?
Так или иначе, 18 сентября 1921 года старшие Пастернаки с дочерью Лидией уехали в Берлин. (Жозефина была там уже с июля.) Накануне вечером Штихи пришли прощаться. Миша с Борисом импровизировали дуэтом – скрипка с роялем – всю ночь. По словам Михаила Львовича, у них тогда возникло поразительное чувство мгновенного взаимопонимания. Прощаясь на вокзале, Леонид Осипович сказал: «Ну, прощай, Миша. Будь большим артистом и не женись рано».
Однако трудности, возникшие в связи со сменой преподавателей, увеличивались – зрелого музыканта, каким уже стал Михаил Штих, вредно переучивать. Вскоре он осознал, что начал играть хуже, это отмечали и знакомые профессиональные музыканты. Около 1923 года Миша понял, что на карьере солиста можно ставить крест, а быть оркестрантом он не хотел категорически. Михаил Львович еще долго играл на скрипке, но уже как любитель.
Большим артистом он не стал. А 24 января 1922 года официально зарегистрировали свой брак Евгения Лурье и Борис Пастернак.
Жест, которым Миша Штих сложил руки молодых людей, запомнил не только он. Думаю, что это его описал Борис Пастернак много лет спустя в «Докторе Живаго»: точно так же сложила руки Юры Живаго и Тони Громеко умирающая Анна Ивановна, Тонина мать.
Грустное повествование о перипетиях Мишиной жизни тех лет я хотел бы закончить еще одним его стихотворением 1921 года.
Б. Пастернаку
Крадучись дремотой тихою, Ночь звенит, растет и пухнет, Оттого, что мерно тикают За стеной часы на кухне. Тише! Слышишь? – дышат. – Кто теперь Кроме нас с тобою? – Полно! – Это просто шепчет оттепель, Это просто дышит полночь. Это Жизнь твоя, как пленница, Спутав всех – чужих и присных, Рвется со страниц и пенится, И течет из Песен в письмах. Что сказал ты, что замалчивал - Словно век мы с ним дружили. Ведь твоя Сестра мне – мачеха, Разве мы совсем чужие? Вдохновенье. – Буря, Иматра. Рвали ворот, как ошейник, Но зато каким сантиметром Вымерить опустошенье? И каких друзей по отчеству Звать: «Спасите! Будьте добры!» Вся земля, в груди ворочаясь, Рвется вон, ломает ребра. Так всегда. И как же иначе? Счастье пусть других покоит. - Если Бог мой в муках вынянчен, Разве мучиться не стоит? …Черной, клейкою мастикою Липнет ночь. Сознанье тухнет Оттого, что мерно тикают За стеной часы на кухне. Спи. А там рассвет завозится В груде блюдец и тарелок. Спи. – Тебе ль считать, заботиться, Что горит, и что сгорело?!Действительный член Союза поэтов
Вернувшийся зимой 1918-19 в Москву Мишин старший брат, Александр Штих, работал в Главсельпроме Помощником Заведующего Табачной секцией (согласно Удостоверению; там еще много слов с прописных букв). Это давало хлеб насущный. Главным же было то, что он продолжал писать стихи. Зеленый квадратик бумаги с напечатанным текстом свидетельствует:
Всероссийский союз поэтов утвержден Народным Комиссариатом по Просвещению
БИЛЕТ действительного члена Александра Львовича Штиха № 73 на 1919 год
Председатель
Секретарь
На билете два штампа. Один гласит: «Перерегистрация 1921 года». Второй, на обороте: «Уплачено».
В шестидесятые годы, уже после дедушкиной смерти, маму разыскал Л. Чертков, исследовавший историю русской поэзии начала двадцатого века. Мама познакомила его с дедушкиными стихами – книжкой и черновиками. Насколько я помню, сама она дедушкину поэзию воспринимала не очень всерьез. Чертков, прочитав, пришел к другому выводу. Мама была приятно удивлена. Правда, о публикациях речь идти не могла, тогда на Пушкина не хватало бумаги, а Пастернак, Цветаева и Ахматова числились почти что антисоветскими поэтами – во всяком случае, мое первое знакомство с ними (много позднее) было по Самиздату. Чертков написал статью – и она тоже тогда не была издана. Позднее он, уже в эмиграции, написал о дедушке в статье «К вопросу о литературной генеалогии Пастернака». От той же, старой статьи остался черновик. Вот его текст.
Стихи Александра Штиха
В 1962 году в Москве умер поэт Александр Штих, автор единственной книги стихов, вышедшей в 1916 году. Биография его умещается в нескольких строках. Александр Львович Штих родился в Москве в 1890 году, окончил юридический факультет Московского университета, короткое время проработал помощником присяжного поверенного, а остальные годы своей жизни прослужил экономистом. Основным же в его жизни была поэзия. Дело в том, что поэтическое творчество Штиха самым тесным образом связано с формированием и становлением одного из значительнейших советских поэтов – Бориса Леонидовича Пастернака. Как известно, первые же стихи Пастернака, опубликованные в 1913 году в альманахе «Лирика», сразу же резко выделились своим своеобразием не только из творчества поэтической молодежи, но и из общего поэтического потока этих лет. А между тем, как и всякое качественно новое явление, они имели свою предысторию и были в значительной мере подготовлены творческой средой, в которой работал молодой Пастернак. Руководитель кружка «Лирика» (а затем и «Центрифуга») Сергей Павлович Бобров был знатоком мировой поэзии, видным теоретиком и новатором стиха. Этот же кружок выдвинул еще одного крупного поэта – Николая Асеева. Интересными поисками было отмечено творчество членов «Центрифуги» Ю.П. Анисимова и И.А. Аксенова. К этому же кругу был близок и Штих. Крайняя скромность Штиха имела следствием тот факт, что как поэт он остался известен лишь очень узкому кругу лиц. А между тем его творчество представляет несомненный интерес. Первые зрелые стихи Штиха датированы 1912 годом. Будучи сверстником Пастернака, Штих развивался параллельно с ним, а в чем-то и повлиял на него. Известны посвященные Штиху стихи Пастернака, сохранилась пачка писем к нему из Марбурга, свидетельствующая о том значении, которое имела для Пастернака дружба со Штихом. Но в дальнейшем бурный рост дарования Пастернака заслонил более скромный, хотя и достаточно яркий и самобытный дар Штиха, и многое из того, что было совместно открыто и внесено ими в русскую поэзию, история литературы естественным образом связала с именем Пастернака. Известно немало примеров, когда какая-либо поэтическая школа выделяет из себя одно крупное дарование, оставляя другим право на место так называемых «антологических поэтов» (то есть тех, кого включают в антологии, но почти не издают отдельными книгами). Ясно однако, что как была бы неполна картина русской поэзии первой половины XIX века без второстепенных поэтов «пушкинской плеяды», так и картина русской поэзии ХХ века неполна без многих негромких имен, иные из которых так и не узнали прижизненной известности. Штих прекратил писать стихи в 1922 году. Сейчас трудно судить, почему это произошло. Может быть, и потому, что интонации, словарь и синтаксис Пастернака оказались настолько заразительными (вспомним, что даже такой искушенный мастер стиха, как Брюсов, поддался на склоне лет их завораживающему потоку), что возвращались обратно к Штиху. Новый краткий подъем поэтического творчества Штих пережил в 193842 годах, создав зрелый цикл ярких стихов («Чем продолжительней молчанье, – тем удивительнее речь», – как писал поэт Николай Ушаков), в котором он откликнулся и патриотическими стихами на Великую Отечественную войну. Здесь мы даем небольшую подборку неопубликованных стихотворений Штиха. Добавим, что помимо своей непосредственной ценности, свежести мироощущения, своеобразного стиля и высокого мастерства они интересны и тем, что представляют как бы «недостающее звено» (в большей степени, чем стихи С. Боброва или Ю. Анисимова) между предшествующей русской поэзией и поэзией Пастернака. Но повторяем, творчество Штиха интересно и само по себе, входя своим особым соцветием в «вертоград многоцветный» русской поэзии.
Повторяю, ни статья, ни «небольшая подборка стихов» тогда опубликованы не были. Мое же внимание привлекла дата – 1922 год, когда по Черткову закончился активный период поэтического творчества дедушки. Год 1922 был в его жизни действительно важным. В этом году дедушка женился на бабушке.
Бабушка
Бабушка была красавицей. Не всякую красивую женщину можно назвать этим словом. У нее был тот тип красоты, который любую фотографию превращает в портрет, а на групповых снимках выделяет одно лицо из всех, и вы больше никого не видите. На всех фотографиях у бабушки задумчивый, величавый и непоколебимо спокойный вид. Жизнь, впрочем, она прожила короткую, но очень богатую событиями.
Татьяна Сергеевна Штих, в девичестве Волохина, умерла за семь лет до моего рождения. Дедушка с бабушкой прожили вместе немногим более двадцати лет. Судя по всему, Александр Львович очень любил жену. Но он никогда не рассказывал мне о бабушке. Во всяком случае, я не запомнил таких рассказов. До какого-то времени все, что я знал о ней, я знал с маминых слов.
Ее семья жила в Херсоне, там бабушка родилась и провела юные годы. По маминым рассказам, Волохины были из дворян. Нужно понимать, что это слово обозначало сорок лет назад, когда я узнал об этом впервые. Как и о том, что бабушка верила в Бога, а мама моя – крещеная.
Дворяне вместе со священниками представлялись тогда оставшимися где-то в далеком прошлом. Религиозность среди интеллигенции была большой редкостью, встречалась исключительно среди беспартийных и воспринималась как некое безобидное чудачество. Ну, а принадлежность к дворянам (в прошлом, конечно) редчайших оставшихся в живых стариков воспринималась как некий жизненный казус – интересно и немножко смешно. Надо же! Живой дворянин. А нынче вот люди уже и в космос летают.
«Прогрессивные» эти воззрения впоследствии подверглись сильной корректировке. Но моя мама до этого не дожила.
Тогда же, в начале шестидесятых, она сказала о бабушкиной родне – задумчиво и как бы извиняясь: «Да и какие они были дворяне! Просто интеллигентные люди». Подумала и добавила: «Я всегда хотела побывать на маминой родине, в Херсоне. Не получилось. Интересно. Я слышала, там раньше даже улица была Волохинская».
Не задумавшись о причине наименования улицы в честь «просто интеллигентных людей», я, однако, слова эти запомнил. Всплыли они в памяти много лет спустя.
Когда после маминой смерти я просматривал семейные документы, то узнал, что Во-лохины были потомственными почетными гражданами. Не разбираясь, как и мама, в сложности и многообразии дореволюционных сословных отношений, я лишь много лет спустя выяснил, что это – совсем другая статья. Во многих правах к дворянам приравненные, потомственные почетные граждане также являлись привилегированным сословием, свободным от подушной подати, телесных наказаний и рекрутского набора. Кроме того, этого звания удостаивались дети личных (не потомственных) дворян. Так что, может, кто-то из Волохиных и дослуживался когда-нибудь до личного дворянства, но в целом семья эта дворянской не была.
От бабушкиной молодости остались фотографии – одиночные и групповые. На одних юная Таня – в строгом темном платье, на других – в украинском национальном, с венком, украшенным лентами. Думаю, это что-то театральное, наверно, роль в каком-то спектакле. На некоторых снимках рядом с Таней ее младшая сестра Ксения, Ксюта, тоже редкой красоты девушка.
Что мне известно о круге знакомых сестер Волохиных? На одной из фотографий Таня в компании молодых Бонди. Семья их отличалась необыкновенной талантливостью – все впоследствии стали людьми известными. Алексей был артистом (он играл, например, меньшевика-предателя в знаменитой кинотрилогии о Максиме) и писателем-юмористом (большая часть конферанса Апломбова из образцовского «Необыкновенного концерта» написана им). Сергей стал известным ученым-пушкини-стом. Наталья – актрисой, а затем – театральным педагогом.
Дружбу с этой семьей бабушка не только пронесла через всю жизнь, но и передала по наследству – сначала маме, а потом, еще позже, и мне: Наталья Михайловна Бонди стала первым взрослым человеком, к которому я сам, один, ходил в гости в свои четырнадцать лет. У нее тогда была собака (по тем временам явление нечастое) – Каро, Карошка – длинношерстый такс с проникновенными умными глазами. Ехать нужно было почти через всю Москву. Наталья Михайловна поила меня чаем с пирожными безе, собственноручно приготовленными по случаю моего прихода. Мы разговаривали, и нам было интересно – при разнице в возрасте больше пятидесяти лет. А потом я женился и несколько раз успел побывать у Натальи Михайловны в гостях с Таней…
Некоторые фотографии (их, к сожалению, много) вызывают чувство стыда и досады: кроме бабушки и Ксюты я не знаю никого из их семьи. А семья-то была немаленькая! Свою прабабушку Волохину я узнаю по надписи на одной из карточек: «Голубке Танечке от мамы и племянника. Снимались 29 марта 1915 г. Самара». Но я даже не знаю, как ее звали. Прадедушка, понятно, Сергей, а отчество? Вот прабабушка с каким-то бородатым улыбающимся господином – это ее муж? На обороте надпись, сохранившаяся лишь частично. По догадке восстанавливаю: «Дорогой Танечке и маме от деда в память 9 октября 1897 года». Так это прапрадедушка с дочерью? А племянник – значит, были еще братья или сестры? Были, конечно: ведь я помню двоюродных маминых братьев и сестер из Вильнюса и Магнитогорска, они всегда останавливались у нас проездом через Москву. Мама любила их. Но точно не помню, может, они были троюродные? Нелюбопытный в отношении родни, как многие дети, я не знал ни адресов их, ни нашего родства, ни истории – какая судьба занесла их в эти города? А теперь – где найти концы?
В 1907 году недалеко от Херсона, в Чернянке, поселилась семья Бурлюков – отец будущего теоретика русского футуризма Давида Бурлюка работал управляющим в экономии графа Мордвинова. Давид в это время создал в Чернянке первую футуристическую группу «Гилея». Для удобства Бурлюки снимали квартиру и в Херсоне, где часто собирались гилейцы. Квартира эта в доме на Богородицкой улице принадлежала Волохиным. В декабре 1912 года там проездом в Чернянку останавливался Маяковский. В разное время гостили здесь художник М.Ф. Ларионов и писатель А.М. Ремизов.
Бурлюк подарил Татьяне Волохиной маленькую картину маслом на картоне. На ней двухмачтовая шхуна под парусами скользит по гладкому морю, а на переднем плане – весельная лодка с тремя людьми, глядящими на шхуну. Маленьким я думал, что это некая романтическая фантазия – что-то вроде иллюстрации к Грину. Только взрослым я понял, что она, конечно же, писана с натуры. В те годы парусные шхуны на Черном море были не в диковинку.
С оборотной стороны картины – надпись. Чернила расплылись и выцвели, их коричневый цвет лишь слегка отличается от коричневого картона, но текст прочесть можно:
Нежно чтимой Т.С. От грубого раба искусств примите сей обол.
Преданный всегда
Давид Д. БурлюкНежно чтимой – это сказано красиво. Но что за этими словами скрывается, я не знаю.
В эти же годы в Херсоне рос и учился будущий писатель Борис Лавренев. В своей «Короткой повести о себе» он упоминает многих людей, с кем в те годы был знаком. Волохиных там нет. Однако среди действующих лиц его пьесы «Разлом», так любимой когда-то советскими театрами, встречаем главных героинь:
Татьяна – сестра милосердия, 26 лет
Ксения – эксцентричная девушка, 19 лет
Татьяна, действительно, стала сестрой милосердия. В 1914 году она была слушательницей Петроградских Высших женских курсов. Начавшаяся война не дала ей их окончить. В дальнейшем в графе «образование» ей пришлось писать «среднее». Сохранились ее документы той поры – Служебная и Расчетная книжки сестры милосердия. Из них следует, что 7 октября 1914 года Татьяна Сергеевна Волохина, вероисповедания православного, дочь потомственного Почетного Гражданина, добровольно поступила на службу в Российское общество Красного Креста и была направлена во 2-й этапный лазарет имени Государственной Думы. На фото в белом сестринском платке бабушкино лицо напоминает иконный лик.
Служила Татьяна хорошо. Об этом говорят три свидетельства о награждениях. 19 апреля 1915 года она получила золотую нагрудную медаль на Аннинской ленте с надписью «За усердие», 1 сентября 1916 года – Георгиевскую медаль 4-й степени, а 23 декабря 1916 года – серебряную шейную медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие». Особенно подробно бабушкино геройство отражено в приказе командующего Х армией Генерала-от-Инфантерии Родневича за № 1292 от 1 сентября 1916 года. По нему награждены 14 сестер милосердия, причем Анисия Назарова награждена Георгиевской медалью 3-й степени, а Вера Богданович, Татьяна Волохина, Филициата Дружинина, Глафира Трухманова, Мария Андреева, Людмила Изнар, Елисавета Книзе, Мария Мылова, Наталия Попова, Лидия Сувака, Евгения Соллогуб, Варвара Тру-ханович-Ходанович и Надежда Якимова – Георгиевскими медалями 4-й степени. В графе «За какое отличие пожалованы» читаем:
2 и 16 июля 1916 г. при налете неприятельских аэропланов, бросивших на ст. Алехновичи и в расположение госпиталя более 30 бомб большой разрушительной силы, проявив необыкновенное самоотвержение, продолжали оказывать помощь раненым и успокаивали взволновавшихся больных нижних чинов.
Мне уже за пятьдесят. Мне повезло – я знаю войну только по книгам, кино и телевизору. Каждый раз, когда я читаю этот приказ, мне всегда представляется вой падающих бомб и грохот разрывов, стонущие, молящиеся и матерящиеся от страха беспомощные раненые мужики и среди них – тоже насмерть перепуганные девушки и женщины, «проявляющие необыкновенное самоотвержение». Такие разные – судя по фамилиям, там были представлены едва ли не все сословия тогдашней России. Бомбежка была новым изобретением. И под бомбами всем им было очень страшно, наверно, даже умудренному военным опытом Генералу-от-Инфантерии Родневичу.
Семейное предание гласит, что приехавшей на побывку Тане ее мать рассказала свой сон, который видела с необыкновенной отчетливостью, и для памяти вырвала наутро листок календаря. Ей снилась железнодорожная станция, на которой стоит санитарный поезд. Станцию бомбят. Мать во всех подробностях описала дочери горящий виадук, здание вокзала, водокачку. Не знаю, был ли это налет именно на Алехновичи или другой боевой эпизод, но по описанию Татьяна его узнала абсолютно точно и задала несколько вопросов, на которые получила от матери правильные ответы. Число совпадало, именно в этот день их бомбили. В городе, где это происходило, Танина мать никогда не бывала и через него не проезжала.
За сестринскую службу Татьяна получала положенное жалованье – 40 рублей в месяц. С сентября 1916-го ей полагалась еще и ежемесячная доплата за Георгиевскую медаль – 1рубль. В конце 1917 года ее 2-й этапный лазарет имени Государственной Думы стал военно-санитарным госпиталем № 16, а затем – № 305 Санитарного управления Красной Армии. Она продолжала служить сестрой милосердия на гражданской войне уже у красных. Расчетная книжка подробно рисует картину происходящего в стране. Курс рубля стремительно падал, а жалованье сестры милосердия соответственно росло – в январе 1919-го оно составило 400 рублей, в июле 605. Июльская запись: «Выдано пособие на дороговизну в Киеве – 500 рублей» – это сверх жалованья. В августе выплачено за месяц 1600 рублей. За ноябрь 2900. Кроме того, февраля 19 дня 1919 года теперь уже бывшей дочери потомственного Почетного Гражданина были выданы «без взыскания платы» следующие вещи:
В 1920 году бабушка закончила свою службу по болезни и была откомандирована в госпиталь для лечения. Больше она не работала. А про бабушкин Георгиевский крест мне рассказывала мама. Эта медаль, которой награждали только за проявления личного мужества, – единственная награда царской эпохи, которую признавали в СССР. Поэтому медали на Аннинской и Станиславской лентах в советскую эпоху куда-то «ушли» от греха подальше, а Георгиевский крест хранился как реликвия. Но в следующую войну ушел и он: его сдали в Торгсин на нужды фронта.
Танина младшая сестра Ксюта вышла замуж раньше старшей сестры, еще до революции.
Муж ее был офицером, воевал сначала с немцами, потом – с крас– К.С. Волохина ными. С гражданской войны он не вернулся. Однако у них успела родиться дочь Ирина.
От Николая Григорьева, Ксютиного мужа (я, к сожалению, не знаю его отчества), у меня осталось всего пять фотографий: на двух он в форме портупей-юнкера, с саблей, затянутый в мундир без складочки, на трех – в гражданском. Григорьев сильно походил на молодого Станиславского. Глаза у него были красивые – большие и светлые.
Таким образом, две сестры оказались как бы по разные стороны линии фронта – жена белого офицера и сестра милосердия в армии красных. Несмотря на это, отношения между ними всегда оставались нежными. Позже Ксения Сергеевна вышла замуж вторично. Ее мужем стал советский инженер, Владислав Станиславович Савицкий. Жили они в Ленинграде. В 1937 году его арестовали, и он погиб в лагере.
Ксюта часто приезжала в Москву, но я ее совсем не помню, совершенно. Когда мне было уже лет десять, мама как-то завела о ней разговор, но я не понял, о ком речь. Мама поразилась: «Ты что, не помнишь Ксюту?» Я не помнил. Но к этому времени она уже умерла. Все, что пишу, я узнал о ней уже потом.
Как и когда познакомились бабушка с дедушкой, я не знаю. Это могло произойти как по медицинской линии, через докторов Штиха или Залманова (вспомним, что Абрам Соломонович тоже служил в санитарных поездах), а могло и через поэтические компании дедушки – Татьяна была знакома со многими поэтами и художниками еще по Херсону. В период ухаживания дедушка писал бабушке стихи. Они сохранились в черновиках, и я узнал их по посвящениям «Т» или «ТСВ».
Т
Когда в пылании рассвета Встает зиять громада дня И жизнь всемирная согрета Дыханьем вечного огня, И осиянный новым блеском Мир прорастает [сквозь] лазурь Тая в томлении нерезком Всю мощь и горечь прошлых бурь, Усилием железным воли Последней властью бытия Весь этот мир любви и боли К твоим ногам слагаю я. Май 192027 июля 1922 года они поженились. Сохранился документ, представляющий собой двусторонний полупрозрачный типографский бланк, заполненный чернилами от руки. Раньше, до появления туалетной бумаги в рулонах, именно такой пользовались для той же цели, она тогда продавалась нарезанной квадратиками. Чернила промокли насквозь, поэтому читается документ с трудом. Называется он «Выпись о браке». Согласно ему холостой Александр Львович Штих 1890 года рождения и девица Татьяна Сергеевна Волохина 1893 года рождения, вступая в первый по счету брак, – далее наискось трудночитаемая печать: «Заявляем о добровольном вступлении в брак и об отсутствии законных препятствий, указанн. в ст. 20, 61, 63 Кодекса, которые нам прочитаны». Две марки гербового сбора – за рубль и за 10 копеек – еще с царской короной и орлом. Своих марок в советской России пока что не было.
Здесь, где, согласно «выписи», девица Волохина, став Татьяной Сергеевной Штих, поселилась на Банковском, нужно было бы закончить это, касающееся Волохиных и Херсона, отступление. Однако одно событие, случившееся значительно позже, тесно связано именно с этой частью повествования.
На Волохинской улице
В ноябре 1990 года (спустя почти четырнадцать лет после смерти моей мамы) я был в командировке в Николаеве. Оттуда до Херсона несколько часов езды на автобусе, и в выходной день я решил сделать то, чего так и не успела сделать мама, – посетить родной город моей бабушки Тани, которую я никогда не видел.
Погода была не по-ноябрьски теплой и солнечной. Первое впечатление от города напомнило почему-то слова песни Александра Городницкого о полярных летчиках:
Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, В маленьких асфальтовых южных городках.Погуляв по городу, я нашел в центре, на главной улице (естественно, улице Ленина) Херсонский краеведческий музей. Времени у меня оставалось мало – я приехал на один день и вечерним автобусом должен был уехать обратно в Николаев. Так что осмотрел музей я достаточно бегло и никаких упоминаний фамилии Волохиных не нашел. На нескольких старых картах города попытался найти Волохинскую улицу – безрезультатно. И когда уже собрался уходить, подумал – попытка не пытка – и постучался в дверь исторического отдела.
Приветливая сотрудница представилась: «Екатерина Дмитриевна Черная» и спросила, чем может помочь. Я поинтересовался, говорит ли ей что-нибудь фамилия Волохины? Ни секунды не думая, она ответила: «Ну, прежде всего, Воло-хинская улица. И еще очень много чего. А вас это с какой стороны интересует?»
Я объяснил, что бабушка моя была Волохина, что я о ней очень мало знаю и порадовался бы любой информации. Екатерина Дмитриевна рассказала, что Волохинская – ныне Краснофлотская, а раньше называлась еще и Богородицкой. Потом она положила передо мной две толстенные старые книги. Одна называлась «Итоги двадцати пятилетия херсонского городского самоуправления. Отпечатано в Херсоне, в типографии Ходушиной в 1896 году». Другая – «Адрес-календарь г. Херсона на 1911 год по алфавиту. Херсон, типография наследников О.Д. Ходушиной, 1911 год». Я стал читать.
Первое упоминание Воло-хиных относилось к 1853 году, когда в Херсон прибыл назначенный первым викарным епископом отец Поликарп, «совершивший в Успенском соборе 6 августа 1853 года первую свою литургию. В то время викариат не имел в своем распоряжении соответствующего здания и владыка пользовался помещением в доме церковного старосты Успенского собора И.К. Волохина».
Далее речь пошла о работе херсонской городской Думы: Определить время образования в Херсоне магистрата и городской Думы, как выше было упомянуто, не возможно; как не возможно установить список градских голов, пребывавших в г. Херсоне со времени образования общественных учреждений. Все архивные дела или утрачены, или уничтожены. С трудом удалось добыть из разрозненных бумаг кое-какие сведения с упоминанием фамилий лиц, исполнявших в свое время обязанности городского головы г. Херсона.
В списке городских голов, занимавших этот пост до 1896 года, Волохиных оказалось целых три: Александр Иванович, избиравшийся дважды, Иван Кириллович и Иван Иванович. Я читал дальше:
Первое заседание городской Думы состоялось 2 апреля 1871 года.<…> Избранными на первое четырехлетие оказались – городским головою Н.С. Троцкевич, заступающим место городского головы – А.И. Волохин и члены управы, состав которых определен позднее. В первый год избрания деятельность городской Думы протекала крайне вяло. Избранный на должность городского головы Н.С. Троцкевич по болезни или иным причинам в заседания Думы не являлся и менее чем через год и вовсе отказался от обязанностей городского головы. После Троцкеви-ча избран был городским головой А.И. Волохин. С 18721875 годов деятельность городских обществ управления была чрезвычайно плодотворна. Покойный городской голова А.И. Волохин явился истинным радетельным хозяином города и оказал ему большие услуги.<…> Вообще деятельность А.И. Волохина, как городского головы, была обильна полезными и практическими результатами, хотя ему и пришлось выдержать упорную борьбу с весьма неблагоприятными экономическими условиями.
Волохины практически бессменно избирались гласными (по-теперешнему – депутатами, на 4 года) городской Думы. Александр Иванович отработал 4 срока, Сергей Иванович и Иван Иванович – по 6 сроков. В 1911 году я нашел одного Волохина – Сергея Ивановича, потомственного почетного гражданина, председателя 1-го Херсонского общества взаимного кредита, проживающего по адресу: Богородицкая улица, собственный дом. Похоже, это был мой прадедушка.
Про дом Екатерина Дмитриевна сообщила, что он цел, номер его 38 по Краснофлотской улице, это недалеко. Уже прощаясь, посоветовала сходить на кладбище.
Старое херсонское кладбище оказалось действительно интересным местом. Его мемориальная часть содержалась в прекрасном состоянии. Памятники и плиты – прибраны, недалеко от входа – действующая церковь. Я стал читать надписи на крестах.
Здесь погребены сыновья С.И. Волохина:
Сергей родился 8 августа 1879 г
Умер 29 августа 1883 г
Александр родился 23 ноября 1880 г
Умер 25 августа 1883 г
Мир праху вашему, дорогие дети
Скорее всего, эти мальчики были братьями моей бабушки. Что случилось в страшном августе 1883 года, когда родители за пять дней потеряли сразу двух сыновей-погодков трех и четырех лет? Ответ был мне неизвестен. Я стал читать дальше.
Татьяна Александровна Волохина скончалась в 1884 году 75 лет
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят
Доминикия Алексеевна Фильковская урожденная Волохина
Скончалась 22 сентября 1918 г. на 26 году жизни
Надо сказать, что все могилы Волохиных находились в непосредственной близости от церкви, не дальше второго ряда. Наверняка на кладбище имелись и другие могилы этой семьи, но искать их я не стал, а отправился по адресу Краснофлотская, дом 38. Двухэтажный дом стоял особняком. На фронтоне – переплетенные вензелем рельефные буквы В и Е. Я зашел во двор. Там на лавочках и вынесенных из дома стульях сидели и разговаривали несколько женщин разного возраста. При моем появлении они замолчали, некоторое время последили за моими перемещениями по двору, а потом строго и недружелюбно спросили, что я, собственно, здесь делаю. Я ответил, что, насколько я знаю, в этом доме до революции жила семья моей бабушки и мне интересно на него посмотреть.
Женщины всполошились. Дом, как я понял, населяло несколько семей. В 1990 году никто толком не понимал, куда повернется жизнь и каких законов ждать в ближайшем будущем: может, начнут старую собственность возвращать? Тетки для начала испугались, что явился наследник, претендующий на место их проживания, и возмутились. Я их уверил в том, что мои желания намного скромнее – просто разузнать, что можно, о бабушкиной семье и посмотреть на место, где она жила. Тетки успокоились, и одна из них с замечательной непоследовательностью сказала другой: «А хорошо бы, приехал кто на самом деле – может, квартиры отдельные дали бы»…
Зато другая тетка стала увлеченно и словоохотливо говорить о том, что знала. Я услышал, что ее свекровь, умершая восемь лет назад, служила у Волохиных прислугой и много рассказывала невестке про старых господ: «Говорила: „Шляпу подам, трость подам – золотой, так я полный передник золотых матери и принесу“». Она утверждала, что дом с вензелем, во дворе которого мы сидели, не волохинский, а виноторговца Виноградова, под ним якобы винные погреба. А Волохины жили в доме № 40, соседнем, который снесли лет 15 назад, чтобы на его месте выстроить многоэтажку, действительно стоявшую неподалеку («С цветными паркетами, мрамором, красавец дом был, рыбонька! И лесопилка еще у них была»).
Еще она сказала, что «другой брат», тоже Волохин, владел другим домом, на улице Суворова, где сейчас клуб имени Ленина завода имени Петровского. Я вспомнил этот клуб – днем, проходя по центру, не мог не обратить на него внимания – клубы имени Ленина в каждом городе занимали лучшие здания: название обязывало. Распрощавшись, я отправился на автобусную станцию. Уже темнело. Дорога шла через центр, и я снова оказался возле клуба завода имени Петровского. Здание в три этажа, с двумя подъездами, в 9 окон по фасаду, с балконом в 3 окна на втором этаже. Окна горели, изнутри доносилась музыка. Дом жил.
Потом в автобусе, глядя в темноту за окном, я пытался привести в порядок обрушившуюся на меня информацию. По тому, что я узнал, выходило, что бабушкина семья была одной из самых видных в дореволюционном Херсоне. Как сложились судьбы тех, кто не попал на херсонское кладбище, – ведь из большой семьи я нашел лишь две могилы, датированные после 1917 года? И кто прав относительно дома № 38 – музейщица или тетка во дворе? В купленной на автостанции книжке «Херсон. Улицы помнят» в связи с Бурлюком и Маяковским тоже упоминался 38-й номер как «дом местного богача Волохина». Но как же рассказ о работе свекрови той тетки в бабушкиной семье? А может, она все выдумала? Зачем? А чтоб отвадить возможного претендента на дом – откуда им знать, что у меня на уме?
И вдруг меня обожгла мысль о том, что мама, моя мама, которая так любила свою маму, скорее всего, ничего (или почти ничего) не знала из того, что за тот – такой длинный – день узнал я. Миф о «простой интеллигентной семье» придумали, конечно, в целях безопасности: в ленинские или сталинские времена легко можно было потерять все (вплоть до жизней – своей и близких) за одну принадлежность к привилегированным сословиям. Знала ли мама в своей комсомольской молодости хоть что-нибудь о длинной череде городских голов, владельцев роскошных домов, лесопилок – и чего там еще – среди своих ближайших родственников? Дядей, дедушек и бабушек. А мой дедушка – все ли он знал о семье своей жены? Ну, он-то, скорее всего, знал многое. Значит, прожил столько лет со страшной (действительно страшной по тем временам) тайной на душе. Сколько лет жизни отняла у него эта тайна? И вот теперь это совсем не страшно и никому не интересно, кроме меня.
Я вспомнил херсонское кладбище, на котором кто-то содержал в порядке чужие могилы. Мама редко ходила на Даниловское кладбище, на могилу своих родителей. Меня она никогда туда не брала, я знал лишь с ее слов, что надгробную плиту украли. Когда мама так внезапно умерла, помочь найти место могла только Юля, Мишина жена. Она, правда, сомневалась, вспомнит ли. Однако нашла. Когда мы с ней, отыскав все, что хотели, пошли по дорожке к выходу, она вдруг сказала, неопределенно показав рукой в сторону: «А там где-то мой сын похоронен. Но я сейчас, наверно, не найду это место», – и улыбнулась виновато.
От бабушки осталось много фотографий, подаренных ей в молодости друзьями и подругами. На некоторых надписаны незнакомые мне имена, на некоторых – нет и этого. Я храню их целую папку – выбросить рука не поднимается. Жили же люди. Может, это единственное, что от них осталось. Я выброшу, и на этом свете не останется вообще ничего от когда-то живших, любивших, писавших: «На память милой Тане от любящей Т. Вспоминай Туську хоть иногда».
То, что я пишу, и есть попытка еще хоть на сколько-то отсрочить забвение. Пусть живут здесь. Вдруг кто-то прочтет.
Наумыч
Когда доктор Штих поселился на Банковском, вся квартира воспринималась семьей как своя, общая. Поэтому то, что в комнаты, выходившие в переулок, не заглядывало солнце, не играло большой роли: другие помещения, через коридор, оно освещало весь день.
После окончания гражданской войны быт постепенно налаживался. Оставшихся в живых «лиц непролетарского происхождения», ставших советскими служащими, перестали брать в заложники и выгонять с занимаемой жилплощади, однако институт прописки приговорил людей к тому жилью, которое они занимали на момент его введения. Огромная, но темная гостиная стала жильем Шуры с женой, Миша занял светлую комнату напротив, поменьше. Состарившиеся родители – Лев Семенович и Берта Соломоновна – поселились в бывшем кабинете: частной практике пришел конец. Нюта жила в маленькой узкой комнате в конце коридора. Половину ее занимал рояль: Анна Львовна зарабатывала на жизнь музыкой, инструмент дома был необходим.
Однако ленинское письмо не могло защитить квартиру от уплотнения на веки вечные. Как известно, социализм – это учет и распределение, поэтому с развитием советского уклада жизни в стране утвердили нормы жилой площади, полагавшейся на душу населения. После этого в квартиру стали вселять новых жильцов – уже по закону. А у Штихов лишние комнаты отбирали. Но хорошо известно и то, что чем больше в России придумывают строгих правил, тем больше изобретают исключений из оных. Поэтому на всякую бумажку у нас можно найти другую бумажку – и дедушка получил на работе довольно внушительный документ следующего содержания (честное слово, заглавных букв я не прибавлял, так в подлиннике):
Высший совет народного хозяйства
Всероссийский табачный синдикат
Москва
Мая 13 дня 1924 года
№ 273
Удостоверение
Дано сие Заведующему Статистико-Экономическим отделом и Заместителю Управляющего Делами Всероссийского Табачного Синдиката и Члену Редакционной Коллегии журнала «Вестник Табачной промышленности» тов.
Штих Александру Львовичу в том, что он по роду своих обязанностей должен работать на дому, в силу чего имеет право на занятие отдельной комнаты, помимо полагающейся ему по норме площади и, во всяком случае, на дополнительную площадь в размере 20 кв. Аршин.
Основание: 1) Декрет СНК о мерах правильного распределения жилищ среди трудового населения от 25 мая 1920 г. (С.У.20 г. п. 52).
2) Инструкция Жил. Отд. МКХ о порядке уплотнения жилищ, утвержденная Пред. Моссовета 29.2.21 г.
3) Инструкция НКВД по применению постановления ВЦИК и СНК ОБ оплате за пользование жилыми помещениями.
Член правления
Управ. делами
Предместкома
Центральный Комитет Всер. Союза Раб. Пище-вкусовой промышленности изложенное подтверждает.
Подобных бумаг в дедушкином архиве накопилось много. На них стоят разные даты, разная указана полагающаяся дополнительная площадь.
А в квартире стали появляться новые люди. Из тех, первых, я не застал никого. Однако знаю, что в их числе была семья Константина Наумовича Фридберга, художника-карикатуриста. Фрид-берг работал в «Гудке». Он, наверно, очень любил рисовать и делал это по любому поводу, откликаясь веселыми картинками на все события жизни. Некоторое их количество дожило и до меня – в папке с завязками, надписанной маминой рукой: «Рисунки Наумыча». Мама в детстве очень любила его и звала именно так. По ее рассказам, она только лет в десять узнала, что звать-то его Константином, а до того считала, что Наумыч – это и есть имя. Но так и осталось – Наумыч. А своих детей у него, по-моему, не было.
Мне в моем детстве очень нравились его рисунки, сделанные для маленькой Наташи, – смешные карапузы, щенки и лягушки в галошах. Кстати, потом и мои дети с веселым восторгом переводили эти картинки с ветхих листков, раскрашивали, выжигали на фанерках и дарили друзьям и взрослым. Сохранились и его «взрослые» рисунки – шаржи и бытовые зарисовки. Судя по тому, что подпись под изображением Александра Львовича Штиха с палочкой (он на время охромел от нарыва на пальце ноги) указывает на его холостое положение, большинство картинок сделаны до двадцать второго года. Узнаю я на них не всех, а кого-то и просто не знаю. Интересно, что Миша Штих на всех рисунках неизменно крупный и толстый – на моей памяти он всегда был щуплый и маленького роста.
Прадедушка Лев Семенович выглядит совсем старичком. В нем с трудом можно узнать того, полного чувства собственного достоинства господина, который смотрел с фотографии Чеховского. Между этими двумя изображениями уместились лет двадцать пять его жизни. Теперь это действительно Старый Доктор.
Смешные картинки рассказывают о жизни. Миша с Нютой музицируют. Кстати, в результате из всей семьи она одна стала профессиональной пианисткой, однако, насколько я понял из маминых рассказов, братья к ее игре относились иронически.
Вот другая картинка: Наумыч с братьями Штихами курят. Благодаря Шуриной службе в Главтабаке курево проблемой не являлось. Сам я никогда не видел дедушку с папиросой и не знаю, когда он перестал курить. Слышал, что какое-то время он был заядлым курильщиком. Самое интересное, что начал курить он по совету дяди-врача, Залманова. Случилось это так. Из-за нервного истощения (причины которого я не знаю) Шура начисто потерял аппетит – настолько, что совсем не мог есть. Лекарства не помогали, и дядька посоветовал: «А ты закури». Шура закурил, и аппетит вернулся. А Миша курил долго, я это помню. Потом, уже в старости, бросил, однако любил время от времени сосать пустой янтарный мундштук. А вот целый рассказ в картинках, посвященный загадочному А. Карловичу Шмидту. Можно предположить, что от Шмидта зависело снабжение дровами сотрудников «Гудка» и он прислал их с большой задержкой, – может, после сдачи Наумычем какой-то работы. Ну, конечно, ведь тогда, в двадцатые, дом отапливался печами – другого способа не существовало. Но для меня когда-то этот факт стал открытием – в мое время квартиру уже давно перевели на паровое отопление и никаких следов от существовавших раньше печей в ней не сохранилось. Кстати, дом, где жил мой отец (уже упоминавшийся мной, в Водопьяном переулке – большой, каменный, трехэтажный), отапливался печами вплоть до конца пятидесятых годов. Я помню печь-«голлан-дку», священнодействие процесса топки и дровяной сарай во дворе, разделенный на клетушки по числу семей. От той печки мне в детстве пару раз случалось жестоко угореть.
Другие картинки Наумыча тоже веселы и полны добродушной иронии – в первую очередь по отношению к самому себе. А галерея шаржей с краткими характеристиками (всего изображены 20 человек) знакомит нас с кругом друзей штиховской семьи. По большей части здесь – люди, имеющие отношение к искусству: актриса, художник, пианист, певица, балерина. Скорее всего, все двадцать шаржей нарисованы в один вечер, на одном из веселых сборищ в квартире на Банковском. Подписи прозрачно намекают на сложные сердечные заботы молодых людей – «холостых» девушек и «незамужних» мужчин. При этом про себя Наумыч пишет со вздохом: «Увы! Женат», – он был старше многих в компании. А старый доктор Лев Семенович, вероятно, хорошо понимал проблемы молодых – под его изображением читаем: «Вопреки специальности предпочитает сердечные болезни».
Миша в «гудке»
Думаю, что именно через знакомство с Фридбергом Миша попал в «Гудок». Не став солистом-скрипачом, в 1923 году он ушел из консерватории, а в июне 1924-го поступил работать в эту очень популярную тогда газету.
Вообще-то «Гудок» был печатным органом железнодорожников. Почему так случилось, что там в те годы собралась блестящая плеяда молодых литераторов? Олеша, Ильф, Петров (еще не ставшие писателем «Ильф и Петров»), Булгаков. Рассказывали, что однажды Станиславскому поставили в укор отсутствие в репертуаре Художественного театра пьес рабочих авторов. «Ну, как же, – возразил, якобы, Константин Сергеевич, – мы вот железнодорожников ставим». Он имел в виду Булгакова.
Тогда же в «Гудке» работали Катаев, Гехт, Славин, Эрлих, Козачинский, внештатно – Паустовский. О славных временах своей молодости лучше всего написали они сами – в 1963 году издательство «Советский писатель» выпустило книжку «Воспоминания об Ильфе и Петрове». Поводом для ее выхода явилась скорбная годовщина – двадцать пять лет со дня смерти Ильфа и двадцать – Петрова. Среди двадцати двух авторов книги – как признанные классики советской литературы – Олеша, Паустовский, Эренбург, Симонов, так и люди менее известные. Экземпляр, подаренный дядей Мишей моей маме, подписан:
Наталье Смолицкой, – чтоб вспоминала и одного из авторов этой книги – свово дядю Мих. Штиха.
16/VI-63.
Все авторы очень тепло вспоминают тогдашнюю атмосферу газеты – творческую, дружескую, веселую. Полное отсутствие нормального быта их нисколько не удручало – они были молоды и талантливы. Сами себя они называли «Могучая когорта».
Миша Штих наряду с Ильей Ильфом и Борисом Перелеши-ным трудились литобработчиками на четвертой, сатирической полосе «Гудка». В их задачу входило делать фельетоны и смешные заметки по сообщениям рабкоров – рабочих корреспондентов. При этом шло негласное соревнование на количество писем, помещенных в сданный материал.
Когда мы утром просматривали очередной номер газеты, каждый ревниво подсчитывал свою лепту. И тут подчас обнаруживались удивительные вещи. Вдруг оказывалось, что в какую-нибудь подборку о банях или общежитиях – размером около двухсот строк – Ильф ухитрялся втиснуть двадцать пять – тридцать рабкоровских заметок. Ну что, скажите на милость, может получиться из такой «прессовки» с точки зрения газетно-литературных канонов? Инвентарный перечень адресов и фактов? А получался отличный острый фельетон со стремительно развивавшимся «сквозным действием». И даже скупой на похвалы, требовательный «папаша» – Овчинников говорил, просияв своей ослепительной белозубой улыбкой: «Очень здорово!» (Михаил Штих. «В старом ,,Гудке“».)
Константин Паустовский написал для книги очерк «Четвертая полоса». Людей, работавших там, он охарактеризовал как «самых веселых и едких в тогдашней Москве»:
Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдержать перекрестный огонь из-за столов.<…>
В комнату иногда заходил «на огонек» Бабель.<…>
Он долго и тщательно протирал очки, осыпаемый градом острот, потом невозмутимо спрашивал:
– Ну, что? Поговорим за веселое? Или как?
И начинался блестящий и неистощимый разговор, который остальные сотрудники «Гудка» прозвали «Декамероном» и «Шехерезадой».<…>
Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был необыкновенный и шипучий фольклор тех лет.
Я знал мастеров устного рассказа – Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они были щедрыми, даже расточительными людьми. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезают почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом.
Уточню специально для молодых людей нынешнего времени – богатство Паустовский подразумевает исключительно духовное, творческое. Все упоминаемые им люди, по крайней мере, в то время, о котором идет речь, были в денежном плане весьма бедны. Просто на это обращалось мало внимания. Большие деньги водились в ту пору только у нэпманов – тогдашнего эквивалента сегодняшних «новых русских».
И те и другие дали в свое время обильную пищу для насмешек и анекдотов. В России никогда не любили богатых и удачливых. Но это к слову.
Редакции «Гудка» и еще многих других газет и журналов находились во Дворце труда – так тогда назывался комплекс зданий, находящихся на Москворецкой набережной рядом с Устьинским мостом (сейчас это дома от № 2 до № 7). До революции там помещался Воспитательный дом – известный по многим литературным произведениям приют для незаконных и брошенных детей.
И как потом со свертком капельным (Отцу ненадобным дитем!) В царевом доме воспитательном Прощалася… И как – потом - Предавши розовое личико Пустоголовым мотылькам, Служило бедное девичество Его Величества полкам. М. ЦветаеваПриют здесь основал еще при Екатерине Второй известный благотворитель Иван Иванович Бецкой, сам незаконный отпрыск княжеского рода Трубецких. В народе дом называли (небеспричинно) Вошпитатель-ным. Сейчас в этих зданиях помещается Военная академия ракетных войск стратегического назначения. (На воротах восточного крыла висит еще и загадочная вывеска вполне в стиле Ильфа и Петрова: «Академия по проблемам казачества». Наверно, русская грамматика – в числе первых проблем, решаемых академией довольно безуспешно.) Дворец труда выведен в «Двенадцати стульях» под названием «Дом народов». В уже упоминавшемся очерке М. Штиха читаем:
Есть в «Двенадцати стульях» главы и строки, которые я воспринимаю как бы двойным зрением. Одновременно видимые во всех знакомых подробностях, возникают бок о бок Дом народов и бывший Дворец труда, вымышленный «Станок» и реальный «Гудок», и многое другое. <…>
Было так. Мы с Ильфом возвращались из редакции домой и, немножко запыхавшись на крутом подъеме от Солянки к Маросейке, медленно шли по Армянскому переулку. Миновали дом, где помещался военкомат, поравнялись с чугунно-каменной оградой, за которой стоял старый двухэтажный особняк довольно невзрачного вида. Он чем-то привлек внимание Ильфа, и я сказал, что несколько лет назад здесь была богадельня. И, поскольку пришлось к слову, помянул свое случайное знакомство с этим заведением. Знакомство состоялось по способу бабка – за дедку, дедка – за репку. Я в то время был еще учеником Московской консерватории, и у меня была сестра-пианистка, а у сестры – приятельница, у которой какая-то родственная старушка пеклась о культурном уровне призреваемых. В общем, меня уговорили принять участие в небольшом концерте для старух… Что дальше? Дальше ничего особенного не было.
Но, к моему удивлению, Ильф очень заинтересовался этой явно никчемной историей. Он хотел ее вытянуть из меня во всех подробностях. А под-робностей-то было – раз, два и обчелся. Я только очень бегло и приблизительно смог описать обстановку дома. Вспомнил, как в комнату, где стояло потрепанное пианино, бесшумно сползались старушки в серых, мышиного цвета, платьях и как одна из них после каждого исполненного номера громче всех хлопала и кричала «Биц!» Ну, и еще последняя, совсем уж пустяковая деталь: парадная дверь была чертовски тугая и с гирей-противовесом на блоке.
Я заприметил ее потому, что проклятая гиря – когда я уже уходил – чуть не разбила мне футляр со скрипкой. Вот и все.<…> Прошло некоторое время, и, читая впервые «Двенадцать стульев», я с веселым изумлением нашел в романе страницы, посвященные «2-му Дому Старсобеса». Узнавал знакомые приметы: и старушечью униформу, и стреляющие двери со страшными механизмами; не остался за бортом и «музыкальный момент», зазвучавший совсем по-другому в хоре старух под управлением Альхена.<…>
И до сих пор я не могу избавиться от галлюцинаций: все чудится, что Альхен и Паша Эмильевич разгуливают по двору невзрачного особняка в Армянском переулке.
Здесь я хотел бы сделать маленькое уточнение. Упоминаемый дядей Мишей «невзрачный особняк» – дом № 11 по Армянскому переулку – имеет богатую историю. Сегодня он отреставрирован, и «невзрачным» его никак не назовешь. Три доски, висящие на фасаде, извещают:
Памятник архитектуры
Главный дом городской усадьбы И.С. Гагарина
Начало XVIII в
Архитектор М.Ф. Казаков с палатами XVI – XVII в.в
Охраняется государством
В этом доме провел детство и юность поэт Ф.И. Тютчев. 1810 – 1822 г. г
Российский детский фонд
Международная ассоциация детских фондов
К написанному можно добавить, что история дома связана также с именами поэта Раича, декабристов Завалишина и Шереметева, здесь же арестовали декабриста Якушкина. Потом Тютчевы продали дом Попечительству о бедных духовного звания, и там устроили богадельню, которую назвали в честь благотворителя Горихвостова, а при советской власти переименовали в Дом соцобеспечения имени Некрасова. Долгие годы этот особняк, как и многие в Москве, стоял заброшенным и обшарпанным, оправдывая данную Мишей характеристику.
Нынче все не так. Судя по виду охранников и стоящих во дворе автомобилей, дела у Фонда идут совсем неплохо. Может, когда-нибудь здесь появится и еще одна доска – с именами Аль-хена, Паши Эмильевича и других колоритных персонажей.
Пропавшая строчка «Интернационала»
В своем очерке о старом «Гудке» Михаил Львович рассказал и о заведующем редакцией – Августе Потоцком. Двумя страничками, на которых говорится об этом человеке, дядя Миша очень гордился.
Потоцкий был человеком неординарным, в прошлом – граф, в двадцатые – уже старый большевик, проведший годы на царской каторге. Михаил Львович писал о нем:
Странно было представлять себе Августа (так все мы называли его) отпрыском аристократической фамилии. Атлетически сложенный, лысый, бритый, он фигурой и лицом был похож на старого матроса. Это сходство дополнялось неизменной рубахой с открытым воротом и штанами флотского образца, которые давно взывали о капитальном ремонте. А на ногах у Августа круглый год красовались огромные, расшлепанные сандалии.
Через несколько лет Потоцкого перевели на работу в «Правду». Прощались всем коллективом, Олеша прочел длинную стихотворную речь. Расставание было трогательным и искренним, Потоцкий расплакался. Судя по Мишиному рассказу, его действительно очень любили.
Вскоре после того Августа Потоцкого арестовали. Я не знаю, то ли его расстреляли, то ли он сгинул в лагере, – знакомая ему царская каторга по отношению к «политическим» была истинным домом отдыха в сравнении с каторгой советской.
То, что Миша осмелился написать об Августе, к тому времени (1963) официальной печатью не реабилитированном, написать первым после двадцати с лишним лет молчания, и составляло предмет его особой гордости. Времена эти, шестидесятые годы, – вполне «вегетарианские», и семидесятилетнему пенсионеру за такой поступок в любом случае ничего бы не сделали. На худой конец просто выбросили бы из текста ненужного бывшего графа, тем более что Мишин рассказ о нем заканчивается переходом Потоцкого в «Правду». Рассказал ли Михаил Львович в рукописи о трагическом конце заведующего редакцией «Гудка» или остановился на том, что просто вернул из небытия имя хорошего человека, я не знаю. В опубликованном тексте о дальнейшей судьбе Августа Потоцкого стыдливо умалчивается.
Их поколение сильнее других было ушиблено страхом. До последних дней (дядя Миша умер в 1980), рассказывая анекдоты или последние известия, услышанные по «ненашему» радио, он, как и многие тогда, переходил на заговорщицкий шепот. Я по молодости лет к такому поведению относился снисходительно и продолжал говорить не понижая голоса. Тогда Миша делал страшные глаза и показывал ими на стену, за которой жила партийная соседка Фаина Борисовна. На мои слова о безопасности подобных разговоров – в те времена они велись уже повсюду – он горячо возражал: «Ты не знаешь! Ты просто не знаешь, что все ЭТО в любой момент может повториться!» – и требовал клятвенного обещания ни о чем подобном на работе не разговаривать. Так что я хорошо представляю себе, сколько мужества потребовалось робкому по натуре дяде Мише, чтобы совершить этот поступок – просто написать о том, что был такой человек, Август Потоцкий, которого все в «Гудке» очень любили.
Но вернемся в двадцатые. Молодые журналисты изощрялись в придумывании хлестких заголовков и псевдонимов. Дядя Миша рассказывал, как однажды сделал по рабкоровским письмам фельетон о плохой работе железнодорожных бань и назвал «Голый объясняется начистоту». Наумыч нарисовал серию иллюстраций, живописующих злоключения банного клиента. По Мишиной просьбе он придал голому посетителю бань внешность Ильфа. Когда газета вышла, Илья Арнольдович почему-то не оценил остроумия коллег и обиделся. Пришлось объясняться.
А однажды Булгаков один из фельетонов подписал Г.П. Ухов. Никто ничего не заметил, так и пошло в печать. Спохватились уже после выхода номера. Многие сообразили, что если прочесть подпись под фельетоном вслух и слитно, получится «Гепеухов». А аббревиатура ГПУ – Главное Политическое Управление (преемник ЧК и предтеча КГБ) – в те годы к шуткам (да еще в печати) не располагала.
Массовый интерес к Булгакову всколыхнулся сразу после публикации в журнале «Москва» «Мастера и Маргариты». Сейчас уже трудно себе представить, что два (а то и три) поколения читателей в нашей стране выросли, фактически не зная этого автора. Выход романа не обошелся без интриги: первую часть напечатали в 11-м номере за 1966 год, но в следующем, 12-м, окончания не последовало: инстанции чего-то испугались и публикацию тормознули. Однако главный редактор все же довел дело до победного конца – в следующем, январском выпуске 1967 года вторая часть главного произведения Михаила Булгакова увидела свет. Прочитав роман, я стал искать другие вещи Булгакова. Оказалось, что напечатали их к тому времени обидно мало: «Записки юного врача» в малой серии «Огонька» да «Дни Турбиных». Публикация главных булгаковских произведений была впереди, а столь любимое сейчас «Собачье сердце» увидело свет вообще только в конце восьмидесятых. А тогда у дяди Миши я обнаружил брошюру 1925 года с рассказами Булгакова и попросил почитать.
Среди прочих смешных моментов мне запомнилась песня, которую пели, уходя на бой с кровожадными рептилиями войска в «Роковых яйцах». В той книжке она стояла четверостишием без первой строки:
…Ни туз, ни дама, ни валет. Побьем мы гадов без сомненья - Четыре сбоку, ваших нет.Когда, возвращая книжку Мише, я процитировал эту строфу, он вдруг сказал: «А знаешь, какой была первая строчка?» Оказалось, Булгаков взял ее из «Интернационала»:
Никто не даст нам избавленьяКогда это писалось,«Интернационал» являлся нашим государственным гимном, и соединение его слов с блатным «четыре сбоку, ваших нет» выглядело, конечно, абсолютно недопустимым хулиганством. Да и в то время, когда мы говорили с Мишей, «Интернационал» оставался гимном КПСС, а эта партия не допускала шуток на свой счет. Но их все равно сочиняли, и самым распространенным жанром тогда стал анекдот. Как говорили в ту пору: «Мы можем прожить без мяса год, без хлеба месяц, без воды неделю, но без анекдотов – ни дня». Когда практически со всех тем и выражений запрет сняли, анекдоты стали пресными, их почти перестали рассказывать. А в те времена – какое удовольствие получали мы от частушки:
Как у нашей Маньки в жопе Разорвалась клизма. Призрак бродит по Европе, Призрак коммунизма.Теперь-то, наверно, нужно объяснять, что третья и четвертая строчки здесь – не что иное, как дословно приведенная первая фраза «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, а последнее слово первой строки тогда строго числилось в непечатных. Так что сегодня, когда русский язык представлен в печати, кино и на телевидении в полном своем объеме, а Карл Маркс и Фридрих Энгельс – просто рядовые исторические фигуры позапрошлого века, частушка эта выглядит несмешным набором слов. Да так-то и лучше, пожалуй.
Некоторые подробности рождения великого писателя
История рождения писателя «Ильф и Петров» изложена неоднократно. Ее рассказали в своих воспоминаниях Евгений Петров, Валентин Катаев и многие другие. Наверно, почти всё, рассказанное этими авторами, – правда. Но не вся. Для человека естественно, описывая какое-либо значительное событие, опустить маловажные детали, в дальнейшем никакого значения не имевшие. Но для меня интересна как раз одна деталь, опущенная большинством биографов.
Обычно историю эту описывают следующим образом: зашел как-то в комнату четвертой полосы Валентин Катаев, известный уже к тому времени писатель. Посидел, потрепался, а потом предложил создать «мастерскую советского романа» и молодым коллегам стать его «литературными неграми». Они будут сочинять романы, а он потом – проходиться по написанному рукой мастера. Заодно и возможную тему назвал: о деньгах, спрятанных в одном из стульев проданного гарнитура. После этого Катаев убежал. Слова его окружающими были восприняты как шутка. Только Ильф задумался о них всерьез и предложил Петрову попробовать. Они попробовали, и – дальше все знают.
На самом же деле, насколько я знаю, когда Ильф с Петровым обсуждали идею написания коллективного романа, речь шла о совместной работе трех авторов. Третьим должен был быть Михаил Штих.
Предложение писать втроем Ильф и Петров ему сделали, однако, обдумав все, Миша от соавторства отказался. Во-первых, как он мне рассказывал, ему показалась дикой сама идея – писать втроем один роман. Во-вторых, у него сложились непростые отношения с Катаевым. Да и тот, узнав о плане «тройственного союза», отговаривал брата и Ильфа от работы вместе со Штихом.
Валентина Петровича Катаева – человека – Михаил Львович Штих не любил. В 1978 году «Новый мир» опубликовал катаевский роман воспоминаний «Алмазный мой венец». Журнал этот, очень популярный среди тогдашней читающей публики, был, естественно, остродефицитен. Подписка на него строго регламентировалась, достать почитать свежий номер удавалось только спустя какое-то время, по очереди и ненадолго. По выходе 6-го номера с «Алмазным венцом», когда о вещи пошли только первые смутные слухи, я гостил как-то у Михаила Львовича на Беговой. Помню выражение испуга, с которым он спросил меня: «Говорят, Катаев опубликовал какую-то вещь о двадцатых годах, про „Гудок“. Ты не читал? Не знаешь, там обо мне ничего нет? Мне бы не хотелось, чтобы он про меня писал».
Прочтя потом это, сколь талантливое, столь и злое произведение, я понял Мишины страхи. Катаев намного пережил почти всех, с кем рядом он начинал свою литературную деятельность (к моменту написания «Алмазного венца», если не ошибаюсь, в живых оставались лишь двое из его героев, не считая автора). Все они – известные писатели и поэты, многие умерли трагически, не дожив до старости. У Катаева же каждый из персонажей предстает в виде мелком и смешном: те подрались, тот напился в гостях и сморкался в скатерть… Роман как будто иллюстрирует известное пушкинское письмо: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы!»
Но также понял я, читая роман, и то, что Миша боялся напрасно: скромный журналист, каким остался Штих, Катаева не интересовал. В «Алмазном венце» он расправился с более заметными в советской литературе фигурами.
Рассказ же о своем несостоявшемся соавторстве с Ильфом и Петровым дядя Миша закончил после паузы словами: «Да я бы был лишний. Конечно, они должны были писать вдвоем».
Историю о предложении Ильфа и Петрова Мише я слышал потом и от других людей, а однажды прочел в чьих-то мемуарах. Помню еще, как мы обсуждали их с мамой. К сожалению, я не запомнил, чьи именно это были воспоминания, а когда спохватился, ни мамы, ни Миши уже не было на свете. В доступных мне книгах о творчестве Ильфа и Петрова этот факт не упоминается. Так что доказательств правдивости изложенного у меня нет. Но ведь мой рассказ – о том, что я знаю, а не о том, что могу доказать.
Вскоре роман «Двенадцать стульев» был написан и напечатан. Его сразу полюбили, и, думаю, будут любить, несмотря на то, что многие социальные оценки с тех пор поменяли свой знак на противоположный. Ильф и Петров – писатели очень талантливые, и этого у них не отнимет никто. А Миша получил в подарок экземпляр книги – той, первой, издательства «Земля и фабрика», с дарственной надписью:
Михаилу Львовичу Штиху с любовью и уважением. И. Ильф
17.7.1928.
В «Правде»
В 1930 году Миша ушел из «Гудка». Чем он занимался сразу после этого, я не знаю. С августа 1934 года Михаил Штих – литературный сотрудник газеты «Правда». Здесь ему предстояло проработать долго – более 20 лет.
О своей работе в Центральном органе единственной и главной в стране партии, членом которой он никогда не состоял, Михаил Львович рассказывал разное. Про опечатки, например. Как однажды во время войны в заголовке на первой странице (на газетном языке – в «шапке») пропустили букву – только одну. Получилось «ПРИКАЗ ГАВНОКОМАНДУЮЩЕГО».
В другой раз, тоже в заголовке, но внизу страницы, букв пропустили целых три и не подряд, как нарочно. Статья должна была называться «Саратовские страдания», а вышло вместо «Саратовские» – «Сартские». Слово «сарты» обозначает название одного из древних узбекских племен и носит на Востоке обидный характер. Так что оба раза опечатка носила характер идеологической диверсии. Отпечатанный тираж отправили под нож, а дежурную смену сотрудников больше никто не видел.
Или еще такая история. Не знаю, как сейчас, а полвека назад в редакциях газет и журналов курили крепко, это я помню и по моим посещениям редакции журнала «Театр», где работала мама. Когда однажды меня, четырехлетнего, маме пришлось на день взять с собой в редакцию (оставить было не с кем), то потом, в ответ на вопрос кого-то из взрослых: «Что делают на маминой работе»? – я сказал, что там никто не работает, а все целый день только курят, пишут и разговаривают. Вот и в «Правде», когда там работал Миша, курили прямо на рабочих местах. И однажды от плохо потушенной сигареты загорелась бумага в мусорной корзине, а от нее занялась штора. Дальше огню распространиться не позволили – кто-то притащил огнетушитель и пожар был ликвидирован в зародыше. Однако редакционный особист, любивший мечтательно вспоминать: «Когда я работал в органах…» – почуял возможность проявить себя. В «Правде» он скучал. Вероятно, на старом месте, «в органах», у него была более живая работа. Помните, у Вишневского:
Палач сечет без роздыху, А все же, черт возьми, Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми…И вот, спустя день или два, когда о мелком происшествии все забыли, он вызвал виновного в свой кабинет. Тот явился. Особист сидел за столом, а перед ним лежала еще нетолстая папочка с надписью «Дело №». Не предложив вошедшему сесть, он медленно, спокойно и с расстановкой спросил, с какой целью им, таким-то и таким-то, такого-то числа была предпринята попытка поджога Центрального органа нашей партии, газеты «Правда»?
«Поджигатель» стал сбивчиво объяснять, что ничего подобного в виду не имел, мол, много бумаги в мусорной корзине, плохо затушил сигарету, не заметил и так далее. Особист выслушал спокойно, не перебивая, до конца, а потом сказал: «Об этом я вас не спрашиваю. Я вас спрашиваю, с какой целью вы, такой-то и такой-то, такого-то числа предприняли попытку поджога Центрального органа нашей партии, газеты „Правда“?»
Помучив несчастного довольно долгое время и как следует запугав, бывший сотрудник органов прекратил допрос. Он велел «подследственному» хорошенько подумать, а на следующий день все повторилось снова. Так длилось с неделю. Естественно, арестовать человека правдинский особист не имел права. Скорее всего, он хотел извлечь из случившегося максимальную пользу для себя и не просто сигнализировать о случившемся «органам», но передать товарищам готовое, раскрытое им самим дело. Однако история дошла до главного редактора «Правды», а этот пост занимал могущественный в то время партийный деятель Мехлис. Посадивший и отправивший на тот свет немало людей, меньше всего он хотел, чтобы в руководимой им главной газете страны обнаружили заговор. Мехлис вызвал ретивого чекиста и спросил, какое дело заведено у него на сотрудника имярек? Тот ответил, что дело действительно есть – о попытке поджога Центрального органа нашей партии газеты «Правда». Мехлис затребовал папку для ознакомления, а он был слишком важной персоной, чтобы мелкий чин (даже гебешный) посмел возразить. Тот принес. Мехлис поблагодарил и сказал, что дальше расследованием займется он сам. Тем дело и кончилось.
Особая полка
В том же году, что и «Двенадцать стульев», вышла первая книга еще одного молодого гудковца – Юрия Олеши. Это – «Три толстяка» с иллюстрациями Добужинского. Книга надписана:
М. Штиху, его детям и внукамс любовью. Ю. Олеша
Москва. 17.11.28Когда Юрий Карлович дарил эту книгу, детей у Миши не было, а внуков – и подавно, так что надпись сделана авансом, на будущее. Жизнь сложилась так, что единственный Мишин внук (точнее, внучатый племянник) – это я.
Книги, надписанные авторами, стоят у нас дома на отдельной полке. Их много – как-никак и дедушка, и дядя Миша, и мама всю жизнь дружили или работали с литераторами – писателями и журналистами. Вместе собрал их я: при жизни тех, кому они подписаны, книги стояли рядом со всеми прочими, на обычных, положенных им местах. По многочисленным автографам можно составить целую историю…
Повальное увлечение авиацией в 20-30-е не миновало Михаила Львовича. Человек, в общем, от техники далекий, он все же поддался обаянию авиационной романтики тех лет. В сборнике «Летчики» 1938 года – два его очерка – «Ученик Уточкина» и «Бафтинг». С их героями – летчиками Шварцем и Кокиным – Миша был знаком.
Книга странная – в ней собраны рассказы почему-то исключительно о гражданских летчиках того времени, поэтому самые известные и любимые в те годы – Чкалов, Громов, Байдуков и многие другие – в число ее героев не попали. Книга вышла за полгода до гибели Чкалова, в ней главный летчик страны упоминается вскользь один раз. Опала? Сейчас утверждают, что его гибель подстроили – слишком самостоятельный человек, он не вписывался в рамки придуманной для него роли. Но сейчас много чего утверждают.
Зато другая книжка – «Беспримерный перелет», вышедшая в 1936 году, – вся посвящена одному событию – беспосадочному перелету экипажа в составе Чкалова, Байдукова и Белякова по маршруту Москва – Земля Франца-Иосифа – мыс Челюскин – Петропавловск-на-Камчатке – остров Удд (который после полета переименовали в остров Чкалов). Это деяние явилось генеральной репетицией другого полета: через год тот же экипаж перелетел через Северный полюс в Америку, но книга вышла раньше, когда про подготовку полета в Америку читателям знать еще не полагалось.
Конечные точки «беспримерного перелета» наметил, якобы, сам Сталин, поэтому маршрут нарекли сталинским. Нельзя сразу сказать, о ком в книге говорится больше – об Иосифе Виссарионовиче или о Валерии Павловиче. Так уж тогда было принято. Написал книгу Л.Б. Хват, Мишин знакомый и сослуживец (не путать с однофамильцем – следователем-садистом, замучившим Н.И. Вавилова, того звали Алексеем Григорьевичем). Начинается она с предисловия:
Самые широкие круги читателей Советского Союза, следившие за выполнением нами сталинского маршрута, желают знать подробности выполнения полета. Автор настоящей книги рассказал об этом простыми и правдивыми словами.
Специальный корреспондент «Правды» Л.Б. Хват встречался с нами до полета, был вместе с нами на острове Удд (о. Чкалов) и часть пути сделал с нами от Хабаровска до Москвы, находясь на борту самолета «АНТ-25».
Поэтому приятно отметить, что т. Л.Б. Хвату удалось художественно изложить фактический материал о полете.
Ниже – размашистые факсимильные подписи:
Чкалов
Байдуков
Беляков
Вероятно, в написание книги Миша вложил долю своего На титульном листе наискось ми стоит:
Мише Штиху – моему другу, приложившему руку к сему труду и соответственно к кассе издательства – Хват 17.11-36 г.
Во время Великой Отечественной Михаил Львович оставался в Москве. Все правдисты жили тогда на военном положении, главная газета страны выходила без перебоев. Но, кроме основной работы – выпуска газеты, журналисты выполняли и другую, близкую по профилю. Так, в 1942 году по рассказам пограничников, воевавших волею судеб далеко от границ, составили книжку «Пограничники-фронтовики». Михаил Львович участвовал в литературной обработке солдатских историй, и в его экземпляр перед титульным вклеен другой лист с типографским текстом:
На память Штиху Михаилу Львовичу. Политотдел войск НКВД Калининского фронта.
Действующая армия. Ноябрь 1942 г.Интересно, что таких книжек у Михаила Львовича оказалось две. Во вторую вклеен такой же лист, адресованный «Маршаку Самуилу Яковлевичу» с припиской от руки:
Горячий привет от бойцов и командиров.
Старший лейтенант И. Красногуб.Видимо, Маршак помогал в подготовке напечатанных в книге самодеятельных стихов, а его экземпляр попал к Мише для передачи, но почему-то так и остался у него. Мишино знакомство с Самуилом Яковлевичем не было мимолетным. Подробностей его я не знаю, но вышедшая в том же 1942 году книга переводов английской лирики «С. Маршак. Английские баллады и песни» надписана так:
Другу поэзии и поэтов, превосходному человеку, Михаилу Львовичу Штих с дружеским приветом
С. Маршак 18.9.1942.А семь лет спустя Самуил Яковлевич подарил Мише другую книгу – переводы сонетов Шекспира. Там он даже стишок вписал (насколько я знаю, исследователям его творчества это двустишие неизвестно):
Ты этот труд прими из рук моих,
Мой дорогой и благородный Штих.
С. Маршак 4.5.1949. Москва.Помогал Михаил Львович литературнымисоветами советами и «советскому графу» – генерал-лейтенанту Алексею Алексеевичу Игнатьеву. Это был очень интересный человек. Настоящий граф, он получил до революции блестящее военное образование – закончил Кадетский и Пажеский корпуса, а потом Академию Генерального штаба. После участия в Русско-японской войне 1905 года Игнатьев служил военным атташе в Дании, Норвегии, Швеции и Франции, где и застала его революция. Игнатьев мог остаться за границей, но, как говорится в газетном некрологе, сохраненном дядей Мишей, «в числе лучших представителей русской военной интеллигенции, как истинный патриот, он без колебаний перешел на сторону Советской власти и посвятил всю свою дальнейшую общественно-политическую деятельность социалистической Отчизне».
Мемуары Игнатьева «Пятьдесят лет в строю» любители мемуаров в СССР читали с интересом: как-никак, автор остался единственным графом среди советских генералов, который к тому же дожил до 77 лет и умер своей смертью. Воспоминания писались и выходили частями. Третья книга, увидевшая свет в 1942 году, стоит тут же, рядом. На ней написано:
Дорогому Михаилу Львовичу Штиху, высокому стилисту, с благодарным чувством за советы неуверенный в себе Автор Алексей Игнатьев
Москва – Куйбышев 1943 -1942А с Ираклием Луарсабовичем Андрониковым Михаила Львовича сблизила, кроме всего прочего, музыка, которую оба страстно любили. Миша одно время работал в «Правде» в музыкальном отделе, Андроников начинал как музыкальный критик. Когда впоследствии он стал выступать с устными рассказами и блестяще пародировать известных людей, то новые «номера» обычно вначале отрабатывал на знакомых – такую «обкатку» довелось неоднократно видеть Мише, а впоследствии, независимо от него, в редакции журнала «Театр», и маме. По их рассказам, Андроников приходил в компанию в конце рабочего дня, быстро организовывалась легкая выпивка с закуской и начинался показ. Когда у зрителей уже не оставалось сил хохотать и они только слабо стонали, Ираклий Луарсабович (если присутствовали только свои) запирал дверь и начинал изображать неподцензурных персонажей – Сталина и членов Политбюро.
Повторюсь, но скажу: после отмены цензуры огромный пласт юмора умер. А я еще помню, как в восьмидесятые мы крутили друг другу кассеты с записями Хазанова, который произносил запинающимся голосом Брежнева доклад о смехе. Ни над Горбачевым, ни над Ельциным так не смеялись потому, что шутки были безопасны – Грушевский пародировал Ельцина в концерте, на котором тот присутствовал. И это было не смешно. А пародия на живого Сталина! Я представляю, как они смеялись.
Но в серьезной жизни Ираклий Андроников писал серьезные книги. Вот его «Рассказы литературоведа» издания 1949 года с надписью:
Михаилу Львовичу Штиху, дорогому, а потому и дарится из последних трех экземпляров.
Ираклий Андроников 1949, 17 ноября.
Книг на этой полке еще много. И надписи на них разные, как и люди, их писавшие. Здесь и Наталья Ильина, и классик советской литературы, ныне почти забытый Борис Полевой, и поэт Лев Озеров.
А вот очень дорогая мне маленькая книжка – «Борис Пастернак. Стихи» – из серии «Библиотека советской поэзии». Год издания – 1966. В то время умершего в опале Пастернака издавали редко: за шесть лет, прошедших после его смерти, эта книга – третья.
Четвертая появилась еще через четыре года. В послесловии Николая Банникова, написанном по традиции тех лет так, чтобы недоговоренное ушлый читатель прочел между строк, упомянуты «заблуждения и горестные ошибки» автора, «особенно в последние годы его жизни». А это, согласитесь, уже не «моральное падение» или «оплаченная клевета», как писали в шестидесятом. Вот по таким именно тонким нюансам текста советская интеллигенция получала последние сведения о границах идеологически дозволенного на текущий момент.
Рукой Евгения Борисовича Пастернака, сына Бориса Леонидовича и составителя книги, написано:
Дорогому Михаилу Львовичу Штиху на добрую память
Женя. 30.4.66Эта книжка много путешествовала со мной по миру. Может, и негоже возить с собой раритетный томик, но я вожу. И эти строчки я сейчас пишу в Сент-Джонсе, на острове Ньюфаундленд – есть немного времени между рейсами. Никто из людей, о которых идет речь на этих страницах, не забирался так далеко, даже доктор Залманов. А маленький томик стихов Пастернака, подаренный сыном автора другу юности Бориса Леонидовича, – вот он, на полке в каюте. Маленькое звено, связующее времена.
При люльке с пожеланиями
Книг, надписанных дедушке, намного меньше. Он не стал действующим лицом в литературном процессе, хотя любил поэзию всю жизнь, следил за появлением новых имен и собрал очень многое из того, что издавалось и заслуживало внимания. А все авторские надписи на сохранившихся у нас подаренных ему книгах сделаны одной рукой – характерным почерком, который не спутать ни с каким другим (Ахматова назвала этот почерк крылатым), – рукой Бориса Леонидовича Пастернака.
В начале 1922 года в его переводе вышли «Тайны» Гете. (Все большие поэты в советские времена вынужденно много занимались стихотворными переводами: это был способ литературного заработка, тогда как их собственные стихи не пускали в печать. В итоге мы получили замечательную школу художественного перевода. Чего мы при этом лишились – можно только догадываться.)
На «Тайнах» надпись:
Другу Шурочке, памяти ужасного ноября 1919 г. и его болезни, когда спешно исполнялась эта, преисполненная конфузов, но не вовсе неудачная вещь.
Б. Пастернак 26/III22 Москва.
С того времени, когда Александр Львович стал женатым человеком, Борис Леонидович дарил книги, надписывая их обоим супругам. Вот первая книжечка прозы Пастернака – «Рассказы», изданная в 1925 году:
Дорогим Татьяне Сергеевне и Шуре от Бори.
С любовью и беззастенчивостью, потому что проза скверная и я больше не буду.
12/IV 25.
«Скверной прозой» Борис Леонидович называет не больше и не меньше как, например, «Детство Люверс» и «Воздушные пути». Хорошо, что обещание «больше не буду» он не выполнил.
И еще четыре книжки надписаны Пастернаком: «Темы и варьяции», «1905 год», перевод «Змеееда» Важи Пшавелы и оттиск журнальной публикации из «Спекторского».
Дорогим Шуре и Тане от Бори 8/XII25
Дорогим Шуре и Татьяне Сергеевне с пожеланиями счастья и удачи.
Б.П. 30/ IX/27. Москва.
Шуре и Татьяне Сергеевне от Бори. 11.II.35
Надпись же на книге «Темы и варьяции» издательства «Геликон» – особенная. Она гласит:
Дорогим Татьяне Сергеевне и Шуре при люльке и с наисердечнейшими пожеланиями на этот счет. Б. Пастернак 5/XII/26
Люлькой, прилагаемой к книжке, Борис Леонидович назвал детскую коляску. Сыну Пастернаков Жене тогда исполнилось уже 3 года – возраст, когда человек может обходиться и без коляски. А вот Александру Львовичу с Татьяной Сергеевной она, судя по дате, действительно, пришлась кстати, и «наисердечнейшие пожелания на этот счет» тоже не пропали даром. Через два дня, седьмого декабря 1926 года у них родилась дочь, которую назвали Наташей.
Мама маленькая
Важное событие – появление нового человека – было оформлено соответствующим образом, и счастливые родители получили необходимый документ – «Свидетельство о рождении» № 5831 с косо наклеенной маркой «Гербовый сбор 15 коп.». Особенно убого эта справка выглядит рядом с дедушкиной метрикой. Тонкая, заполненная торопливым почерком бумажка, делавшая законным существование в стране, «где так вольно дышит человек», почтения к себе явно не вызывает.
Вот небольшая пачечка фотографий из маминого детства. На одной – неважно сохранившейся любительской – смешная малышка лет трех. Сидит на корточках, коленки возле ушей, на голове большой шелковый бант. Про этот бант мама вспоминала, что по авиационной моде тех лет он назывался «алаплан».
Вот маленькая Ната на рисунках Наумыча. Один – в плакатном стиле: две мускулистые мужские руки с засученными рукавами держат над фаянсовым горшком пухлую девочку с оголенной попкой. Лозунг на плакате гласит: «Спать укладывая дочку, не забудьте на горшочек детку посадить».
На другом – Наташа в коротеньком детском платье пишет что-то, лежа на животе и открыв рот, – вероятно, тщательно выговаривая слова. Сохранился листок с одним из ее первых письменных упражнений с отцом – этакая «переписка из двух углов». Кто знает, возможно, именно в момент ее написания и запечатлел художник Фридберг будущего редактора и театрального критика? Бумажка заполнена печатными буквами, через строчку: строчка криво, с некоторыми буквами навыворот, строчка ровно.
Папочка как ты поживаеш
Спасибо дочка, хорошо. А ты как?
Яучусь вшколи хорошо
Туся, ты написала неверно. Надо вот как:
Я учусь в школе хорошо. Твой папа.
Папа эо очень плохо написала Ты,
Туся, у меня совсем неграмотная.
Папа я радио слушаю.
Сохранился также «Домашний дневник Наташи Штих» – на такие штуки дедушка был мастер. Я помню, что в свое время похожий дневник заводил он и мне. Интересно, сам он его придумал или когда-то такие же ввел строгий Лев Семенович для него с братом и сестрой?
Наташин вырезан в четверть из ученической тетрадки, разграфлен и заполнен аккуратным дедушкиным почерком. Оценки выставлялись по следующим показателям:
Поведение
Послушание
Порядок
Занятия
Еда
Дневник начинается 18 ноября 1934 года. В этот день Наташа получила четыре оценки «уд.» и один «неуд.» – за послушание. С 9 декабря добавились еще две графы: «Раздевание» и «Одевание», успехи по которым отмечались переменные. Ас 1 января 1935 года появляется графа: «Ногти». До 18 марта, когда дневник заканчивается, оценка по этой статье одна – неудовлетворительная. Этой же проблеме посвящен и другой документ – сочиненная дедушкой «Поэма о Ногтекусе». Вероятно, он написал ее, когда Наташа уезжала куда-то под Калугу, очевидно, летом (в лагерь?) и послал письмом. Квартира № 10 дома 22/2, в которой росла Наташа, была уже коммунальной. Правда, Штихи пока что занимали в ней несколько комнат: Лев Семенович с женой, отдельно – Миша, отдельно – Нюта, отдельно – Шура с семьей. Всех прочих, живших в других комнатах, я не знаю, но с некоторых пор в квартире обитала со своим мужем известная певица Мария Петровна Максакова, тогда уже – солистка Большого театра, впоследствии – народная артистка СССР. По ассоциации с Наумычевым плакатом вспоминаю такую историю.
Музыкальные Штихи дружили с ней, называли запросто – Ма-ришей, переписывались, когда разъезжались летом. Максакова была Наташиной крестной. Я ее не застал: к моменту моего рождения она уже давно переехала в более подходившую ей по статусу отдельную квартиру. Но я помню, как все взрослые светлели лицами, когда по радио раздавалось ее звонкое меццо-сопрано: «Над полями, да над чистыми…» – «Мариша поет».
Так вот, муж раздобыл для нее великий в то время дефицит – ночной горшок. (Для людей, никогда не живших в больших коммунальных квартирах с общей уборной в конце длинного коридора, свидетельствую: вещь очень нужную.) Вероятно, подарок демонстрировался близким (хорошие соседи по коммуналке – это почти родственники). Конечно, вечером, к приходу гостей, горшок, как предмет достаточно интимный, задвинули под диван поближе к стене. А в самый разгар праздника, когда виновница торжества принимала поздравления и подарки, трех– или четырехлетняя крестница решила поделиться с собравшимися радостью. «А что Максимилиан Карлыч Ма-рише подарил!» – сообщила она заговорщицки, залезла под диван – благо, рост позволял сделать это быстро – и вытащила редкий подарок на всеобщее обозрение.
Как многие в детстве, Наташа выдумала себе прекрасную страну. Как она называлась, я забыл, а жившую там девочку, Наташину подругу, звали Иргусклис.
В 1934 году Наташа поступила в школу № 312 в Потаповском переулке. От ее учебы остались несколько ведомостей с четвертными и годовыми отметками. Серьезные бумажки Нарком-проса РСФСР (форма ПШ-4) навевают уныние одним своим видом. Однако успеваемость Наташа Штих демонстрировала высокую: если среди четвертных оценок «хор.» пару раз все же фигурирует, то годовые – все исключительно – «отл.». По годовым результатам Штих Наташа регулярно получала похвальные грамоты «За отличные успехи и примерное поведение» с портретами Ленина и Сталина и дымящимися трубами заводов, нарисованных на заднем плане.
С 1936 года Наташа учится в музыкальной школе по классу фортепиано. Среди прочих ветхих бумажек – есть и такая:
Государственная музыкальная школа № 1
Куйбышевского района
Справка
Дана Штих Наташе в том, что она занимается в музыкальной школе № 1 Куйбышевского района по классу ф-но и нуждается в музыкальном инструменте.
Для представления в госмузпрокат.
Очевидно, граждан без таких справок госмузпрокат не обслуживал.
Мамина подруга
В школе составилась неразлучная троица подружек – Наташа Штих, Нина Егорова и Витя (Виктория) Кочурова. Нина жила в начале Кривоколенного, во дворе, по соседству с особняком середины XVIII века – домом Веневитинова, где Пушкин читал «Бориса Годунова». Отец Нины, дядя Костя – певец, тенор, одно время даже пел в Большом театре, я помню его фото в гриме Германа из «Пиковой дамы». Впоследствии из театра дядя Костя ушел и стал петь в церкви – как считалось у знакомых, из-за денег. Возможно, там действительно больше платили в советское время. Нинина мать, тетя Шура, была женщиной простой, моя мама утверждала даже, что неграмотной, и это вызывало мое острое детское любопытство, объясняя для меня отчасти ее религиозность. Впрочем, в полной неграмотности тети Шуры я впоследствии усомнился. Летом 1962 года мы 146 с мамой какое-то время жили у Егоровых на даче. Тогда я как раз с упоением читал Ильфа и Петрова, живо обсуждая прочитанное с Ниной и мамой. Некоторые места мы повторяли наизусть и долго с удовольствием хохотали. Неожиданно выяснилось, что тетя Шура тоже знакома с «Двенадцатью стульями», причем ее замечание я запомнил на всю жизнь: «Очень мне священнослужителя было жалко», – сказала она.
Партийная Нина (она работала в школе учителем истории) имела большие неприятности из-за отцовской службы в церкви. Вообще жизнь свою она считала неудачной: единственный ребенок – девочка – умерла совсем маленькой, Нина сама едва выжила после родов. В дальнейшем иметь детей ей запретили из-за больного сердца. От внезапного сердечного приступа Нина и умерла, прожив всего сорок с чем-то лет. И дядя Костя, и тетя Шура пережили дочь. На похоронах случился неслыханный по тем временам скандал: проводить любимую учительницу пришло полшколы – и учителя, и ученики, члены партийной и комсомольской организаций, а верующие родители устроили церковное отпевание.
История же Вити Кочуровой получилась во всех отношениях уникальной, можно даже сказать, мифологической, поэтому я остановлюсь на ней под робнее. Происходила она, как и Наташа Штих, из смешанной семьи, только наоборот: ее мать была еврейкой, а предки со стороны отца – русскими (коренными, в нескольких поколениях, московскими извозчиками и извозопромышленниками).
Отец ее вначале носил фамилию Чепурнов, но во время гражданской войны изменил ее на фамилию близких родственников и стал Кочуров. В книге «Мелкий жемчуг» Виктория Кочурова (Алла Кторова) напишет:
…Мои родные не были «ваньками». Они никакого отношения не имели к крестьянам, пришедшим с худыми клячами в город на заработки. К тем беднякам, что вели мелколавочный торг «за сколько свезем?», клянчили пятачок надбавить за езду с ветерком и спали, сгорбившись ватной спиной, с вожжами в руках, на пустынной, подернутой туманом московской улице.
Чепурновы с Рогожской были династией потомственных, состоятельных владельцев богатых коню-шен.<…> Еще прапрадед Яков Евдокимович был назначен, как один из лучших российских кучеров, гнать почтовые дилижансы и доставлять то Николаю I, то Александру II царскую почту в их путях-дорогах.<…> Чепурновы держали свои собственные выезды: от одноконных на дутиках до троечных, от колясочных до шаферских и свадебных.<…> У всех моих родственников были постоянные пассажиры, и называли Чепурновы-извозчики своих седоков не «барин» и не «ваш здоровь», а по имени-отчеству.<…>
Из рассказов папы, по каким-то смутным упоминаниям Владимира Алексеевича Гиляровского, уже глубокого, слепого старика в тридцать четвертом году, и по подтверждению Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, которую мне посчастливилось знать лично, я точно установила, что именно мой дедушка Тимофей Васильевич Чепурнов был тем молодым извозчиком, с которым Чехов в четвертом году летом, перед выездом в Баденвейлер, последний раз объехал Москву, прощаясь с любимым городом.
Мальчиком ее отец, обладавший красивым голосом, пел в хоре Чудова монастыря. В те времена обычным делом было участие в церковных хорах певцов из главных оперных театров страны. Один знакомый юного Вани, тенор капеллы Большого 148 театра, посоветовал ему подать прошение в хор Большого театра. На прослушивании мальчика отметил музыкальный педагог и певец П.И. Тихонов и начал заниматься с ним индивидуально. Так Иван Тимофеевич Чепурнов первым в своем роду пошел не по извозчичьей стезе.
В Первую мировую он служил прапорщиком, потом стал красным командиром и в двадцать втором в Севастополе женился на еврейской девушке. Представляя совсем юную перепуганную жену своей московской родне, он «.встал в артистическую позу, руку поднял и заявляет:
– А зовут мою жену прекрасным, духовным, библейским именем Рэвэкка!
Настала мертвящая тишина».
Однако новая родственница пришлась ко двору, в семье ее полюбили. Тогда же, в двадцать втором, Кочуровы поселились в доме 22 по Мясницкой. Только вход в их коммуналку с шестьюдесятью четырьмя жильцами был не с переулка, как в штиховскую квартиру, а с улицы. Познакомились Кочуровы со Штихами вскоре после рождения дочек: в годовалом возрасте маленькая Витя оказалась на грани смерти из-за жестокого воспаления среднего уха. Спасителем девочки ее мать считала Льва Семеновича Шти-ха. Все же хорошим, наверно, доктором был мой прадедушка.
Иван Тимофеевич Кочуров продолжил свое музыкальное образование и уже получил приглашение работать солистом в опере, но вместо этого не своей волей поехал строить Беломорско-Балтийский канал. Думаю, ему все же отчасти повезло: как многие, кто попал в мясорубку репрессий в самом ее начале, отмотав срок, он не получил повторного. Ему лишь воспретили жить в столице. В Саратове Иван Тимофеевич стал-таки потом солистом местного театра оперы и балета. Там он и умер много лет спустя.
Дочь же его, Виктория Ивановна Кочурова, окончила школу и ИнЯз, вышла замуж, но ненадолго: разошлась. После смерти Сталина, при Хрущеве, «железный занавес» стали приоткрывать – пока только в одну сторону: к нам начали приезжать редкие иностранные туристы. Для их обслуживания при гостинице «Москва» создали специальное бюро – чтобы обеспечить посланцам капитализма некий недоступный широким массам простых граждан уровень комфорта, а заодно максимально сократить круг советских подданных, контактирующих с иностранцами. В это бюро выпускница ИнЯза Кочурова и попала на работу. И очень скоро один из туристов, бывший летчик, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке, в гражданской жизни – предприниматель Джон Шандор, предложил ей сердце и руку.
Времена тогда, конечно, уже смягчились. Известной и любимой всеми в сталинские годы актрисе Зое Федоровой в аналогичной ситуации никакая слава не помогла: за любовь с американским морским офицером она получила полновесный срок. В пятьдесят восьмом году за это вроде бы уже не сажали, но что делать в подобной ситуации? Инструкций еще не написали. В одном из интервью сама Виктория Ивановна описала дальнейшее так:
…Расписать – расписали (закон, запрещавший браки с иностранцами, был к тому времени уже отменен), но визу мне не давали, и Джон несколько месяцев обивал всевозможные пороги. Помог случай: на приеме в Индийском посольстве он познакомился с Хрущевым, которому дочь посла рассказала нашу историю. Ники-тушка был в хорошем настроении <…> и приказал нас выпустить. Но к этому времени уже разгорелся международный скандал: за нас вступились многие сенаторы, журналисты стали слать репортажи в газеты, во всех странах стали показывать нас по телевизору.<…>
Думаю, что Хрущеву это нужно было меньше всего. А меня прорабатывали на экстренном заседании Моссовета за измену родине и предательство. Короче, мне дали визу за номером пять. Это значит, что я была пятым по счету советским человеком, легально покинувшим страну после смерти Сталина. Уехала я с советским паспортом.
История эта тогда наделала много шума, во всяком случае, среди всех знакомых – точно. Уехав, Витя писала подругам письма – в основном Нине Егоровой, та приносила их читать моей маме. Мне было смешно слушать, как они осуждали встречавшиеся изредка в Витиных письмах крепкие выражения. Не от пуританства или ханжества: в своем кругу, без посторонних они ценили метко и к месту ввернутое соленое словечко. Но то, что немногочисленные письма из-за границы подвергаются перлюстрации, ни у кого тогда не вызывало сомнения, поэтому Витины послания они читали как бы уже и не только в своем кругу. Им было неловко перед читавшими письма гебешниками.
А по содержанию письма воспринимались, как научная фантастика. Витя выучилась водить машину. Муж купил ей «фольксваген». Они живут в собственном доме. У нее стиральная машина, холодильник и пылесос. Потом в письмах стали приходить фотографии – цветные! Витя около машины. Витя в шезлонге около дома, рядом с бассейном. Потом Витя стала путешествовать, присылая подругам свои цветные фотографии из городов, так хорошо знакомых искусствоведу Наташе и историку Нине заочно. Сейчас такие истории не редкость, но тогда, в пятидесятые, они были не то чтобы наперечет, а просто других, может, и не существовало.
Если среди ваших знакомых есть советские женщины, родившиеся в середине двадцатых годов, припомните, научилась ли хоть одна из них водить машину? Из домашней техники моя мама узнала только холодильник, у Нины, кажется, имелся еще и пылесос. Нет, они не завидовали подруге. Просто Витины письма и фотографии помогли им быстрее проделать необходимую умственную работу по преодолению впитанных еще в детстве и юности советских стереотипов.
Постепенно выяснялись и некоторые подробности биографии Витиного мужа. Потомок переселившихся в Америку венгров, американец во втором поколении, Джон Шандор во время Второй мировой войны воевал летчиком-истребителем, дважды горел в самолете, но продолжал сражаться. В «Мелком жемчуге» о нем сказано так:
Сам адмирал Нимиц в сорок четвертом году лично предлагал мужу, который готовил экипаж своего авианосца к открытию Второго фронта и высадке в Нормандии, покинуть театр военных действий и отправиться в тыл испытывать новые вертолеты. Но Джон отказался, заявив: «Я останусь на поле битвы до полного сокрушения врага». И это после двух ранений!!!<…> Вот какой у меня муж.
Я запомнил еще и другое, обсуждавшееся мамой и Ниной. После войны полковнику Шандору предлагали выгодный пост в американской армии, гарантировавший очень хорошую военную карьеру. Джон отказался. Он объяснил, что пошел воевать, потому что его стране грозила опасность и потому что ненавидит фашизм, следовательно, после окончания войны причин для его пребывания в армии больше нет. Такая позиция, вызывая у всех безусловное уважение, опять-таки заставляла задуматься. Что это за жизненные ценности, которые Джон Шандор предпочел карьере генерала в мирное время?
Неординарность случившегося с близкой маминой подругой произвела на меня в детстве большое впечатление. Я слушал разговоры взрослых и думал о своем. В итоге история жизни Джона Шандора (как я ее себе представлял) помогла понять цену настоящей свободы – распоряжаться своей судьбой, принимать все решения самостоятельно. Стать self-made man. Быть человеком, который сам себя кормит. И который сам идет воевать за свою свободу.
Лицо Жар-птицы
Витя же, став американкой, занялась тем, что ей было интересно. Она начала писать книги. Псевдоним Алла Кторова сложила из имен обожаемых в молодости артистов МХАТа: Аллы Константиновны Тарасовой и Анатолия Петровича Кторова.
Первая книга Аллы Кторовой вышла в 1969 году и называлась «Лицо Жар-Птицы». Мама узнала о ней случайно в начале семидесятых: рассказал кто-то. Что это – книга об их юности и что про нее, молодую Наташу Штих, там много написано. Прочитать ее маме так и не довелось. Я тогда недавно окончил институт и начал работать. Мама не писала Вите в Америку. При этом не последним соображением было – сохранить чистой мою анкету: частная переписка с заграницей считалась признаком неблагонадежности. А потом мама умерла.
Когда началась перестройка и стало ясно, что из анкет изымается вопрос «Состоите ли вы или кто-нибудь из ваших близких в переписке с гражданами иностранных государств?», я попытался разыскать адрес Кочуровой. Оказалось, что по старому, списанному мной с маминой записной книжки, она давно не живет. Прошло еще несколько лет, прежде чем я смог написать ей. Что именно писал, не помню, но просьба была одна – прислать «Лицо Жар-Птицы». Прошло еще какое-то время, и как-то поздней весной или ранним летом 1989-го мне позвонили: знакомая Кочуровой приехала из Америки с пакетом для меня. Живет в гостинице «Университетская». Ждет тогда-то.
В указанное время я приехал в гостиницу. Получил посылку, доехал на своем «запорожце» до Ленинского проспекта и, встав на боковой дорожке напротив магазина «Москва», прочел ее целиком – все 215 страниц. И горько пожалел: читать ее должна была бы мама.
На титульном листе книжки в обложке работы Эрнста Неизвестного Виктория Ивановна написала:
Всему Семейству Смолицких – на счастье!
Дорогой Сережа!
В этой книге нет прототипов.
Все образы, события, – «биографии» – не бытовые, а социальные.
Но каждый, кто прочитал «Лицо Жар-Птицы» и знал живших на ул. Кирова д.22 кв.10 – утверждает, что в книге описан дом любимых мною Татьяны Сергеевны (Татьяночки), Александра Львовича и твоей мамы Наташи Штих.
Витя Кочурова, она же Алла Кторова.
31.3.89. Москва-Вашингтон, США.
«Лицо Жар-Птицы» действительно книга художественная, и написанные в ней биографии героинь вымышлены. Но, сочиненные в целом, они состоят из множества реальных событий. Просто Алла Кторова перераспределила между двумя главными героинями – возвышенной Никой Жаровой по прозвищу Птица и земной Владей Колотушкиной – происшедшее в своей жизни и жизни своих близких подруг.
В дальнейшем Виктория Ивановна не раз приезжала в Москву, приходила к нам в гости. Ее книги стали издаваться и у нас. Пишет она о России, о Москве.
Я уже много раз долбила и долблю, что Москву я люблю, а прекрасную Америку уважаю. Живу я в этой нелегкой стране безропотно, словно луна в небе – несчастно голая, незащищенная, как открытая мишень. Давно научилась я и пальчики сгибать «от», а не «к» себе при счете (раздватричетыре-пять…) и головой, как параличная, трясти в знак утверждения и собственные монологи начинать с придыхания «а-мм… велл». Всю алгебру человеческих отношений произошла и следую правилам британской, самой цивилизованной, этической системы, завещанной англичанином, лордом Честерфил-дом: голоса не повышать, глупца не оспаривать, отношений не выяснять, с мужем уже не помню, когда последний раз ругалась, – но вот хоть куда кинь, а все одно, живу я здесь уже двадцать восемь лет сиротой, точно Ванька Жуков.
Заноси меня почаще на землю предков, беспощадная, лукавая жизнь. Дай немного пожить любимым столичным бытом. Уехала я из родных мест и будто при страшном морозе, ухватившись за металлическую ручку ворот города отцов и дедов, кусок кожи на ней оставила.
Это – из ее книги «Мелкий жемчуг». Там уже нет (или почти нет) вымысла, эта вещь – о дорогих ей людях – предках, родных и друзьях. В главе, посвященной соседке по коммуналке с «виолончельным, музыкально-переливчатым именем Аделаида Вадимовна», которую маленькая Витя звала Дидишей, я прочел: «Моими главными воспитателями были Дидиша и Татьяночка. Татьяна Сергеевна Штих. Дом Татьяны Сергеевны и ее мужа Александра Львовича легко узнается всеми, кто его знал, в анти-романе „Лицо Жар-Птицы“, а их дочь Наташа Смолицкая-Штих, моя ровесница и почти сестра, недавно умерла».
Последней я прочел ее «Крапивный отряд» – книгу, открывающуюся посвящением:
Нине Егоровой
Наташе Штих
Инессе Когановой
горестный венок
«Крапивный отряд» окончен в 1977 году. Кто знает, сколько имен стояло бы в посвящении, если бы книга писалась сейчас?
Конец детства
Но вернемся туда, в тридцатые. Девочки учились в школе.
1-й «А», 3-й «А», четвертый, пятый класс… Они ползли, как солнечные лучи по паркету.
Едва возвратившись после школы домой, я, бросив сумку, летела к Жаровым, несмотря на то, что училась с Птицей в одном классе, сидела с ней на одной парте и мы все утро были вместе.
Самое приятное на свете – это полумрак большой затхловатой комнаты.
Самое уютное место в комнате – старинное кожаное кресло.
Самое упоительное занятие – сидеть с ногами в этом кресле, оставшемся от дедушки, известного московского врача-ушника, читать старинную книжку «Леди Джен или Голубая цапля» и слушать, как Птица играет на рояле «После бала» Гречанинова.
(«Лицо Жар-Птицы».)
Упомянутое старинное кожаное кресло простояло в навторая слева шей комнате на Банковском до самого конца, но об этом речь впереди. И в других местах узнавал я что-то знакомое, преображенное автором:
Как-то однажды, гуляя со мной, Птицей и Вивкой на праздники Седьмого ноября, чтобы показать нам иллюминацию, Владимир Дмитриевич заметил, что я каждую минуту останавливаюсь и яростно начинаю чесать себе ноги. Птица задумчиво грызла ногти. Дядя Володя сразу сочинил нам сказку «О блохатой Кошке и страшной ногтикусе».<…>
А на следующий день Дашонку призвали на третий этаж в двадцать первую квартиру, вручили большой узел, и с тех пор Тамара Алексеевна начала регулярно отдавать ей для меня Птицыны старые пальто, платья и боты. В Птицыных вещах я стала выглядеть почти так же, как она. Ходили мы всегда вместе. В школу вместе. Из школы вместе. В Дом Пионеров на кружки вместе. Даже зевать начинали вместе. Наша немка-альзошница прозвала нас «Макс и Мориц» и на уроках, подходя к нашей парте, говорила:
– Читайте. Кто-нибудь из вас. Ну, Макс, одер Мориц…
Об этом прозвище я слышал и от мамы. Правда ли насчет старых вещей – не знаю, вообще-то это было обычным делом, тем более что Штихи, хоть и жили скромно, вряд ли бедовали, как мать и дочь Кочуровы, у которых сидел отец. Так что я читаю эти места не как вымысел, а как историю маминого детства. Потому что больше про ее первые семь школьных лет я почти ничего и не знаю. За исключением одного воспоминания – светлого, летнего, счастливого. Но оно к школе отношения не имело. Случилось это в летние каникулы 1940 года, когда всей семьей Штихи отдыхали в Белеве. Из маминого рассказа я запомнил три момента. Как во время грозы молния попала в соседского мальчика. Он потерял сознание и не дышал. Взрослые пытались оживить его народным способом – закапывая в землю. Но бабушка, Татьяна Сергеевна, бывшая медсестра, закапывать ребенка запретила и стала делать искусственное дыхание. Оживила, хотя я представляю себе, что она чувствовала тогда – запросто могла и не оживить.
Еще – рассказ про хозяина, у которого они снимали комнату и столовались. Тот работал когда-то поваром. Штихов он очень полюбил и все мечтал угостить, как дорогих гостей, своим коронным блюдом «бламанже». Для того чтобы его приготовить, требовалась «желатина», а ее (то есть его) достать в Белеве было невозможно. Все же какими-то правдами-неправдами все необходимые ингредиенты он раздобыл, и на прощальный обед счастливый хозяин сделал жильцам сюрприз: угостил-таки бланманже. Мама рассказывала, что блюдо оказалось совсем невкусным, но об этом гордому автору никто не сказал. Все его очень нахваливали и благодарили.
И последнее – в то лето случился невероятный, сказочный урожай яблок. В Белеве и окрестностях было много садов, и сорт в них рос какой-то особенный, очень вкусный.
Я понимаю, что ничего из ряда вон выходящего в то лето не произошло. Но это лето оказалось последним в мамином детстве, и поэтому в ее памяти оно осталось таким светлым и счастливым.
Потом был седьмой класс. По его окончании Наташе выдали документ на половинке тетрадного листка в клеточку:
Характеристика. Уч-цы 7 «В» класса 312 школы
Штих Наташа очень способная девочка, отличница, окончила 7-й класс с похвальной грамотой. Весь год была председателем отряда. За отличное выполнение общественной работы имеет благодарность.
Упомянутая похвальная грамота, не отличающаяся от других ничем, кроме цифр, выдана 6 июня 1941 года. А через шестнадцать дней началась война.
Эвакуация
Для тех, кто ее пережил, и тех, кто родился вскоре после ее окончания, война 1941-1945 годов – Великая Отечественная – четко поделила время на «до» и «после войны». При этом люди старшие, пережившие обе мировые, все равно, говоря «до войны», подразумевали – без уточнений – период времени от окончания гражданской до 22 июня 1941 года. И я в детстве твердо знал основные этапы отечественной истории: при царе, до войны, после войны.
Так или иначе, она, единственная из всех войн, в которых участвовала Россия (советская и несоветская) на протяжении двадцатого века, затронула всех тогда живших. Помню, как в детстве меня удивили слова известной народной песни
Помню, я еще молодушкой была. Наша армия в поход куда-то шла.Я не понял тогда отстраненности этих слов про армию, которая идет воевать куда-то. По рассказам взрослых я представлял себе совсем другую ситуацию – во время войны все в стране знают, куда и с кем идет воевать армия. Потом мы пережили афганскую, одновременно с которой в Москве помпезно провели олимпийские игры. Потом затеяли чеченскую, которая с перерывами идет уже который год, в общем-то, мало влияя на повседневную жизнь большинства народа. И сегодня уже не скажешь «до войны»: молодые спросят – до какой? В нескольких школах недавно провели опрос детей 10-12 лет – с кем Советский Союз воевал в Великой Отечественной войне. Германия заняла в ответах только третье место, пропустив вперед Америку и Чечню.
Для поколения же родившихся в двадцатые война явилась самым большим потрясением, переломившим всю жизнь. Она практически всегда присутствовала в маминых воспоминаниях, вылезая из тем, казалось бы, с ней не связанных.
Дедушкин наркомат эвакуировали из Москвы в июле 41-го в Иваново, где он про¬был недолго. Потом, уже в начале зимы, повезли дальше, в Барнаул. Моя память сохранила всего несколько картинок этого пути, таких живых по маминым рассказам. Замерзшие трупы безбилетников, которые снимали на остановках с буферов. Купленную Штихами в Иванове живую курицу – ее завели, чтобы, откормив пшеном, съесть. Из этой затеи ничего не вышло: на курицу извели ставшую уже драгоценной крупу, а потом, когда птицу зарезали (естественно, кто-то посторонний), есть ее ни Наташа, ни ее родители не смогли. Роскошное блюдо досталось попутчикам.
В Барнауле жилось трудно – а кому тогда жилось легко? Татьяна Сергеевна пошла работать в артель, которая шила кукол. Оказывается, существовали во время войны и такие. Платили там гроши (а может, и не платили вовсе), но зато артельным швеям полагалась рабочая, а не иждивенческая карточка. На нее выдавали больше продуктов.
С тех пор сидит у нас на книжной полке боярин Димка, русый, голубоглазый, в желтой поддевке и красном бархатном кафтане. Еще в моем детстве он выглядел очень празднично, а сейчас годы берут свое. Несмотря на то, что играть в него не разрешалось ни мне, ни моим детям, – реликвия! – Димка за свою более чем пятидесятилетнюю жизнь повытерся, в ткань въелась пыль – стирать-то его нельзя, полиняет. Но он все же держится молодцом, сидит, щеголяя красными, хотя уже не блестящими сапожками из шелка.
Однако долго проработать в этой артели бабушке не пришлось: она заболела. Серьезно захворал и дедушка, и все хозяйство оказалось на Наташиных плечах. Мама рассказывала, как, плача, одна пилила дрова двуручной пилой на морозе. Как носила в Торгсин последние семейные ценности – Георгиевский крест и родительские обручальные кольца. Идти было очень страшно: дорога шла через Дунькин лес, получивший свое название в память об изнасилованной и убитой в нем девушке. Чтобы успеть занять очередь, приходилось встать задолго до света, затем простоять на улице целый день, а потом затемно идти обратно. Туда – с ценностями, домой – с деньгами, дрожа от каждого шороха.
И постоянный ужас тех лет – потерять карточки на питание.
Восьмой класс она пропустила.
Летом Наташу отправили на прополку в колхоз под Барнаулом. Там кормили по рабочей норме. Однажды она зашла на кухню в неурочное время и увидела процесс готовки во всей его антисанитарной жути. После этого пища лезла в глотку с трудом, несмотря на постоянный голод.
Но самое тяжкое испытание досталось ей потом. За грамотность и хороший почерк Наташу Штих определили на службу в военкомат – выписывать и выдавать похоронки. Месяцы этой работы так и не научили Наташу относиться к ней спокойно, не впуская чужое горе в душу. Много лет спустя она рассказывала мне, глядя перед собой невидящими глазами, о двух-трех женщинах, которых не могла забыть. Особенно одну – молодую, статную, которая пришла с двумя детьми. Младший был на руках – еще не ходил. Женщина эта открыла дверь, но не вошла, а осталась стоять на пороге, прислонившись к косяку. Наташу поразил ее взгляд – спокойно-отрешенный и очень враждебный. Женщина взяла из рук подошедшей шестнадцатилетней делопроизводительницы страшную бумагу, едва взглянула в нее, запихнула за пазуху, повернулась и ушла. Рассказывая, мама как бы пыталась оправдаться – за что? Люди совестливые часто чувствуют вину просто перед чужим страданием. И нести такую вину в шестнадцать лет ой как трудно.
Живя в эвакуации, люди не обустраивали прочного быта, с нетерпением ожидая возвращения домой. В мае 1943 года дедушкин наркомат вернули в Москву. За время их отсутствия умерла Наташина бабушка, Берта Соломоновна. Это случилось 14 августа 1942 года на 77-м году ее жизни.
Прабабушку я представляю себе совсем плохо. Помню разве что мамин рассказ про полученный ею в детстве нагоняй, когда детским совочком она насыпала песок на поля бабушкиной соломенной шляпы, пока та, занятая разговором с другой дамой, долго не замечала внучкиных проказ. Что еще? Несколько фотографий. Я долго считал, что это – все, но недавно, разбирая стопку старых нот (совсем не нужны, но выбросить рука не поднимается), натолкнулся на три строчки мелких ровных буковок на шмуцтитуле «Фауста» Гуно:
Моей милой, дорогой Нюте от мамы
8 октября 1903 г.Отчего-то именно эти бисерные буковки сильно скребнули по душе. Как будто из-за них выглянуло лицо прабабушки в пенсне, глядящее прямо на меня с какой-то виновато-беззащитной улыбкой. У Нюты никогда не было детей.
Война кончилась
Вернувшись в Москву, Наташа экстерном сдала экзамены за пропущенный восьмой класс. То, чего ждали всю эвакуацию, настало: они вернулись домой.
Но вернулись уже в другую жизнь, в которой к тому же не кончилась война.
И до ее конца нужно было еще дожить.
Моя бабушка Татьяна Сергеевна не дожила. Она умерла от инфаркта через полгода после долгожданного возвращения в Москву, прожив всего сорок девять лет. Александр Львович остался один с семнадцатилетней дочерью.
А другие члены штиховского семейства? Про Мишину работу в те времена я уже рассказывал. «Упорно собиравшийся замуж скрипач» (по характеристике Наумыча) в конце концов женился на двоюродной сестре, Юлии Исааковне Миропольской. Вскоре у них родился сын, Валечка, по маминым воспоминаниям – голубоглазый, с каштановыми кудрями. Может быть, из-за близкого родства отца и матери мальчик появился на свет с тяжелой болезнью, фактически обреченным. Прожил он всего несколько лет, по Мишиным словам, «умирая каждый день». Больше детей у них не было.
Нереализованные родительские чувства проявились в Мише острой любовью к чужим детям. Я помню, как весело играл он со мной, маленьким, как мы елозили по полу, рыча друг на друга («Я тигр!» – «А я лев!»), с какими искренними победоносными воплями («В пропасть! В пропасть!») запихивал он меня в образовавшуюся от нашей возни щель между диваном и стеной. А мой старший сын, Паша, запомнил, как прадедушка 162 его «тискал», такой Миша придумал обряд («Иди сюда, тискать буду»). Играть с детьми Михаил Львович умел и любил. После каждого летнего отпуска, неважно где проведенного – под Москвой, в Прибалтике или Крыму, – всегда с увлечением рассказывал об очередной дружбе с каким-нибудь маленьким человеком, которая потом часто продолжалась в письмах.
Вышла замуж и Нюта, Анна Львовна Штих, став по мужу Розова. Николая Дмитриевича, ее мужа, в штиховской семье недолюбливали. Человек другого, совсем не их круга, музыкант-струнник, солист оркестра народных инструментов Всесоюзного радио, он играл на домре и мандолине, книг не читал и ни о чем, кроме взаимоотношений и интриг среди музыкантов, говорить не мог. Наверно, в молодости он был талантлив. Однажды, кажется, еще до войны, Николай Дмитриевич ездил на гастроли за границу, в Румынию (редкая удача по тем временам). С гастролей привез жене роскошный подарок – боа из чернобурой лисы с серебристым искрящимся мехом. Драгоценный воротник Нюта надевала редко, по особо торжественным случаям, в остальное время храня его в шкафу, в нафталине. Без света, без свежего воздуха мех «умер»: он потерял серебристый блеск и стал просто серым. Чтобы мех «жил», его нужно носить, это общеизвестный факт.
А основным интересом Наташиной жизни стало искусство, главным образом – музыка и театр. Почему-то многим, кто знал ее тогда, она запомнилась именно сидящей за роялем. Наверно, она хорошо играла, вот и Кочурова то же пишет.
Этот рояль, не знаю когда именно появившийся, но свой, не прокатный, продали вскоре после войны. Мама рассказывала, как пришли покупатели – двое мужчин, один из них военный (у многих бывших фронтовиков тогда водились деньги). Играть никто из них не умел, и они попросили Наташу показать, как звучит инструмент. Она сыграла что-то Шопена. Покупатели попросили что-нибудь другое, более понятное. Тогда она сыграла очень модную в ту пору песню «Шаланды, полные кефали», и участь рояля была решена. Как его увозили, мама смотреть не стала.
Не знаю, садилась ли она за инструмент когда-нибудь потом, я ни разу не слышал ее игры. Помню, как играли Нюта или Нина Егорова, раз даже слышал, как что-то исполнил на скрипке много лет не бравший ее в руки Миша. Не играл при мне и дедушка, но по другой причине: к старости у него из-за болезни связок не разгибался безымянный палец на левой руке. Знаю с маминых слов, что играл он хорошо (она говорила «в очень мягкой манере»).
Тогда же случилось ей попасть под машину на перекрестке Кривоколенного и Кировской. Пришлось накладывать швы на голову, и Наташу обрили наголо. К этому времени относится одна из лучших ее фотографий – с отросшими уже немного волосами, но еще слишком короткими для женской прически тех лет. Фотография была маленькая, на комсомольский билет. В конце пятидесятых, когда именно такая стрижка вошла в моду (называлось это «под мальчика»), мама увеличила фото и получился портрет.
Счастье, испытанное при известии об окончании войны, она вспоминала всю жизнь. При этом всегда смеялась, потому что, услышав слова Левитана о безоговорочной капитуляции Германии и объявлении 9 мая нерабочим днем, сразу подумала: «Контрольной по тригонометрии не будет». В дальнейшем, в шестидесятые и семидесятые, когда из майских и ноябрьских праздников ушла молодая непосредственность двадцатых-тридцатых и превратились они в помпезный государственный официоз, 9 мая мама всегда ставила особняком, говоря мне: «Ты представить себе не можешь, какая это была радость».
Забегая вперед, скажу, что у меня, маленького, отношение к войне сформировалось тогдашними книжками вроде «Про смелых и умелых» и многочисленными фильмами, в которых наши весело побеждали глупых и бездарных врагов. «Летят журавли», «Обыкновенный фашизм», «Был месяц май» и песни Окуджавы появились много позже, а фильмы Алексея Германа мама уже не видела, это – другая эпоха. Тогда же война только начинала становиться Историей. В моем детском восприятии в ней, в общем-то, все было правильно. На нас напали, мы победили. Убитых, конечно, жалко, но как-то абстрактно. В детском сознании такая война не нарушала мировой гармонии.
Но однажды я нашел где-то в пыльном углу старую деревянную линейку – обычную двадцатисантиметровую, грязную. На той стороне, где нет делений, кто-то нарисовал смешного человечка с огромными усами, в шляпе с пером и неуклюже торчащими в стороны ногами и руками, которые кончались похожими на метелки пальцами. Под человечком было написано:
«Ларик Турецкий». Картинка выглядела типичной девчачьей карикатурой и никакого интереса не вызвала. Я долго ею пользовался, пока не спросил случайно у мамы (без особого интереса, просто так), не знает ли она, кто такой Ларик Турецкий? Мама удивилась: «Откуда ты знаешь про Ларика Турецкого?» Я показал линейку. Оказалось, что в ее классе учился такой мальчик, потом он сбежал на фронт и погиб. Я до сих пор помню поразившее меня тогда чувство несоответствия – нарисованный человечек с усами был слишком смешон для этих слов – «убит» и «погиб». Это как-то не укладывалось в гармоничную схему правильного мира. И несправедливый трагизм судьбы целого поколения вошел в мою жизнь именно с этим рисунком на линейке.
Кружок Натальи Михайловны
Возможно, что именно интерес к театру тесно сблизил юную Наташу Штих с одной из старинных подруг ее матери – Натальей Михайловной Бонди-Наврозовой, которая в то время вела театральный кружок в городском Дворце пионеров. Наташа, часто бывая у Натальи Михайловны в гостях, познакомилась с кружковцами, участвовала в общих разговорах и со многими подружилась.
Городской Дворец пионеров в то время располагался неподалеку, в большом особняке по адресу переулок Стопани, 6. Эта часть Москвы, между улицами Мясницкой, Покровкой и Чистопрудным бульваром, исстари звалась Огородной слободой, а переулок поменял много названий: был он и Фокиным, и Чудовым, и Клементьевским, и Барышниковским. Особняк построил в 1900 году архитектор Клейн для чаепромышленника Высоцкого, в семье которого работал когда-то учителем младших детей молодой Борис Пастернак. Здесь жила и старшая – Ида – «девушка из богатого дома», которой Борис сделал в Марбурге неудачное предложение. Тесен мир!
После революции дом национализировали, в нем располагался Дом культуры работников связи (Почтамт рядом), потом – Общество старых большевиков. Председателем этого общества какое-то время состоял Александр Стопани, русский революционер с итальянскими корнями. После смерти Стопа-ни похоронили в кремлевской стене и Фокин переулок назвали его именем. Ныне мало кто знает этого деятеля, отсутствует он и в Большом энциклопедическом словаре. Если кто вспомнит фамилию Стопани, то, скорее, по поэме Ахмадулиной «Моя родословная»: он был ее предком с материнской стороны. А после старых большевиков дом отдали детям.
В детстве, во время редких прогулок с мамой (она работала), одной из моих заветных радостей было пойти в соседний со Стопани переулок, чтобы посмотреть на рыцаря, задумчиво стоящего в нише фасада. Переулок назывался тогда Большевистским. Как-то мама, профессиональный редактор, обратила мое внимание на его написание, и я сразу запомнил это замысловатое «стск», чем впоследствии неоднократно поражал сверстников. Но теперь это трудное для школьников слово ушло с московской карты: переулок обрел свое старое имя – Гусятников. А Стопани стал переулком Огородной слободы.
В театральном кружке занимались серьезными делами: ставили «Бесприданницу» и «Марию Стюарт», говорили о театре, искусстве, жизни. Не знаю, какой актрисой была Наталья Михайловна Бонди-Наврозова, но воспитывать юные души она точно умела. Занимаясь в кружке в основном классикой – театральной и литературной, – она и учила тому, чему учит великая классика: серьезному и честному отношению к жизни.
Помню один спор в брежневские времена, пропитанные нравственными компромиссами (причем ценой вопроса являлась отнюдь не жизнь, как в сталинскую эпоху). Товарищ возразил мне, сказав, что, если бы мы спорили о том, что в книжках пишут, то я был бы прав. Но в жизни по-другому, поэтому литературные мерки к ней не подходят. Я помню, как удивился тогда. Я вырос в убеждении, что серьезные книги как раз и пишутся для осмысления повседневной жизни. Этому меня учили все – и мама, и отец, и дедушка. Конечно, это не говорилось напрямую – но всегда подразумевалось как нечто, сомнению не подлежащее. Потом я прочел у Бродского:
Если мы делали этический выбор, то исходя не столько из окружающей действительности, сколько из моральных критериев, почерпнутых в художественной литературе.<…> Если подумать, существование, игнорирующее нормы, провозглашенные в литературе, второсортно и не стоит трудов. Так мы думали, и я думаю, мы были правы.
Именно так стоял вопрос и в кружке Натальи Михайловны. Так уж случилось, что мне довелось окунуться в его атмосферу спустя многие годы, когда не было в живых ни мамы, ни Натальи Михайловны. Меня разыскала уезжавшая в Израиль дочь маминой подруги, к тому времени тоже, увы, покойной, – Иры Кон.
Сейчас многие забыли, а те, кто не сталкивался, и представить себе не могут, какая обстановка окружала в шестидесятые-семидесятые годы процесс отъезда насовсем в Израиль или Америку. После подачи заявления человек официально становился изгоем: его выгоняли из партии (обязательно) и с работы (приличной), он считался «изменником родины» – не в уголовном, но в бытовом смысле. Остающиеся делились на тех, которые собирались ехать в ближайшее время, – с такими обсуждались подробности процедуры оформления и другие близкие вопросы, – и тех, кто предпочитал остаться. С такими прощались навсегда: встреча на этом свете не предвиделась. Были, конечно, и такие, которые, узнав об отъезде, для безопасности навсегда порывали с «предателями».
Количество увозимого багажа, как и его состав, строго регламентировались (напомню, что владение валютой в СССР наказывалось в уголовном порядке). Запрещалось брать с собой книги издания ранее шестьдесят какого-то года (точно не помню, какого, хотя что-то из книг приобрел именно у отъезжавших при ликвидации их библиотек). Не разрешалось увозить и какие бы то ни было рукописи – неважно, какие – дневники, письма, подписанные книги – ничего абсолютно, написанного от руки.
Вот по этому поводу и разыскала меня дочь уезжавшей маминой подруги. В юношеские годы Ира, тоже занимавшаяся в кружке Бонди, вела дневник. Остались две тетрадки, увезти их с собой было нельзя. Я не знаю, оставались ли у них здесь какие-нибудь родственники, но отдать эти тетрадки Ирина дочь решила мне.
Жили они с мужем и маленькой дочкой где-то в середине Щелковского шоссе. Я приехал вечером, мы познакомились, поговорили о наших недавно умерших мамах и распрощались. Дома я прочитал дневник и пожалел, что он такой короткий. Успел позвонить, поблагодарил (за что?), обещал хранить. Вот, храню. Сейчас хотел бы встретиться или хотя бы списаться, но концов никаких не осталось. Я не помню даже ее фамилию по мужу.
Счастливое
В Ириных тетрадках ровным девчачьим почерком «с нажимом» описывается ее жизнь от возвращения из эвакуации в апреле 1944 года до декабря 46-го – чуть больше двух с половиной лет. Вторая тетрадка – подарок. Она – в текстильной обложке с цветочками. На титуле – надпись:
Пусть эта тетрадь будет близким поверенным всех твоих дум и мечтаний. Н. Наврозова. 3.7.44.
В военной Москве работал театральный кружок. Наталья Михайловна в свободное от занятий время мечтала с девочками – этакая творческая игра. Она придумала дом за городом, где все они будут жить и работать. Ира наивно поверила.
11.9.44. …Эта станция, это место будет называться «Счастливое». Там будет пять комнат для приезжающих, ее спальня, ее кабинет, спальня Зои Сергеевны (З.С. – мать Натальи Михайловны. – С.С.), детская, столовая, студия и т. д. Какое потрясающее лето, и какая потрясающая зима ожидают на,с там. Какая встреча Нового года, елка,, именины, дни рождений и т.д. Какая чудесная обстановка для работы! Какой уют, какое спокойствие, какое веселье! Какое блаженство!
Я очень реально вижу это, а девочки, здраво рассуждая, говорят, что очень мало вероятно. Ну и пусть, а я все равно верю в это. Крепко, как во что-то определенное.
15.9.44. Видела Нат. Мих. <…> Были все наши девочки:
Мара, Рая, Торика. Заговорили о «Счастливом».
Они все-таки не верят в это. Мы с Марой поспорили на «пир в честь выигравшего». Срок 2 года. Как глупо, что я пускаюсь на такие аферы.
Когда я рассказала Наталье Михайловне, или, вернее, не рассказала, а как-то сыронизировала о своих настроениях и уверенности в «Счастливое», в какую-то ее славу, и т.д., она назвала меня сумасшедшей, и все хотела узнать у меня все, что я думаю, все, что меня волнует и тревожит. Но я так и не сум, ела сказать ей.
14.11.44. А сегодня я что-то расклеилась.<…> И только вчера я уговаривала Наташу в том, что «киснуть нельзя, что если мы сейчас будем так реагировать, то что мы будем делать потом, когда нужно будет преодолевать большие трудности для „Счастливого“?» <…> Вот, сегодня хотела позвонить Зина, и не звонит. А как бы хотелось позаниматься с ней Марией (постановка «Марии Стюарт». – С.С.), сценой, чем угодно, только бы позаниматься. Так хочется серьезно, по-настоящему поработать. И невольно переношусь я, когда думаю так, туда, в «Счастливое». Какая-нибудь комнатка теплая, с мягким глубоким креслом, с письменным столом, посередине нет ничего, какой-то мягкий свет, и где-то в углу шка,ф с большим зеркалом. Какая-то полочка с книгами, окна с темными шторами… Я не то думаю, что пишу. И вот та,м ра, ботать, ра, ботать до седьмого пота, до изнеможения, но делать какие-нибудь такие неслыханные вещи, которые должны будут потрясать сердца так, как никогда еще до сих пор. А потом сойти оттуда в столовую с большим круглым столом, где на белоснежной скатерти стоит горячий чайник, сервиз, какой-то такой. солнечный, излучающий какой-то чудесный свет, под какими-то белоснежными салфетками стоят всякие вкусные вещи и вся столовая погружена в чудесный запах ванили, сладости и т.д. Камин, который обязательно должен гореть, диван, на который можно забраться с ногами и непременно здесь милая Нат. Мих., Зоя Сергеевна,, ждущая, чтобы, наконец, все сели за стол, и, непременно, малыш, здоровый, задорный, замечательный мальчишка! А здесь яркий свет! И на душе так тепло, так светло, так радостно от сознания, что поработала я сегодня на славу!
Читая Ирино описание «Счастливого», я думаю: может быть, Наталья Михайловна и не мечтала вовсе, а просто рассказывала про обычный дореволюционный дом интеллигентной семьи среднего достатка. Может – свой, может – кого-то из подруг. Да уж не моей ли бабушки? Но девушкам следующего, советского поколения это казалось красивой сказкой – кроме Иры никто всерьез «Счастливое» не принял.
А Ирины наивные мечты местами почти текстуально совпадают со словами чеховских героинь, рвавшихся из окружающей действительности в светлую комнату к работе во имя высоких идеалов. Как и у них, реальная жизнь вызывала в чистой душе честной и неглупой пионерки совсем другие чувства:
29.11.44. Как противно, что все, буквально все, не так. Ведь любая мелочь в нашей жизни, любая вещь достается нам не так, как нужно. Все окружение, вся та среда, в которой мы вращаемся, – не та. Ведь начиная с мелочей, например, с пионерской работы в школе – не то. Добросовестности – ни на грош ни у кого. Ответственности никакой. Цифры, которые даются в отчетах, дутые. И от той пионерской работы, которая есть в школе – воротит. И меня не удивляет, что когда кому-нибудь что-нибудь поручают, без отказов и отговорок не обходится. Меня не удивляет, что отказываются. Но меня все-таки поражает, почему это так. Почему все сплошная липа? Почему всем безразлично? Почему пионерской работой школы руководит такая Ася? Неужели в райкоме, в городе, в Союзе недостаточно людей настоящих, которые могли бы от всей души заняться таким важным делом в каждой школе, в каждой пионерской организации? Ведь нельзя же считать, что работа пионерской организации важна постольку, поскольку от 3-го до 7-го класса надо девочек занять чем-то, кроме уроков. А то так скучно им, и делать нечего. Так вот, вместо того, чтобы им в кино пойти, или дома сидеть без дела, так пусть она посидит лишних часа два в школе и газету сделает, или к соцсоревнованию заголовок напишет, или в пионерской уберет, а то пусть в библиотеке останется и стихотворение спишет к сбору. А их потом другой «бездельнице» отдадут – пусть учит. А сбор будет такой: в лучшем случае доклад будет делать докладчик. Но, честное слово, когда я смотрю на этих докладчиков, тоска берет. И всегда вспоминаю, как Никита (А. Толстой) говорит, что у портнихи такой вид, будто она валялась за шкафом в пыли, а потом ее вынули, почистили немного и посадили шить. И доклада, как правило, никто не слушает. Потом начинается художественная часть. Все ерзают и не могут дождаться конца. Постоянно смотрят на часы. И когда объявляют, что: «Ребята, наш сбор кончен!» – все облегченно вздыхают и спешат скорее домой. А по дороге почти всегда кто-то говорит, что больше он на вечер ни за что не пойдет.<…>
То я думаю, что я одна бессильна, то мне кажется, что я не одна, что всем вместе можно поставить это на место. И зажить человеческой жизнью. Но если бы это вот был недостаток нашей школы, но ведь это везде, всюду, во всем. Я взяла просто пример, а ведь таких примеров миллионы. Да вся, почти вся наша жизнь состоит из таких примеров. Какая разница в том, что Ася в райком, а Л.М. в более ответственную организацию дают липовые отчеты о своей работе. И их хвалят, награждают, ценят, как работников, как организаторов. И так все! И во всем! Какой ужас!
Работа кружка кончилась неожиданно. Нужно сказать, что Наталья Михайловна была очень религиозна. Конечно, работая в Доме пионеров, она свою религиозность тщательно скрывала. Но как-то ее видели в церкви, об этом доложили директору Дома, и Наталью Михайловну попросили уйти. Тогда она никому не рассказала о причине, однако ее уход из кружка девушки восприняли как трагедию – Ира пишет в дневнике:«Ведь это значит, что рушится интерес жизни».
Много в дневнике и проблем сердечных – некий В., который дарил цветы и фотографии, а потом, вдруг, четыре дня не появлялся – почему? Ира анализирует ситуацию: «Это я-то вл. в В.? Не может этого быть! А, собственно, почему и нет!»
И о дружбе:
6.9.44. Была вчера у Наташи. Мы почти все время проговорили с ней о том, что говорила накануне мне Наталья Михайловна.<…> Если бы не то, что Наташа понимает меня даже не «с двух слов», а с первого звука, то она вообще бы ничего не поняла.<…> Она первая за, говорила о том, что мы с ней должны остаться друзьями почти на всю жизнь. Она сказала «на всю», а я почему-то вставила «или почти», и она почему-то согласилась на это.
Слова обеих девушек вышли пророческими. Наташа действительно дружила с Ирой всю оставшуюся жизнь. Ира, пережившая Наташу на несколько лет, – почти всю.
Особый дар
Наташа вообще умела дружить, дар такой имела. Сколько я себя помню – и в ее тридцать, и в сорок, и в недолгие пятьдесят, – у нее всегда было много друзей. А «дружить» значило для нее «помогать». По первой просьбе или еще до нее – прийти и сделать. Или просто разделить радость, а чаще, к сожалению, беду. Близких людей она всегда понимала «не с двух слов, а с первого звука», и очень многие испытывали потребность – говорить с ней, советоваться, исповедоваться, делиться. Она всегда переживала чужие беды и радости, как свои.
Однажды, много позже, уже в семидесятые, у одной ее подруги делали обыск. Преступление, в котором ее обвиняли, было страшное: она хотела приобрести что-то в торге «Березка» на его сертификаты, купленные с рук. Поскольку в Советском Союзе за хранение валюты карали намного строже, чем сейчас – за оружие, то для людей, побывавших за границей и не истративших там своих денег, изобрели специальную сеть магазинов, торговавших на специальные чеки-сертификаты, которые запретную валюту заменяли. Право владения этими ценными бумагами подтверждалось специальными справками. Поскольку в «Березках», в отличие от остальных магазинов, продавалось кое-что стоящее, сертификаты пользовались спросом, кое-кто из владельцев их продавал, существовал даже неофициальный курс по отношению к рублю. А продажа чего-либо с извлечением выгоды в советское время именовалась спекуляцией и преследовалась законом. Документы, подтверждающие право владения сертификатами, у посетителей «Березки» проверяли редко, но вот женщине, о которой речь, не повезло.
То есть, строго говоря, в спекуляции ее обвинить не могли, поскольку сертификаты она не продала, а купила. Да и сумма была не очень серьезная, даже по тогдашним меркам. Но обыск дома все же устроили. Возможно, больше для острастки, чтобы припугнуть и заставить «расколоться»: у кого купила. Следователь, человек, видимо, незлой, понимал, что его подследственная – скорее потерпевшая, не лютовал, вел дело мягко. И он разрешил ей самой позвать понятых – кого захочет. Женщина позвонила Наташе.
А у нас как раз ожидались гости, кажется, был мой день рождения. Праздники мама всегда устраивала с размахом – на последние, но от всей души. И тут – телефон. Тот разговор ее подруга вспоминает до сих пор – а прошло больше двадцати пяти лет.
Люди, имеющие богатый опыт жизни в России, предпочитали и предпочитают по телефону о многом не говорить, всегда допуская наличие лишних слушателей. Поэтому подруга сказала только, что ей нужно, чтобы Наташа приехала к ней как можно быстрее. Мама ответила, что не может: вот-вот придут гости. Подруга повторила просьбу. И мама сказала: «Хорошо, я только через пятнадцать минут выну пирог из духовки». Подруга ответила: «Пирог пусть допекут соседи». Больше вопросов мама не задавала и прибежала к ней минут через двадцать – жили мы недалеко.
А еще в большой комнате, которую занимали Александр Львович с дочкой, – бывшей гостиной докторской квартиры – часто подолгу жил кто-то из знакомых. Не то чтобы проездом, на несколько дней, это в порядке вещей. Но неоднократно случалось так, что оказывался кто-то из друзей без жилья и без прописки и, как-то само собой, поселялся и жил на Банковском до перемены обстоятельств. Иногда – месяцами, бывало – и годами. Может, это шло еще от привычки дедушкиной молодости, когда в большой квартире держали специальные комнаты для гостей, а понятие «прописка» еще не изобрели. В бытность мою совсем маленьким, в начале пятидесятых, у нас жила Галя Троицкая, мамина подруга, и никаких вопросов это у меня не вызывало. Как все дети, я плохо разбирался в сложностях человеческих связей – родственных, дружеских и прочих. Галю я воспринимал как часть дружелюбного мира взрослых, и все. Потом в разговорах стала фигурировать Галина мама в сочетании со словом «реабилитация». А потом Галя собрала свои пожитки и ушла очень радостная. Через некоторое время мы навестили их с ее возвратившейся мамой в Харитоньевском переулке, где им дали комнату. Потом уже я узнал, что Галиного отца расстреляли, но по детскому недомыслию опять же никаких дополнительных вопросов этот факт тогда у меня не вызвал. Я уже слышал что-то про репрессии, что кого-то неправильно сажали и расстреливали, вот, значит, и отца Гали, которая у нас жила. Потом они с мамой как-то отдалились друг от друга и я много лет не вспоминал о ней.
Увидел я ее вновь на похоронах переводчицы Лили Лунгиной, их с мамой общей подруги. Галина Яковлевна не узнала в бородатом и облысевшем немолодом человеке маленького мальчика, которого видела лет сорок назад. А я тогда вспомнил, как она жила у нас, и подумал: мама – понятно, она была совсем молодая и верила в справедливость жизни вообще и советской власти в частности, но дедушка-то ведь все, наверно, понимал. И хорошо знал, чем это пахло – пустить к себе жить дочь «врагов народа». Что же он чувствовал? Боялся, скорее всего, и больше, вероятно, не за себя, а за дочку, но не помочь человеку не мог. Жалко, что сообразил я все это слишком поздно. Расспрашивать было уже некого.
Подобных примеров я мог бы привести много, хотя и знаю лишь малую их часть. Правды ради нужно заметить, что Наташин дар не остался неоцененным. Многие друзья хорошо понимали, что она за человек, отвечали ей дружбой не менее высокой пробы и очень любили. В дневнике Иры Кон я прочитал:
…Наташа благороднее меня, чище, честнее. Мне хочется быть похожей на нее. Во мне больше от современной жизни, от какого-то быта, я могу и солгать, как ни неприятно это писать.<…> По-моему, я со времени знакомства с Наташей как-то выросла. Она глубже меня – это несомненно.
Подобные вещи говорили многие. И при ее жизни, и, особенно, после. Может быть, поэтому и Алла Кторова в «Лице Жар-Птицы» свою идеальную героиню Нику Жарову – Птицу поселила в Штиховской квартире и посадила за Наташин рояль играть «После бала» Гречанинова.
Замужество
Той контрольной по тригонометрии, которая не случилась 9 мая 1945 года, Наташа боялась недаром: в ее аттестате, выданном несколькими неделями спустя, единственная четверка – по геометрии. Что-то она рассказывала о перипетиях, из-за которых не получила тогда полагавшейся ей школьной медали, но я забыл. А потом была учеба в ГИТИСе, на театроведческом факультете. Об этом времени я запомнил, главным образом, анекдоты про тогдашнего ректора, Матвея Горбунова. По маминым словам, это именно он запустил в оборот ставшую крылатой фразу, воскликнув во время какого-то шумного творческого обсуждения: «Идея!» А когда все почтительно затихли, гневно продолжил: 176 «Иде я нахожусь – в ВУЗе или в забегаловке?»
И еще она вспоминала его слова, сказанные на институтском собрании, часто повторяемые впоследствии в их кругу: «Мы в ГИТИСе гениев не делаем. Мы здесь делаем обыкновенных средне-нормальных людей».
Учеба в институте затянулась из-за болезни на лишний год – Наташа закончила его в 1951 году. А в 1948-м вышла замуж, стала Смолицкой и на три года переселилась в семью мужа, тогда еще тоже студента. Когда после маминой смерти я разбирал ее бумаги, то относящиеся к этому времени любительские фотографии с многочисленной новой родней нашел в конверте, надписанном ее решительным почерком: «Опыт семейной жизни». Тогдашние законы о браке были просты. Студент филологического факультета МГУ Виктор Смолицкий и студентка ГИТИСа Наталья Штих просто зашли в ЗАГС и вышли из него мужем и женой.
Родители моего отца происходили из многодетных еврейских семей, перебравшихся после революции в Москву из-за черты оседлости – из Брянской области и Белоруссии. У дедушки Григория Рувимовича Смолицкого было две сестры. Настоящее его имя – Гершон, но я узнал это уже после дедушкиной смерти и оставил в памяти, как привык, Григорием. А в бабушкиной семье Злотниковых было пять братьев и три сестры. Моя бабушка, Рахиль Александровна (Анцелевна, конечно), шла второй по возрасту, и ее младший брат Владимир родился всего на пять лет раньше своего племянника, моего отца, и они росли, как братья. В следующем поколении, надо сказать, дело еще больше перемешалось: две мои двоюродные тетки со злотниковской стороны вообще моложе меня. И если Смолицких в итоге получилось не очень много, то потомки Злотниковых в настоящее время широко расселились по нашей планете, периодически давая друг другу вести о себе. Одна из них, Тамара Владимировна, даже избиралась на два срока депутатом Государственной Думы. Проходила она по одномандатному округу в родном Оренбурге и занималась благородным делом охраны природы.
Бабушка с дедушкой жили в доме 29 по Кировской. Когда еще стояла на своем месте Тургеневская читальня с примыкавшими к ней домами, то между ее кварталом и трехэтажным двадцать девятым пролегал узкий Водопьяный переулок, переименованный в советское время в проезд Тургенева. Их подъезд выходил в переулок и располагался сразу за занимавшим весь первый этаж кафе «Ландыш». Жилых квартир в подъезде было всего четыре. Смолицкие жили на третьем этаже, в огромной коммунальной квартире номер три. Напротив, в четвертой, жили Брики. Бабушка рассказывала, как несколько раз приходил в их квартиру посещавший Бриков Маяковский. Причиной его визитов к соседям являлась часто засорявшаяся в квартире Бриков уборная. Больше всего бабушке запомнился чистый носовой платок, которым поэт брался за чужие дверные ручки.
В первые два десятилетия прошлого века двадцать девятый дом (тогда он именовался домом Баскакина) хорошо знала культурная московская публика. Второй и третий этажи той его части, что выходила на Мясницкую, занимало художественное училище Александра Германовича Шора. Основанное в 1904 году как частная консерватория, это заведение быстро стало популярным, кроме музыкальных появились классы балета, затем – живописи и ваяния, а впоследствии также драмы и кинематографии. Преподавание там ставилось на самом высоком уровне: класс живописи вел Машков, скульптуры – Голубкина, кинематографии обучали Кулешов и Пудовкин; здесь преподавали артисты Художественного, Малого и Вахтанговского театров – Массалитинов, Чехов, Южин, Монахов, Певцов.
На публичных концертах, регулярно устраивавшихся силами учащихся с приглашением известных артистов, пели Собинов и Шаляпин, выступал Москвин, танцевала Гельцер, ставшая впоследствии первой балериной – народной артисткой РСФСР. Да и среди посетителей этих вечеров появлялись люди не менее известные: Маяковский, Коровин, Тэффи.
Стержнем всего заведения был, конечно, Александр Германович – прекрасный музыкант, интеллигентнейший человек (Тэффи титуловала его самым остроумным человеком в Москве, а этот отзыв немалого стоит).
Именно в консерватории Шора обучавшийся пению Сергей Образцов нащупал главное дело своей жизни. У него тогда не получалось пение по системе Станиславского (преподавали здесь и такое). Попробовал петь «по системе» от лица куклы – маленького негритенка. Получилось забавно. Показал на уроке, всем понравилось, его очень хвалили – видимо, у преподавателей серьезного учебного заведения было острое чутье на талант, выдумку. Как он сам написал уже на склоне лет: «Я вылез из-за стула прямо-таки осыпанный и смехом, и аплодисментами, не зная, не ведая, что это событие – настоящее событие в моей жизни. Начало длиннющего пути».
Увы, после революции училище просуществовало недолго. Хотя большевики отнеслись к его работе лояльно, оставив Шора директором, помещения стали «уплотнять» жильцами, так что в 1923 – 1924 годах преподавание в нем фактически прекратилось. Александру Германовичу предложили для училища другое здание (на Покровке, в 43-м доме), оно тогда стояло в руинах, начинать нужно было с капитального ремонта. Шор бросил на восстановление дома все силы – материальные и душевные – и фактически отстроил его заново. Однако начальство передумало. Когда директор подготовил институт к открытию, ему сказали, что не могут доверить руководство учебным заведением беспартийному человеку. В 1926 году «Курсы музыки, оперы, драмы и хореографии» Александра Германовича Шора официально прекратили свое существование.
Григорий и Рахиль Смолицкие поселились в бывшем Бас-какинском доме в 1925 году. Они были интеллигентами новой формации. Дедушка окончил юрфак Московского университета уже в советское время, специализировался на уголовном праве и работал консультантом Верховного суда. На закате сталинской эпохи его сильно ругали за формализм: он требовал судить людей в строгом соответствии с Уголовным кодексом. В годы, когда Вышинский внедрял свою теорию расширительного трактования закона, дедова точка зрения выглядела весьма подозрительно, чтобы не сказать – вредно.
Бабушка работала педагогом-дошкольником, но получить высшее образование ей не дали: отчислили из университета за непролетарское происхождение – прадедушка владел раньше лавочкой в Сураже. Некоторое время она занималась в еврейской театральной студии, спектакли там ставили Дикий и Рошаль. Актрисой не стала, но зато здорово научилась рассказывать детям сказки на разные голоса – за Емелю, Царевну Несмеяну или Крошечку-Хаврошечку. Занять, увлечь маленьких у нее всегда получалось здорово.
И дедушка, и бабушка Смолицкие свободно пользовались двумя языками: по-русски говорили без какого-либо акцента, но время от времени (для конспирации) переходили на язык своей юности – идиш, бойко вплетая в него появившиеся позже слова вроде «а холодильник», «а пылесос» или «а телевизор». А еще Григорий Рувимович очень красиво пел народные еврейские песни с их затейливыми переливчатыми мелодиями. Правда, оценил его пение я много позже, по единственной оставшейся плохой магнитофонной записи. Маленьким дедовых песен я не любил, так как слов их совершенно не понимал, а слышать мелодию еще не научился. В моем нежном детстве родители пели со мной совсем другие песни, которые, как известно, у каждого времени свои. Мне очень нравилось распевать «Орленок» и «Матрос-партизан Железняк» с отцом и «Летят перелетные птицы» с мамой. Я помню, как лет в пять рассмешил всех, заявив, что люблю петь с папой, а дедушка поет неинтересно, – в семье считалось общеизвестным, что Витя, в отличие от своего отца, петь совсем не умеет.
Витя, как и Наташа, родился в 1926 году и рос, как большинство детей Страны Советов. Совсем маленьким собирался писать письмо Ворошилову (тогдашнему наркому обороны) с хитроумным планом, «как победить всех врагов»: для этого нужно, когда они уснут, украсть у них все оружие. Увидев на празднике потешного «буржуя», расплакался, испугавшись, что они вернулись.
Когда Рождество и елку объявили пережитком прошлого и мракобесием, Витя (сын педагога, как-никак) декламировал правильные стихи:
Нам не нужно Рождества, Нам не нужно елки — Лучше дайте нам коньки, Книг хороших в полки.Однако через пару лет вышло у него первое расхождение с генеральной линией. Чтобы не лишать детей (да и взрослых тоже) красивого праздника, кто-то из идеологов додумался, что елку можно украшать на Новый год, праздник вполне нейтральный, без религиозной окраски. И когда вся страна стала опять ставить елки, маленький Витя долго не принимал всеобщего ренегатства. Не мог он так вот, сразу изменить свои убеждения.
В театральный кружок Дома пионеров он попал вполне логично – вспомним бабушкину театральную студию плюс то, что переулки Водопьяный и Стопани располагались совсем рядом – только через Кировскую перейти.
Как-то случилось, что за годы занятий у Натальи Михайловны пути Вити Смолицкого и Наташи Штих ни разу не пересеклись. Когда началась война, Верховный суд эвакуировали в Оренбург, называвшийся тогда Чкаловом. В 1943 году Витя Смолицкий окончил школу и по примеру старшего двоюродного брата, Леонида, поступил в Нефтяной институт, однако осенью 44-го его призвали в армию и направили в танковое училище. Со стоявшими в длинной очереди новобранцами долго не разговаривали. Когда он подошел к столу, офицер сказал: «Куда хочешь – в пехотное училище или в танковое?» Витя переспросил: «А где находится танковое училище»? – и был туда определен.
Из семейных преданий, относящихся к тому времени, я помню бабушкины рассказы об обратной дороге из эвакуации. В эшелоне соседкой Смолицких по вагону оказалась женщина с сыном-вундеркиндом, виолончелистом. Бабушка часто вспоминала, как мать оберегала сына от неизбежной в этой ситуации черной работы и, чуть что, предостерегающе кричала: «Слава, руки!» Фамилия соседей была – Ростроповичи.
Моему отцу повезло – на фронт курсантов их призыва так и не послали. И как только кончилась война, его как студента демобилизовали. Однако за это время Витя успел понять, что техника – не его стихия. Попробовал поступить в ГИТИС на театроведение, но в конце концов остановился на филфаке МГУ. Его интересовала древнерусская литература.
Когда Наташа с Александром Львовичем пришли для торжественного представления в качестве новых родственников патриарху злотниковского семейства, дедушке Анцелю, вышел небольшой конфуз. Дело в том, что часть многочисленных Ан-целевичей переженились на русских, старший из следующего поколения, внук Леня, тоже выбрал русскую девушку. Как я понимаю, прадед не то чтобы очень уж протестовал, но когда Рахилин Витя привел в дом хотя бы полуеврейку, старому Анцелю было приятно. И он обратился к новому родственнику на идиш, которого тот совсем не знал. Поскольку идиш близок к немецкому, общий смысл сказанного Александр Львович понял и попытался ответить по-немецки. Тогда уже Анцель не понял вовсе ничего. Пришлось перейти на русский.
Вообще же и Смолицкие, и Злотниковы были далеки от национализма, если, конечно, не считать национализмом то, что многочисленные бедствия, выпавшие на долю евреев в двадцатом веке, переживались ими острее прочих и обсуждались чаще. Сказки и песни, так необходимые ребенку в детстве, я слышал в основном от бабушки Рахили – русские сказки, в них было так уютно, даже когда она рассказывала про страшное «скирлы, скирлы на липовой ноге».
Единственный русский обычай, против которого она категорически восставала, – это когда, начиная примерно с шестидесятых, далекие от религии люди (каковых тогда было абсолютное большинство) стали красить яйца на Пасху. Она ничего не могла поделать со страшным воспоминанием своего детства: именно на Пасху в ее родном Сураже устроили еврейский погром. И всегда, когда заходила об этом речь, волнуясь, вспоминала глумящихся подонков, которые давили крашеные яйца о лицо старика-еврея, и вид красной яичной шелухи, запутавшейся в белой бороде.
Мое появление на Банковском
В стержне моего повествования об истории жизни Штихов и их потомков в квартире 10 дома 2 по Банковскому переулку я по мере возможности стараюсь придерживаться хронологической последовательности. И вот, следуя этим порядком, мы добрались до события, может, и незаметного для человечества в целом, но для меня крайне важного, ибо именно 4 апреля 1950 года я появился на свет. Когда я спросил отца, где это произошло, он вспомнил, что «где-то в районе Электрозаводской». Посмотрев по адресной книге и карте Москвы, я пришел к выводу, что, скорее всего, это произошло в роддоме № 18 на Гольяновской улице. Первые три месяца моей еще неосмысленной жизни прошли на Водопьяном. А потом мама, забрав меня, ушла от моего отца и вернулась на Банковский.
Нужно сказать, что взрослые – и родители, и бабушка с дедушками – сумели проявить достаточно мудрости в сложившейся ситуации. Они сохранили дружеские отношения, старшие Смолицкие (вместе с многочисленными Злотниковыми) очень любили экс-невестку, не говоря уже о ненаглядном внуке. Летом они снимали дачу, «чтобы Сережа дышал воздухом». Бабушка не работала, дедушка Григорий Рувимович каждый вечер добирался туда электричкой и привозил обязательные гостинцы – фигурную сдобу или – мое детское счастье! – арбуз. А поскольку от Банковского до Водопьяного – одна остановка наземного транспорта, то в остальное время и я часто бывал у папы с бабушкой и дедушкой, и они у нас.
Так как мама и дедушка Александр Львович «ходили на работу», для меня нанимали няньку (по-тогдашнему – домработницу). Для нее занавеской отделяли угол в нашей огромной, еще не разгороженной комнате. Не помню, сколько их сменилось за семь лет, – память сохранила трех: вдовую Марину и двух девушек – Любу и Надю. Надя была последней – в 1957-м дедушка долго болел и пробюллетенил за год в сумме более трех месяцев. По действовавшим законам это означало для человека его возраста обязательную отправку на пенсию. Надя хотела остаться. Я помню ее разговор с мамой – не содержание, а интонации. Надя плакала, а мама тихо объясняла, что без дедушкиной зарплаты денег не хватит и придется расстаться.
Семейную бухгалтерию вел дедушка. Несколько раз в неделю он усаживался со счетами и тетрадкой сводить баланс. Смысл этого занятия я понял позже, а маленьким всегда очень боялся, когда, закончив расчеты, дедушка сообщал маме, что «денег осталось двадцать пять рублей, а жить еще четыре дня». Особенно я испугался, услышав ужасный прогноз впервые. Когда четыре дня прошли, а мы все еще жили, я понял, что дедушка ошибся. Но и потом подобные фразы все же вызывали страх – а ну как на сей раз не ошибется, что тогда?
В то время, когда я начал осваивать окружающий мир, в квартире № 10 жило семь семей. Еще две (не считая нашей) штиховские – это Михаил Львович с женой Юлией Исааковной и Анна Львовна (Нюта) с мужем Николаем Дмитриевичем – их фамилия была Розовы. Узнавать соседей я начал, одновременно постигая арифметику – считал звонки во входную дверь.
Один звонок означал, что пришли к Юдаевым, их дверь была ближайшей ко входной, налево из прихожей. Раньше там помещался прадедов кабинет, но это я узнал потом. Два раза звонили нам, три – дяде Мише с тетей Юлей, четыре – Розовым. Самому многочисленному в квартире семейству – Лемешковым (отец, мать и двое взрослых сыновей) – полагалось давать один длинный и два коротких звонка, матери и дочери Жигулиным, жившим в крохотной комнатке, когда-то отгороженной от кухни, звонили пять раз. Немолодая чета Кочневых провела в свою комнату отдельный звонок, но его все равно все слышали. И еще был «общий» звонок – один длинный. Так звонили врачи, почтальоны или участковый. Сии правила, начертанные дедушкиным аккуратным почерком на бумажке, красовались на входной двери под кнопкой звонка (кочневская кнопка торчала ниже). Похожие бумажки висели тогда практически на всех дверях в Москве – отдельные квартиры попадались крайне редко. Иногда, правда, встречались и блестящие гравированные таблички из латуни, но на них все равно стояло несколько фамилий с цифрами – кому сколько раз звонить. Все имущество жильцов не помещалось в комнатах – в коридоре и прихожей громоздились шкафы и сундуки. Наша комната – бывшая гостиная, самая большая в квартире – имела раньше четыре двери. Когда-то они вели в кабинет, спальню доктора Штиха и его жены, в коридор и в прихожую. Но после того как квартира превратилась в коммунальную, получилось, что две двери стали вести к соседям – их забили фанерой и заклеили обоями. Слышно через них было здорово. Возле бывшей двери в стене, отделявшей нашу комнату от Лемешковых, стоял мамин диван. Когда стали появляться телевизоры, Лемешковы приобрели его первыми в нашей квартире и поставили вплотную к заклеенной двери со своей стороны. Хотела мама того или нет, она слушала все передачи, спосибо хоть спать добропорядочные Лемешковы ложились рано.
Зато за другой стеной с дверью (в бывшем кабинете) обитали Юдаевы. Когда я уже учился в институте, там после смерти своих родителей жил Виктор, водитель такси. Я допоздна засиживался за конспектами. По разные стороны от тоненькой фанерной перегородки стояли мой письменный стол и юдаевский диван. Витя жил весело. По нескольку раз в неделю у него собиралась большая шумная компания. Пили и пели нестройными голосами часов до одиннадцати, женщины громко взвизгивали. Потом часть гостей уходила, а оставшиеся перемещались на диван. С этого момента наука шла в мою голову с большим трудом.
Вообще же бывшую докторскую квартиру населяли люди приличные. Драк не случалось. Ругались редко. Пока повзрослевший Витя Юдаев не вернулся из армии, пьяных я видел только на улице, да и потом больше слышал через стенку.
Старые вещи
Застроенные в основном доходными домами в девяностых годах девятнадцатого века, Банковский переулок и его ближайшие окрестности существенно не изменились к пятидесятым годам века двадцатого. Мало что менялось вокруг и в мои детские годы, так что вырос я в неосознанном ощущении статичной надежности окружающего мира. Когда в нашем доме со стороны Кировской поменяли вывеску – вместо «Шарикоподшипники» стало «Ремонт телевизоров» – это было событие.
Большинство же изменений, происходивших вокруг потихоньку, исподволь, сводилось к тому, что добротно обустроенное еще до революции жилье постепенно ветшало. Надолго же его хватило!
На моей памяти первыми начали сдавать позиции красивые балясины из литого чугуна, поддерживавшие перила на лестнице. Когда одну из них, кажется, четвертую снизу, заменили круглым металлическим прутом, я обрадовался: в образовавшийся зазор стало возможным пролезать и спрыгивать на нижнюю площадку. Потом таких прутьев появлялось все больше. Как и во всех старых домах, в нашем было две лестницы – парадная, с переулка, и черный ход – со двора. Через парадную входили в квартиры, с черного хода выносили мусор на помойку – мусоропроводы тогда еще не придумали. По мере ухода балясин парадная и черная лестницы делались все больше похожими друг на друга.
Потом пришел черед паркета. Я еще застал старый, состоявший из больших восьмиугольников, треугольников и маленьких квадратов, между которыми шли узкие прямоугольные полоски. Его красили мастикой и натирали воском специальной щеткой с матерчатым ремешком, надевавшейся на ногу.
Делал это дедушка не реже, чем через день, а раз в месяц приглашали полотера. Конечно паркет, простоявший больше шестидесяти лет, требовал починки: некоторые дощечки качались, какие-то вообще выпадали. А потом сделали уже упоминавшийся мной капитальный ремонт. Тогда на помойку попала не только дедушкина шпага. Вместо старого благородного паркета во всей квартире уложили стандартную «елочку». Первое время ее еще по старой памяти пробовали натирать, но что-то не получалось, вероятно, материал был не тот. Потом дедушке вообще стало трудно заниматься такими делами, а маме – некогда. Пол стали просто подметать и мыть. В утешение мама говорила, что так «практичнее».
То же касалось мебели и других предметов долговременного обихода, приобретенных еще до революции. Толстые старые двери с литыми латунными ручками открывались и закрывались исправно, поэтому их не меняли и они продолжали служить. Ореховый резной буфет, уж и не знаю, сколько лет стоявший в комнате, иногда ронял какой-нибудь завиток, дедушка аккуратно приклеивал его на место, но постепенно количество утраченных фрагментов увеличивалось. В дедушкином дубовом письменном столе с прибором и бронзовой чернильницей в виде рыцарского шлема (тогда еще писали ручками с перьями-вставочками) постепенно расшатывались ящики. Огромный раздвижной обеденный – тоже дубовый, толстый – со временем покоробился и посередине все больше возвышался горкой. Постепенно протиралось и расходилось по швам упомянутое Кочуровой как самое уютное место в комнате старинное кожаное кресло, я застал его еще блестящим и подтянутым, но на моих глазах оно тускнело и оплывало.
Внешне не поддавалось воздействию времени разве что настенное зеркало, пришедшее в дом с бабушкой Татьяной Сергеевной, – одна из совсем немногих оставшихся от нее вещей. Овальное, толстого стекла, без рамы, оно висело над маминым туалетным столиком и не менялось. Уж не знаю, где и когда сделанное, оно почему-то не страдало от обычных болезней зеркал: стекло не мутнело и амальгама не пузырилась сзади отвратительной ржавчиной. Когда мы переехали в Черемушки, ему не нашлось места на стенах современной квартиры с низкими потолками. В конце концов, оно переехало в Дунино – деревню в Рязанской области, где мы купили старый дом. Теперь благородное старинное зеркало висит на серой бревенчатой стене, отражая деревенский интерьер: русскую печь и крашеный, домашней работы комод. Оно пережило уже больше десятка холодных зим в нетопленом доме, но остается все таким же, не портясь и не старея, каким было в моем детстве и задолго до меня.
Незнакомые визитеры
Если что прибавлялось в нашем доме постоянно, так это книги. Их покупали и мама, и дедушка. Они занимали все свободные места на полках, укладывались поперек и скапливались стопками на краях столов. Потом приглашали столяра, и он надстраивал стеллаж или сооружал новую полку.
Того отношения к книгам, жадного и трепетного, как тогда, в пятидесятые – семидесятые годы, теперь нет. Я говорю это без тоскливой нотки. Сейчас действительно читать стали меньше, но, скорее, потому, что в ту пору книги занимали в нашей жизни место, им, в общем-то, несвойственное.
Булат Окуджава, выступая в Париже, в ответ на вопрос, согласен ли он, что «поэт в России больше, чем поэт», ответил:
От поэта ждали, я сам помню, на собственном опыте, в 60-е годы собирались громадные аудитории. Это не значит, что все были любители стихов. Собирались люди, которые хотели услышать, узнать рецепт излечения. И надеялись, что поэт сможет это совершить.
Сказанное можно отнести не только к поэзии, но и ко всей литературе вообще. Поэтому читали тогда много, всё, что выходило – беллетристику, историю, философию, путешествия, фантастику.
Начиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем. Книги стали первой и единственной реальностью, сама же реальность представлялась бардаком или абракадаброй.
Давать друг другу читать понравившееся составляло важную часть общения. И самыми драгоценными считались старые, дореволюционные книги авторов, которых не публиковали в советское время, а таких у нас сохранилось сравнительно немало.
В нашей семье всегда охотно давали читать книги – друзьям, соседям, сослуживцам. Особенно радовалась мама, когда удавалось приобщить еще кого-то к любимой вещи или автору. У нас на книжной полке всегда лежала маленькая тетрадка, надписанная «Книги по людям». Семейная традиция продолжается, теперь любимым чтением делятся с друзьями уже мои сыновья. Правда, сейчас записей в тетрадке стало меньше, а где-то в семидесятые я однажды подсчитал: одновременно у разных людей числилось больше сорока наших книг.
Дедушка читал все свободное время. Меня это не удивляло – что еще мог делать человек его лет? В детстве, когда вокруг почти ничего не менялось, возраст людей воспринимался мной как некая от века данная примета. Я не узнавал деда на его детских и студенческих фотографиях. Мне легче было представить себе молодой никогда не виденную мной бабушку Таню, чем этого старого маленького человека, который с трудом преодолевал нашу лестницу в два марша (если он шел с кошелкой продуктов, то на площадке перед вторым глотал нитроглицерин). Его рассказы о юности, о том, что, казалось, безвозвратно ушло из нашей жизни – гимназии, путешествиях, охоте и конных прогулках, – воспринимались мной как увлекательная повесть, с ним самим мало связанная.
То, что он продолжал писать стихи, я узнал много позже. Из найденных после его смерти последнее датировано 1959 годом:
Незваный, но неотвратимый гость Уж сторожит у моего порога. Года ушедшие сбери неслышно в горсть Казалось, сколько их! – и как их все ж немного. Виски белей, и сердца глуше стук, И медленнее кровь струится в жилах. Ведь молодость свой срок уж отслужила И старость стала рядом на посту. Но признакам не верит тем душа. Ей внове все, ей всё – как и в начале, Она живет, волнуясь и спеша, И песни в сердце все не отзвучали.Часто повторявшееся в разговорах взрослых слово «Пастернак» не вызывало у меня никаких ассоциаций. В конце концов я спросил няню, что это такое. Она рассказала про овощ и спела частушку:
Танцевала рыба с раком, А петрушка – с пастернаком.Ответом я вполне удовлетворился. Однажды, гуляя, мы зашли с отцом в книжный магазин, там продавали недавно вышедшую книгу стихов Бориса Леонидовича. Папа купил ее и стал рассказывать мне про поэта Пастернака, но я, довольный своей осведомленностью, перебил его и рассказал стих «про пастернака».
Видел же Бориса Леонидовича я только раз, думаю, лет в пять. Вероятно, день был воскресный: и мама, и дедушка не ушли на работу. После обеда меня, как всегда, уложили, отгородив кровать старой ширмой. Спать мне совсем не хотелось. Я лежал, занимая себя историями про диковинных зверей, которых изображал руками. Когда пришли гости – мужчина и женщина – и за столом пошел тихий разговор, я поглядел в дырочку, но пришедших не узнал, раньше я никогда их не видел. (Дырочку для подглядывания в ширме провертела еще мама, лет за двадцать с чем-нибудь до меня.) Интереса моего незнакомые гости не вызвали. Когда через какое-то время мама встала из-за стола и заглянула ко мне за ширму, я старательно притворился спящим. Мама обман разгадала, но вместо обычного строгого замечания сказала в сторону комнаты: «Да он не спит», – взяла меня на руки и вынесла на свет. Гости сидели за столом вместе с дедушкой. Я запомнил выражение веселого любопытства, с которым смотрел на меня мужчина. Прошло очень много лет до того, как однажды я сам увидел внука одной из своих одноклассниц, ставшей бабушкой едва ли не первой из нас. Давняя сцена из детства всплыла в памяти – я понял, что почувствовал Борис Леонидович, глядя на внука Шуры Штиха, – Шурки, с которым играли, дрались, росли и делились сокровенными открытиями. А тогда после нескольких фраз мама унесла меня обратно, а гости вскоре ушли. Только спустя какое-то время я увидел на фотографии Бориса Пастернака с его второй женой, Зинаидой Николаевной, и узнал давнишних гостей.
Вокруг Банковского в пятидесятые
Большинство улиц и переулков носили тогда другие имена, но я-то этого не замечал. Правда, в разговорах старших иногда проскакивали некоторые старые названия – Лубянка, Маросейка, Милютинский, но почему-то никогда – Мясницкая, всегда говорили «Кировская». По прихотливой логике народного сознания новое имя пришлось ей «впору». Больше того, даже для находящейся посередине нашей улицы площади – Тургеневской, именовавшейся раньше Мясницкими воротами, старые москвичи по аналогии сконструировали название «Кировские ворота», никогда не существовавшее официально. По моим наблюдениям, имя «Тургеневская» стало утверждаться за площадью только после того, как в 1972 году под ней открыли станцию метро с таким же названием.
Слушая дедушкины рассказы о его детстве, я пытался представить себе Москву незапамятной поры – «при царе». (Замечу, что промежуток времени, прошедший тогда после революции, был меньше того, что отделяет меня сегодня от моего детства.) Однако некоторые вещи вообразить зримо я никак не мог (да и сейчас не получается).
Мне трудно представить нашу улицу без теперешнего здания почтамта – а оно появилось на дедушкиных глазах. Магазин Перлова «Чай – кофе» возник в дедушкином детстве, его память хранила вид Мясницкой еще без этого дома. Не могу представить себе Мясницкую мощеной, с рельсами конки, а потом и трамвая посередине. И еще одно здание, про которое я много слышал и читал, – снесенная в 1936 году церковь Успения на Покровке, стоявшая недалеко от дедушкиной гимназии, – он ежедневно видел ее по дороге. Про нее почему-то теперь редко вспоминают, хотя это было, по мнению многих, одно из московских чудес.
Великий Баженов ценил ее наравне с храмом Василия Блаженного. Мои любимые растреллиевские барочные пятиглавые церкви – Андреевская в Киеве и собор Смольного монастыря в Петербурге – явно построены под ее влиянием. В 1812 году храм Успения так понравился Наполеону, что он распорядился выставить рядом охрану и тем спас от пожара.
А в советское время ее постигла участь многих «зданий культового назначения», с некоторыми, впрочем, оригинальными подробностями. Два соседних переулка, называвшиеся по церкви Большим и Малым Успенскими, в 1922 году были переименованы соответственно в Потаповский – в честь построившего церковь архитектора – и Сверчков – по имени купца, на средства которого ее возвели. (Случай, в советское время редчайший: купцы считались эксплуататорами, и имена меценатов, за исключением разве что Третьяковых, тщательно стирались с карты города.) Отдав должное памяти создателей замечательного шедевра, власти вскоре распорядились его снести «как здание, выходящее за красную черту улицы7». На этом месте за почти семь десятилетий так ничего и не построили. Одно время там стоял пивной ларек.
Я хорошо представляю ее себе по фотографиям, но увидеть мысленно в панораме Покровки никак не могу. Так же, как не «вписываются» у меня в знакомые московские улицы извозчики. Бывшие обязательной приметой городского пейзажа еще в детстве моих родителей, они к пятидесятым уже полностью сдали позиции автомобилям, и я их не застал. Кое-где лошади еще трудились по хозяйству: я помню гнедую, запряженную в телегу, на которой старый татарин в рабочем халате неопределенного цвета привозил фляги в молочную на перекрестке Банковского и Кривоколенного. И еще лошади были для меня непременным атрибутом праздников 1 мая и 7 ноября.
В эти дни с раннего утра над городом гремела музыка, не давая осуществиться маминой мечте – выспаться в нерабочий день. По улицам к Красной площади шли демонстранты – строго по организациям и предприятиям. Чужих в колонны не пускали, а для своих явка по разнарядке была обязательной. На всех перекрестках в пределах Садового кольца ставили оцепление. Отдельных граждан до окончания прохождения колонн пропускали только в направлении, противоположном движению демонстрации, – от центра. Так я обычно и шел с кем-то из взрослых – от Банковского к Кировским воротам. Там на площади стояла конная милиция. Я мог подолгу смотреть на милицейских лошадей под синими вальтрапами с красными звездами в углах. Скучавшие от долгого стояния, они помахивали головами, переступали на месте и шевелили мягкими губами. Благодушные милиционеры обычно позволяли мальчику «погладить лошадку» или угостить ее принесенной конфетой. Конечно, они мало походили на столь обожаемых мной мушкетеров, но у них тоже были шпоры! А главное – лошади! Лошадей я полюбил сразу и на всю жизнь.
И еще одну радость дарили детям эти дни: 1 мая и 7 ноября частникам разрешали продавать в центре Москвы кустарные игрушки. Мы шли на Чистые. Я знал, что мне купят только что-нибудь одно (мама или папа строго произносили: «Уговор!»
Я побаивался этого слова). Чтобы не ошибиться в выборе, мы несколько раз проходили бульвар от метро до пруда и обратно, рассматривая выставленные на продажу сокровища. Обычно в эти дни здесь продавались воздушные шары, разнообразные трещотки, пищалки «уди-уди», шустрые глиняные мышки с резиновыми хвостиками, набитые опилками бумажные шарики на резинках, пустотелые утки и лебеди из воска, плававшие в тарелках, бумажные «тещины языки», маленькие цветные стеклянные чертики, опускавшиеся и всплывавшие в пробирках, фигурные сладости из жженого сахара на палочках и еще много чего. Бульвар был заполнен гомонящей толпой. Большую часть продавцов составляли многодетные цыганки с орденами «Мать-героиня» на жакетках. Чумазые живые свидетельства их героизма сновали вокруг, белозубо улыбаясь. Мальчишки, подкравшись сзади, стреляли из рогаток по гроздьям воздушных шаров, те лопались, и цыганки звонко ругали хулиганов по-русски и по-цыгански. Все игрушки демонстрировались в действии, поэтому вокруг все пищало, трещало, крутилось и дергалось.
Продавцы прекрасно знали основы маркетинга, хотя слова такого тогда не существовало не только в нашем обиходе, но даже, наверно, в советских учебниках экономики. Товар выставлялся на продажу огромными связками. Когда видишь вместе сто воздушных шариков или сто глиняных мышек, дрожащих сотней хвостиков, так хочется такое же. В выбранной после долгих душевных терзаний и купленной, наконец, игрушке при детальном изучении обнаруживались разные мелкие недостатки, и вообще, взятая в отдельности, она сразу теряла большую часть привлекательности.
Все игрушки были аляповатые, яркие и очень недолговечные. Обычно они ломались на первый-второй день после покупки, не успев надоесть. И начиналось ожидание следующего праздника, когда мы купим такую же, но нам больше повезет: она не сломается и с ней удастся наиграться вдоволь.
Интересные витрины
В будни же прогулки на Чистопрудном бульваре происходили по совсем другой программе. Нянь там собиралось много: у моего поколения москвичей, родившихся в послевоенные годы, бабушки и дедушки в большинстве своем работали. Детских садов не хватало, зато одиноких женщин или девушек, готовых жить в московских семьях в качестве домработниц, – предостаточно. Приведя подопечных на бульвар, они собирались в кучку и часами судачили о своем, пока мы играли. При этом получалось, что выбор товарищей в большей степени определялся вкусами нянь.
А по дороге, такой долгой в детстве – от Банковского до Чистых и обратно, – мы останавливались, чтобы рассматривать витрины. Самые интересные были в дальней стороне Кировской – если мы шли к площади Дзержинского (Лубянской). Конечно, наши с няней вкусы во многом не совпадали. Общее удовольствие мы находили в разглядывании витрины магазина «Фарфор – Хрусталь», я только не мог понять няниного интереса к чашкам, блюдцам и тарелкам. Мне нравились фарфоровые статуэтки, их выпускали тогда во множестве, и в витрине соседствовали подкрашенные сусальным золотом разнокалиберные звери и птицы, Хозяйка Медной горы, Одетта-Уланова, снеговики, девочки и мальчики с лыжами, коньками и санками – да и много чего еще! Но, что касается остальных витрин, тут наши с нянькой вкусы резко расходились.
Я не мог понять, чем ее привлекали самые скучные магазины – готового платья в павильоне возле дома № 7 и ювелирный – в одноэтажном, кажется, № 25. Обоих этих магазинов сейчас нет, и дома, где они находились, снесли. Когда нянька рассматривала разложенные в витрине и надетые на лупоглазые манекены платья или заходила внутрь, строго велев мне никуда не отлучаться, я изнывал от скуки – никакого интереса такие вещи, как штаны и рубашки (не говоря уже о платьях для тетенек), у меня не вызывали.
Зато я мог без конца стоять перед витриной с предметами из другой жизни – романтической и немножко невзаправдашней, которую знал по картинкам из книг Майн Рида, Сэтона Томпсона, Виталия Бианки и Бориса Житкова, но в глубине души сомневался, есть ли сейчас такая на самом деле. Во всяком случае, она существовала где-то бесконечно далеко от Банковского переулка.
Косвенным подтверждением ее наличия как раз и был магазин «Охотник» на перекрестке Кировской с Большим Комсомольским (Большим Златоустинским) переулком, у витрины которого я мог стоять бесконечно. Азарт самой добычи зверя меня мало занимал, но в те годы природоохранные идеи еще не овладели людьми, самые слова «охота» и «дикая природа» были фактически синонимами. Впоследствии (целую жизнь спустя) мне довелось видеть на воле совсем близко и оленей, и белых медведей, и розовых фламинго, и акул, и китов, и даже таких животных, о которых авторы тех книжек понятия не имели. При этом ни у меня, ни у моих товарищей не было ни ружей, ни потребности в них. Но это случилось потом.
А тогда я как завороженный смотрел на разложенные в каком-нибудь метре от меня самые настоящие ружья, кинжалы, латунные гильзы, пули «бреннеке», блестящие капсюли и разные другие красивые предметы неведомого назначения, но явно очень нужные и интересные. Главное же – за ними брезжило такое важное в детстве слово: «приключения».
Притягивала меня и витрина спортивного магазина «Динамо». Он, увы, не пережил рубежа столетия: помещение осталось, но в нем теперь магазин женской одежды «Бетти Беркли». А тогда, в раннем детстве, спортсмены сильно будоражили мое воображение. Они, наравне с циркачами, делали абсолютно недоступные простым людям трюки, саму возможность которых я не мог постичь умом. При этом бег, коньки, лыжи или плавание абсолютно не занимали меня. Но как человек может прыгать с трамплина высотой с наш дом или крутить сальто в воздухе, как может долго перебрасываться с партнерами мячом, ни разу не уронив его, – не умещалось в моем сознании. Самыми же заветными предметами в витрине были призовые кубки и, конечно же, спортивные рапиры.
Кубки долго привлекали меня, наверно, тем, что являлись как бы высшим проявлением царившей тогда официальной эстетики пятиконечных звезд и колосьев. Свободные от какого бы то ни было утилитарного назначения, они воплощали эту эстетику в ее чистом виде. Разглядывая их сияющие бока с эмалевыми медальонами и изящные ножки, я долго восхищался, пока как-то не спросил о назначении этих прекрасных предметов. Услышав, что ими награждают победителей, я уточнил – а победители-то что с ними делают? Ответ поразил меня. Прагматичный, как большинство маленьких детей, я горько разочаровался, поняв, что никакого практического применения эти замечательные блестящие вещи не имеют.
Рапира же приходилась родственницей шпаге. Конечно, это было «типичное не то»: и клинок какой-то четырехгранный, легко гнущийся, и эфес совсем без изящных украшений. Когда я однажды увидел соревнования по фехтованию, то разочаровался еще больше: вместо того чтобы беспрестанно красиво двигаться, скрещивая звенящие клинки, спортсмены медленно и осторожно переступали, долго выжидая чего-то недоступного моему пониманию, а потом следовало несколько молниеносных неразличимых движений, и – один ликовал, другой сокрушался. Момент «укола» я никак не мог уследить.
Но все равно, рассматривал рапиры я с огромным удовольствием.
Еще меня притягивала витрина располагавшегося в нашем доме магазина «Шарико– и роликоподшипники». Само его существование для меня до сих пор остается загадкой. В Москве пятидесятых годов многие жизненно важные вещи не продавались в магазинах, их «выписывали» в конторах с неудобопроизносимыми названиями. Другие, не менее важные товары (как, например, сантехника, торчащая сегодня на каждом шагу и влезающая в жизнь с раздражающей настырностью), иногда «бывали» в одном-двух невзрачных магазинчиках на весь город, расположенных преимущественно на промышленных окраинах. Почему именно для подшипников сделали исключение, почему именно их продавали в самом центре города под синей неоновой вывеской, я не знаю.
Помню только, что они сразу заворожили меня благородным блеском полированных поверхностей и невероятно точной формой абсолютно ровных шариков. Когда же мама как могла объяснила мне смысл и принцип их работы, я сразу понял его, поразившись очевидной простоте решения, и одновременно проникся благоговейным недоумением – как же до этого додумались?
Подшипники я тогда видел часто не только в нашем магазине. Во-первых, они использовались в деревянных самокатах, на которых с грохотом катались мальчишки в наших переулках. У этих мальчишек не было нянь, они гуляли сами по себе. Самокатам я очень завидовал, как-то даже попросил маму мне такой купить. Мама объяснила, что они не продаются, их люди сами делают. Я робко поинтересовался, не могут ли и мне его сделать. Нет, ни дедушки, ни папа делать самокаты не умели. Через некоторое время мне купили трехколесный велосипед. Но я все равно завидовал мальчишкам с самокатами – их лихости, недоступной мне скорости и, конечно, их независимости. С няней и на самокате вышло бы как-то не так.
А еще подшипниками оснащались многочисленные в ту пору каталки безногих инвалидов. Сооружение это представляло собой простую, сбитую из досок плоскость, к ней калека был привязан ремнем за оставшиеся от ног култышки. В руках он держал бруски с рукоятками, которыми отталкивался от земли. Несущиеся с грохотом инвалиды на таких колясках, ловко запрыгивающие на тротуар или на площадку пригородной электрички, встречались тогда на каждом шагу: после войны не прошло и десяти лет. В какой-то книге много позже я прочел, что их всех потом пересажали в лагерь на Валааме, чтобы не портили своим видом благообразия столицы. Дело нехитрое, большая часть их нищенствовала, то есть жила нетрудовыми доходами, что при социализме каралось. Не знаю, правда это или нет, но исчезли с улиц Москвы и из электричек они, действительно, как-то сразу.
В любом случае я уверен, что магазин подшипников существовал в нашем доме не для удовлетворения нужд мальчишек и инвалидов. Помню только, что рассматривать блестящие штучки в витрине мне очень нравилось. Потом магазин этот изменил свой профиль. Но по странной иронии судьбы первым местом моей работы, куда я попал по распределению после института, стал именно ВНИПП – Всесоюзный научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подшипниковой промышленности.
Чаеуправление
И еще был на Кировской один замечательный магазин. Собственно, он и сейчас стоит на своем месте и, практически не изменив своего облика, справил столетний юбилей. Я уже упоминал о нем. Это – магазин «Чай – кофе», бывший Перлова, старожилами центра Москвы называвшийся тогда «Чаеуправление». Его знают, конечно, все москвичи, да и приезжие, побывавшие в Москве хоть раз, наверняка помнят. Снаружи и изнутри декорированный в китайском стиле, с огромными вазами, зеркалами и драконами, он не мог не будоражить детского воображения. Больше всего он напоминал мне китайские шкатулки из красного резного лака, которые стояли на трюмо у Юли, Мишиной жены, – мне иногда позволяли потрогать их.
Выставленные в витрине вещи прочно ассоциировались с праздниками: за стеклом высились пирамиды из коробок с наборами шоколадных конфет. Подемократичнее – «Садко», дорогие – «Олень» и еще какие-то, кажется, «Салют» или «Праздничный», но тот был совсем огромный, и я не представлял, чтобы кто-нибудь мог его для чего-то купить. Присутствие коробок на витрине совсем не означало их обязательного наличия в ассортименте. В магазин могли не завезти вообще никаких наборов, оформление витрины не продавалось.
Конфеты в коробках считались в нашей семье роскошью, их иногда приносили гости. Обычно после них коробка оставалась чуть початой, ее убирали в ореховый шкаф, и потом я долго получал конфеты поштучно после ужина (если не числилось за мной серьезных прегрешений).
Когда я пишу, что магазин практически не изменил своего облика, это и так, и не так. Сейчас он отличается от других разве что своим диковинным убранством, тогда же сильно разнился ассортиментом. Здесь всегда можно было купить что-нибудь к парадному чаепитию, но главное – в нем (чуть ли не единственном в Москве) всегда продавалось несколько сортов натурального кофе.
С натуральным кофе вышла интересная история. Как-то недавно, в конце девяностых, в общем разговоре о временах моего детства стали вспоминать кофейный отдел «Чаеуправления» с его длиннющей очередью за натуральным кофе. В разговоре участвовал и мой старший сын. Я вдруг сообразил, что мы говорим о разных вещах, и для уточнения спросил, что он понимает под словами «натуральный кофе?» Паша ответил, что кофе бывает натуральный – молотый или в зернах, его нужно варить, и растворимый, в банках, который можно готовить даже в холодной воде. Альтернатива представлялась ему именно так.
Тогда, в пятидесятые, выбор был другой. Растворимый кофе появился у нас только в конце шестидесятых. То, что подавалось в столовых под названием «кофе», делалось из желудей, ячменя, цикория и не знаю чего еще. Продавалось это зелье в унылых картонных коробках под разными названиями:
«Кофе желудевый», «Кофе ячменный», «Кофейный напиток „Дружба“» и так далее – сортов существовало много. Именно на них мы и выросли – в школьных буфетах натурального кофе не держали. Надо сказать, что некоторые из этих напитков обладали приятным вкусом. Коробки из матового картона, в которых они продавались, заполняли собой все бакалейные витрины. Я долго считал, что уж чего-чего, а кофейного суррогата при социализме у нас выпускали в избытке, но оказалось, что и это не так. Моя теща, Александра Ивановна, из-за больного сердца пить натуральный кофе не могла и из заменителей предпочитала «Дружбу» (до появления в наших магазинах растворимого кофе без кофеина она не дожила). Когда я однажды искал для нее ее напиток, оказалось, что вокруг навалом чего угодно – и «Кубани», и «Ячменного колоса», а вот «Дружбы» по всей Москве нет, хоть ты тресни.
Вообще в широкий обиход кофе вошел у нас на рубеже пятидесятых и шестидесятых, до этого пили чай. В «Чаеуправлении» продавался кофе настоящий. Не менее трех-четырех табличек с названиями сортов висели высоко, цены не менялись годами: «Арабика», «Колумбийский», «Харари» – по четыре пятьдесят за килограмм, «Йеменский» – четыре десять. В кофейном отделе гудели две огромные блестящие мельницы – кофе продавали в зернах и молотый, по желанию. Очередь к прилавку (направо от входа) шла через весь магазин, часто загибаясь так, что конец ее достигал начала, а иногда и вилась по тротуару за дверьми магазина. Однако эта очередь – одна из немногих – шла очень быстро.
За прилавком орудовали две, иногда – три продавщицы, очень сноровисто и быстро. Одну из них, проработавшую дольше других, Софью Апкаровну Акопьянц, наверно, помнят многие. Маленького роста, всегда в белейшем накрахмаленном халате и шапочке, аккуратно зашпиленной на уложенных пышных волосах цвета «перец с солью», Софья Апкаровна работала с быстротой и точностью фокусника, держась при этом как добрая королева, одаривающая подданных щедрой благостыней.
Когда до вас доходила очередь и вы протягивали чек, Софья Ап-каровна, вскинув большие армянские глаза, спрашивала: «Для вас?» – и, услышав в ответ: «Двести „Арабики“ пополам с „Ха-рари“» – полукивком давала понять, что поняла и всегда уточняла – серьезно, как врач-кардиолог: «В молотом виде?» Сам процесс отвешивания требуемого занимал три-пять секунд, и вы получали теплый пергаментный пакетик. Софья Апкаровна успевала каждому на прощанье полуулыбнуться, и вот уже ее «Для вас?» звучало для следующего.
Мама пристрастилась к кофе в шестидесятые, и вскоре, увидев через прилавок ее или меня, Софья Апкаровна спрашивала уже: «Для вас – как обычно?» – и улыбалась на полсекунды дольше. Мы никогда не знакомились и не разговаривали: темп, в котором работали продавщицы кофейного отдела «Чаеуправления», не давал такой возможности. Имя ее я узнал по табличке на весах, они появились здесь едва ли не раньше всех в Москве – «Чай» на Кировской всегда был фирмой!
Но все это случилось уже потом. Вначале я просто стоял и смотрел на коробки в витрине. Небольшие, продолговатые, из темно-красной бархатной бумаги, по которой летел тисненый тонконогий олень. Он был сказочен и прекрасен. Сами конфеты из набора «Олень» я не помню. Не уверен даже, что когда-нибудь их ел.
Борьба с культом личности
Государственная антисемитская кампания конца сороковых – начала пятидесятых годов, проходившая под закамуфлированным названием «Борьба с безродным космополитизмом», затронула нашу семью, но несильно и под самый конец: дедушку Григория Рувимовича и Михаила Львовича прогнали с работы, дедушку Александра Львовича передвинули в его главке на какую-то менее заметную должность (может быть, даже из хороших побуждений – авось пронесет нелегкая). Вскоре после смерти Сталина кампанию быстро свернули и родственников моих восстановили на работе почти сразу.
День смерти «вождя народов» врезался мне в память необычным впечатлением: по дороге на бульвар нам с няней пришлось протискиваться через толпу, запрудившую Телеграфный (Архангельский) переулок. Люди собрались посмотреть на высших иерархов православной церкви, приехавших отслужить заупокойную службу в церкви Архангела Гавриила (многие знают ее как Мен-шикову башню).
Я отчетливо помню (мне не хватало месяца до трех лет) стоящий вдоль переулка народ, три или четыре черных «ЗИСа», остановившихся друг за другом в сером мартовском снегу, и спины священников в торжественных облачениях – они показались мне похожими на бояр с иллюстраций к сказкам Пушкина.
На бульваре нас нашел папа: в школе, где он работал, отменили занятия, и отец, отпустив няню, стал гулять со мной. Произошедший между нами диалог я знаю с его слов – он часто вспоминал мою реакцию на смерть великого вождя. Начался разговор с того, что я увидел неоновую рекламу мороженого и спросил, что там написано. Отец рассказал про мороженое (мне его еще не давали), что оно из молока, холодное, сладкое и вкусное. Затем, выждав приличную паузу и сменив тон, он сказал: «А знаешь, Сережа, какое у нас всех сегодня горе? Умер товарищ Сталин, наш вождь». Я помолчал, осмысливая услышанное, и ответил соболезнующим тоном: «Ага. А горячее мороженое бывает?»
Мама хотела идти на похороны, но дедушка ее не пустил. Не знаю, какие он привел доводы (о прямых запретах в адрес двадцатисемилетней дочери речи не было), но мама не пошла. Про случившуюся давку по Москве шептались с опаской. Бывшую мамину одноклассницу из соседнего подъезда хоронили через несколько дней в закрытом гробу. Никаких официальных сообщений о произошедшем, естественно, не делали.
Изображения его еще долго висели и стояли по Москве, я помню блестящую гипсовую скульптуру в вестибюле детской поликлиники: добрый улыбающийся Сталин держит девочку на руках. Продолжали вывешивать его портреты и на праздники – как одиночные, так и сдвоенные или счетверенные – корифеи марксизма-ленинизма в профиль: Сталин – Ленин или Сталин – Ленин – Маркс – Энгельс, но Сталин неизменно на первом плане. Такие же сдвоенные или счетверенные профили я нередко видел летом, их часто накалывали на груди. После разоблачительной речи Хрущева на двадцатом съезде партии в пятьдесят шестом году Сталина начали отовсюду убирать, но не сразу. Когда я учился в первом классе, то из букваря его уже убрали, но в мавзолее он еще лежал, и я видел его, когда нас повели туда на обязательную экскурсию. То ли потому, что он был свежее, то ли потому, что за почти тридцать лет ухода за ленинской мумией методику бальзамирования существенно улучшили, но выглядел Сталин намного лучше Ленина. После посещения мавзолея мы с одноклассниками пришли к единодушному мнению: Сталин похож, а Ленин – не похож.
Забегая чуть вперед, напомню, что повторная волна разоблачений совершенных им преступлений прошла после двадцать второго съезда в шестьдесят первом году. К этому времени изображений «вождя народов» в государственных и общественных местах практически не осталось. В одном из пионерских лагерей, где я отдыхал летом, в конце аллеи стояло странное гипсовое изваяние: на краешке длинного дивана, бочком, примостился Ленин. Поза вождя и композиция скульптуры выглядели непонятно: всем своим видом Ильич как бы излучал доброе внимание, обращенное на пустое место. Через некоторое время секрет композиции был раскрыт: ушлые пионеры, забравшись на пьедестал, обнаружили на гипсовом подиуме следы сапог, а в линиях сидения и спинки дивана явно прослеживались вмятины от изъятой фигуры. Кто мог сидеть на диване рядом с Лениным, пионеры тех лет понимали без вопросов.
А последний раз гипсового Сталина я видел году в шестьдесят первом – шестьдесят втором. Мы с одноклассником, Сашкой Пугиным, гуляя, проходили под аркой, соединявшей двор нашего дома с Кривоколенным переулком. Там стояли помойные бачки, в которые сносили мусор из всех квартир.
Большой (почти в полторы натуральной величины) бюст лежал на грязном асфальте, отбитая голова валялась в стороне. Мы были уже грамотные и знали, что Сталин – плохой. Желание как-нибудь нашкодить не позволило оставить находку просто так. Взяв отбитую голову, мы забрались на ближайшую выходившую во двор черную лестницу. Помойные ведра стояли на каждой площадке так, чтобы выбрасывать мусор сразу, открыв заднюю кухонную дверь. На втором или третьем этаже в одном из ведер лежала завядшая сирень. Посовещавшись, мы пристроили гипсовую голову в ведре поверх цветов – вид получился жутковатый. Потом мы спустились вниз и уселись под лестницей. Реакция последовала быстро: наверху хлопнула дверь, и раздался заполошный женский крик. Дожидаться дальнейшего мы не стали.
Детские болезни
Как все городские дети, я часто болел. Маленьким болеть мне нравилось. Я становился объектом внимания, мама брала бюллетень и оставалась дома. Приходил папа с чем-нибудь интересным и неожиданным, вроде журнала «Советский цирк». Именно по фотографии в этом журнале я впервые в жизни влюбился – в укротительницу Ирину Бугримову. Мне читали, рассказывали, рисовали.
Не то чтобы в остальное время меня обделяли вниманием, нет. Но, заболев, я получал его в большей концентрации, а главное – на законном основании. Болеть было интересно.
В папиных рассказах меня больше всего занимали истории про русских витязей. Отец долго занимался былинами, большие куски читал наизусть, как-то принес для иллюстрации открытку с васнецовскими богатырями. Былинные витязи на время даже чуть потеснили в моем сердце мушкетеров. Шпага была, слов нет, намного изящнее меча, но с одного взгляда на картинки я со смущением признал, чья возьмет, доведись четверке мушкетеров встретиться с тремя богатырями.
И когда по всей Москве пошел фильм Птушко «Илья Муромец», мне непременно захотелось его увидеть. До этого в кино я не ходил, а телевизоров мы еще не знали. Почему-то посмотреть этот фильм долго не получалось. Мы пытались попасть на него с нянькой, отец специально прибегал днем, используя «окно» между уроками, мы спешили на трамвае в один кинотеатр, в другой – ничего не выходило. То оказывалось, что все билеты проданы, то сеанс в афише был указан неверно. Помню, что попыток мы сделали много.
В конце концов, естественно, мы на него попали. Отец пришел уже с билетами в «Художественный», и давно ожидаемое состоялось. Конечно, фильм не мог мне не понравиться. Как не мог он понравиться отцу – слишком много он содержал назидательного соцреализма и мало от настоящих былин. Сейчас помню только батальную сцену обороны Киева – как несметные черные полчища татар прут по чистому полю, а наши, установив на городской стене огромный лук, пускают сделанные из бревен стрелы, на которые татары нанизываются десятками. Умерять мой восторг папа тогда не стал. Но я все же понял, что мне понравилось больше, чем ему.
Мама пересказывала мне «Алые паруса» Грина – вначале в коротком детском варианте, а потом раз за разом удлиняя историю. С этого ли рассказа пришло очарование парусниками, или позже, после прочтения «Острова сокровищ», я уже не помню. Долгое время я их рисовал, строил из дерева, а книги, в которых фигурировали парусные корабли, перечитывал чаще других. Они до сих пор не потеряли для меня своей привлекательности. Когда я вижу в иностранных портах стоящие у причала парусники (а они есть практически везде), меня тянет к ним как магнитом – просто постоять рядом, посмотреть. А однажды случившуюся встречу в океане с «Крузенштерном», который шел под всеми парусами, я никогда не забуду.
Маленьким я об этом даже не мечтал, считая, что паруса остались где-то в красивом прошлом вместе со шпагами, доспехами и щитами. Но так как именно эти предметы привлекали меня больше всего, я в меру способностей заполнял их изображениями альбомы и тетрадки. Рисовал же я главным образом лежа в кровати, когда болел.
Когда мне исполнилось восемь лет, старшие решили покончить с моими простудами – вырезать гланды. Тогда для такой операции детей укладывали в больницу на неделю. Именно к этому времени относится одно из моих самых мучительных и постыдных воспоминаний.
Палата была человек на восемь. В какой-то из дней в ней появился мальчик с игрушками. Он сразу стал объектом всеобщих насмешек, потому что плакал, когда сестра привела его в палату, еще из-за игрушек – у других были книжки или игры. И еще потому, что говорил не так, как все, а подробно и многословно. Мальчишки начали над ним издеваться. Его это мало задевало. Он разговаривал со своими игрушками, и больше ему никто не был нужен.
Дети, особенно в компании, бывают очень злы и безжалостны. Когда этого мальчика увели на процедуры, один из нас, веселый немой, сильный, ловкий – такие всегда становятся заводилами, – со смехом подбежал к его тумбочке и стал вышвыривать из нее игрушки. Все обступили его. Мы смеялись, разбрасывая по палате зверюшек и солдатиков. Но этого казалось мало. И когда немой вытащил маленького глиняного Буратино с толстым недлинным носом и букварем в руке, кто-то сразу грохнул его об пол. Буратино оказался крепким, он не разбился, но идея всем понравилась. Мальчишки, отталкивая друг друга, ловили летавшего по палате Буратино и швыряли об пол, а он все никак не бился по-настоящему, от него только откалывались небольшие кусочки. И тогда я догадался: нужно об батарею! И бросил – сильно. Батарея была от меня далеко, а бросать пришлось быстро – все же хотели. Кажется, не попал, точно не помню. Потом все свалили в кучу около его тумбочки и разбежались по кроватям.
Когда мальчик вернулся, он сразу увидал учиненный нами разгром, кинулся к своему месту и стал перебирать игрушки. Он плакал, громко и недостойно, как девчонка, горестно качая головой, и произносил сквозь плач правильные фразы. Что он говорил, я, конечно, не помню, но когда в руки его попал изуродованный Буратино, он охнул как-то особенно и вскрикнул безутешно (эти слова я запомнил точно): «Какой хороший был Буратино, когда мама его подарила!»
С тех пор прошло больше сорока лет, но я не могу (да и не хочу) забыть ту смесь жалости и стыда, которые тогда испытал. Конечно, я не показал виду, мальчишки-то смеялись. Может, стыдно стало не мне одному. Больше того мальчика никто не тиранил, но и дружить с ним не стали. Он пробыл в больнице недолго, дня три всего. Я не помню ни имени его, ни лица, но слова про Буратино, подаренного мамой, у меня до сих пор в ушах. И когда я вспоминаю их, мне опять и опять становится жгуче, до сбоев в дыхании, стыдно, как будто это вчера я бил маленького Буратино об трубу, сознательно стараясь обидеть беззащитного.
Журнал «Театр»
Сколько я себя помню, мама работала в редакции журнала «Театр», это я знал так же твердо, как свой адрес. До этого она сразу после института полгода проработала в «Советской культуре», а потом, в июне 1952-го поступила в «Театр», из которого уже не уходила никуда.
«Театр» был толстый ежемесячный журнал. В те дни все живое и талантливое в нашей культуре лепилось одно к другому. Бесповоротно размежевавшиеся впоследствии западники и почвенники (я имею в виду талантливую часть тех и других) публиковались в трех-четырех журналах, одинаково нуждаясь в расширении свободы слова. Поэтому либеральные идеи высказывались и лучшими из «деревенщиков», и «горожанами» – те и другие страдали от идеологического пресса ЦК КПСС в одинаковой степени.
Флагманом либерализма выступал «Новый мир», на протяжении целой эпохи руководимый Твардовским. «Театр», журнал умеренно-либерального направления, в особо смелых, громких выступлениях замечен не был, но старался, по мере сил, выглядеть интеллигентно. За пределами круга людей театра и завзятых театралов его читали редко.
Одним же из застрельщиков противоположного, охранительно-запретительного направления, тогда служил еженедельный «Огонек», выходивший массовым тиражом. Руководил «Огоньком» в течение тридцати трех лет писатель Анатолий Софронов, в одной из поздних, уже перестроечных публикаций поименованный «палачом нашей литературы». А так как большую часть его собственного творчества составляли пьесы, то внимание к главному всесоюзному журналу, пишущему о театре и его проблемах, Софро-нов проявлял пристальное.
Журналу мама отдавала огромную часть своей неравнодушной натуры. Дома я с детства привык к словам «верстка», «сверка», «гранки», «Софронов». Не понимая хорошенько их смысла, я все же чувствовал присущую им негативную окраску. Первые три означали некое стихийное бедствие, вторгавшееся в нашу жизнь ежемесячно, когда мама приходила с работы поздно, усталая, а утром, не выспавшись, спешила обратно. Еще из-за версток и сверок в редакции постоянно шли какие-то внутренние раздоры – кто-то что-то напутал, кто-то задерживает свой материал, кто-то пропустил «ляп». Зато когда в разговорах мелькал Софронов, я чувствовал, что мама гордится своей редакцией, что они все – одна команда. В те времена понятия «честь», «достоинство», «порядочность» и, напротив, «подлость» составляли важную часть повседневной жизни интеллигенции.
Отношения, царившие тогда в редакции, вспоминали спустя много лет ее бывшие сотрудники в театральном журнале «Московский наблюдатель».
В. Семеновский: «Вы работали в редакции журнала „ Театр“, разгромленной в конце 60-х. Я начинал там вскоре после этого вместе с другими, тогда еще молодыми людьми. Унаследованная от вас особая атмосфера редакции, атмосфера не учреждения, а своего дома, была утрачена нами не сразу. Так что я ностальгически вспоминаю тесноту на Кузнецком, тот уголок за шкафом,, где только и можно было уединиться с автором, и те редакционные пирушки, где легко прощались друг другу обиды».
А. Своводин: «…Скажем так: были неписаные правила, как бы не имеющие индивидуального авторства. Школа была. Доверяли друг другу».
Ю. Рыбаков: «.Для меня одиннадцать лет работы в журнале „Театр“ – это счастье, которое никогда больше не повторилось».
Н. Крымова: «Да, это было счастье».
А. Своводин: «Да».
Замечу: до осознания факта, что работа в «Театре» – счастье, мама, в отличие от участников этой беседы, не дожила лет эдак двадцать. На протяжении почти двадцати пяти лет, проведенных ею в журнале, она все больше и больше страдала от сознания тщетности их усилий: противостоявший всему живому идеологический пресс тогда казался незыблемым и вечным. И еще она всегда очень страдала от безденежья – платили в редакции мало. Но другой работы не искала и не представляла.
Тем не менее редакционную атмосферу порядочности осознавала и ценила очень. Часто вспоминала Николая Федоровича Погодина, известного советского драматурга, который был главным редактором «Театра» в начале пятидесятых, когда она туда пришла. В разгар «борьбы с безродным космополитизмом» мать однажды влетела к нему в кабинет, закрыла за собой дверь и выпалила подготовленную заранее речь о том, что папа ее – еврей, скрывать этого факта она не собирается, чем бы он ей ни грозил, и так далее. Погодин побагровел, обматерил ее и крикнул что-то вроде: «Девчонка! Ты за кого меня принимаешь? Пошла вон отсюда, и чтобы ни звука на эту тему за этой дверью!» – и «девчонка» всегда помнила эту ругань с глубокой благодарностью.
В цитированном мной «Московском наблюдателе» Александр Свободин тоже помянул тогдашнего главного редактора:
Человеческое лицо «Театр» обрел при Погодине. Это объясняется не только временем – серединой пятидесятых, но и неординарностью самого Николая Федоровича. Обласканный режимом автор Ленинианы позволял себе вольности, какие другим не прощались.
Он ухитрился не вступить в партию: не хотел, и все (притом, что в непорочность Ленина верил). Прикрывал «космополитов» Юзовского и Холодова. Вообще покровительствовал хорошо пишущим людям.<…>
На моей памяти это был единственный редактор-драматург, который не испытывал зависти к таланту своих коллег и не обеспечивал при помощи журнала комфортную жизнь собственным пьесам.
Еще из маминых воспоминаний о Погодине я запомнил упоминавшуюся ею феноменальную его безграмотность. Свои пьесы, написанные с ошибками и без знаков препинания, он отдавал заведующей редакцией, старой сотруднице, с которой, как я понимаю, съел не один пуд соли. В дальнейшую работу все им написанное шло уже из-под ее руки.
Вообще, теперешнему поколению, от младых ногтей привыкшему к компьютерам, трудно представить себе тогдашнюю технологию редакционной работы. Машинисток, строчивших как из пулемета на механических машинках (электрические появились лет двадцать спустя), которые умудрялись печатать по тридцать – сорок страниц в день без ошибок: в случае опечатки в ответственном материале приходилось перепечатывать весь лист. Правка вносилась в текст от руки, после чего его снова и сноваперепечатывали. Для перестановки абзацев пользовались ножницами и клеем (и снова перепечатывали набело). Я с грустью отмечаю, что теперь, несмотря на невиданные ранее технические возможности, книги и журналы стали издаваться значительно неряшливее, в них намного больше описок, опечаток и неграмотных выражений. Не могу себе представить среди маминых сослуживцев (а я всех их знал более или менее коротко) человека, не умеющего, скажем, не задумываясь склонять сложные числительные. Как и везде, в журналистике внедрение техники в первую очередь обесценивает профессионализм работников старой формации. Повышение качества происходит при этом далеко не всегда.
А для «Театра» в новых условиях настали тяжелые времена. С 1994 года он стал выходить с перебоями, в 1996-м и 1997-м свет увидели лишь по одному номеру, и журнал прекратил свое существование. В итоге его непрерывная жизнь в советскую эпоху продлилась 50 лет, мама проработала из них 25. В девяностые годы, правда, это стал совсем не тот журнал. Большинство сотрудников старой закваски ушли из «Театра» и восемь лет группировались вокруг издаваемого Валерием Оскаровичем Семеновским «Московского наблюдателя». А с 2000-го его же усилиями (на новом месте, с нуля) стал выходить новый толстый журнал. Как и прежде, он называется «Театр» и даже внешне очень похож на своего доперестроечного тезку. Маму там не забыли. Говорят, совсем недавно вспоминали как-то с ходу выданную ею по памяти справку: «Дюрренматт – два „р“, два ,,т“».
Мамины друзья
На полке, где стоят книги с автографами, многие подписаны маме. Николай Акимов, Александр Крон, Лев Аннинский – мама дружила со многими интересными людьми. Художник-график Бунин на титульном листе «Девяносто третьего года» Гюго нарисовал тушью целую композицию: замок Тург, клубы дыма, под которыми стоит гильотина, Говэн в надвинутой на брови треуголке и суровый Симурдэн – в отдельном медальоне.
Я расскажу подробно лишь о некоторых автографах, связанных для меня с какими-то воспоминаниями.
Мама долго дружила с актрисой Елизаветой Ауэрбах. Первый спектакль, который я увидел (как и многие московские дети, наверно), – это, конечно, «Синяя птица» во МХАТе. После спектакля мы с мамой дожидались Елизавету Борисовну у служебного выхода. Мне было любопытно: артистов вблизи до этого я не видел. Она вышла, и я сразу узнал соседку Берлинго. Но из ее разговора с мамой я понял, что в спектакле она играла еще несколько эпизодических ролей. Это у меня в голове не умещалось. Я пытался вспомнить лица мелькавших на сцене третьестепенных персонажей, чтобы убедиться, что их действительно изображала шедшая рядом с мамой женщина, но у меня ничего не получалось. Как-то даже стало немного обидно: театр – это, конечно, не взаправду, но не настолько же! Потом Елизавету Борисовну сократили из МХАТа. Она нашла, скорее – создала себе новое амплуа: стала эстрадной артисткой, автором и исполнителем устных рассказов. Тогда с эстрады и по радио часто читали серьезную прозу: чаще – классику, но нередко – и современных авторов. Сейчас это трудно себе представить, легкий жанр – эстрада – стал настолько легким, что зал не выдержит десяти – пятнадцати минут чего-нибудь серьезного, заскучает. То, что писала и читала Ауэрбах, – очерки? новеллы? Во всяком случае, принимали слушатели ее очень хорошо. Она стала популярной.
В это время она часто приходила к нам. Многие истории она рассказывала маме, я слушал. Помню рассказ о том, как актриса не могла признаться своей больной матери, что ее уволили из театра. Каждое воскресное утро, когда шла «Синяя птица», она собиралась и уходила из дома – как будто в театр на спектакль. Накануне вечером мать спрашивала: «Ты помнишь, что завтра у тебя „Синяя птица“?» Она так и умерла в неведении. Но в последних словах рассказа вырастал невысказанный вопрос: а может быть, все-таки, знала? Знала, но старательно делала вид, что ни о чем не догадывается, чтобы не заставлять дочь делать трудное признание.
Моя память сохранила эту историю и несколько других. В печати я видел из них потом только рассказ «Паук». О чем они говорили с мамой, я не помню, могу только догадываться по надписи на маленькой книжечке Елизаветы Ауэрбах 1958 года «Мои рассказы для эстрады*
Наташечке за веру, надежду и любовь в неунывающего автора.
Е. АуэрбахО многолетней дружбе с семьей Лунгиных напоминают две книжки: «Тучи над Борском» и журнал «Искусство кино» № 11 за 1959 год со сценарием фильма «Мичман Панин». Киносценарии Семен Львович Лунгин писал в соавторстве с Ильей Исааковичем Нусиновым. Книжки подписаны похоже. На журнале стоит:
Дорогой Наташе с любовью.
Сима, ЭляНа книжке, вышедшей два года спустя, надпись более эмоциональная:
Дорогой Наташе! С любовью!
Сима, ИльяУ большинства фильмов, поставленных по сценариям Лунгина и Нусинова, была счастливая экранная жизнь, их любили. Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» вообще стала киноклассикой, а поставленную Элемом Климовым «Агонию» посмотрела, наверно, вся страна. За «Мичмана Панина» их очень полюбили военные моряки и в 1970-м пригласили в зарубежный поход на корабле. Семен Львович рассказывал потом, как прекрасно началось это плавание, каким вниманием и заботой окружили их моряки. Но через несколько дней у Нусинова случился сердечный приступ и он умер. Корабль прервал поход и вернулся домой с середины плавания, чтобы доставить тело на родину.
Лилиана Зиновьевна Лунгина (тогда для меня – тетя Лиля) работала литературной переводчицей. Более всего стали известны ее переводы Астрид Линдгрен – книги о Малыше и Карлсоне и о Пеппи Длинныйчулок. Интересно, что, по маминым рассказам, переводить Линдгрен Лунгина начала абсолютно случайно: она вообще не знала шведского и просила в издательстве работу на французском языке. Ей долго ничего не давали, а потом предложили: хотите попробовать перевести со шведского? Она и решила – хуже не будет, чем совсем без работы, – почему не рискнуть? Взяла – и самостоятельно выучила шведский язык.
Их сын Павел старше меня на год. Он пошел по родительским стопам: вначале закончил МГУ по специальности «Математическая и прикладная лингвистика», потом – Высшие курсы сценаристов. Сначала писал сценарии, потом стал сам ставить по ним фильмы – и художественные, и документальные. За первый же художественный – «Такси блюз» – получил приз Каннского фестиваля. Последующие, хоть и не в такой степени, но тоже не прошли незамеченными. Сегодня Павел Семенович – один из самых известных наших кинорежиссеров. Правда, на телеэкране мелькает редко, так как живет и работает во Франции. Но фильмы делает в основном о России.
Тогда, в пятидесятых, ходить в гости к Лунгиным я очень любил. Во-первых, дома, на Банковском, не было моих сверстников, постоянные приятели появились у меня только в школе. Во-вторых, Лунгины жили в отдельной квартире, где Паша имел собственную комнату. Там мы играли, не стесняясь взрослых. И в третьих, какие-то Лилины родственники и друзья за границей присылали Паше иностранные игрушки, такие, о которых прочие советские дети даже не мечтали. Мне больше всего нравился педальный автомобиль. У нас такие появились, когда я учился уже классе в пятом-шестом, и мои коленки не помещались в них между сидением и приборной доской.
Пашин был цвета кофе с молоком, с хромированными накладками, гудком и фарами на батарейках. Самое смешное состояло в том, что мне так и не удалось научиться пользоваться педалями: я пытался крутить их, как на велосипеде, они не поддавались. Огромный дядя Сима вставал на колени и показывал мне, что делать, чтобы автомобиль поехал. Паша помогал, не понимая, почему у меня не получается такое простое действие. А я и не старался. Ездил я и без педалей замечательно – просто переступая ногами по полу. Мне этого вполне хватало: я поворачивал руль, и машина ехала в другую сторону. А еще я дудел в гудок! Короче, когда мы приходили к Лунгиным, я залезал в машину, и вытащить меня из нее удавалось только, когда мама собиралась уходить.
Потом в их квартире появилось еще одно диво – пластмассовая каравелла «Санта-Мария». Моделей для склейки с подробными крохотными детальками у нас тогда еще никто не видел: своих не делали, импортных не продавали. Эту каравеллу привез Паше из Америки большой друг Лунгиных писатель Виктор Некрасов. Правда, клеить ее мальчишке не доверили. Оба взрослых дядьки, Некрасов и Лунгин, на два дня закрылись в комнате и не выходили, пока каравелла не была готова. Ее торжественно водрузили на видное место и показывали всем друзьям. Через несколько дней Павел с кем-то из приятелей играл в мяч и сшиб модель на пол; она разбилась, и те же взрослые возились еще несколько дней, чтобы починить ее хоть как-нибудь. Я видел ее уже после ремонта, с заметными трещинами, но все равно прекрасную. Потом, став старше, я прочитал рассказ Некрасова «Каравелла», в котором подробно описывалась эта история.
Но самое замечательное мое воспоминание о доме Лунгиных – новогодняя елка. Тогда они собрали много детей, я оказался самым младшим и маленьким. И дядя Сима, и тетя Лиля играли с нами в прятки, в шарады, было очень интересно, весело и здорово. Потом дядя Сима куда-то заторопился и ушел. А через некоторое время раздался звонок во входную дверь, какие-то возгласы в прихожей, в детскую постучали, и вошел Дед Мороз.
Прошу понять: шли пятидесятые годы, и мы росли нормальными советскими детьми. Нас воспитывали на сказках – народных русских, украинских, индонезийских, индийских и всяких других, а также и авторских: Андерсена, братьев Гримм, Чуковского, Маршака – детских сказочных книг в каждой интеллигентной семье имелось множество. При этом с самых малых лет мы твердо знали: никакого волшебства не бывает. Мы были маленькими материалистами. Дедов Морозов на елках, куда ходили по билетам, изображали артисты, это все понимали и принимали как условия игры. Обслуживание Морозами на дому внедрили лет двадцать спустя. Поэтому вид настоящего – в шубе и варежках, с белой бородой и красным мешком – Деда Мороза, конечно, вызвал восторг. Все поняли, что это игра, но игра небывалая. Никому даже не пришло в голову нарушить ее неписаные и нечитаные, но всем почему-то отлично известные правила.
Дед Мороз, оказывается, знал нас по именам, это озадачивало: на официальных елках он всегда спрашивал, как зовут. Все что-нибудь исполнили. Я прочитал свое любимое стихотворение – «Шесть единиц» Маршака. Дед Мороз одарил нас подарками, при этом я получил деревянную настенную вешалку в виде петуха, я видел такую раньше здесь же, у Паши. Она тогда потрясла мое воображение, но я даже не мечтал о такой, вешалка была шведская и в магазинах не продавалась. И как он только догадался?
Дед Мороз ушел. Не знаю, как на других, на меня его приход произвел огромное впечатление. Вскоре вернулся дядя Сима, мы все стали наперебой рассказывать ему о замечательном визите. Он ахал, удивлялся, жалел, что разминулся. Я уже говорил, что во всей компании был меньше всех, следовательно, ближе всех к полу. Поэтому именно я сделал удивительное наблюдение, о котором и сообщил дяде Симе: приходивший дед Мороз носил точно такие же ботинки, как у него. Помню, как фыркнула, сдерживая смех, моя мама, помню растерянный взгляд Паши Лунгина. Сам же я тогда так ничего и не понял.
Об архитектурных стилях и жилищных условиях
Но был у меня до школы еще один товарищ, Миша Хазанов, Миха. Подружился я с ним на Чистых – наверно, няньки наши водили компанию, вот мы и виделись часто.
Толчком же к самой задушевной дружбе, как это часто случается, вышла детская ссора. Однажды, пока его нянька болтала с подругами, четырех– или пятилетний Миша, которому надоело гулять, ушел с бульвара и самостоятельно прибыл домой, на улицу Жуковского. Для этого ему пришлось как минимум два раза перейти переулки и один раз – трамвайные пути. Придя домой, он, довольный, сказал: «Вот какое я путешествие сделал». Что пережила обнаружившая пропажу ребенка домработница, с какими чувствами прибежала без мальчика к хозяевам и что они высказали ей – догадаться нетрудно. Узнал я всю эту историю в пересказе своей няни, а она, естественно, возмущалась дрянным непослушным мальчишкой, из-за которого безвинно пострадала ее несчастная подруга. Послушный ребенок, я воспылал праведным гневом солидарно с няней. В моем сознании содеянное Мишей являлось неслыханной дерзостью. И при ближайшей встрече я стал патетически обличать его перед прочими детьми.
Мной двигало только желание восстановить справедливость – чтобы все знали, какой он плохой, и не дружили с ним. (Именно на этом желании, по моим наблюдениям, основывается поведение всех ябед в детстве.)
К моему удивлению, никто из детей возмущения не разделил. Всем стало интересно: как это – взял и ушел без няни? И сам преступник не смутился, а начал рассказывать подробности. Я обнаружил наличие другой точки зрения на происшедшее, и после этого мы крепко подружились. Мы не только встречались на бульваре, но и ходили друг к другу на дни рождений, что предполагало вовлечение в наши отношения взрослых. Оказалось, что мои бабушка и дедушка Смолицкие когда-то дружили с Мишиным дедушкой. Играя на бульваре, мы много фантазировали. Идея полететь на Луну пришла нам за год-два до первого спутника. Мы хорошо понимали, что с полетом придется подождать, ведь как сделать космический корабль, толком никто не знал. Но, дети своего времени, мы начали собирать алюминий на ракету. Я выпросил дома скобку-фиксатор от раскладушки. Просил-то я кастрюлю или хотя бы крышку, но мне сказали, пока и этого хватит, а дальше видно будет. Когда я принес скобку на бульвар, встал следующий вопрос: а где мы этот алюминий пока (ближайшие лет двадцать, по нашим прикидкам) станем хранить? Решили, что временно каждый из нас станет складировать добытый металл у себя дома. На том идея и заглохла.
Его отец работал архитектором, это я запомнил сразу. Мишка приносил на бульвар маленькие красивые домики из пластмассы и дерева, их делали у отца на работе для наглядного макетирования. Сыну доставались бракованные, но все равно очень красивые, и потом – таких ни у кого больше не было.
Как большинство детей, Миша собирался идти по родительским стопам и стать архитектором. И стал. Сегодня красивые современные здания, выстроенные по его проектам, можно видеть во многих местах Москвы. Это – Сбербанк на Волгоградском, офисное здание на Большой Грузинской, стоматологическая поликлиника на углу Пречистенки и Остоженки. Михаил строил и реконструировал, а по существу, воссоздавал ряд павильонов в Царицынском парке, в усадьбе Конаково под Один-цовом, по его проекту построен яхт-клуб в Мисхоре. Стоят его здания и за границей, в частности, на Ниагаре. Думаю, Мише повезло больше, чем отцу, – его творческая зрелость пришлась на время, когда наши архитекторы получили возможность строить много и интересно.
Тогда, в пятидесятые, дело обстояло иначе. Любимый вождями архитектурный стиль конца сталинской эпохи узнается сразу по нагромождению украшений:
…дворец <…> розовая гора, украшенная семо и овамо разнообразнейше, – со всякими зодческими эдакостями, штукенциями и финтибрясами: на цоколях – башни, на башнях – зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гирлянд лезет книга – источник знаний, или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск, а на нем плотно стоит, обнявши сноп, плотная гипсовая жена, с пре-светлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком… Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки, и барабаны сыграют что-нибудь государственное, героическое.
По описанию Татьяны Толстой легко «вычислить» высотный дом на площади Восстания.
Но эти дома строились для избранных. Основная же часть москвичей населяла коммуналки, многие жили в подвалах и полуподвалах, а на окраинах – в бараках. Сменивший Сталина Хрущев, великий мечтатель, замахнулся на «решение жилищного вопроса», однако средств, как всегда, не хватало. Чтобы селить людей в отдельных квартирах, жилье требовалось предельно удешевить. Тогда шарахнулись в другую сторону: было издано специальное постановление «О борьбе с архитектурными излишествами», и – пошли расти на московских окраинах (а потом – и по всей стране) районы типовых пятиэтажек с крохотными кухнями и совмещенными санузлами. О них сразу же стали слагать анекдоты. (Армянскому радио задают вопрос: «Какая мебель выпускается для малогабаритных квартир?» Армянское радио отвечает: «Ночные горшки с ручками внутрь».) Однако тогда и эти квартиры считали счастьем: отдельные! Кто не жил в коммуналке, тот не поймет.
Потом эти дома прозовут «хрущобами», они простоят по сорок и более лет (вместо расчетных двадцати пяти), и очередное поколение москвичей будет называть их господней карой. Построенные в Москве за это время оригинальные здания можно пересчитать по памяти. А целое поколение архитекторов пришло и ушло, только мечтая о настоящей работе.
Мой отец, к завитушкам сталинского стиля относившийся отрицательно, постановление 1954 года встретил с ехидством: по нему все, что сверх гладкого параллелепипеда, объявлялось «архитектурными излишествами». Когда у меня, как у всякого ребенка, наступила пора безудержных «зачем», «почему» и «а это что», он нередко, устав отвечать по существу, говорил: «А это – архитектурное излишество». Я обижался, надувал губы и вопросы задавать временно переставал.
Собственно говоря, в то время как раз и начали строить тот город, в котором мы сейчас живем: ведь сегодня жилые районы исконной, старой Москвы, расположенные внутри Садового кольца, составляют лишь около 2 % ее площади.
Однако тогда, в пятидесятые, вопросы переселения нас никак не касались. Жилищные условия нашей квартиры № 10 считались нормальными, да такими они и были.
Когда в 1957 году я, как и положено, пошел в школу и поближе познакомился со многими сверстниками, то утвердился в мысли, что живем мы прекрасно. Ведь в нашей комнате я свободно играл в прятки или салочки, не выходя в коридор, у меня имелись два собственных стола: один – для уроков, на другом я лепил, строгал, пилил – в общем, самовыражался. Многие одноклассники жили значительно хуже – по трое-четверо в крохотных комнатах, некоторые – в подвалах. А уж о еде и говорить нечего: по заведенному дедушкой железному порядку дома меня кормили строго по расписанию, а когда я приходил на Водопьяный, для бабушки Рахили главное счастье состояло в том, чтобы получше накормить дорогого внука. Лет до десяти я никогда не то что не испытывал чувства голода, я не знал даже, как это – хочется есть. И не жалея отдавал школьной медсестре половину своих бутербродов и мандаринок, когда одноклассника Сережу Брит-вина уносили из класса с очередным голодным обмороком.
В школе
Классы нашей 313-й школы, да и других, расположенных неподалеку 312-й, 612-й и 644-й, были переполнены: школьного возраста достигли дети, которых во множестве нарожали в первые послевоенные годы вернувшиеся к нормальной жизни москвичи. Если не ошибаюсь, в 1-м «А» нас училось больше сорока человек, а со второго по четвертый мы ходили во вторую смену. Школа наша, самая обыкновенная, «средняя общеобразовательная трудовая», да других тогда практически и не было, специальные – физико-математические и языковые – начали организовывать, уже когда я учился. На ежегодных групповых фотографиях – ряды стриженных наголо (или наголо с чубчиком) ушастых напуганных мальчиков в серых суконных гимнастерках с ремнями и строгих девочек в коричневых платьицах с фартуками. Конечно, я гордился блестящими школьными гербами на околыше фуражки и пряжке ремня и старательно начищал их ластиком или зубным порошком.
По составу классы были очень пестрыми. У Сережи Артемьева отец работал в «научном институте» (как потом выяснилось, в МИХМ), имея загадочную специальность «доцент», аккуратный Миша Мухетдинов стеснялся акцента мамы-дворничихи и отчима-старьевщика. Вообще, дворников тогда в Москве работало много, соответственно и детей их только в нашем классе училось пять или шесть.
Зоя Ивановна быстро поделила нас на «сильных» и «слабых», рассадила попарно и вменила первым в обязанность следить за поведением вторых. «Сильные», гордые от чувства важности возложенной на них миссии, торопились поскорее написать свое задание: им полагалось еще успеть проверить, как справился с упражнением сосед, и доложить: «Зоиванна, а Кириченко опять „птенчик“ с мягким знаком написала!» Весь класс смотрел на Кириченко с осуждением: вот дура-то! Зоя Ивановна подтверждала правильность общего чувства, попутно разнообразя наш словарный запас – выражение «дубина стоеросовая» и ряд других я впервые услышал от нее в адрес кого-то из одноклассников. Нередко любимая учительница не ограничивалась словами, подкрепляя их подзатыльниками или указкой. При этом она четко знала, кого – можно, а кого – нельзя. Отчетливых признаков этого никто назвать не мог, однако, чувствовали все безошибочно. Сейчас я думаю, что подзатыльники и обидные слова в классе получали от нее те, для кого и дома обычными средствами воспитания являлись порка и крепкие выражения. Как-то, разнимая веселую общую свалку на перемене, Зоя Ивановна хлопнула по затылку меня – несильно, видимо, не разобравшись. Я поразился: меня же нельзя! – повернулся и увидел, как она смертельно испугалась и сразу стала мне что-то объяснять. Я понял – действительно ошиблась, и дома ничего рассказывать не стал. Ведь я, один из самых маленьких в классе, был «сильный». Это в мои обязанности входило сообщать о плохо соображавшем соседе по парте: «Зоиванна, а Барковский…» – и с удовольствием приводить в исполнение ее вердикт под угодливые смешки всего класса: «Тресни эту дубину по башке».
Так мы получали первые уроки морали двоемыслия. Что учитель не может трогать учеников и пальцем, равно как и обзывать их, мы понимали, но ученики-то – плохие, их можно. Немножко. А если рассказать дома, мама и дедушка возмутятся, придут в школу, узнает директор, а этого допустить никак нельзя, потому что Зоя Ивановна – хорошая и потому что мы все ее очень любим. Мы действительно все в классе ее любили, и угнетенные тоже. Да ведь и она нас искренне любила.
И еще одно воспоминание из этого ряда, которое врезалось в память: урок физкультуры, мы проходим прыжки в высоту способом «ножницы». Сначала учимся преодолевать планку именно «ножницами», потом физкультурница Валентина Николаевна начинает переставлять планку, и мы прыгаем на оценку – чем выше, тем лучше отметка. Неспортивные девочки стесняются, хихикают, у них не получается, многие еле-еле могут преодолеть высоту, необходимую для получения тройки, хотя там и прыгать-то почти не надо – перешагнуть. Мальчишки прыгают лучше, планка поднимается выше, прыгающих остается все меньше, на пятерочной высоте ее преодолевают самые высокие и ловкие, прыгучие. А Толя Козлов – феномен. Он небольшого роста, но прыгает выше всех в классе, даже выше рослого Кузнецова, который занимается в легкоатлетической секции. При этом стиль прыжка у него – ни на что не похожий: Толик разбегается, отталкивается и взлетает вверх, поджимая ноги под себя, так что через планку перелетает сгруппировавшись, как бы сидя на корточках. Валентина требует, чтобы он прыгал «ножницами». Козлов честно пытается, но не может. Физкультурница ярится, начинает ругаться, переставляет планку совсем низко: прыгай «ножницами»! Толя перепрыгивает ее с огромным запасом, но опять неправильно. Учительница обзывает его и объявляет: не прыгнешь как надо – будет двойка. Мы шокированы: двоек нет ни у кого, даже самые неуклюжие девчонки одолели троечную высоту. Все наблюдают: без отметки остался один Козлов. Он разбегается, прыгает и, конечно, поджимает ноги. Двойка.
Я потом нередко вспоминал эту сцену, когда читал очерки популярных советских публицистов – Рубинова, Аграновского и других. Они часто писали о снятых с должности, а то и посаженных руководителях производств, которые добивались замечательных результатов методами, недопустимыми с точки зрения советской идеологии. Люди эти действовали чаще всего бескорыстно, искренне радея о деле. Я не удивлялся, читая. Я уже знал: результат сам по себе не важен, а прыгать нужно «ножницами».
Гранит науки
В первом классе мы сначала писали карандашами, а со второй четверти стали осваивать ручки с перьями-вставочками – обязательно номер 86. Вообще разновидностей перьев было множество: помню «Белку», «Союз», «Костер», но все они в случае обнаружения беспощадно изымались из пеналов. Особенно запретной считалась «селедка», ее загнутые кончики не давали возможности осваивать главную премудрость чистописания, по которой каждая буква изображалась двумя чередующимися типами линий – «волосяными» и «с нажимом». Школьные нянечки ходили с эмалированными чайниками и пополняли из них фиолетовыми чернилами фарфоровые чернильницы на партах. Мы пыхтели, чернила брызгали и расплывались на листе «в три косых линии». Больше всего запомнилось постоянное чувство испуга: как бы что-нибудь не сделать не так. Переспрашивать боялись: как это – все поняли, а я нет.
Не знаю, сколько раз в первом классе нам довелось писать текст Горького «Уходим все дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца…», который очень полюбили тогдашние составители упражнений по русскому языку. Мы писали его в диктантах, делали изложение, разбирали предложения по составу. Я не перечитывал «В людях», но эти два абзаца помню чуть ли не наизусть. «.Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга <…>. Изумрудные лягушата прыгают под ногами.» – цитата обрывалась в том месте, где у Горького шли слова бабушки: «Пресвятая богородица, ясный свет земной», – этого по программе не полагалось.
Так вот, когда мы писали этот отрывок под диктовку, Неля Холодкова – городской ребенок, никогда не видавшая клестов и ничего про них не знавшая, написала, как услышала: «скрипят глисты». Глисты – это все мы знали хорошо, а спросить, почему они скрипят, она не решилась.
Дома со мной занимался, в основном, дедушка Александр Львович. Он очень остро переживал мои школьные неудачи.
Сильно расстроил я его, помню, когда испортил домашнее задание на умножение. Требовалось написать столбиком:
3+3=3х2=6
3+3+3=3х3= 9
3+3+3+3=3x4=12 и так далее.
Я же, памятуя, что при перечислении после однородных членов ставятся запятые, писал: 3+3,+3,+3,+3=3х5=15. Запятые я рисовал старательно, они густо расплылись по всей странице. Дедушка сказал, что задание нужно переписать полностью – несколько страниц – адский труд!
Чтобы закончить тему ручек и чистописания, скажу, что писать авторучками нам позволили – выборочно, в награду за хороший почерк – со второго класса. При этом разрешалось писать только авторучками с открытым пером; сейчас их, по-моему, не существует, и я не стану пытаться объяснить незнающим, что это такое: коротко не получится. В любом случае мы долго ходили перемазанные чернилами. Первые шариковые ручки (штучные, привезенные из-за границы) появились, когда мы учились классе в шестом и долге время из школьной жизни категорически изгонялись. Вообще учителя тратили много сил на унификацию. Считалось, что мы должны схоже думать и одинаково выглядеть. Классе в третьем мы писали сочинение по картине Решетникова «Опять двойка», где по заданию полагалось дать прогноз – исправится ли изображенный на ней мальчик. Поскольку борьбу за «подтягивание» плохих учеников мы наблюдали ежедневно, но никогда не видели удачного ее исхода, я и написал, что, на мой взгляд, Саша (так мы назвали двоечника с картины) никогда не исправится. При разборе сочинений Зоя Ивановна укорила меня за пессимизм. Нужно было думать оптимистически. А мысль, что из двоечников в дальнейшем нередко получаются люди вполне хорошие, вообще не рассматривалась как невозможная ересь.
От борьбы же за унификацию внешнюю страдали в большей степени, конечно, девочки. Ходить в школу не в форменной одежде нам разрешили лишь во втором полугодии десятого класса – под тем предлогом, что форма износилась, а на новую у родителей нет денег. Вообще отсутствие денег считалось святым аргументом, его понимали всегда и не очень стеснялись. В имущественном плане мы различались (с сегодняшней точки зрения) совсем немного; все родители жили на зарплаты, и их размеры являлись величинами одного порядка. Интересно другое: в то время еще прослеживалась очевидная связь между успеваемостью, поведением и семейным достатком. Интеллигенция, поставлявшая, естественно, большую часть хороших учеников, в материальном плане жила относительно лучше рабочих, которые зарабатывали больше уборщиц и дворников. Это соотношение начало деформироваться в брежневские времена (тогда и появилась поговорка «Чтобы мало зарабатывать, нужно много учиться») и окончательно разрушилось в после-перестроечные времена. Убеждение, что «новые русские», люди зачастую малообразованные и далеко не образцовые в моральном плане, богаты «несправедливо», уходит корнями в сталинские времена, когда уровень благосостояния всех без исключения определялся Хозяином, зорко следившим, чтобы каждый получал по чину.
У нас же все обстояло по справедливости. Дети инженеров, ученых, педагогов или врачей читали книжки, ходили с родителями в театры, парки культуры и на кружки. Они и учились хорошо, и поведением хлопот не доставляли. Дети средних служащих и рабочих, в большинстве своем, вели себя тоже нормально, но учились чуть хуже. У них и форма чаще была штопаная, и тетрадки – за 13 копеек, а не за 17. Большинство же двоечников и второгодников (я помню таких, которые к четвертому классу еще читали по складам) происходили из самых бедных, одновременно и «неблагополучных» семей. Они имели (ужас!) приводы в милицию, их ловили на мелких кражах в школе. Хотя и исключения из этого правила, конечно, случались.
Пестрым был наш класс и по национальному составу, но в этом, пожалуй, в Москве мало что изменилось за прошедшие полвека. У нас учились русские, украинцы, татары, евреи, армянин, полулатыш и еще несколько детей смешанного происхождения (включая меня). Большинство из нас вопросы этого рода не интересовали вовсе, и я не припомню, чтобы кого-нибудь дразнили, даже в шутку, «армяшкой» или «хохлом». Слово «жид» я узнал, гуляя во дворе, от будущего уголовника с дворовой кличкой Вано (он был русский, и как его звали по-настоящему, я так и не узнал). Тогда я совершенно не почувствовал чего-то обидного, просто Вано, играя, пел песенку:
Жид, жид, жид, жид По веревочке бежит. Веревочка лопнула, Жида прихлопнула.Песенка показалась мне смешной, и я сам стал подпевать. Дома спросил у мамы про незнакомое слово и только тогда понял, что это он меня так дразнил. Но обиды не испытал, так как рос в твердом убеждении, что все народы друг друга любят и дружат между собой, а если кто этого не знает, то не по злобе, а исключительно по темноте. Таким людям нужно объяснить, что они не правы, а в случае злостного упорства обратиться в милицию. И когда одноклассник Васька Щичавин, из «очень плохих учеников», дал мне подзатыльник и наговорил много всякого, вроде того что «мало вас Гитлер вешал», то больше я обиделся на подзатыльник. Все же сказанное я отнес на счет Васькиной необразованности: он ведь и арифметику знал плохо, и читал с трудом. Но через несколько дней во время урока в школу пришла мама Сережки Артемьева. Зоя Ивановна, дав нам какое-то задание, стала разговаривать с ней в коридоре, а потом позвала меня и задала несколько вопросов касательно этого инцидента. Се-режкина мама, русская, как и его отец, была возмущена и взволнована. О происшедшем она узнала из рассказа потрясенного сына и сочла необходимым прийти в школу, чтобы обличить и по возможности искоренить недопустимое явление. Какие это имело последствия (да и имело ли вообще), не помню. Тогда я не придал всей этой истории никакого значения. Лишь много лет спустя я сообразил, что за всю мою жизнь мне всего раза два или три довелось встретить русских людей, так активно – не на словах, а действием – протестовавших против антисемитизма.
Ода магнитофону
Магнитофон появился у нас в декабре 1959 года. До этого мы тоже что-то слушали. Сначала нам вещала черная тарелка трансляции, мама с дедушкой ее обычно выключали, а включала, после их ухода на работу, нянька. Мы слушали вместе – детские сказки с незабываемыми голосами Литвинова и Бабановой из «Оле-Лукойе» или «Городка в табакерке», концерты по заявкам с обязательным (чуть ли не ежедневным) танцем маленьких лебедей, передачи «Учим песню» («Приготовьте бумагу и карандаш. Записывайте первый куплет песни. Записали? А теперь прослушаем первый куплет. Переходим к записи второго куплета.»). Не знаю почему, мне нравились передачи китайского радио – особенно позывные, и объявления (далекий предок современной рекламы). Когда после обеда меня укладывали спать, репродуктор полагалось выключать, но молодая шалая Люба слушала: в это время шла «Литературная передача», Любе нравилось, если читали про любовь.
У папы на Водопьяном был патефон с пластинками. Кто не знает – патефон обходился без электричества: диск вращался пружиной, которую предварительно заводили ручкой, звук тоже получался механическим путем – стальная иголка передавала колебания непосредственно на мембрану. Иголку периодически затачивали на наждачном бруске. Если пружину заводили недостаточно, пластинка, не доиграв до конца, начинала басить, растягивая звуки, а потом замирала на полуслове, уже непонятном. Мне крутили стихи в исполнении Игоря Ильинского – «Дом, который построил Джек», «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» и песни «Про метро» и «Про Наталку», а из взрослого репертуара – «Блоху» в исполнении Шаляпина.
Затем на Банковском появился радиоприемник с зеленым глазом настройки, но его слушали редко. А потом к нему купили приставку – электрический проигрыватель – чудо техники, обладавшее уже двумя скоростями, так что мы могли слушать на нем и недавно изобретенные «долгоиграющие» пластинки. С этого времени музыка в нашей комнате стала играть едва ли не постоянно – Чайковский и Рахманинов в исполнении всесоюзного любимца «Ванечки» Клиберна, скрипичный концерт Мендельсона и эстрадные песенки: Пьеха, Монтан, Бернес. И еще мама познакомилась с каким-то темным дядькой, который появлялся периодически и приносил самодельные пластинки запрещенных по причине идеологической вредности Вертинского и Лещенко. В каких подпольных студиях их записывали, того никто не знал, но материалом служила толстая пленка для рентгеновских снимков – иногда засвеченная ровным тоном, а иногда – использованная, с негативным изображением частей скелета. Эти пластинки тогда называли «Вертинский на костях».
А потом мама услышала Окуджаву. Где и как это произошло впервые, я не знаю, он тогда довольно много выступал по квартирам знакомых и незнакомых людей. Услышанным мама сразу «заболела» и стала горячо пропагандировать его песни среди друзей. Магнитофонов было еще мало, поэтому послушать записи собирались специально, причем часто пришедшие приносили свои пленки и слушали всё по очереди. Вскоре у мамы образовалось несколько бобин Окуджавы, которые она таскала по знакомым, либо к нам приходил кто-нибудь с «Астрой» или «Яузой», и слушали, слушали. Наверно, у нас долго не появилось бы своего магнитофона – он стоил дорого, – но друзья скинулись и подарили маме на день рожденья латвийский «Splays» – самый дешевый из тогдашних магнитофонов, с одной скоростью 19 м/мин. Естественно, это был катушечный магнитофон – кассетные появились много позже. И проникновенный голос человека со странным именем – Булат – вошел в нашу комнату и остался в ней навсегда.
Крутили мы, конечно, и другие записи: одну или две пленки Новеллы Матвеевой, сестер Берри, потом я переписал с пластинки две невероятно модные тогда японские песни – «Каникулы любви» и «Лепестки белых роз». Одолженная у приятеля катушка с ранними песнями Высоцкого нам обоим поначалу не понравилась. Прослушав его «Жил я с матерью и батей», мама нахмурилась и сказала: «Во время войны песни были добрее». Господи, она не слышала теперешних!
Еще мы часто слушали пленку с прекрасными стихами Давида Самойлова в собственном его исполнении (по-моему, он – один из немногих поэтов, превосходно читавших стихи). Но главным оставался Окуджава. Бобин с его голосом становилось больше и больше.
Не знаю, исследовал ли кто-нибудь место музыки в иерархии людских потребностей и ее влияние на формирование личности. Сам я не сомневаюсь, что многое в характере и взглядах человека напрямую связано с количеством и качеством той музыкальной пищи, которую он поглощал в детстве и юности. Вероятно, коммунистические идеологи это хорошо знали (или нутром чувствовали). Кампании гонений на «чуждую» музыку, казавшиеся интеллигентным современникам проявлением глупости и невежества власти, были на самом деле глубоко обоснованы.
Это потом, много лет спустя, когда времена переменились, Окуджаве дали Государственную премию и написали о нем в энциклопедическом словаре:
1924-97, русский поэт. В стихах <…> и прозе <…> – частная человеческая жизнь в ее сложных взаимосвязях с течением истории. В авторских песнях Окуджавы, звучавших нравственным камертоном в эпоху застоя, сквозь романтически преображенные картины будничной жизни, мягкую доверительную интонацию и тонкий лиризм проступает твердость этических ориентиров, безупречная верность высокому духовному выбору.
Недавно Окуджаве поставили памятник на его любимом Арбате, по-моему, неудачный. Еще издали вызывают протест пиджак с чужого плеча и мешковатые неглаженые брюки: Булат Шалвович всегда одевался безукоризненно и элегантно. На лице отсутствует какое-либо выражение – и это у Окуджавы! А бронзовый столик со скамейкой, за который министр Швыдкой, выступая на открытии памятника, недвусмысленно пригласил приходить выпить-закусить, выглядел бы уместно скорее у Венички Ерофеева. Двор, арбатский дворик, о котором пел Окуждава, это не место, где играют в домино и выпивают (что само по себе, может быть, и неплохо), это – пространство, где живет душа.
Тогда же, в пятидесятые-шестидесятые, с Окуджавой боролись. Его поэзия, конечно, властям очень не нравилась – именно «твердостью этических ориентиров и безупречной верностью высокому духовному выбору», ибо это был другой выбор.
Магнитофоны открыли форточку на свободу. С ними кончилась монополия государства на музыку. Для кого-то самой важной стала возможность слушать «Битлз», для других – Окуджаву, для третьих – Армстронга. Идеологические стены в конце концов пали под действием многих сил, но едва ли не главными были Самиздат и магнитофоны. Самый запретный из тогдашних «магнитофонных» поэтов с гитарой – Галич – в песне «Мы не хуже Горация» пел:
Их имен с эстрад не рассиропили, В супер их не тискали облаточный, «Эрика» берет четыре копии, Вот и все, и этого достаточно! Ни партера нет, ни лож, ни яруса, Клака не безумствует припадочно, Есть магнитофон системы «Яуза», Вот и все, и этого достаточно!Но если Самиздат сегодня – предмет академических исследований и множества диссертаций, то роль магнитофона как проводника свободы в России, по-моему, еще недооценена. Ведь Самиздат читала наиболее продвинутая часть интеллигенции, магнитофоны же слушали все. При этом многие часто и не сознавали, что, послушав безобидные, в общем-то, песни тех же «Битлз», люди становились потерянными для главной миссии, определенной нам государством, – строительства коммунизма. Они даже могли поехать на какую-нибудь комсомольскую стройку, все равно – отпадение их от официальной идеологии свершилось, хотя понимание этого факта могло прийти много позже. Но, в конце концов, – теперь мы знаем, что случилось в конце концов. А вначале были магнитофоны.
Песня, родившаяся у нас
Поначалу маминого увлечения Окуджавой дедушка не разделил. Скорее всего, ему, как и многим, помешала гитара: тогда, в середине пятидесятых, она (обыкновенно с бантом) входила в клишированный набор мещанских признаков. Повальное увлечение молодежи этим инструментом как раз и началось с песен Окуджавы. Маме, однако, хотелось поделиться радостью открытия. Она, запустив пленку, часто звала дедушку, чтобы дать послушать что-нибудь, особо нравившееся ей на тот момент. Дедушка честно, внимательно выслушивал, виновато улыбался и говорил: «Извини. Это – не мое».
Но пленок становилось все больше, мамины друзья и подруги собирались у нас, чтобы послушать Окуджаву, все чаще. Через какое-то время дедушка стал подсаживаться и, подперев голову, молча слушал. А потом нередко вечером, без гостей, просил маму: «Поставь Окуджаву», – пользоваться магнитофоном он так и не научился.
Мне было легче. Воспитанный в детстве на очень хороших детских стихах (а я знал их множество и часто декламировал), к этому времени я как раз дорос до взрослых, но читать их еще не начал. Песни Окуджавы попали в моей душе на готовую почву. Долгое время я слушал и пел их, не задумываясь о своем к ним отношении. Потом, повзрослев, почувствовал, что они стали частью прожитой мной жизни, моего существа. И сегодня я уже не знаю, почему сердце всегда отзывается на его голос: в нем ли самом дело, или в том, что он – оттуда, куда нет возврата, где остались дедушка с мамой. Но звучали ведь там и другие голоса.
Сегодня, когда для того, чтобы слушать музыку, даже не нужно специальной аппаратуры – компьютеры стоят практически в каждом помещении, поставил диск и занимайся своим делом, – я сделал в отношении пения Окуджавы еще одно открытие. Случилось это в море, в долгом – более четырех месяцев – плавании. Компьютер в каюте я выключал перед сном, а вставая, сразу включал. Иногда, уходя, оставлял музыку играть, иногда – нет. Но когда я находился в каюте и не спал, что-нибудь играло постоянно – в море, в состоянии, именуемом по-научному «острый сенсорный голод», это действительно нужно. Дисков я взял с собой около трех десятков, все – любимые. Когда укладывался, Таня с сомнением покачала головой: «Куда столько?» Но я-то знал, что в море, в условиях сенсорного голода счет другой. Уже через два месяца, глядя на полочку и выбирая, что бы поставить, я понял, что тридцать – это очень мало. Эту слушал совсем недавно, эту – тоже. Но как-то, однажды, вдруг сообразил, что не менял диск уже три дня. Все это время в каюте звучал его голос, запись в формате МР3, часов на пять-шесть, она играла до конца и начинала сначала. И это был, пожалуй, единственный диск, который не хотелось менять.
А тогда, в конце пятидесятых – начале шестидесятых, Окуджава дважды пел у нас. Близкого знакомства не было, но в ту пору молодой Булат часто посещал дома, где слушали и записывали его песни. Приходил он без гитары. Готовясь к его приходу, мама брала ее у соседа Вити Юдаева. Гитара оказалась неисправной: гриф шатался. Помню, я выпилил лобзиком небольшую фанерку, которую подсунули под гриф. Но видел гостей (Окуджава приходил с женой) лишь мельком, в начале вечера и перед уходом, а песни слушал из другой комнаты – к тому времени наши сорок пять метров уже поделили перегородкой. Тем не менее, после первого их визита хорошо знакомый мне к тому времени голос обрел симпатичное лицо с черным ежиком и щеточкой усов.
Булат Шалвович пел, сидя в нашем старом кожаном кресле. Во второй его приход, когда все, что хотели, уже записали и магнитофон отставили, Окуджава начал брать аккорды, придумывая какую-то мелодию. Подбирая ее, он сказал, что уже несколько дней как сочинил слова, но песни нет, а сейчас, кажется, что-то выстраивается. Еще минут через десять попросил включить магнитофон – записать, что получилось. И запел:
Когда метель кричит как зверь - Протяжно и сердито — Не запирайте вашу дверь, Пусть будет дверь открыта.Тогда эта песня прозвучала впервые.
Не читал, но знаю
Выйдя на пенсию, дедушка не затосковал без работы, как многие. Человек широких интересов, он знал, чем занять свободное время. Однако сил было мало. Кроме того, в отсутствие домработницы все хлопоты по хозяйству он взял на себя.
Обычно в магазины мы ходили вместе – таким образом дедушка меня выгуливал. Большую часть его рассказов о старине я услышал именно во время таких походов – в овощной или «генеральский» «Гастроном» на Кировской, а то – в «Кулинарию» на Покровке. Что «Гастроном» на углу Кировской и Кривоколенного – «генеральский», тоже он мне рассказал, там во время войны отоваривались жившие в Москве высокие армейские чины. Гуляя с дедушкой, я тосковал: мне хотелось бегать и играть со сверстниками.
А в главке вскоре почувствовали в нем нужду. У нас дома появился его директор, Александр Васильевич Кривенко, высокий, совершенно лысый человек с косматыми бровями и тихим сиплым голосом. Он долго говорил с дедушкой, и интонации его были просящими и извиняющимися. Это теперь деда оформили бы консультантом, он сидел бы дома, писал бумаги и получал за свою работу что-нибудь к пенсии. Законы пятидесятых годов этого не допускали, а о том, чтобы их нарушить или как-нибудь словчить, ни дед, ни его бывший начальник и помыслить не могли. Так что дедушка стал помогать Александру Васильевичу бескорыстно. Тогда в этом никто не находил ничего странного.
Директор, однако, чувствовал неловкость. И, чтобы отблагодарить дедушку за помощь, стал в каждый свой приход одаривать меня шоколадками.
В то время это была несомненная роскошь. Стограммовые плитки шоколада продавались не во всех магазинах и стоили дорого. Просто так их не покупали, их дарили детям, когда приходили в гости (может быть, еще девушкам, но в восемь лет я этого точно не знал). Вскоре я перепробовал все существовавшие тогда сорта и уже спрашивал, когда в следующий раз придет Александр Васильевич?
Он появлялся, извлекал из потертого портфеля очередную плитку, дедушка, смущенно улыбаясь, говорил: «Ну напрасно вы, Александр Васильевич, это делаете, ей-богу, напрасно». Директор тоже смущался, бормотал: «Да ничего. ерунда какая. ребенку. пусть, пусть.» Подаренная шоколадка убиралась в шкаф. Больше, чем по одной полоске после обеда и ужина, мне не полагалось, а самочинно на лишнюю порцию я не посягнул никогда. Шоколад не переводился у нас долго, наверно – целый год. А потом в главке приспособились обходиться без дедушки. Кривенко приходил еще несколько раз, уже просто в гости, но шоколадки все равно приносил.
Я не помню точно, когда именно уехали с Банковского дядя Миша и тетя Юля Штихи. Где-то в конце пятидесятых в их комнате ненадолго поселился писатель Аркадий Васильев с семьей. Его дочь Груша была младше меня года на три или около того, так что я в свои семь-восемь никакого интереса к ней не проявлял. Потом Васильевы уехали, и их место заняла пожилая чета Штейнгардтов. А Груша спустя много лет стала успешным автором детективов, ее псевдоним – Дарья Донцова.
Миша с Юлей переехали от нас в большой «правдин-ский» дом на углу Беговой и Второго Боткинского проезда. Оба они к этому времени работали в «Крокодиле», главном советском сатирическом журнале. Благодаря их частым приходам у нас не переводились его номера, правда, внимания к ним ни дедушка, ни мама не проявляли. Мне же изучать «Крокодилы» нравилось. Я быстро научился различать рисунки Битного, Каневского, Ефимова и Кукрыниксов. Фельетоны читал редко, а самую смешную рубрику – «Нарочно не придумаешь» – всегда. Собственно, кроме этой половины странички по-настоящему смешного там ничего не печатали.
Поскольку газет я еще не читал, а телевизора у нас не было, именно через «Крокодил» я, пусть еще неосознанно, приобщался к текущей политике, хотя бы на детском уровне: плохие – хорошие, наши – не наши. Именно так, по-детски, я и воспринял всю шумиху, устроенную осенью 1958 года вокруг Пастернака.
Как все дети, я строил свои представления о мире по обрывкам разговоров взрослых. Дедушка дружил с Пастернаком, а с плохими людьми он дружить не мог. Происходящее живо обсуждалось окружавшими меня взрослыми, при этом я не запомнил никого, кто высказался бы против Бориса Леонидовича. Поэтому для меня и вопроса такого не существовало – кто прав. Именно с этого времени я усвоил, что все «наши» официальную точку зрения не разделяют. Нет, ни тогда, ни впоследствии среди Штихов и Смолицких не было активных диссидентов, они не протестовали. Но и не соглашались.
Листая очередной «Крокодил», я натолкнулся на карикатуру Бориса Ефимова. Там матерый капиталист с сигарой, сидящий в кресле с надписью «главный редактор», указывал тщедушному сотруднику на толстую книгу, лежащую перед ним на столе, и говорил: «Учитесь, как нужно работать». В заглавии книги стояло – «Доктор Живаго». Карикатура больно задела дедушку, он даже специально показал ее маме. Мама, впрочем, отнеслась к ней спокойно, сказав что-то вроде: «А чего ты хотел? Не обращай внимания».
Он же переживал кампанию травли, развязанную против Пастернака, очень остро. Через много лет я наткнулся в его бумагах на папку пожелтевших газетных вырезок. Времена тогда еще не сильно изменились, и я не удивился, увидев заголовки и прочитав содержание заметок. «Вызов всем честным людям», «Пасквилянт», «Позорный поступок», «Оплаченная клевета», «От эстетства – к моральному падению». Машинист экскаватора (глас народа!) Филипп Васильцов, сравнивая Пастернака с лягушкой, недовольно квакающей в болоте, которое он, строитель «великого сооружения на Волге», потревожил, заканчивал письмо словами: «Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше». Фамилию его никто не запомнил (и правильно), но оборот «Не читал, но знаю» надолго стал притчей во языцех.
Хуже обстояло дело с писательской братией, которая – по большей части – Пастернака как-никак читала. Резолюция общего собрания писателей гор. Москвы, состоявшегося 31 октября 1958 года, гласила:
…С негодованием и гневом мы узнали о позорных для советского писателя действиях Б. Пастернака.
Что делать Пастернаку в пределах Советской страны? Кому он нужен, чьи мысли он выражает?
Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным?<…> Собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Б. Пастернака советского гражданства.
Ни один честный человек, ни один писатель – все, кому дороги идеалы прогресса и мира, никогда не подадут ему руки, как человеку, предавшему Родину и ее народ!
К тому времени, когда я все это прочитал, стихотворение Галича «Памяти Пастернака» я знал почти наизусть. И я сразу вспомнил описание этого собрания:
«Мело, мело по всей земле, во все пределы, Свеча горела на столе, свеча горела…» Нет, никакая не свеча, Горела люстра! Очки на морде палача Сверкали шустро! А зал зевал, а зал скучал - Мели, Емеля! Ведь не в тюрьму и не в Сучан, Не к высшей мере! И не к терновому венцу Колесованьем, А как поленом по лицу, Голосованьем! И кто-то спьяну вопрошал: «За что? Кого там?» И кто-то жрал, и кто-то ржал Над анекдотом. Мы не забудем этот смех И эту скуку! Мы поименно вспомним тех, Кто поднял руку!Андрей Вознесенский позже вспоминал, сколько писателей, присутствовавших на том собрании, потом говорили ему с глазу на глаз, что на время голосования вышли из зала в уборную. И он зримо представил себе огромную очередь: считаться бывшими в уборной впоследствии хотели очень многие.
По самому роду труда писателю всегда – вольно или невольно – присущ взгляд «с точки зрения вечности» и соответствующая оценка написанного и содеянного. И меня давно интересует вопрос – сколько из писателей, присутствовавших 31 октября на злополучном собрании, осознавали, что именно в тот вечер многие из них совершили поступок, которым (и только им) будут они помянуты в истории русской словесности?
Детство – это место, где никто не умирает
До двенадцати лет судьба и взрослые берегли меня от вида смерти и присутствия на похоронах. Первой из близких умерла Нюта, Анна Львовна Розова, дедушкина старшая сестра. Мне было тогда восемь лет.
Маленьким я знал о Нюте, что она, как и ее муж, дядя Коля, – музыканты. Уже не знаю, кто, когда и по какой логике в сплошь музыкальной семье Штихов меня, единственного на всех внука, решил оставить без музыкального образования. Из-за этого все, связанное с процессом игры на каком-нибудь инструменте, как и чтение нот, казалось мне неким высшим даром, простым смертным недоступным.
Бога нет, так верили практически все окружавшие меня взрослые, этому же и меня учили с детства. Но у них была своя религия – Искусство. По этой вере именно оно возвышало и очищало души, в существовании которых никто из них не сомневался. Думаю, не ошибусь, если скажу, что, начисто лишенные религиозности в ее обычном понимании, именно через отношение к искусству они находились ближе к понятию «Бог», чем многие и многие не сомневающиеся в своей вере люди. Я уже не говорю о твердости моральных принципов и отчетливости понимания категорий добра и зла.
Но если Искусство – эквивалент Бога, Музыка – одна из ипостасей Его, то Консерватория – Храм Его. К первому ее посещению меня готовили, как к первому причастию. Играла гастролировавшая в Москве австрийская пианистка Ани Фишер. Великая – так понимал я, потому что люди, под этот калибр не подходящие, играют в каких-нибудь других местах.
Да и зачем звать музыкантов из-за границы, если они не великие, у нас ведь и своих много. К тому же я сам ставил пластинку, там так и значилось: играет Ани Фишер. Это отметало остатки сомнений. И когда после концерта мама сказала, что нужно подождать Нюту, которая пошла с букетом за кулисы к Фишер, я спросил, почему она не поднесла ей цветы из зала, как все, в конце концерта. Мама ответила, что Нюта и Ани – подруги юности, они вместе учились и уже много лет дружат и переписываются. Я был потрясен.
Советский ребенок, дитя эпохи железного занавеса, я не представлял себе возможности лишенных государственной официальности отношений с людьми из-за границы. То есть, я знал, что это изредка случалось между великими: Горький, например, дружил с Ролланом. Но Нюта!
Наша Нюта с ее домашними дряблыми щечками, Нюта, как все, носившая из кухни по коридору в самую дальнюю комнату квартиры старенькие закопченные чайник и сковородку, прихватив горячие ручки потемневшими тряпками, и громким голосом напоминавшая нерадивому супругу, чтобы он не забыл вымыть пол в кухне и вынести помойные ведра, когда по графику подходила их очередь! Оказывается, все время, что я ее знал, она вела двойную жизнь, она дружила на равных с иностранным полубожеством, чье имя стоит на пластинках и афишах консерватории, да еще и дружила без переводчика!
В маленькую длинную комнату, где она жила с дядей Колей, я приходил нечасто, «когда ребенка не на кого было оставить». Там стоял рояль, на стене висели старые гравированные портреты Бетховена и Моцарта и какой-то, вероятно, итальянский, вид. Еще один Бетховен – гипсовый слепок посмертной маски – стоял на этажерке с нотами. Вообще в комнате двух старых бездетных музыкантов ноты лежали повсюду. Кроме музыкальных инструментов, интереса к которым я не проявлял, нот и портретов, помню огромный – со столовую тарелку – цейсов-ский барометр. Непонятные надписи черными и золотыми готическими буквами выглядели загадочно. О том, что предвещалсей прибор, периодически справлялась вся квартира.
Нюта проболела перед смертью недолго. Дедушка и мама часто ходили в ее комнату, приезжал с Беговой расстроенный и озабоченный Миша. Как-то, проходя по коридору, я увидел дядю Колю, несущего странные черные подушки с трубочками. Мама объяснила мне, что в них – кислород. А потом меня на несколько дней отправили на Водопьяный. Там я и узнал, что Нюта умерла. Случилось это зимой, может быть, поэтому в памяти моей она осталась в черной шубе с той самой лисой, меховой шляпке и высоких ботиках – Дама. После ее смерти все наши еще больше отдалились от Николая.
Когда 30 мая 1960 года умер Борис Леонидович Пастернак, я воспринял его смерть только как дедушкину потерю. Об этих похоронах я много слышал из разговоров взрослых. В детскую память запали два факта – необыкновенное многолюдство и неуклюжие действия властей: объявления с указанием неправильного адреса похорон и присутствие на них большого количества гебешников. Когда много позже я прочитал их описание у Александра Гладкова и у Лидии Чуковской, то поразился повторяемости истории: так же (правда, успешнее) обманывали людей с местом отпевания Пушкина, когда в объявлениях обозначили Исаакиевский собор, а тело ночью тайно поставили в Конюшенной церкви. Потом, уже на моей взрослой памяти, когда многие тысячи людей пришли прощаться с Высоцким, к очереди миролюбиво, правда, но безуспешно обращался милицейский генерал, увещевая разойтись. Один мой товарищ, оказавшийся рядом, рассказывал, что высокий чин говорил: «Граждане, расходитесь, зачем вы сюда пришли?» – а из очереди ему дерзко ответил невидимый голос: «Мы пришли хоронить великого русского поэта, а вот ты зачем сюда пришел?» Вскоре за публичный показ на видео французского, кажется, документального фильма «Похороны Владимира Высоцкого» получил срок мой сосед, метрдотель подмосковного ресторана.
Я много лет пытался понять – чего они всегда боялись? Ведь похороны же. Ну, пришли люди, простились, разошлись. Сам факт противодействия изъявлению обычных человеческих чувств красноречивее любых многолюдных сборищ. Ведь не на антиправительственную демонстрацию они пришли, а на похороны! Но власти всегда сами делали так, что выходило – все-таки на демонстрацию.
Потом я нашел разгадку. Собственно, они сами ее дали. В девятнадцатом веке все было еще намного простодушнее, даже козни тайной полиции. В отчете о действиях корпуса жандармов за 1837 год скрытые причины высказаны с подкупающей простотой:
Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти <…> Сообразно сим двум свойствам Пушкина, образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества. И те, и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина; собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец, дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроблюдьми.<…> Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В сем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, – высшее наблюдение признало своею обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено.
Но все это я узнал и понял много лет спустя.
Потом, весной шестьдесят первого, умер дедушка Григорий Рувимович Смолицкий. Меня тогда не было в Москве: после перенесенного ревмокардита я три месяца жил и учился в подмосковном детском санатории «Красная Пахра». На следующий день после похорон туда приехали папа и бабушка, но ничего не сказали, просто погуляли со мной по лесу, поговорили и уехали. И уж потом, когда по окончании срока путевки отец забрал меня и мы ехали в автобусе домой, он сказал:
«А знаешь, Сережа, какое у нас горе? Умер дедушка Гриша». Я ничего не ответил и всю обратную дорогу думал: ведь нужно что-то сказать. Но в одиннадцать лет так ничего и не придумал.
А зимой 1961-62 попал в больницу дедушка Александр Львович. Я не помню теперь, с чем именно его тогда положили.
Хворей у него на моей памяти всегда было предостаточно. Больница располагалась рядом, в Большом Комсомольском (Злато-устинском) переулке. Мама ходила туда каждый день.
В то время я много и с удовольствием мастерил. Дома у нас стояло несколько банок любимых маминых камушков – коктебельской гальки. Как-то я попробовал сделать из гладких овальных окатышей скарабеев, получилось похоже. Двух, черного и белого, я передал маме для дедушки. Он всегда поощрял мои творческие успехи – будь то фигурки из пластилина или дерева, школьные сочинения – его поэтическая натура жаждала художественной искры во внуке. Каменным скарабеям он очень обрадовался, это выглядело уже серьезнее, чем чисто детское «рукомесло». Они поселились на дедушкиной больничной тумбочке.
Раз или два, когда он чувствовал себя получше, мы с мамой посещали его вместе в большой – человек на десять – палате. Я скучал, не очень понимая, зачем мы идем вдвоем: отнести передачу и рассказать последние новости мама могла и без меня.
Зато ее идею – пойти под его окна в новогоднюю ночь – я встретил с воодушевлением. Предприятие было необычным, а потому – интересным. Мы тогда приготовили праздничный ужин, поставили свечки (мама их очень полюбила задолго до того, как эта мода пришла к нам из западного кино). В половине двенадцатого, прихватив бутылку сухого, штопор и две рюмки, отправились к больнице.
Помню, как удивил меня вид совершенно безлюдной заснеженной Москвы. За все время нашей вылазки по Кировской проехали от силы две-три машины. Окна светились, было очень тихо, и в двенадцать мы отчетливо услышали бой курантов на Красной площади.
В тот момент мы с мамой стояли на темном больничном дворе рядом со сделанной нами же оптимистической надписью «С Новым годом» на свежевыпавшем снегу. Пока мы чокались, пили, били рюмки и аккуратно собирали осколки, дедушка смотрел на нас, слабо и не всегда впопад улыбался и делал рукой прощальные жесты, как бы уговаривая идти домой и не мерзнуть. На следующий вечер, когда мама пришла в больницу, он рассказал, что сослепу совсем не разглядел через заиндевевшие стекла, что мы делали под его окнами.
Дедушка выздоровел тогда и вернулся домой. Мы еще почти год жили по-прежнему.
Следующее лето стало первым, когда Смолицкие не смогли снять дачу. Последние годы дедушка Гриша арендовал полдома в поселке Верховного суда под Ашукинской, там я и жил с бабушкой и сестрой – в 1957-м отец женился во второй раз, и у них с Галиной Петровной родилась Оля. В 61-м, в год дедушкиной смерти, дачу его семье еще дали, но в 62-м – отказали. Пятилетнюю сестру отправили в Агропустынь, село Рязанской области, где жила другая ее бабушка, сельская учительница Пелагея Емельяновна. (Кстати, странное название села не имеет ничего общего с агрономией: расположенный неподалеку монастырь – пустынь – назван по имени некой княгини Аграфены, бывшей его насельницы.) Меня отправили на первую смену в пионерский лагерь. Вернувшись в Москву, я заболел корью и весь июль провел дома. А на август мама взяла отпуск, и мы уехали на дачу ее подруги, Нины Егоровой. Время шло весело и здорово, а потом мама поехала в Москву на пару дней – проведать дедушку – и застряла. Нина все гадала на картах – что случилось? Мама вернулась дней через пять. Оказалось, дедушка угодил в больницу с воспалением простаты. Мы уехали с дачи домой.
Дедушку оперировали, выписали, он вернулся и поднялся по старой лестнице на второй этаж. Я встречал его из больницы. Помню, как на площадку между этажами падал через маленькое окошко солнечный свет – редкое зрелище на нашей лестнице. Больше подняться по ней ему уже не довелось. Вскоре, через неделю – полторы, болезнь обострилась, дедушку опять увезли в больницу. Там Александр Львович Штих и умер первого октября 1962 года.
Дедушкины похороны стали первыми в моей жизни. Главное, что я твердил себе, до того как увидел его в гробу, – не испугаться. День выдался очень солнечный. Народа собралось много, потом за всю жизнь я ни разу не видел, чтобы столько людей пришли хоронить семидесятилетнего пенсионера. Мама была, как каменная. Устраивать поминки она не хотела, она их всю жизнь не любила. Домой из крематория мы приехали вдвоем. Говорить она тоже ни с кем ни о чем не могла. Мама затеяла большую стирку и перестирала все белье, накопившееся за последнее суматошное время.
Бедность – не порок
Едва ли не главной проблемой нашего с мамой существования после дедушкиной смерти стало безденежье. Пока он, аккуратный и бережливый, вел наше хозяйство, сводя баланс и откладывая каждую копейку, концы с концами сходились без видимого напряжения. Через несколько дней после похорон мама, разбирая дедовы бумаги, наткнулась на сберегательную книжку с прикрепленной к ней запиской. Дедушка, пунктуальный во всем, сообщал адрес сберкассы и то, что вклад завещан маме. Сумма была некруглая, меньше сотни. Но маму поразил не размер, а «финансовая история» вклада: на нескольких страничках, цифра за цифрой, ежемесячно дедушка вносил остававшиеся от хозяйства деньги – когда по три рубля, когда и по полтора. Иногда он не укладывался в бюджет, появлялась внеочередная запись и сумма чуть уменьшалась. Сопоставив недалекие по времени числа, мама припомнила поводы, заставившие дедушку снимать деньги. И вдруг громко расплакалась. Я испугался: мама была сильная, до этого мне не приходилось видеть ее слез. В оставшиеся 14 лет плакать ей приходилось нередко, не в последнюю очередь – из-за меня.
Без дедушки у мамы началась трудная жизнь. Тогда все жили от зарплаты до зарплаты, вопрос заключался в ее размере и умении в этот размер вписаться. Против мамы работали оба фактора: ставка литературного редактора всесоюзного журнала никак не соответствовала высокому статусу заведения, а тратить деньги расчетливо она так и не научилась. Натура у нее была для этого слишком широкая. Конечно, отец помогал нам, но и он зарабатывал немного.
При любой возможности мама брала дополнительную работу, но такое случалось редко. Периодически писала рецензии на присланные в журнал пьесы, так называемый «самотек». На такие рецензии существовала твердая такса, их сочиняли по очереди все сотрудники. Заработок этот считался честным, но муторным. Готовых штампов мама не признавала, и каждый отзыв писала, вникая в очередной рецензируемый опус, аргументируя и взвешенно обосновывая свои тезисы.
Помню, несколько пьес я как-то прочел. Тогда же мне в полной мере стала понятна трудность маминой задачи: написать про присланное «ерунда» считалось невозможным, хотя, по сути, кроме этого и писать-то было нечего. Так вышло, что все попавшиеся мне пьесы повествовали о предметах, явно знакомых авторам понаслышке. В одной, например, действие происходило в американском (конечно же) суде. Пристав вызывал по очереди действующих лиц к присяге. У каждого он спрашивал полное имя и выслушивал ответы:
– Фамилия?
– Митчелл.
– Имя?
– Сэмюэль.
– Отчество?
– Фрэнсис.
Естественно, время от времени, добывая деньги, мама что-то продавала. Но дорогих вещей в нашей семье не было. За сто пятьдесят рублей ушла коллекция марок, которую мы с ней вместе любовно приводили в порядок несколько лет, ее начинал собирать еще дедушка. Мучаясь и терзаясь, мама продавала книги, в том числе некоторые – с автографами. Потом не могла себе этого простить.
Так ушла из нашего дома книжка, подаренная дедушке Борисом Леонидовичем. Эту книжку – «Ремесло» – надписала Пастернаку Марина Цветаева:
Моему заочному другу – заоблачному брату Борису Пастернаку Марина Цветаева
Прага, 9-го нов. марта 1923 г.
Борис Леонидович, отдавая раритетный томик, сказал, что у дедушки он будет целее. Дедушка сберег, мама не смогла.
Правда, попал он в хорошие руки. Узнав, что я собираю материалы для книги, теперешний хозяин «Ремесла», Лев Михайлович Турчинский, любезно предоставил мне возможность скопировать автограф.
Как могла, мама старалась воспринимать нехватку денег с юмором. Однажды у меня заболело ухо, понадобился водочный компресс. Водки дома мы, естественно, не держали. Мама отправилась в «Гастроном» на Кировской. «Чекушек» за рубль сорок девять не продавалось, тратить два восемьдесят семь на бутылку она сочла непозволительным расточительством. Мама подошла к алкашам, соображавшим по рублю на троих, и предложила: она идет в долю, платит рубль, берет меньше трети, но с бутылкой. Дядьки очень обрадовались, даже нашли чистую бумажку, чтобы заткнуть горлышко. Потом мама очень веселилась, вспоминая, как «соображала на троих» у магазина, смаковала подробности, как мужики, отхлебывая по очереди из горлышка, честно спрашивали ее: не хватит ли? А она щедро разрешала выпить еще по глотку. Но почему-то сейчас, когда я это вспоминаю, мне совсем не хочется смеяться.
Когда вовсе прижимало, а до зарплаты оставались день-два, мама звонила на Беговую и мы шли ужинать в гости к Мише с Юлей. Обычно перед нашим уходом Миша вытаскивал рубль и говорил: «Я вас прошу, не откажите, прокатитесь домой на такси». Рубль мама брала, а домой мы ехали на двух троллейбусах. И я всегда сердился. Не из-за такси, нет. Просто это было нечестно, что я безжалостно ей и высказывал.
Про Ботинки
Хочу сделать маленькое отступление – обувное. Сколько пар снашивает среднестатистический россиянин за свою среднестатистическую жизнь? Недавно мелькнула цифра: сегодня у нас приходится две пары в год на человека. Это что же, выходит сто – сто шестьдесят пар за жизнь? Неужто так много? Наверно, все-таки меньше, ведь это сейчас – две пары в год. А в пяти– шестидесятые покупка обуви – это же было целое дело. Готовились к нему заранее, а выбирать практически не приходилось – не из чего. Ну, иногда еще «доставали».
Совсем маленьким я мечтал о взрослых ботинках – как у дедушки: выше щиколотки, с пришитым носком и чтоб шнуровать не в дырочки, а за крючки. Когда мама узнала о моем желании, она долго смеялась: дед покупал такие по причине их крайней дешевизны. Носил подолгу, потому что отличался немыслимой аккуратностью, да и ходил не много и осторожно. Таких ботинок у меня никогда не было: когда я подрос, их уже никто не носил. Сколько же пар я сносил за полвека? Пытаюсь вспомнить, что таскал на ногах пять, десять, двадцать лет назад. Как там у моего любимого Воннегута:
Когда я был моложе – две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад… Словом, когда я был гораздо моложе…
.Стало быть, когда я был гораздо моложе: пар эдак на сорок – пятьдесят, мне купили те «выходные» полуботинки, первые взрослые в моей жизни. Темно-коричневые, с едва заметным вишневым оттенком, без шнурков, со вшитым верхом.
Мало того что они мне нравились, я сам себе в них нравился, что случалось не так уж часто. Размер был маленький, тридцать восьмой, наверно. Надел я их всего несколько раз: нога выросла. В тот, 1965-й, я рос очень быстро: за год сменил три размера штанов и обуви, ввергнув маму в ряд незапланированных трат.
Дядя Миша, используя популярную тогда кукурузную терминологию, говорил: «Сергей пошел тянуться в трубку».
Ему мама и отдала мои «вишневые». Штиховская порода – мелкорослая, Миша, как и дедушка, носил маленький размер.
Когда недавно, в 1999-м, у моего младшего сына, тоже Михаила, оторвался каблук, мы сели в машину и поехали покупать новые ботинки в обувной центр на Автозаводской. Отправились мы туда скорее из любопытства: новый магазин, все время мелькает в рекламе, да и старший Павел авторитетно сказал, что там есть все что надо и недорого. Мишка точно знал, чего именно он хочет: полуботинки с квадратными носами, из неблестящей кожи – «нубук», так, кажется. Мы ходили по огромному двухэтажному зданию от прилавка к прилавку, и везде стояла обувь – ботинки, туфли, сапоги. Похожими на прежних остались только продавцы – как и в советское время, они читали, трепались и всем своим видом демонстрировали презрение к нам, простым смертным.
Меня, выросшего в совсем другую эпоху, как всегда в последнее время, мучил вопрос: неужели это все купят? Я понимал, что купят, иначе бы не продавали, но представить себе не мог. И постоянно возникали в памяти одни мамины туфли – итальянские узконосые на шпильках, цвета орехового дерева, доставшиеся ей как-то по счастливому случаю (кто-то кому-то привез из-за границы, а они не подошли). Мама, тогда уже немолодая женщина, купив их, несколько дней держала на журнальном столике, чтобы, проснувшись утром или придя с работы вечером, увидеть сразу – так они ей душу грели. Потом грустно сказала мне: «Ты знаешь, а я вдруг поняла: у меня за всю жизнь первый раз такие туфли, какие хотелось». Надевала она их редко, по особо торжественным случаям, а в остальное время хранила в коробке, завернутыми в папиросную бумагу. Когда через несколько лет шпильки решительно вышли из моды, туфли были еще совсем новые.
И еще, вспоминая маму, я не мог отделаться от мысли, что за один тот день в одном торговом центре я видел больше обуви, чем она за всю свою жизнь – не в переносном, а в прямом смысле.
Ну, а ботинки, которые хотелось сыну, он нашел почти сразу, но мы еще походили по залам, прицениваясь и сравнивая. Я уверен, что это событие не отложится в его памяти надолго. Для него покупка обуви (причем такой, как хочется) – более чем рядовой факт.
Короткая жизнь моей мамы – вся целиком – прошла в советские годы. Когда она умерла, казалось, что коммунистическая власть будет всегда, можно ожидать лишь некоторого ее косметического улучшения. Нынче все – так быстро! – забыли про очереди, в которых простаивали едва ли не четверть жизни перед пустыми прилавками. Про то, какой удачей считали найти, например, туалетную бумагу – и чтобы народу немного, минут на двадцать пять – тридцать, тогда можно взять полагающиеся «пять рулонов в одни руки» и встать еще раз, а то и два. А мебель или автопокрышки, в очереди за которыми стояли по несколько лет? Отмечаться три раза в неделю, с утра, два раза не приехал на перекличку – потерял место. Ну, положим, эти очереди мама знала только понаслышке: перед ней с ее вечной проблемой – как дожить до получки – вопрос покупки мебели так и не встал за всю жизнь. Не говоря уже об автопокрышках.
Главной отдушиной, главным удовольствием в ее жизни оставались книги. Читала мама много, с удовольствием, что-то покупала, что-то брала у друзей. Последние годы особенно увлекалась книгами о природе и путешествиях – Даррелла, Гржимека и ставших неугодными после событий 1968 года Ганзелки и Зикмуда. Досконально изучив города и экзотическую природу дальних стран по книжным описаниям и передачам Шнейдерова и Сенкевича, мама побывала за границей только раз, командированная на неделю в Венгрию. И считала это огромной удачей.
До моего первого заграничного путешествия (в Польшу) она не дожила пять лет. Про современное обилие прекрасных книг я уж и не говорю.
Как меня спасли
Так уж вышло, что мама, с детства знакомая с Пастернаками, подружилась с семьей сына поэта, Евгения Борисовича, после того как умерли их отцы – Борис Леонидович и Александр Львович.
Мы стали время от времени ходить к Пастернакам в гости. Тогда еще была жива Евгения Владимировна – первая жена Бориса Леонидовича, с которой когда-то, во времена незапамятные, его познакомил влюбленный в нее Миша Штих. Пока взрослые разговаривали, я возился с мальчиками, Петей и Борей (они смотрели на меня, как на «уже большого»).
Пастернаки пригласили меня на зимние каникулы 1964 года погостить в Переделкине, покататься на лыжах. В первый вечер по приезде я, оказавшись на новом месте, заскучал: как-то сложатся каникулы? Десять дней в детстве – целая вечность. Кроме меня у Евгения Борисовича и его жены, Елены Владимировны, гостила ее тетка, Марина Густавовна. Она и возглавила нашу детскую компанию на следующий день, это было воскресенье.
Погода стояла прекрасная, солнечная. Я приехал без лыжных палок, и Евгений Борисович подобрал мне в сарае пару – старых, бамбуковых, очень толстых.
Мне захотелось покататься с горы. Горнолыжный спорт тогда не имел у нас такой популярности, как сейчас, и скатывался я по-простому, без затей. Однако вскоре захотелось разнообразить процесс. Я стал спускаться, стоя на прямых, плотно сведенных ногах, «солдатиком». Потом и руки вытянул по швам. Так кататься стало намного интереснее, но мне и этого показалось мало. Спускаясь в очередной раз, я перебросил лыжные палки таким образом, что кольца с остриями оказались у самых кулаков, а древки торчали вперед. И уже при следующем спуске свободный конец левой палки воткнулся в сугроб, а острие – мне в бедро. Толстенная бамбуковая палка треснула, как соломинка, ногу обдало горячим. Первой мыслью было, что я описался от страха. В голове мелькнуло: «Вот, оказывается, как это случается, я ведь даже испугаться не успел». Но уже через секунду до меня дошло, что это не моча – вся левая штанина набухла кровью. Я оттянул резинку штанов и увидел, как из маленькой дырочки на внутренней стороне бедра ритмично бьет красный фонтанчик.
Царапины в моем детстве случались постоянно, и вид собственной крови меня не пугал. Я решил, что нужно идти на дачу перевязываться. Но при первом же шаге голова закружилась, ноги стали слабыми и я упал.
Слава богу, все это сразу увидела Марина Густавовна. Она подбежала ко мне, попыталась наложить жгут из шарфа и послала маленького Петю Пастернака за подмогой. Очень скоро прибежал Евгений Борисович и я увидел над собой его испуганное лицо без шапки. Со жгутом ничего не получалось: ранка располагалась слишком высоко, шарф не помещался. Меня уложили на санки и повезли, а Марина Густавовна шла следом, нагнувшись, и затыкала дырочку большим пальцем. Таким образом меня доставили в ближайшее медицинское учреждение, туберкулезный диспансер. Там смогли наконец наложить жгут и отправили на машине в Одинцово, в больницу.
Я не очень понимал, из-за чего взрослые так всполошились. Перелома-то нет. Ну, поранился, кровь течет. В коротких репликах, которыми Евгений Борисович обменивались с Мариной Густавовной, а потом с врачами, все время звучали слова «бедренная артерия». Я помнил скучные картинки в учебнике природоведения и санпросветбюллетени в поликлиниках, на которых у нарисованных мальчиков и девочек текла кровь из пораненных артерий и показывалось, как правильно накладывать жгуты. Может быть, именно из-за обыденной скуки этих нестрашных картинок я не понимал, что дело идет о моей жизни или смерти.
В больнице меня осматривал высокий нестарый человек с очень длинными пальцами, спокойный и серьезный. Он что-то вполголоса обсуждал с Евгением Борисовичем. Суть их беседы я узнал позже, как и все подробности сложившейся ситуации.
По случаю воскресенья на всю больницу оставалось только два дежурных врача: хирург и гинеколог. Транспортировать больного с артериальным кровотечением разрешается исключительно в сопровождении врача, уйти с дежурства никто из них не мог, поэтому отправить меня в Москву они не имели права. Операций по сшиванию сосудов в одинцовской больнице тогда в глаза не видели и необходимых для этого инструментов не имели. Так что по инструкции полагалось сделать другую операцию и перетянуть мою продырявленную артерию выше раны. После этого у небольшой части больных нога восстанавливается, а у остальных – усыхает, лишенная полноценного кровоснабжения. Каков процент тех и других, я не помню, но он, точно, был не в мою пользу.
Дежуривший хирург, Леонард Степанович Ковалевский, не состоял даже в штате одинцовской больницы, он подрабатывал там по воскресеньям. Однако операции по сшиванию сосудов до этого видел. Не вдаваясь в подробности действующих инструкций и своей ответственности, он составил перечень необходимых инструментов и объяснил Евгению Борисовичу: если в течение двух часов все требуемое смогут доставить, он зашьет мою артерию. Хорошо, что все это случилось в Переделкине, где жили писатели, где в 1964-м многие уже имели телефоны, а некоторые – так даже и машины. Евгений Борисович позвонил своему знакомому хирургу, работавшему в институте Склифосовс-кого, Евгению Николаевичу Попову, тот распорядился выдать требуемое. Сложные перипетии тех сумасшедших часов я узнал позже, а тогда все необходимое вскоре привезли. Мама, которой тоже позвонили, приехала до операции. Она рассказывала потом, что больше всего ее поразили мои губы – одного цвета с подушкой. Отец, когда ему сообщили о случившемся, перед выездом позвонил дальнему родственнику, врачу. Без объяснения подробностей он спросил: «Юра, когда у человека порвана бедренная артерия, это что?» Юра, привыкший к отцовым теле-Леонард фонным розыгрышам, решил, что сейчас – очередной. «Это – все», – сообщил он бодрым голосом. С тем папа и отправился в Одинцово. Приехал он, когда меня оперировали. Ожидавшая в коридоре мама сказала, что ногу, кажется, удастся спасти. Отец, всю дорогу не знавший, застанет ли меня живым, махнул рукой и сказал: «Да черт с ней, с ногой, жить-то он будет?»
А мне несказанно повезло. Окажись на месте Леонарда Степановича другой врач, жизнь моя сложилась бы, наверно, совсем по-иному. Артерия оказалась разорванной сильно, она едва держалась на остатке стенки, зашить ее было невозможно. Кроме того, задетой оказалась и расположенная рядом вена. Из нее-то Ковалевский и вырезал лоскут, которым залатал артерию. Как потом он узнал, операцию такого рода он сделал первым в СССР. Спустя месяц, когда все кончилось благополучно, он, гордый, показал меня коллегам в Москве и рассказал, как все случилось. Коллеги работали в соответствующем институте и как раз разрабатывали технологию подобных операций. Сделанное Леонардом Степановичем они квалифицировали как неоправданный авантюризм. Не в тех условиях и не теми силами полагалось делать такую операцию. Так что вместо наград и признания он получил взыскание. Наше же семейство было безмерно благодарно Ковалевскому, нарушившему строгую инструкцию, которая с четырнадцати лет предписывала мне стать инвалидом.
А до выписки мой случай обсуждала вся больница. Многие коллеги не одобряли Леонарда Степановича – мало того что рисковал, так ведь еще и не взял с моих родителей расписки, что они уведомлены о степени риска и дают согласие на операцию: когда мама приехала, у него уже не хватило на это времени. Зато больные стояли за него горой, а один, с ампутированной ногой, вздыхал и говорил: «Попал бы я к Ковалевскому, тоже ходил бы на двоих, а теперь – вот так…» И я тогда на всю жизнь понял нечто важное – об ответственности, о риске и главных жизненных ценностях. Вообще я тогда многое увидел и узнал: через хирургическое отделение городской больницы маленького Одинцова проходили и избитый при задержании убийца, и женщина, которую порубил топором собственный сын, и много еще каких «случаев». Сегодня все это не сходит с экранов телевизоров, а тогда изнанка благополучной жизни в самой счастливой стране на свете тщательно скрывалась не только от детей: многие мои взрослые родственники были шокированы, слушая рассказы об увиденном в больнице.
Никаких денег, естественно, Ковалевский с нас не взял. Не входило это тогда в обычаи, да и человек он был совсем другого склада. Все же мама, чувствуя себя безмерно обязанной, много лет снабжала его и жену, Нинель Вениаминовну, интересными билетами в театры. Денег-то у нее никогда не водилось, а вот билеты в редакции журнала «Театр» периодически случались.
Я всегда считал Леонарда Степановича самым важным после родителей человеком в своей жизни. Много лет спустя я разыскал его через адресный стол. Помогло редкое имя. Леонард Степанович стал пенсионером и жил в области. Я написал письмо, потом несколько раз звонил, а летом 1999-го собрался и приехал. Они очень обрадовались мне, Нинель Вениаминовна вспоминала маму и спектакли, увиденные благодаря ей. Я повторил то, что написал в письме: все, что есть стоящего в моей жизни, – семья, взрослые дети, интересная профессия, все это – благодаря ему.
А он рассказывал про свою жизнь. Случаев, похожих на мой, прошло через его руки много, и все они кончались одинаково: благодарностью спасенных и большими неприятностями по службе. Видать, никак не хотел доктор Ковалевский прыгать «ножницами».
В новую меркантильную эпоху выглядел он и вовсе пришельцем из замшелого прошлого. Жил в маленьком старом сельском домике, который был сплошь заставлен книжными полками. Когда несколько лет назад он в своем саду собрал большой урожай яблок, привез первого сентября целую тачку на школьный двор. Люди отнеслись к этому поступку настороженно, даже враждебно: ведь в этой школе у доктора никто не учился. Попробовал устроить на пустыре за деревней общественный сад вместе со школьниками. Глава местной власти, от которого зависело решение о землеотводе, все допытывался: «Ты объясни мне, Степаныч, какая тебе от этого выгода?»
Рядом сидела его дочь, тоже хирург. (Мать, Нинель Вениаминовна, гинеколог, сетовала: хотела, чтоб дочь пошла по ее стезе, а она выбрала отцовскую.) Дочь слушала наши разговоры, а потом сказала, вздохнув: «Да, если б знать, что сорок лет спустя кто-нибудь приедет благодарить, тогда есть зачем работать». Вот и выгода, подумалось мне.
Потом я ехал на машине домой и неожиданно подумал о сходстве судеб трех русских врачей – прадеда, Залманова и Ковалевского. Все они много лечили и многих спасали, в том числе и людей состоятельных. За всю жизнь все трое нажили только благодарную память. И все трое не считали жизнь неудавшейся.
Конец оттепели
Петр Лукич Проскурин появился в нашем доме в начале шестидесятых. Он тогда только начинал писать и жил где-то в провинции. Там с ним познакомилась Лилиана Рустамовна, Лиля, мамина подруга юности. Они поженились, приехали в Москву, и Лиля привела мужа в гости – знакомиться. Возникла дружба. Проскурины стали бывать у нас – не часто, но более или менее регулярно. Первая по времени книга, подписанная им маме, роман «Корни обнажаются в бурю», вышел в 1962 году (это – третья книга Петра Лукича).
Наташе Смолицкой – с пожеланиями добра и счастья, с надеждой на дружбу сердечно П. Проскурин 2503.63 г.
Следующие – «Горькие травы» и «Любовь человеческая», 64-го и 66-го годов, стоят рядышком, надписанные:
Дорогой Наташе – на добрую память – с пожеланиями здоровья, счастья, успеха – всех чудес на свете сердечно П. Проскурин 11.1.65
Нашей Наташе – с любовью Лиля и Петр Орел, 18.12.66 г.
В это же время опубликовала первую книжку «Если звезды зажигают» и Лиля. Фамилия ее мужа стала уже достаточно известной, и она взяла псевдоним – Анна Гвоздева:
Наталочке – не взыскивай строго, это начало, только первый шаг.
Лиля 7.4.65 г.
Петр Лукич вскоре приобрел известность. Его книги публиковали, по ним ставили многосерийные телефильмы. Дружба продолжалась – дружба взрослых людей, которым интересно друг с другом. В одной из папок я нашел их веселые отпускные фотографии, очевидно, крымские. Всем им было тогда меньше сорока.
Когда в 64-м сняли Хрущева и на смену ему пришел малоизвестный тогда Брежнев, интеллигенция поначалу восприняла это событие с надеждой. Помню, как мама обсуждала его с друзьями – им сильно импонировало высшее техническое образование нового главы: он – первый из руководителей Советской страны, кто закончил хоть что-то, кроме Высшей партийной школы. Как всегда, от нового правителя ждали перемен к лучшему: хозяйственные шараханья Никиты довели страну (сельское хозяйство в особенности) до полного, как тогда казалось, развала.
Однако очень быстро все поняли, что лучшего ждать нечего, а вскоре пошли судебные процессы и гонения инакомыслящих. Идеологические гайки стали затягивать. Через некоторое время дошла очередь и до руководимого Твардовским «Нового мира». Повторюсь, но скажу: случившееся позже размежевание писателей на «западников» и «почвенников» тогда только закладывалось. В «Новом мире» 1969 года публиковались Владимов, Вознесенский, Жигулин, Бек, Залыгин, Дорош, Айтматов, Быков, Белов, Гамзатов, Можаев – список можно продолжать, но в нем окажутся действительно лучшие писатели того времени.
К сожалению, в России для расправы с творческими людьми власть всегда использовала их собратьев по цеху, началось это давно и конца дурной традиции не предвидится. Так и тогда. Сигналом к началу травли журнала послужило опубликованное в софроновском «Огоньке» письмо, подписанное одиннадцатью писателями. Его заголовок гласил: «Против чего выступает „Новый мир“?» Формальным поводом к его написанию послужила напечатанная в «Новом мире» статья А. Дементьева «О традициях и народности», но осуждалась вся направленность журнала. Письмо было выдержано в выражениях политической передовицы того времени:
Наше время – время острейшей идеологической борьбы.
Вопреки усердным призывам А. Дементьева не преувеличивать опасности «чуждых идеологических влияний» мы еще и еще раз утверждаем, что проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью. Если против нее не бороться, это может привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг «Нового мира», космополитическими идеями… В проведении тактики «наведения мостов», сближения или, говоря модным словом «интеграции идеологии», они словно бы и не хотят видеть диверсионного смысла <…>.
И это не может не беспокоить нас, советских писателей, ибо защита главных духовных ценностей нашего общества, патриотических традиций, воспитания чувства гордости за социалистическое Отечество, его прошлое и настоящее, борьба за коммунистическое мировоззрение народов были, есть и будут главной задачей советской литературы.
«Письмо одиннадцати» перепечатали или пересказали практически все газеты. Именно таким путем мама и узнала о нем – «Огонька» мы не выписывали. После дедушкиной смерти она стала читать за столом. Я помню, как, побелев скулами, читала она за завтраком газету. А потом сказала: «Господи, и Петя Проскурин подписал. Никак от него не ожидала».
Я не слышал от мамы, состоялось ли у них какое-нибудь объяснение. Зная ее характер, думаю, что она не смолчала. Но после этого письма ни Петра Лукича, ни Лилю я у нас никогда больше не видел. А Твардовского вскоре сняли с поста главного редактора «Нового мира». Через два года он умер.
Дальнейшее показало, что Проскурин, подписывая письмо, скорее всего, действовал вполне искренне. (Правда, искренний донос не перестает быть доносом.) Впоследствии, уже в перестроечные годы, когда идеи, высказанные в письме 1969 года, стали, мягко говоря, непопулярными, он остался в числе писателей, продолжавших их горячо отстаивать. Однако в защите своих позиций пошел дальше других: когда в конце восьмидесятых – начале девяностых все журналы стали публиковать произведения русских писателей, никогда не печатавшиеся в СССР, когда до читателей с опозданием в пятьдесят, а то и в восемьдесят лет дошли неизданные Булгаков, Пастернак, Шмелев, Платонов, Гумилев, Ахматова, именно он запротестовал. Стремление печатать мертвых классиков взамен живых неклассиков Проскурин назвал словом «некрофильство». Высказывание это тогда услышали все небезразличные к литературе люди. Громче и возмущеннее всех прозвучал ответ академика Лихачева.
Нынче я перестал встречать его книги на прилавках. Недавно по телевизору повторяли какой-то фильм, снятый по про-скуринским романам. Думаю, что определенное количество зрителей, тоскующих по брежневским временам, смотрели его с удовольствием. Я сам прочел только три книги Проскурина – те, подписанные маме. Прочел давно, уже лет тридцать прошло. Пробовал вспомнить из них что-нибудь, но ничего не вспомнилось.
Судьбой дарованные встречи
Профессиональный театровед, мама водила меня в театр редко, только если шло что-то действительно выдающееся. Скорее всего, таким образом она хотела развить во мне хороший вкус. Однако получилось обратное: у меня не выработалось привычки там бывать, и я не полюбил театр. То есть я, конечно, хожу туда с радостью (нечасто), получаю удовольствие от хороших спектаклей, но посещение театра не стало для меня жизненной потребностью, как, например, литература или музыка.
Поскольку спектаклей я видел в итоге немного, то помню их все более или менее хорошо. Чаще всего мы с мамой попада-262 ли на премьеры или публичные генеральные репетиции. Публика туда ходила соответствующая, театральная, то есть ее знакомые. Практически всегда мы с кем-нибудь здоровались в фойе, мама с гордостью демонстрировала меня, а потом они говорили о своем.
Но интересно: встреча, о которой пойдет речь, не связывается в моей памяти с каким-то конкретным спектаклем. Помню, что дело было во МХАТе. Скорее всего, произошло это во время зимних каникул в самом начале 1967 года. В антракте мы остались на местах. Там к маме и подошла высокая старуха царственного вида с пышной абсолютно белой шевелюрой. Не отвлекаясь на долгие вступления и не умилившись (такой большой мальчик, надо же, как время идет!), она присела на свободное кресло рядом и сразу завела с мамой какой-то серьезный разговор, сути которого я не пытался уловить: говорили они негромко, я вежливо не вслушивался. Когда после третьего звонка свет начал гаснуть, женщина сказала, что договорят они в следующем антракте, и ушла. Я спросил, кто это. Мама сказала: «Ты что, не узнал? Это – Бирман».
Серафима Германовна Бирман собиралась писать книгу. Дело это было для нее не так чтобы совсем новое: одна ее автобиографическая книга, «Путь актрисы», уже вышла за пять лет до этого. Поэтому она хорошо знала, как важен при литературной работе хороший редактор. В этом и состояла суть ее предложения.
Переговоры заняли больше двух месяцев. Поскольку книгу Бирман писала по договору с издательством «Искусство», то и работу редактора оплачивало оно же, и договор на редактуру надлежало заключать с ним же – советское государство не пускало денежные вопросы на самотек! В конце марта, когда все надлежащие бумаги наконец подписали, мама вечером отправилась к Серафиме Германовне домой, на улицу Грановского. В память того вечера Бирман подарила ей «Путь актрисы», сделав на титульном листе надпись:
Сегодня (29 марта 1967 года) мы, дорогая Наташа, начинаем большое дело – воспоминания моей жизни. Никола в помоги этому делу! Серафима
В последовавшие три года работа над книгой стала едва ли не главным содержанием нашей жизни. Мама бывала у Бирман (которую вскоре стала называть за глаза «Серафима» и «моя старуха») по нескольку раз в неделю. Отношения их быстро вышли за деловые рамки, а раз так – у мамы, которая годилась ей в дочери, сильно прибавилось забот. А Серафима Германовна, уж не помню по какому поводу, подарила маме два раритета – надписанный ей Константином Симоновым журнал «Знамя» и, в память о ее недавно умершем муже, подписанную ему книжку Новеллы Матвеевой.
Рядом с заглавием повести «Двадцать дней без войны» рукой Константина Михайловича написано:
Милая Серафима Германовна! Мне говорят разные люди о том что они вспоминают Вас, когда читают некоторые страницы этой повести. А я вспоминал Вас, когда писал ее. С любовью и уважением к Вам посылаю на Ваш суд. Ваш К. Симонов. 3.Х.72
Маленькая же книжечка Матвеевой «Душа вещей» подписана так:
Александру Викторовичу Таланову – на добрую память от соседки по столу, переделкинской Вашей сотрапез-ницы – Новеллы Матвеевой.
18 окт. 67 г.
Переделкино
А работа над рукописью шла тяжело. Мама притаскивала очередную часть рукописи домой, вычитывала, правила, договаривалась с машинисткой, а потом привозила материал к Серафиме Германовне и они разбирали мамины замечания.
К выходившему из-под ее пера Бирман относилась очень серьезно. Она переписывала каждую главу по нескольку раз. Воспитанница Станиславского, она видела в искусстве высокое служение и, безусловно, не принадлежала к богеме, но являлась интеллигентом высочайшей пробы. Конечно, работать и общаться с ней было интересно. Но и очень тяжело.
Задуманная книга называлась «Судьбой дарованные встречи». Она состояла из глав, каждая посвящалась кому-нибудь из великих, с кем актрису сводила жизнь, – Станиславскому, Вахтангову, Симонову, Михаилу Чехову, Эйзенштейну и другим известным людям.
Поначалу мама радовалась: сумма договора была достаточной, чтобы считать работу еще и выгодной, однако объем материала все рос и рос. Вскоре люди более сведущие объяснили, что при заключении договора мама совершила ошибку: в его условиях она оговорила объем материала отредактированного, а не сданного на редактирование. В итоге многократные переделки каждой главы, переписанные автором несколько раз, оплачивались однократно, по конечному результату. Работа над вариантами маме не засчитывалась.
Особенно трудной оказалась глава, посвященная Гордону Крэгу. В ней рассказывалась история его непростых отношений со Станиславским, когда в 1909-1911 годах они совместно ставили «Гамлета» в Художественном театре. Авторы разделили функции: общий художественный замысел постановки и декорации разрабатывал Крэг, а Станиславский работал с актерами. И надо же такому случиться: англичанин задумал спектакль условно-символический, создал соответствующие костюмы и декорации. А наш великий соотечественник как раз в это время начал разрабатывать основные принципы своей будущей системы и на репетициях стал пробовать ее с артистами. В итоге получился вопиющий диссонанс между оформлением спектакля и игрой актеров. На одной из репетиций Крэг не выдержал, швырнул на сцену чернильницу и потребовал убрать его имя с афиши. Он говорил: «Если Станиславский хотел сделать из Шекспира Горького, незачем было приглашать меня и ставить мои ширмы». (Алиса Коонен. «Страницы из жизни».)
Спектакль провалился. Как писала Бирман, «двоевластие диаметрально противоположных режиссеров помешало каждому из них достигнуть, сценического чуда. „Система“ дала бессмертие своему автору, но испытание „системы“ на „Гамлете“ было огромной ошибкой Станиславского и его неизбывной виной перед Крэгом.» И еще: «.пострадали оба: Станиславский ранен опасно, Крэг – смертельно».
Всю эту историю я пересказываю по окончательному варианту, вошедшему в книгу. Сложность заключалась в том, что Серафима Бирман, ученица Станиславского, боготворила своего учителя, но по справедливости должна была признать его вину в провале спектакля, ставшим роковым в судьбе Гордона Крэга. Слов нет, каждый творец имеет право на неудачу, но Бирман мучилась вопросом: имеет ли она право судить гения?
Добиваясь точности формулировок, Серафима Германовна раз за разом переписывала главу (кстати, название ее – «Трагедия невоплощенности»), мать приносила домой вариант за вариантом (вскоре их количество перевалило за два десятка). Она жаловалась, что уже перестала замечать разницу между ними. Потом Бирман, не дождавшись назначенной встречи, звонила, чтобы уточнить какую-нибудь фразу. Мама выходила в коридор (где же в коммунальной квартире быть телефону?) с черкаными-перечеркаными листами и начинала править или спорить. Мимо проходили жильцы – на кухню, в ванную, уборную и обратно: из тринадцати человек за двадцать минут кому-нибудь что-нибудь да понадобится. А в телефонной трубке на грани рыдания кричала Серафима: «Я оболгала этого святого человека!» – и приходилось ее утешать, и искать точные слова, и править, править, править.
Книгу сдали в набор ровно через три года и семь месяцев после памятного первого вечера. Многое изменилось за это время в нашей жизни. Я окончил школу и учился в авиационнотехнологическом институте. У нас появилась собака – шалый и любвеобильный кобель-дворняжка по кличке Пиф: я привез его щенком из пионерского лагеря, где работал пионером-инструк-тором, то есть вел авиамодельный кружок за бесплатную путевку. Это явилось моим положительным взносом в семейный бюджет. (Я имею в виду путевку, а не Пифа.)
Общественная жизнь, лишенная внешних проявлений, глухо бродила, прячась от «несвоих». Кухонные разговоры о главном, споры на пониженных голосах – отклик интеллигенции на чехословацкие события 1968-го, процессы над Синявским, Даниэлем и группой Гинзбурга и Галанскова, исключение Солженицына из Союза писателей, Самиздат – и все более костенеющая жизнь официальная. Плодотворнее всего в ту эпоху развивался жанр анекдота.
Воспоминания Серафимы Бирман вышли в свет в 1971 году. Для мамы во многом это была и ее книга. Упаси Бог, она не считала себя соавтором, но, право, доля ее труда была немалой. После книги Бирман на редактора Смолицкую появился спрос. Она подготовила к печати еще несколько рукописей, но ни в одну не вложила столько души. Авторы горячо благодарили ее за «способность раствориться в чужом тексте» (В. Семеновский). Александр Крон говорил, что Наташа – не редактор-цензор, а редактор-друг, помогающий автору лучше выразить то, что он сам хочет. Не знаю, много ли таких или подобных слов услышала она сама, – приведенные прозвучали уже вдогонку, когда Наташа Смолицкая стала лицом из памяти. А от сотрудничества тех лет остались свидетельства вроде надписи на книге Захаржевской «Костюм для сцены»:
Очароваше редактору Наташе персонально.
На Серафиминой же книге написано много. Весь шмуцтитул покрывает ее размашистый почерк:
Я радуюсь тому, что наплывы симпатии и раздражения переродились в энергичное взаимопонимание, это дороже всяких нервических симпатий и скрытого недовольства друг другом. Нет ничего прекрасней битвы за рождение чего-то нового и живого.
Я так думаю. А вы???
Но этого ей показалось мало. И на суперобложке рядом со своим портретом она написала:
Наташа! Жму вашу товарищескую руку – рука товарища – верная помощница.
И, как бы подтверждая написанное, вдоль руки на фотографии:
Ваша Серафима.
Сама книга, когда вышла, не наделала шума, ее отметили только специалисты да немногочисленные любители и почитатели театра, его людей и истории. Пару лет назад Виталий Вульф в телевизионном цикле «Серебряный шар» сделал передачу о Бирман. Я ждал ее выхода и волновался – что он расскажет о воспоминаниях актрисы, знает ли он о драматизме, с которым они писались? Была и маленькая надежда – вдруг он помянет добрым словом скромного редактора?
Нет, Вульф лишь вскользь обмолвился о книге Серафимы Германовны. Я в очередной раз вспомнил фразу, что от жизни большинства людей остается лишь черточка между двумя датами. Жалко.
Сам я люблю эту книгу. Хотя то, о чем в ней повествуется, бесконечно далеко от моей жизни, есть там несколько абзацев, которые я знаю почти наизусть. Но больше, наверно, она дорога мне воспоминаниями. И всегда, когда беру ее с полки, на лишнее мгновение зацепляюсь взглядом за вторую, почти пустую, страницу. На ней – двумя пятнышками – непонятные цифры в верхнем и нижнем левых углах:
792С
Б 64
8-1-4
41-71
А между ними, чуть выше середины страницы:
Редактор Н.А. Смолицкая.
Мамины пиры
Я уже говорил, что мама любила устраивать праздники, а в России любое торжество – это застолье. И я помню эти праздники из детства, такие яркие, где крахмальная скатерть и извлеченная из недр орехового шкафа старая парадная посуда – красивая и строгая, хотя и разномастная, что, впрочем, в моих глазах придавало ей еще больше интереса. Еще там – значительные и веселые взрослые, и каждый раз приходил кто-то один, для меня – самый-самый в этот вечер, с кем я, обмирая, мечтал перемолвиться хоть несколькими словами. Если это удавалось, меня распирало от гордости, и я долго потом перебирал в памяти подробности нашего разговора. А как задорно и остроумно они шутили! Какими свежими были эти истории и анекдоты для меня, слышавшего их тогда впервые в жизни. А уж какие невероятные там подавались блюда, никогда не готовившиеся в будни!
Оживленная суета начиналась задолго до прихода гостей. В комнате производилась генеральная уборка, отстаивались тоскливые многочасовые очереди за продуктами. Холодильники еще не стали обязательной принадлежностью быта, вместо них пользовались межоконным пространством. Добывание продуктов вообще, а к праздникам – в особенности, тогда составляло вечную проблему. Это сейчас перед приемом гостей мы с Таней едем на рынок и за час набиваем багажник всем необходимым, придирчиво выбирая его из не представимого в пяти– или шестидесятые изобилия, и кто-нибудь из нас обязательно не может удержаться, чтобы (в который уже раз!) не выдохнуть с тоской: «Эх, не дожили до этого наши мамы!»
Я помогал в веселых хлопотах, бегал в магазин за недостающими ингредиентами – мама готовила с размахом и всегда просчитывалась, вбухивая масла или майонеза вдвое против рецепта. И еще она очень любила всякие эксперименты, удивляя гостей чем-нибудь новым. Надо сказать, что по неведомой логике – чиновничьей и народной – при постоянном дефиците основных продуктов советская торговля периодически вбрасывала в продажу изысканные деликатесы, которые, будучи абсолютно неизвестны широкому потребителю, долго оставались на прилавках по смехотворным, в общем-то, ценам. Так, например, мы несколько лет регулярно лакомились копчеными миногами – их продавали в нашем рыбном по четыре рубля за килограмм, и никто не хотел покупать «эту гадость». Затем, вероятно, народ (или наиболее продвинутая его часть) разобрался что к чему, и миноги сначала стали дорожать, а потом вовсе исчезли. В пятидесятые годы куропатки, перепелки и рябчики продавались свободно и стоили чуть дороже кур. Мы покупали их с дедушкой в «Кулинарии» у Покровских ворот, и я помню детский восторг, с которым уплетал чуть горчащую дичь, приготовленную в сметанном соусе, с холодным картофельным салатом.
Когда уходит от человека острое – до дрожи и тихого повизгивания – счастье, которое испытываешь ребенком от любимого «вкусненького?» Так, однажды, после долгого перерыва я попробовал столь желанную в детстве клубнику (пока росли свои дети, рука не поднималась взять ягодку) и удивился собственному спокойному безразличию. Ну да, вкусно, но где тот восторг? Никогда после восьми-девяти лет не приходилось мне испытать переживания, которое Виталий Семин точно назвал вкусовым шоком. А маленьким я получал его часто, и едва ли не самым большим удовольствием были мамины кремовые торты, которые она пекла к праздникам. Поскольку больше всего мне нравился в них сливочный крем, я счищал его с верхнего коржа, чтобы съесть в последнюю очередь, «на закуску». Мама стала делать крем с запасом, чтобы дать мне поесть его ложкой. Именно так я лет в пять жестоко отравился – санитарные врачи не врут, сливочный крем действительно опасно есть, когда он чуть постоял (да еще и без холодильника).
Меня выворачивало наизнанку, я бредил. Приехала срочно вызванная Шкловская – детский врач, наблюдавшая меня лет до десяти и почитавшаяся в семье за медицинского оракула. Когда она строго произнесла слово «отравление», я понял – все. Ведь из книжек и сказок я знал твердо, что диагноз это смертельный (там все отравленные умирали, от яда спасало только волшебство). Когда же взрослые «вычислили» причину – несвежий крем – и стали меня лечить, я тем более решил, что усилия их тщетны. Ведь вкусный крем никак не мог быть причиной болезни, а отравился я, наверняка, кусая пластилин, брать в рот который мне строго-настрого запрещали. Из-за самой этой строгости я его и попробовал на язык и на зуб, не глотая, конечно, но – вот результат. И теперь все усилия спасти меня напрасны – ведь лекарства мне дают от несвежего крема, а совсем не от пластилина. Я же ни за что не мог признаться в совершении столь постыдного действия.
Одним из запомнившихся мне маминых «гранд-приемов» стал вечер в начале лета пятьдесят девятого года. В Москве тогда закончилась декада азербайджанской культуры и искусства, к организации и проведению которой мама имела какое-то отношение. Такие декады тогда устраивались поочередно для всех пятнадцати республик СССР. Они демонстрировали, во-первых, нерушимую дружбу между народами великой страны, а во-вторых – культурный рост национальных республик, в которых, по большей части, до революции все были чуть не поголовно неграмотны, а теперь, благодаря советскому строю, все как у людей – и Академия наук, и Театр оперы и балета, а также Театр драмы и Союз писателей. По результатам декады в обязательном порядке производилось награждение наиболее заслуженных участников. Мама рассказывала анекдот, ходивший тогда в их среде: «„Что такое декада национальной культуры и искусства в Мос-кве?“ – „А это вот что“, – и далее, подражая заунывному пению среднеазиатского акына -
Ордэн дай, ордэн дай, ордэн дай, Ордэн нэт – мэдал дай, мэдал дай, мэдал дай, Мэдал нэт – дэнги дай, дэнги дай, дэнги дай, —и так десять дней».
Во время подготовки декады мама побывала в командировке в Баку, смотрела спектакли, перезнакомилась и подружилась со многими артистами. Приехав, делилась впечатлениями, самым большим из которых стал великий Бюль-Бюль – Мартуза Мамедов, Бюль-Бюль Мамедов, но для всего Азербайджана просто Бюль-Бюль. Прозвище заменило ему имя и фамилию. Лирико-драматический тенор, он пел в Азербайджанском театре оперы и балета со дня его основания, преподавал в Азербайджанской консерватории, получил Сталинскую премию, но главное – он был действительно великим артистом и его боготворил весь Азербайджан, дав прозвище, которому позавидовал бы любой певец: «бюль-бюль» по-азербайджански – соловей.
Мама привезла из Баку пластинку, еще 78-оборотную, на которой с двух сторон звучали арии из оперы Гаджибекова «Кер-оглы» в исполнении Бюль-Бюля, его коронная роль. Кер-оглы – азербайджанский Робин Гуд. Мотив я совершенно забыл, помню только, что начинался он с тихого протяжного звука высокого чистого голоса. Мелодия, по-восточному переливаясь, нарастала, ширилась, голос креп и наполнялся. Мама рассказывала, как это выглядело на сцене – Бюль-Бюль пел, медленно плывя от одной кулисы к другой, в белой бурке до пола, скрывавшей движения ног, и белой папахе, – я представлял, и мне нравилось еще больше. И когда мама сказала, что в последний день декады азербайджанцы придут к нам в гости, мне стало очень любопытно. К нам придет настоящий оперный певец! Не просто настоящий – великий! Я приставал к маме с вопросами. Больше всего меня интересовало, будет ли Бюль-Бюль петь.
Мама расстаралась. Не знаю, как с точки зрения кавказских гостей, но по московским меркам людей нашего круга стол был великолепен. На горячее мама приготовила горных куропаток, остального не помню. Веселые шумные азербайджанцы, человек двенадцать – пятнадцать, сплошь мужчины, красиво говорили длинные тосты, артистично пили и профессионально пели, прихлопывая в ладоши. Сам Бюль-Бюль позвонил еще днем, сказал, что очень устал за время гастролей, постарается прийти, но не обещает. В помощь по хозяйству – сходить в магазин или еще за чем – он прислал своего сына, Чингиза. В магазин идти действительно понадобилось, а так как юный бакинец Москвы совсем не знал, меня, девятилетнего, отрядили ему в провожатые. Я на правах хозяина старался по дороге занимать гостя светской беседой, но Чингиз, который был старше на несколько лет, скучал, хотя вида интеллигентно не показывал.
В продолжение вечера Бюль-Бюлю несколько раз звонили в гостиницу, звали, уговаривали, но он так и не приехал. В его отсутствие для собравшихся азербайджанцев главной персоной, за кого поднималось большинство почтительных до подобострастия тостов, был невзрачный человек, единственный из собравшихся не обладавший явными талантами. Имени его я не запомнил, память сохранила только зачес «внутренний заем» поперек лысины. Мама объяснила мне потом, что это – заместитель министра культуры Азербайджанской ССР.
А спустя много лет стал певцом и композитором младший брат Чингиза – Полад. Правда, в отличие от отца, эстрадным. В память о великом родителе он именовал себя не Мамедовым, а Бюль-Бюль-оглы, как бы присвоив в псевдониме и часть отцовской славы. В последние советские годы он прочно входил в обойму главных эстрадных артистов страны, и редкий сборный концерт обходился без его пения:
Быть может, ты забы-ыла мой номер телефо-она, Быть может, ты смеё-ошься над верностью моей? Но я не понима-аю, зачем ты так серди-ита, Так перестань смея-аться, и приходи скорей!Появившись на эстраде хрупким и подвижным молодым человеком, Полад продержался там достаточно долго, потом стал появляться реже. Когда началась перестройка и во власть пошли люди, к коммунистической номенклатуре отношения не имевшие, Бюль-Бюль-оглы – солидный, раздобревший, с седой прядью в пышных волосах – вновь замелькал на телеэкранах, уже в качестве министра культуры независимого Азербайджана. А потом в сообщениях оттуда на первый план вышли дела грустные, от культуры вовсе далекие.
Еще один запомнившийся вечер – проводы Пименова, главного редактора маминого журнала, когда у нас гуляла вся редакция. Он уходил, в общем-то, почетно, с повышением. Но главной причиной шумного торжества являлось то, что заступавший на его место Юрий Рыбаков был для большинства сотрудников Юра, Юрка – однокашник, единомышленник, человек по убеждениям безусловно и полностью свой. Дубасов и Жегин прекрасно пели и играли на гитарах, по очереди и дуэтом. Потом, когда вышли из-за стола и компания разбилась на кучки, Герман Дуба-сов стал очень красиво петь настоящие рыдающие песни на цыганском языке. Я удивился: как-то это не вязалось со сложившимся в моем представлении обликом тихо говорившего рафинированно интеллигентного человека, во внешности которого не прослеживалось ничего цыганского. Улучив момент, я спросил обо всем этом маму, и она ответила, что была когда-то большая любовь, Герман Михайлович ушел с табором, кочевал – там и научился.
А когда я поступил в институт, то первый общий праздник наша 185-я группа провела у нас, на Банковском, 7 ноября 1967 года, в день пятидесятилетия революции. Полувековой юбилей главного события советской истории страна отмечала с размахом, а мы, молодые, веселились от души. Посидели за столом, попили, попели песни, а потом отправились смотреть салют на площадь Дзержинского (Лубянскую) и сопровождали каждый из пятидесяти залпов громким «ура», так что вернулись охрипшие, отогревались чаем и водкой, танцевали, слушали Окуджаву. Ничего особенного, обычный студенческий вечер, но по признанию многих однокашников, с которыми встречаемся и поныне, именно тогда сложилось наше «мы». И каждый раз, когда оказываемся вместе за одним столом и начинаются воспоминания – как кто-то сдавал Александровскому начерталку по чужому конспекту, как Рассадкин заснул на лекции, а Иванов с кафедры вот так показал и говорит: «Разбудите Рассадкина!» – и еще, и еще, – то рано или поздно кто-то обязательно вспоминает первые общие праздники на Банковском (ведь не один же раз мы там собирались), квартиру с высокими потолками, большую темную комнату и стеллажи с книгами. И кто-нибудь, чаще всего – выросший в Тбилиси Тимур Гонгадзе, который еще в институте приучил нас пить второй тост за родителей, вспоминает мою маму и говорит: «Замечательная женщина была. Жалко, как рано умерла». И теперь, когда вот уж несколько лет как мы, считающие себя совсем еще нестарыми, все сразу стали старше ее, я все больше осознаю смысл этого «рано».
Всяческие перемены
Как ни боялась этого мама, в армию я все-таки попал, правда, после института, так что служил два года офицером – техником самолета в Тамбовском летном училище. А демобилизовавшись, прописался к Тане. Случайно ли так вышло, или есть в этом какой-то скрытый смысл, но женился я на девушке, тоже жившей в коммуналке. Их дом на Нижней Масловке давным-давно переоборудовали в жилой из каких-то мастерских. В Таниной квартире проживало десять семей, ванна и душ отсутствовали, а отношения между большинством жильцов были, мягко говоря, натянутыми. К этому времени – середине семидесятых, когда в Москве уже двадцать лет как шло массовое жилищное строительство, обитатели коммуналок чувствовали себя обделенными судьбой, но на очередь ставили только тех, у кого на каждого прописанного приходилось квадратных метров меньше определенной нормы. Это, кроме всего прочего, часто портило отношения между соседями: те, кому «не светило», завидовали имевшим право на надежду. Танина семья дожидалась вожделенной жилплощади почти десять лет, то есть очередь их подходила. Но к этому Студентка времени из когда-то записанных в ожидающие в живых осталась ровно половина – мой тесть, Петр Алексеевич, и жившая с ними Танина двоюродная бабушка, Федосья Степановна, умерли, ничего не дождавшись. В результате проверка документов, проводившаяся в каждом жилотделе при распределении квартир между очередниками, неизбежно показала бы «наличие излишков жилой площади», приходящейся на оставшихся – Таню и ее маму, Александру Ивановну. Это однозначно лишило бы их прав на переезд в новый дом. Способ остаться в очереди был один, и я прописался на Масловке.
Пока я служил, у мамы на Банковском обосновалась очередная неприкаянная душа – Анна Николаевна Нелидова. Познакомил их я – Анна Николаевна вела секцию подводного плавания, которым я стал заниматься на третьем курсе. Через ее руки – прямо или косвенно – прошла добрая половина московских спорт сменов-подводников той поры. Нелидова работала инструктором-методистом Центрального морского клуба ДОСААФ, и в секции, которой она много лет руководила, подготовку поставила на высочайшем уровне. Сегодняшние скороспелые выпускники дайвинг-клубов, обладатели международных свидетельств PADI и CMAS, не знают и не умеют очень многого, что считалось азами в нашем клубе (при том, что техника подводного дела за тридцать лет ушла далеко вперед). Самое главное – Анна Николаевна, строжайшим образом требовавшая от нас твердого знания и неукоснительного соблюдения правил безопасности, вроде бы и не следила за нами. Она нас учила, но при этом нам доверяла. Итогом получилось воспитание ответственности, что в несомненно опасном подводном спорте едва ли не важнее всего прочего. Сказанное в шутку в конце семидесятых кем-то из юмористов: «Если нельзя, но очень хочется, значит – можно», сегодня ставшее нормой жизни, нами воспринималось не иначе как смешной каламбур. Мы твердо знали цену «нельзя». Вообще же атмосфера в клубе была домашняя, почти семейная, там занимались люди разного возраста, даже разных поколений. После субботних и воскресных погружений в Химках устраивались длительные посиделки с чаем и бутербродами, с рассказами, шутками и подначками. В таких вот компаниях юные души и формируются. И хотя сама «Николавна», как звали мы ее за глаза, никогда не давила авторитетом, тон задавала, конечно, она.
Не терпела Нелидова одного – непорядочности, в чем бы она ни выражалась, и наша клубная компания, при всей ее разношерстности, состояла из людей очень разных, но хороших. Высокая степень нашей подготовки тоже явилась следствием такой организации дела: сама атмосфера секции обязывала стараться быть лучше. В итоге за многие годы ее существования, проведя десятки подводных экспедиций (как правило, на голом месте), мы не потеряли ни одного подводника из большой – в несколько сот человек – организации. С современным уровнем безопасности подводного спорта это даже сравнивать как-то неудобно. Когда и в результате каких именно жизненных коллизий оказалась Анна Николаевна без жилья и без прописки, я точно не знаю, только в тогдашней Москве это казалось явлением редчайшим. Думаю, что все произошло после ее поступления на работу в ЦМК, поскольку в полувоенную организацию, какой было ДОСААФ, людей без прописки не брали. Когда я пришел в секцию, Нелидова давно уже обитала в крохотном помещении на водной базе в Химках – между кладовой снаряжения и мастерской. Как-то я пригласил ее в гости, она познакомилась с мамой, однажды встречала у нас Новый год, и у них возникли приятельские отношения помимо меня. Еще их сблизила общая любовь к животным, интерес к книгам о путешествиях, и как-то, когда я уже служил в армии, Анна Николаевна пришла к маме, они по старой русской традиции проговорили допоздна, и Нелидова осталась ночевать. Когда утром она собралась уходить на работу, мама, хорошо знавшая ее «жилищные условия», предложила перебраться и пожить какое-то время у нас. У Николавны и пожитков-то набралось – за один раз унести. Половина – книги.
К тому времени, когда она у нас обосновалась, население квартиры сильно изменилось. Уехали из крохотной каморки (бывшей комнаты прислуги в докторской квартире) тихие Кочневы, и туда переселилась Лена Жигулина с мужем и маленькой дочкой – до этого они жили вчетвером с ее мамой, Верой Гавриловной, в другой каморке, когда-то отгороженной от кухни. Сама Вера Гавриловна вскоре умерла, и в ее комнату никого не вселили. Там устроили общественный чулан, убрав из коридора сундуки и шкафы. Лена недолго занимала кочнев-скую комнатенку – вскоре они получили квартиру и уехали. У нас появилась новая соседка, по-моему, Валя, но я ее практически не запомнил.
Таксист Витя Юдаев, то сходившийся, то расходившийся со своей Галей, остепенился, пил редко и тихо, без того удалого разгула, что раньше. Взрослые дети Лемешковых обзавелись семьями и своим жильем. Потом внезапно умер, делая гимнастику по системе йогов, глава их семьи, персональный пенсионер республиканского значения Александр Иванович.
Его смерть для всех оказалась неожиданной. Александр Иванович очень следил за своим здоровьем, был бодр и вообще образ жизни вел правильный во всех отношениях: ел мед и яблоки, выписывал и читал журналы «Коммунист» и «Здоровье», политику партии и правительства в кухне комментировал одобрительно. После его смерти Галина Арсеньевна сникла и потерялась, но старший сын, Валерий, к тому времени уже полковник, устроил обмен, взяв мать к себе. На их месте за нашей стеной появились тихие и приятные люди по фамилии Рыжиковы.
Поселившиеся в конце пятидесятых пенсионеры Штей-нгардты – Берта Львовна и Ниссон Евсеевич – жили, внешне почти не меняясь. Круглая как шарик Берта Львовна вела хозяйство, проявляя чудеса экономии, и периодически укоряла мою маму за расточительность. Сама она могла потратить на чистку двух порций картошки больше часа, однако срезанная кожура вся получалась одинаковой полупрозрачной толщины. Берта Львовна привыкла экономить с молодых лет: их с Ниссоном единственный сын, Саня, в младенчестве оглох после перенесенного менингита, и тогда она, бросив работу, положила жизнь, чтобы сделать из него по возможности полноценного человека. Часто приходивший в гости к родителям элегантный Саня свободно читал по губам и разговаривал почти нормально, разве что чуть сдавленным голосом. Он работал в телеателье. Особой гордостью старых Штейнгардтов были две внучки, Ада и Лара. Когда они появлялись на Банковском, старики, особенно Ниссон, прямо-таки светились.
Из наших в квартире оставался один Николай Дмитриевич Розов, муж Нюты. Правда, «нашим» считал его только я. Мама, относившаяся ко всем близким и дальним родственникам очень любовно и внимательно, никогда не забывавшая поздравить по телефону или телеграммой с днем рождения, к «Нико-лашке» относилась безразлично, держа его скорее за соседа, чем за родственника. Миша с Юлей, к которым мы часто ходили на Беговую, его тоже не любили. Если он всплывал в разговорах, то упоминался неизменно с брезгливо-насмешливой интонацией. Думаю, оставались у них какие-то неизвестные мне старые родственные счеты. Когда же к нему зачастили некие темные личности, отношение всей квартиры к Николаю стало и вовсе напряженно-враждебным. Была у него где-то в Тушине какая-то родня, но я не видел их ни разу.
Сам он все более дичал и опускался. Я иногда обращался к нему, после того как в пятнадцать лет купил гитару. Помогая разобрать что-нибудь по нотам, Николай прижимал струны сухими и плоскими, будто без мякоти, пальцами, мычал, беря аккорды, показывал разные способы аппликатуры, но объяснить словами ничего никогда не мог. Ни книг, ни газет он не читал, телевизора не имел, и для меня всегда было загадкой, что он делал целыми днями, – заходя к нему, я неизменно видел его сидящим на продавленном диване перед пустым столом. Однажды на кухне возник какой-то общий разговор, в который его попыталась вовлечь Галя Юдаева. Как-то там, очевидно, в качестве образа, фигурировала Дюймовочка. Николай не понял: «Какая дерьмовочка?» После нескольких реплик выяснилось, что не только сказки, но даже слова такого он не знал. Разговор с ним на темы, не касавшиеся музыки или своевременной уборки мест общественного пользования, я помню только один. Когда на Луну впервые полетели американские астронавты, это событие как-то дошло до его сведения и почему-то сильно взволновало. Выйдя в кухню с чайником, он столкнулся там со мной и между нами состоялся приблизительно такой диалог:
– Говорят, американцы на Луну летят?
– Летят, дядя Коля.
– А они там не задохнутся? Им воздуха-то хватит?
– Ну уж наверно, посчитали, сколько нужно взять. Должно хватить.
– Да, опасное это дело. Я бы ни за что не полетел.
– Так ведь тебя бы небось и не пустили.
– Не, я бы сам не полетел. Я и на самолетах этих никогда не летал. Опасно очень. Вот у сестры двоюродной зять все летал – то в командировку, то еще куда. И долетался. Прилетел к ней в Киев, пришел, сел на диван и помер. Прямо как прилетел, так на диване и помер.
Комната, в которой он обитал, все больше походила на берлогу, на моей памяти ремонт там не делался ни разу. Когда старика одолевали клопы, он морил их, причем весьма оригинальным способом: накипятив побольше воды, Николай все в комнате поливал крутым кипятком – мебель, стены, бумаги, одежду. После двух или трех таких акций пришлось выбросить на помойку оставшиеся от Нюты книги и кипы старых нот.
С упоминавшегося мной цейсовского барометра смылись все надписи, и стрелка, исправно продолжавшая перемещаться, показывала теперь неизвестно что. Висевшие на стене Бетховен и Моцарт пошли по краям неровными коричневыми потеками.
Общей участи избегали только две фотографии в рамках: очевидно, истребляя насекомых, Николай не подвергал их санобработке. Обычно они стояли на старенькой облупившейся черной этажерке с задником в виде лиры. На одной была Нюта в профиль, уже совсем седая, касавшаяся щекой той самой лисы. На другой – Николай – молодой, барственно-благородный, с мандолиной в руках, в элегантном костюме-тройке и золотых очках, он улыбался тонко и чуть иронично.
Последний год
В начале семидесятых журнал «Театр» переехал в новое помещение на Большой Никитской, тогда – Герцена. По воспоминаниям многих сотрудников, особая атмосфера редакции как «своего дома» осталась на Кузнецком, но я все же думаю – она осталась в их молодости. В новой редакции уже не было общей комнаты, все сидели в отдельных кабинетах по двое-трое. После Рыбакова, уволенного по распоряжению сверху, журналом недолго руководил Лаврентьев, а затем главным редактором назначили драматурга Афанасия Дмитриевича Салынского. Сегодня вряд ли кто-нибудь из неспециалистов вспомнит названия его пьес, а тогда «Барабанщица», «Молва», «Мария» не сходили с афиш советских театров. На мой вопрос, что собой представляет новый главный, мама ответила, что «Афоня» – драматург профессиональный, скорее средний, человек – добрый, подлостей не делает. Я прочитал две его пьесы, посмотрел «Барабанщицу» и с удивлением переспросил: «И ты считаешь, это – профессионально?» Она махнула рукой: «Ты же других не читал».
Работать ей становилось все более скучно. Где-то около этого времени выпала на ее долю большая по тем временам удача – командировка в Венгрию. Я за нее очень радовался: заграница! Ведь всю жизнь мечтала хоть одним глазком взглянуть. Мама готовилась, читала материалы по венгерскому театру, а я вспоминал ее восторг после командировки на Дальний Восток, как в 1958-м она увлеченно рассказывала – и про полет на Ту-114, и про бухту Золотой Рог, и про замечательный корейский кукольный театр, который ей удалось там повидать. Вообще из своих поездок, до какого-то времени сравнительно частых, она привозила массу неординарных впечатлений и радостно делилась ими с желавшими слушать. И вдруг, обсуждая со мной предстоящую первую в своей жизни поездку за границу, мама, как бы прислушавшись к чему-то в себе, грустно сказала: «Ты знаешь, а мне уже, в общем-то, не очень и хочется».
Из радостных редакционных новостей того времени был приход на работу двух молодых сотрудников – Гали Холодовой и Миши Швыдкого. Про Мишу мама сказала: «Интересный мальчик. Думаю, далеко пойдет». Не ошиблась, значит. Ныне Михаил Ефимович – наш министр культуры и не сходит с экранов телевизоров. Не уверен, что ей все понравилось бы в его сегодняшней многогранной деятельности, но пошел он, действительно, далеко.
Семьдесят шестой год начинался приятно и красиво: праздничные и выходные дни сошлись так, что все не работали четыре дня, – тогда такое случалось редко. Обычно при попадании праздника на субботу или воскресенье выходной пропадал, а если выходило так, что гулять можно было больше трех дней подряд, издавали указ «об объявлении такого-то числа рабочим днем с присоединением дополнительного дня к отпуску». А тут мы отдыхали полных четыре дня, да еще телевидение порадовало. Во-первых, новогодний концерт (тогда – «Голубой огонек») включал много действительно талантливых и интересных номеров, сейчас помню только нежную, дрожащую, грозящую вот-вот оборваться импровизацию на двух роялях гениальных Каунта Бейси и Оскара Питерсона. Гвоздем новогодней ночи должен был стать всеми ожидаемый наш новый музыкальный фильм «Волшебный фонарь», про его смелость и необычность задолго до показа ходили легенды. Увы, бдительные идеологи прокрутили долгожданную новинку около пяти утра, так что увидели и оценили ее единицы самых стойких почитателей искусства, в число которых я не попал. А в последний нерабочий день началась новая эпоха: тогда впервые показали «Иронию судьбы». Смотрели мы этот фильм все вместе на Масловке. С тех пор на Новый год его не крутили лишь однажды, в разгар антиалкогольной кампании середины восьмидесятых. Тогда даже «Зимнюю ночь» Пушкина исключили из школьной программы по литературе за идеологически невыдержанное четверостишие
Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей! Выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей.Одним из важных событий 1976 года была публикация романа Юрия Трифонова «Дом на набережной». Номера «Дружбы народов» брали в очередь, зачитывая их до дыр, сразу возник интерес и к ранним его вещам, которые по выходу не вызвали такого резонанса. Помню, мама успела прочитать его и дала журналы мне. Событие это я запомнил отчетливо, потому что буквально через несколько дней ее увезли на «Скорой» в институт Склифосовского с инфарктом.
Ей шел тогда пятидесятый год. Как раз в сорок девять умерла бабушка Татьяна Сергеевна. Мама суеверно боялась этого возраста и часто говорила, что ей его не пережить. Выписавшись из больницы, она честно пыталась бережнее относиться к себе, соразмерять силы с делами, чего всю жизнь делать не умела, всегда очертя голову бросаясь туда, где была нужна. Яростно смолившая, сколько я ее помню, по две и больше пачек в день, мама перестала курить, но, верная себе, носила сигареты в сумке. Она объясняла, что не потерпит никакого принуждения, курить бросила и не закурит, но не потому, что нечего, а потому, что так решила. Она вообще предпочитала быть человеком свободным.
От Юли и Миши инфаркт скрыли, про больницу говорили – так, подлечиться нужно. Пока мама лежала у Склифосов-ского, в другой больнице умерла Бирман. Мы боялись рассказывать об этом: сложившиеся в период работы над книгой теплые отношения продолжались, мама относилась к «своей старухе» с нежностью. Однако скорбное известие перенесла внешне спокойно – училась беречь себя.
В это время вышел первый отечественный диск-гигант Окуджавы. Не помню, какими правдами-неправдами достав его, я прибежал к маме. Там были песни разных лет, в том числе и те, первые, которые она так жадно впитывала пятнадцать лет назад. Мама слушала грустно. Сказала: «Спокойный стал». Потом помолчала и добавила: «Вот, послушала и поняла: жизнь-то прошла».
В сентябре у нас родился Пашка, и все захороводились в радостных и тревожных заботах. Кроме всего прочего, в виду надвигавшейся зимы нужен был электрокамин, а где ж его тогда вот так да купишь? Маме хотелось подарить камин от себя. В один из дней я узнал, где их «выкинули», и мы с ней поехали. Камины продавались, и даже почти без очереди, но только салатовые. Это шло вразрез с ее эстетическими чувствами. Моей готовностью купить «хоть фиолетовый» она возмутилась: для маленького! Я ее успокаивал, говорил, что мы поставим камин за мебелью, незаметно. Мама сдалась перед неизбежностью, но сильно расстроилась моим безразличием: дарение подарков всегда доставляло ей огромную радость, а их выбор являлся важным ритуалом. До инфаркта она обязательно сама нашла бы отвечающий ее вкусу, либо отдала перед тем, как дарить, знакомым художникам – чтобы расписали. Но обязательно, чтоб получилось красиво.
Приближалось ее пятидесятилетие. Вместе с четырьмя ее ближайшими подругами, в складчину, мы купили холодильник и привезли на Банковский. Мама, увидев его, ахнула: «Вы с ума сошли!» – подарок далеко выходил за финансовые пределы принятого в нашем кругу. День рождения она отпраздновала широко, устроив пир, какого давно уже не задавала. Через несколько дней вечером, когда мы с ней вместе выгуливали в коляске трехмесячного Пашку, она призналась: «Знаешь, весь этот год в страхе прожила. Я ведь очень боялась сорока девяти лет. Кажется, пронесло».
А еще через пару дней ночью, часу в третьем, меня позвали к телефону на Масловке. Звонила Нелидова. «Сережа, мама умерла. Сергей, дорогой, приезжай скорей».
Случился второй инфаркт. Пятидесятилетней мама пробыла девять дней.
Чужая жилплощадь
Из крематория на Банковский кроме меня приехали лишь несколько ближайших подруг мамы да Нелидова. Памятуя мамину нелюбовь к поминкам, я не стал их устраивать и по ней. Мы просидели несколько часов, рассматривая фотографии, и тут-то я обнаружил к своему стыду, как мало знал о ее жизни до моего сознательного возраста.
Заполнявшая эти дни суматоха, связанная с подготовкой похорон и оформлением необходимых бумажек, кончилась, и со всей неумолимостью встала проблема выселения: никаких прав на комнату, в которой я жил и рос, я уже не имел. По закону мне полагалось освободить ее в течение месяца, три дня из которого прошли. Плохо ли, хорошо ли налаженный тремя поколениями быт, где
…все как будто под рукою, И все как будто на века, оборвался.Ничего по-настоящему ценного у нас не было, не считая уймы книг и старых документов, да в те времена официально и они стоили смехотворную сумму. Но как я мог расстаться с вещами, пропитавшимися за десятилетия жизнью нашей семьи, ставшими памятью? Мы начали паковаться, хотя куда все это девать, никто не знал.
Многое сразу же выбрасывали. Кожаное кресло – то самое, старинное, прадедушкино, в котором во времена незапамятные сиживал Пастернак, а на моей памяти – Окуджава с гитарой, да и много других людей, пусть не таких известных, однако мне дорогих, кресло историческое, но продавленное, ободранное и потерявшее вид, – не достояло даже до маминых похорон. Оно, огромное, занимало в комнате слишком много места. Когда нужно было поставить гроб, я вынес его во двор – все равно на реставрацию денег не хватило бы. Выбросил я и раздвижной стол, на котором стоял гроб. Этот стол отдала маме ее подруга, Саня, взамен нашего старого дубового, который окончательно рассохся. После похорон Санечка, глядя исподлобья и раздувая ноздри, сказала мне: «Видеть его не могу! Отдала, называется! Если б я знала, для чего отдаю, лучше б ему гореть!» И я, донеся стол до помойки, грохнул его об асфальт так, что подломились сразу все ножки, будто он и вправду чем-то перед нами провинился.
Параллельно с паковкой я ходил в «инстанции» с письмом, в котором просил об отсрочке выселения, мотивируя ее «ценностью литературно-исторического архива», причем упирал больше не на письма и стихи опального еще Пастернака, а на записку Ленина. Смешно: я упрашивал советских чиновников чуть повременить, демонстрируя копию документа, где высший бог советского Олимпа собственноручно начертал: «выселение семьи доктора Л.С. Штиха приостановить и не выселять ее вплоть до особого распоряжения». Я, без сомнения, принадлежал к этой семье, а распоряжений на наш счет вождь больше никаких не сделал.
Получалось в аккурат по ходившему тогда же анекдоту: Рабинович пишет письмо: «Москва, Кремль, Ленину. Убедительно прошу улучшить жилищные условия моей семьи. Рабинович». Его вызывают в приемную Кремля и говорят: «Вы что, издеваетесь? Ленин уже пятьдесят лет, как умер». Рабинович, качая головой: «Ну, конечно! Как для них – он вечно живой, а как Рабиновичу квартиру дать – пятьдесят лет, как умер».
Отсрочки я, естественно не получил, но очередной чиновник сообщил, что ордер на комнату уже выдан, и даже написал, кому. Я позвонил этим людям, представился, пригласил прийти посмотреть, что им досталось. Для них сорокапятиметровая комната, разгороженная на две, была даром Божьим – большая семья ютилась на каких-то крохотных квадратных метрах. Я объяснил свою ситуацию, сказал, что комната – их, я не собираюсь ничего оспаривать, но лишь прошу дать возможность собраться без спешки. Они спросили, сколько времени мне нужно, я попросил два месяца. Люди оказались добрыми, да, наверно, время на сборы нужно было им самим. Посочувствовали, обещали не беспокоить и слово сдержали.
И тут нам повезло. В жилотделе Свердловского района, от которого зависело, когда мы получим квартиру взамен комнаты на Масловке, с нами говорили любезно, сказали, что на трехкомнатные очередь маленькая, сложнее – с двух– и однокомнатными. То ли они действительно проявили чуткость, то ли после нашего визита нужная папочка так и осталась лежать наверху, я не знаю, но буквально через неделю нас пригласили за смотровым ордером. Двадцать третьего февраля, в день Советской армии, мы получили ключи от квартиры в Новых Черемушках и под праздничный салют за окнами окропили ее углы водкой. За март, сделав несколько рейсов, перевезли из двух квартир – Банковской и Масловской – все имущество, я даже не использовал до конца предоставленные два месяца. В последний вечер, когда все уже было увезено и оставалось только прибраться и вынести мусор, я не удержался и поменял на высокой старой двери в нашу комнату (я все еще называл ее нашей) дверную ручку. Поставил новую, хромированную, с современным изгибом, а старую – толстую, четырехгранную из латуни – открутил и забрал. Больше делать в этих стенах мне было нечего. Я позвонил новым хозяевам и сказал: «Все, можете переезжать. Ключ оставлю у Штейнгардтов. Всего вам доброго на новом месте».
А потом я спустился по лестнице своего родного дома, лестнице, которую знал наизусть и мог скатиться по ней бегом с закрытыми глазами – хоть через ступеньку, хоть через две, уверенно попадая руками и ногами в нужные места, где помнил на ощупь каждый бугорок и впадинку, – вышел в Банковский и пошел по Кировской к метро. Я подумал, что теперь смогу приходить сюда только в гости к чужим людям.
Мои старички
Собственно, здесь можно поставить точку. История о том, как Штихи и их потомки жили в квартире № 10 дома № 2 по Банковскому переулку, кончается именно на этом месте. Однако чтобы она была полной, нужно рассказать еще о нескольких судьбах.
После маминой смерти я стал чаще приходить на Беговую к Мише с Юлей – один или с Таней, а то и вместе с Пашей, сначала – в коляске, а потом и без. Два старичка, обремененные целым букетом болезней каждый, трогательно заботились друг о друге. Одним из установившихся ритуалов моего посещения вскоре стало измерение давления. Они имели для этого все необходимое – и сфигмоманометр, и фонендоскоп – большая редкость в то время: в открытую продажу эти вещи не поступали, их изредка можно было с огромным трудом достать по специальному рецепту. Миша и Юля, обладая дефицитными приборами, пользоваться ими так и не научились и всегда просили произвести над ними сложную операцию. Юля охала, когда я надувал манжету, почему-то это причиняло ей боль. Потом, глядя в сторону, одними губами шептала: «Мишке не говори», – и я бодрым голосом врал, занижая показания на двадцать, а то и на тридцать миллиметров. При этом названное мной давление все равно получалось повышенным, Миша озабоченно качал головой и говорил: «Тебе нужно резерпин попить». Я переходил на другую сторону стола, и Миша, расстегивая запонку на рубашке, тихонько говорил в стол, прячась за моей спиной: «Юленьке не говори», – и я врал вторично. Оба они прекрасно понимали ситуацию, но давление мерить все равно каждый раз просили. Как в названии итальянского фильма – я знаю, что ты знаешь, что я знаю.
В лечении Миша был пунктуален, выполнял все предписания врачей и принимал лекарства строго по графику, лежавшему на столике около дивана. На этом же столике он аккуратно разместил пузыречки с каплями и таблетками, Юлину молодую фотографию и любимые книжки стихов – упоминавшийся мной томик Пастернака (с дарственной надписью Евгения Борисовича) и Маршака, его прекрасные взрослые стихи, почему-то мало популярные. Стихов Миша помнил наизусть огромное количество и мог долго их читать, свои и чужие, несмотря на склероз.
Когда случался приступ пароксизмальной тахикардии, вызывали «Скорую», но до ее приезда Миша, преодолевая сердцебиение (в эти минуты пульс доходил у него до 220 ударов в минуту), застилал газетами обеденный стол: он знал, что врачи обязательно поставят на него свои чемоданчики, считал это очень негигиеничным, но замечаний не делал по причине деликатности.
Так же пунктуален он был и во всем (вообще пунктуальность – характерная штиховская черта). Старенький, сильно шумевший холодильник не давал ему заснуть, и старички, посоветовавшись со знающими знакомыми, решили заменить его тихим абсорбционным (безмоторным, как они говорили). Когда я водружал новенький чистый «Саратов» на место, Миша линейкой проверял расстояние до стены и до батареи – в инструкции к холодильнику значилось «не ближе, чем.». В последующие дни этот документ прочно занял место на его приди-ванном столике рядом с любимой поэзией. А через месяц он позвонил мне на работу (телефон в Черемушках нам поставили лишь спустя тринадцать лет). То есть перезванивались мы ежедневно, но так, вообще, а этот звонок был внеочередным. Миша разморозил холодильник, сделав все по инструкции, потом поставил его на заморозку, а тот вот уже четыре часа никак не замораживается. По голосу чувствовалось, что Мишино состояние близко к паническому.
Я попросил конкретизировать ситуацию. Оказывается, процесс заморозки находился под строгим контролем: в морозилке лежал комнатный термометр, Миша периодически его вытаскивал и смотрел – по инструкции должно быть не выше минус шести, а он едва-едва дотягивал до нуля. Я спросил: «А как часто ты его проверяешь?» – «Ну, не знаю, может, минут через пятнадцать». Я представил себе, как подслеповатый дядя Миша (на одном глазу что-то около минус восьми, второй совсем не видел, в оправе под стеклом стояла черная бумажка) проверяет температуру в холодильнике: заходит в угол, открывает дверцу, медленно нагибается, ищет крышку морозильника, на ощупь вытаскивает градусник. Потом ему, наверно, нужно повернуться к окну и поднести прибор почти вплотную к зрячему глазу, и так далее – на всю операцию минуты три, не меньше. За это время и холод из морозилки уходит, и термометр показывает совсем не то.
Я посоветовал: «Ты его закрой и не трогай часа два-три, он наберет холод, и все получится». Миша с тоской и надеждой спросил: «Ты думаешь?» В его голосе слышалось сильное сомнение. С одной стороны, я был инженером, то есть назывался так же, как весьма уважаемые в его юности люди, которые носили пенсне и форменные фуражки и знали, что говорили. С другой стороны, многое в моих высказываниях он привык относить на счет молодого легкомыслия (часто – небеспочвенно). В общем, в этот день он звонил еще несколько раз. Выдержать три часа он, конечно, не смог, но мучить несчастную машину все же стал реже, постоянно в подробностях сообщая мне о медленном улучшении ее состояния. В итоге холодильник вышел-таки на обещанный инструкцией режим. Ночью Мише вызывали «Скорую».
Весь следующий месяц мы постоянно обсуждали технические аспекты проблемы разморозки. Я старался убедить его производить эту операцию по необходимости, когда нарастет «шуба», если ее нет, пусть себе работает. Но в инструкции было четко сказано: «раз в месяц». И Миша, сразу после перенесенного приступа тахикардии соглашавшийся с моими доводами (как-никак, инженер), по мере приближения проклятого числа все больше сомневался в моей правоте (ведь и инструкцию писали инженеры). Накануне он мне сообщил: «Ты знаешь, я все-таки решил его завтра разморозить». Отпросившись с работы, я поехал на Беговую. Мне стало ясно, что теперь ежемесячно один из зарабатываемых отгулов придется тратить на разморозку «Саратова». Я проклял составителей инструкции, не удосужившихся написать «приблизительно раз в месяц». Единственное, в чем Миша мне поверил, так это что холодильник не знает календаря и «месяц» можно трактовать как «тридцать дней». В марте, после короткого февраля, мы сдвигали график разморозки на два дня.
Мишины рассказы
Мише и Юле повезло с районным лечащим врачом: Татьяна Константиновна Экслер была молода, интеллигентна и к ним очень внимательна. За глаза Миша называл ее «наша милая докторша» и «наша Экслерша». Выяснилось, что она любит поэзию, восхищается стихами Цветаевой. Миша ее осчастливил, дав на время синюю цветаевскую книжку из Большой библиотеки поэзии. Татьяна Константиновна вернула ее быстро, не задержав. При этом она успела едва ли не целиком переписать толстый сборник в несколько тетрадей.
Летом одного из последних семидесятых годов Юлю уложили в больницу с гипертоническим кризом. Она очень волновалась – не за себя, а «как там Мишка один будет». Из-за часто повторявшихся приступов она приспособилась не оставлять его одного дольше двух, в исключительных случаях – трех часов.
Я переселился на время на Беговую. За тот период, около месяца, я и узнал большую часть из поведанного мне Мишей. Слава Богу, я уже немного поумнел, у меня хватило соображения расспросить своего старенького родственника о прошедшем и что-то записать. Рассказывал он хорошо, да и поведать ему было о чем. Я притаскивал папки с фотографиями, мы их вместе рассматривали: отдыхающих (а где люди чаще всего фотографируются?) дам в шляпках и с кружевными зонтиками, застегнутых на все пуговицы мужчин, рядом – собаки, лодки, лошади, автомобили. Я стал уже достаточно взрослым, чтобы узнавать стариков на их детских фотографиях. Он называл годы – четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый (там еще было весело), людей, вспоминал ситуации, потом замолкал, задумываясь о чем-то, чего не расскажешь. Одновременно он с воодушевлением читал стихи, вспоминая поводы и истории их написания. Я слушал и пытался представить его – маленького, щуплого старичка – юным влюбленным или мальчиком-гимназистом.
Обсуждали мы с ним и современное. Дяде Мише очень нравился Галич в обеих его ипостасях – горькой и едкой. Окуджаву воспринимал спокойно, не восторгаясь. Когда я прочитал ему два моих любимых стихотворения Матвеевой – «Дома без крыш» и «Девочка из таверны», он отринул их сразу, споткнувшись о деепричастие «ища» («Ты уехал, новой судьбы ища»), – слово, с его точки зрения, абсолютно недопустимое в стихах. До моего знакомства со стихами Бродского Миша не дожил двух лет, могу лишь предполагать, что они ему понравились бы: то, что он особенно любил в поэзии, было очень близко к интонации Бродского.
Когда в конце шестидесятых из полузапрета стали возвращать песни начала века – Вяльцеву, Панину, Вертинского, – я принес на Беговую их первые – настоящие, не «на ребрах», пластинки. Оказалось, что здесь я промахнулся: это искусство воспринималось Мишей и Юлей скорее иронически, они считали его несколько моветон. Юля, правда, иногда точно подпевала тоненьким старческим голоском, в котором отчетливо слышалась профессиональная постановка шестидесятилетней давности (она училась в консерватории Шора). Про Вертинского дядя Миша вспомнил историю, как тот выступал уже в образе Пьеро где-то у Петровских ворот через вечер в очередь с французским шансонье (кажется, мсье Жанно). Француз одевался матросиком и пел в чем-то схожий репертуар, они с Вертинским смертельно конкурировали – аудитория у них получалась общая. Потом Вертинский написал несколько новых песен, принятых публикой «на ура», на него пошли, Жанно оказался в прогаре. Но через некоторое время что-то новое придумал француз. И когда какой-то новой песней он сорвал бешеные овации зала, в боковой ложе вдруг послышались громкие, лающие рыдания. Повернувшаяся на плач публика увидела Вертинского, который до этого прятался за портьерой, – его сразил наповал успех конкурента.
Однажды я видел, как Михаил Львович – профессиональный юморист и фельетонист – читает смешное. Я принес ему листки с самиздатовским Хармсом, «Веселых ребят». Миша сел к столу, приблизил бумагу к толстой линзе зрячего глаза и начал читать. Четыре или пять листков он изучал несколько минут, ни разу не улыбнувшись, очень серьезно. Я решил, что опять промахнулся, все же Хармс – литература специфическая, он ближе скорее к современному «стёбу». Миша дочитал, поднял лицо и сказал восхищенно: «Господи, до чего смешно!» И еще помню, как он радостно смеялся, читая озорные детские стихи Олега Григорьева из его первой книжки, такие, например:
Тонет муха в сладости В банке на окне. И нету в этом радости Ни мухе и ни мне.Потом Миша читал свое юношеское:
Бессмертники в граненом графине. Знаете, это было тогда, Когда жили на свете князья и графини — В давние, давние года. В воскресенье вербное, спозаранок, Еще не остывший от детских снов, Я раскладывал цветных шерстяных обезьянок По уютному одеялу из лоскутов. И все было празднично, просто, светло так — В весеннем небе серебряный серп, Дребезжанье новорожденных пролеток И пушистые котики пасхальных верб. Только взрослые почему-то не радовались веселью: «Пусть путь их будет светлее, чем наш». А за окном весна исходила капелью И стучалась к нам, в третий этаж. Вырос. Теперь если смеюсь – не верьте, Теперь я узнал и узнал навсегда, Что даже бессмертники не уйдут от смерти, Что все ушедшие не вернутся никогда.Он писал это двадцатилетним, самое время для стихов «о юности и смерти». Теперь, за восемьдесят, близкая кончина стала реальностью, и он писал о ней совсем по-другому. Несколько лет спустя, разбирая его бумаги, я наткнулся на записку, относившуюся как раз к тому времени. На листочке в клеточку четким, аккуратным почерком было написано:
Дорогие мои соседи!
Если я скоропостижно загнусь (все может быть!), пожалуйста, сообщите – по возможности срочно – Сереже.
На работу ему звонить по телефону 350-26-95, спросить тов. Смолицкого. Если по этому телефону не ответят, телефоны в соседних кабинетах 350-36-44 и 350-59-51. Можно также позвонить (если это будет выходной день) Сережиному отцу Виктору Григорьевичу по телефону 326-77-23 или в любой день Ната, шиным подругам Гедде Алекса, ндровне и Агде Алекса, ндровне 152-46-82.
В крайнем случае можно позвонить в соседнюю с Сережиной квартиру 122-72-02 и попросить передать Сергею Смолиц-кому (если только не подойдет к телефону кто-нибудь из детей), что с его дедушкой Михаилом Львовичем случилась такая-сякая беда.
А вам всем от души желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!
М.Л.
Пунктуальный Миша хотел по возможности предусмотреть все ситуации и исключить ненужные случайности. Больше всего в этой записке меня поразило заботливое предупреждение «если только не подойдет к телефону кто-нибудь из детей».
Когда Юля поправилась, я привел ее домой (она лечилась в Боткинской, от ворот до ворот – метров двести). Миша ждал, они обнялись, очень трогательно и как-то скорбно всматриваясь друг в друга. Наверно, в этот момент они видели не то же, что я.
В апреле семьдесят девятого наша семья увеличилась, родился еще один сын. Мы назвали его Мишей, и Миша старший, приходящийся новому человеку двоюродным прадедушкой, очень радовался и гордился тезкой.
Юля сетовала, что не видела нашей квартиры в Черемушках, я все звал ее приехать, она отговаривалась невозможностью оставить своего Мишу надолго одного. В конце концов мы все-таки устроили этот визит: я приехал на Беговую, поймал такси, и Юля, пообещав не задерживаться долго, волнуясь, поехала. Она сама давно уже не совершала таких дальних путешествий.
В Черемушках, когда мы отпустили такси, выяснилось, что лифт отключен. Я бегом сгонял к нам на девятый этаж, принес ей стул, вниз спустилась Таня, мы ахали и охали. В диспетчерской, куда я успел сбегать, сказали, что ремонт займет несколько часов, ждать столько она никак не могла. Ситуация складывалась – глупее не придумать. Я уже собрался, проклиная в душе коммунальные службы, идти ловить такси, чтобы везти Юлю обратно, но тут моя двоюродная бабушка повела себя неожиданным для всех образом. «Ну что ж, – сказала она, – приехала, так надо идти», – и двинулась к подъезду. Я оторопел: «А ты думаешь – дойдешь?» Мужественная Юля сказала: «Постараюсь». Памятуя, каким переживанием для обоих супругов было отключение их собственного лифта, когда ей однажды пришлось подниматься на третий этаж, я предложил: «Давай я тебя на руках отнесу». – «Как это?» – переспросила Юля. Я показал: «Вот так». – «Нет, – сказала она строго, – этого я не люблю». И пошла.
Двигалась она медленно, с трудом одолевая каждый марш, но улыбалась. Я шел рядом, таща стул, которым она воспользовалась один раз где-то посередине. Наверху нас, потихоньку всхлипывая, ждала Танина мама, Александра Ивановна. Человек тоже, как и Юля, очень хворый, она тогда лучше всех нас понимала, чего стоило это восхождение человеку на исходе восьмого десятка.
Квартиру Юля одобрила: «Светлая». Походила по комнатам, изредка задерживаясь взглядом на давно знакомых предметах, как бы оценивая их новое положение, кое до чего дотронулась рукой. Потом выпила чаю и вздохнула: «Пора». В дверь позвонили – это пришли из диспетчерской доложить, что лифт уже досрочно починили. Мы спустились, я поймал такси. Садясь в машину, Юля тихо, озорно засмеялась и погрозила мне пальцем: «Мишке про лестницу не рассказывай».
Последний с фото Чеховского
Последняя Мишина болезнь продлилась чуть меньше недели. Началось с простуды, потом стало хуже, потом – совсем плохо.
Когда я приехал в очередной раз, он лежал в полузабытьи, не говорил и было уже непонятно, слышит ли он обращенные к нему слова. Через некоторое время после меня пришла Экслер. Ей, врачу, все стало ясно с одного взгляда, что выразилось в протяжном грустном «О – о – о!» Она пощупала пульс, потом, не выпуская его руки, несколько раз громко позвала: «Михаил Львович, вы меня слышите?» – и Миша тихо-тихо выдохнул что-то, обозначающее «Да». – «Вы узнаете меня? Как меня зовут?» В ответ, глядя уже по ту сторону, Миша, не смыкая губ, одними гласными произнес что-то длинное. Она не поняла: «Что?» Я понял и перевел: «Он сказал: „Вы – наша милая Татьяночка Константинов-на“». Это были его самые последние слова. Я еще несколько раз приезжал, уезжал, звонил – никаких изменений не происходило. А потом позвонила Юля и сказала: «Все. Он просто дышал и вдруг перестал».
В восемнадцать лет Миша Штих написал стихотворение «Японская курма»:
Я оставлю, когда умру, Просьбу, только просьбу в наследство: Заверните меня в красную курму И вспомните мое далекое детство. Я помню – тогда, тогда — Диковинные японские звери Как слова «Калиф» и «Багдад» Распахивали сказочные двери. И каждый зверь оживал И двигался по красному шелку, Я с ними обо всем толковал, Но в общем, не понимал их толком. А на мертвом, шелковая курма (Право же, это не так нелепо!) Разгонит и оживит дурман Погребальных великолепий.Когда я прочел его первый раз, оно мне не понравилось, и я не стал уточнять, что это такое – курма. (Кстати, я не смог выяснить этого и потом, как ни пытался. Все знакомые востоковеды и переводчики терялись в догадках, или предлагали в качестве вариантов слова «карма» и «хурма»8.) Я вспомнил это стихотворение, когда обряжал легонького Мишу в старенький голубовато-серый костюм и завязывал на нем галстук. «Тетя Юля, а что на ноги?» – Миша давно не выходил из дому, и я много лет видел его только в тапочках. Юля полезла в шкаф, поискала и протянула мне – я не поверил и задал дурацкий вопрос: «Это что – те?» Но она поняла и кивнула. Это были они – мои темно-вишневые, из которых я вырос в шестьдесят пятом, пятнадцать лет назад, все еще «почти как новые».
Так что хоронили его без шелковой курмы, но, думаю, спустя шестьдесят четыре года он и сам не стал бы на ней настаивать.
Зато я выполнил вторую половину просьбы – все, что знаю о Мишином детстве, вспоминаю постоянно. Оно, а заодно и детство его брата Шурки, моего родного дедушки, не отпускает меня. Оно вылезает из переулков и дворов Покровки и Мясницкой, почти таких же, как сто с лишним лет назад, глядит на меня с фасадов старых домов, подразумевая какой-то немой вопрос, который никак не складывается в слова, и я мысленно возвращаюсь и возвращаюсь туда, в далекое неведомое мне время. Наверно, я придумал его, это время, может быть, в нем больше от моего собственного детства. И может быть, поэтому там так хорошо?
Чужой
Юля прожила без Миши недолго – около полугода. Держалась с философской мужественностью, которую до того никто в ней не предполагал. Абсолютно не религиозная, о предстоящей кончине говорила спокойно, пожимая одним плечом: «Теперь, без Миши – что ж?» Однако продолжала жить по заведенному порядку, только готовки убавилось и мыть приходилось теперь лишь одну тарелку и одну чашку. Когда она умерла (быстро, от сердечного приступа), я был в командировке, и Таня сообщила мне телеграммой. Все хлопоты легли тогда на нее, но к Юлиным похоронам я успел вернуться. Опять нам полагался месяц на освобождение комнат, благо теперь хоть было куда все девать – книги, бумаги, какие-то памятные вещи. Синий том Цветаевой я подарил на память Экслер. Она благодарила и порывалась объяснить мне что-то, будто винила себя в смерти двух восьмидесятилетних старичков.
Часто попадая в центр Москвы, я везде наталкивался на что-то родное, переставшее быть моим, и повторял вслед за Окуджавой:
Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В Безбожном переулке хиреет мой талант. Вокруг чужие лица, безвестные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та. Я выселен с Арбата и прошлого лишен, И лик мой чужеземцам не страшен, а смешон. Я выдворен, затерян среди чужих судеб, И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке Слоняюсь вдоль незримой границы на замке И в те, когда-то мною обжитые края Все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.Разница получалась лишь в названии. А так – от моего Банковского до его Арбата не больше тридцати минут пешком.
Как-то, проходя по Варсонофьевскому переулку и прикидывая, в каком из домов жила Людоедка Эллочка Щукина, я вдруг увидел Софью Апкаровну Акопьянц. В кофейном отделе «Чаеуправления», где я теперь оказывался редко, она давно уже не работала. Я поздоровался, назвав ее по имени-отчеству. Она вскинула на меня свои огромные глаза, стала вглядываться, но по вежливой полуулыбке я понял, что вспомнить не смогла. Я сказал, что мы с мамой долго были ее постоянными покупателями. Она спросила: «А что вы брали?» – и, услышав про арабику с колумбийским, обрадовалась, закивала – узнала. Или сделала вид. Во всяком случае, бывшей королеве явно льстило, что один из подданных спустя столько времени помнит ее имя. Мы поговорили с минутку. Она сказала, что теперь – на пенсии, нянчит внуков. В темном плаще, с продуктовой сумкой, она совсем не походила на величественную владычицу главного кофейного прилавка Москвы, теперь она выглядела обыкновенной армянской бабушкой. «А что ваша мама?» Я рассказал о маминой смерти. Софья Апкаровна сочувственно вскинулась: «Пятьдесят лет, Боже мой! А какая она была?» – но с моих слов, конечно же, лица не вспомнила. Мы постояли вместе еще чуть-чуть. Говорить было, в общем-то, совсем не о чем, и почему-то от этого стало грустно. Пожелали друг другу всего доброго и разошлись.
А спустя несколько лет мы гуляли в центре с Пашей в одно из летних воскресений. Сын стал уже вполне осмысленным человеком и на мой вопрос: «Хочешь посмотреть на место, где я был маленьким?» – ответил естественным: «Хочу». Он тогда активно познавал мир и с доверчивой радостью соглашался смотреть все, что ему предлагали.
Лестница, дверь и звонок остались теми же. Открыла нам Неля Рыжикова, которая сразу меня узнала, обрадовалась, заахала, стала знакомиться с Пашей и звать Берту Львовну. Мы разговаривали в коридоре, я узнавал новости. Ниссон Евсеевич умер, с девочками все хорошо, переселение никому не светит.
К нам вышла соседка, жившая в нашей комнате, и стала с радушной настойчивостью уговаривать зайти. Это было единственное, чего делать я совсем не хотел, но она тащила нас чуть не за руки, соблазняла Пашу конфетами. Мы вошли.
Переступая порог, я, как и на дедушкиных похоронах, подумал: «Только не испугаться!» Но пугаться было нечего – все стало совсем не так, даже обои другие. Мы поговорили немного о том, о сем. Когда я отвечал на вопросы о детях, хозяйка неожиданно заплакала: ее сын отбывал срок – что-то уголовное.
Заглянули мы и к Николаю Розову. Он по-прежнему сидел на диване, все такой же, да и в комнате мало что изменилось – я узнал всклокоченного Бетховена и Моцарта в белом парике, они сильно выцвели, но одновременно выцвели и коричневые потеки, так что гравюры стали даже несколько благообразнее. Барометр стоял на своем месте, и его золотая стрелка по-прежнему показывала что-то на пустой шкале. Николай улыбался щелочками глаз. Спросил без выражения: «Это – твой?» – «Да, это Паша», – но Николай, казалось, не услышал имени. «А что Миша, Юля?» – «Умерли». Это известие никак на него не подействовало, он кивнул, продолжая все так же улыбаться.
Меня что-то беспокоило в его комнате, и я наконец понял: диван был застелен блестящей стеклотканью! Факт этот настолько меня поразил, что я не сразу узнал в столь неподходящем месте так хорошо знакомый мне материал.
– Дядя Коля, это у тебя на диване – стеклоткань?
– Не знаю, материя хорошая, не пачкается.
– Ты что же, и спишь на ней?
– Да. Очень красивая и практичная. Все время чистая.
– Дядя Коля, она вредная очень для кожи. Нельзя ее на диван класть ни в коем случае.
– Не, она хорошая. Удобно. Не пачкается. – И он, довольный, погладил ткань на спинке.
Как я ни старался, но так и не смог ни в чем его убедить.
Выйдя в коридор, поделился опасениями с Бертой Львовной, но она лишь, поджав губы, махнула рукой.
Тогда я работал в жестком режиме: месяц – в командировке, две недели – дома, так что снова оказался на Банковском только месяца через два, на бегу, уже собираясь снова уехать. Пришел с единственной целью – узнать, как Николай. Стеклоткань никак не шла у меня из головы. Опасения оказались не напрасными.
Дверь открыла Берта Львовна. После первых вежливых слов она сама сказала: «А Николашка болен», – и в ответ на мой вопросительный взгляд, стыдливо отведя глаза, добавила: «Зайди, сам увидишь».
Он сидел на диване, но не как обычно, за столом, а с краю, в одной короткой рубашке, которая едва прикрывала ему пупок. Между широко раздвинутыми ногами все было чудовищно воспалено. Стеклоткани на диване не было.
Увидев меня, Николай пошевелился и потянул рубашку вниз, как бы пытаясь прикрыться. «Вот, приболел». – «Тряпку ту блестящую давно снял?» – «Недавно. Врач сказал. Да она – что? Никакого отношения». – «Тебе надо чего-нибудь?» – «Не, все есть».
Через месяц, когда я, вернувшись в Москву, позвонил, мне сказали, что Николая похоронили соседи и тушинские родственники. Комната пустовала, в нее никого не заселили.
После этого я поднимался по старой лестнице еще только раз. Вовсю шла перестройка. Расселение коммуналок, с которыми за семьдесят лет так и не смогла справиться советская власть, с появлением новых состоятельных людей шло полным ходом. Дверь была другая, с глазком, и, нажимая кнопку звонка, я успел подумать, что делаю это напрасно. Через некоторое время изнутри раздался голос: «Вам кого?»
«А кого мне, собственно?» – подумал я и крикнул: «Рыжи-ковы здесь живут?» – «Нет, не живут», – ответили из-за двери. Да я понял это и так.
Эпилог
Я рассказал здесь о нескольких поколениях одной московской семьи. (Считая точно, в моей истории фигурировали представители шести ее колен.) Пора заканчивать.
Когда я появился на свет, дедушка Григорий Рувимович патетически воскликнул: «Подумайте! Человек, который сейчас родился, будет жить в двадцать первом веке!» Двадцать первый век наступил, и мне нужно напрягаться, говоря о времени, когда родились оба мои деда и бабушка Татьяна Сергеевна, уже не «прошлый век», а «позапрошлый».
Думал ли Лев Семенович Штих, поселившись в квартире на Банковском, что на этом месте его семья будет жить следующие восемьдесят лет? Вряд ли. Тогда наемные квартиры меняли легко. Но так случилось. Россия не может без крепостного права, и в советское время придумали прописку.
О какой жизни мечтал он для своих детей? Человеку свойственно, создавая семейное гнездо, заглядывать вперед. Говорят, после смерти аура умершего сохраняется вблизи тела сорок дней, потом исчезает. Аура, созданная старым доктором, держалась долго, постепенно разбавляясь и растворяясь в новом времени. Но, растворяясь, она передавала окружающему частичку себя и чуть-чуть меняла его цвет и аромат. Закваска оказалась крепкой, ее хватило надолго. А потом гнездо опустело и разошлось по веточкам. Осталась только память, моя память. Да еще ореховый шкаф, письменный стол с резными тумбами и несколько вещей размером поменьше. Стол давно нуждается в ремонте, руки все никак не доходят. А латунную дверную ручку я долго не знал куда девать: на картонных дверях, оклеенных пленкой «под дерево», она выглядела явно не на месте. В конце концов, я прикрутил ее на балконную дверь, та хоть частично деревянная.
Двадцатый век – мой век – стремительно удаляется, все прочнее становясь прошлым. Мой век уходит, мое время. Может быть, поэтому мой рассказ местами получился печальным – прошлого жаль уже потому, что оно – прошлое.
Помню, няня Марина все допытывалась у меня, маленького: «Ты кого больше жалеешь – папу или маму?» В народе часто так говорят. Жалеть – любить. Мне жаль того, что ушло, потому что я его люблю. Мне хочется задержать его, сохранить частичку своего ощущения той поры.
Сейчас мир вокруг очень быстро меняется. На моей памяти на нашей Кировской недалеко от почтамта находился междугородный переговорный пункт – чтобы позвонить по телефону в Ленинград или Тулу, приходилось ехать в центр Москвы, стоять в очереди, а потом, надрываясь, кричать в трубку. Сегодня я звоню Тане из уличного автомата с другой стороны Атлантики, а она отвечает по сотовому, собирая грибы в лесу под Рязанью. Может быть, в этом уже нет ничего удивительного, но я каждый раз вспоминаю тот переговорный пункт.
Без малого сто лет назад человечество пережило такой же бурный взлет техники, уверовав в ее всемогущество (какими наивными кажутся сегодня те достижения!) Первое отрезвление наступило, когда самый большой из когда-либо построенных пароходов, венец технической мысли своего времени, который многие всерьез считали непотопляемым, унес на дно океана полторы тысячи жизней. Потом имя «Титаника» стало нарицательным, о нем знают, наверно, все. Я видел его совсем близко. Секция Анны Николаевны Нелидовой сделала подводное дело (исключительно в гражданском его проявлении) главным интересом моей жизни, и сейчас, вот уже много лет, я по нескольку месяцев в году провожу в плаваниях. В наших подводных аппаратах «Мир» можно автономно погружаться на шестикилометровую глубину. Мне посчастливилось видеть через их иллюминаторы не только «Титаник», но и многие другие, не такие известные, но не менее поразительные вещи. Морская жизнь, когда недели и месяцы вокруг только небо и вода, замыкающиеся чистой, безупречной и вечной линией горизонта, хочешь того или нет, настраивает на философский лад, отдаляет суету и приучает больше любить простые ценности – семью, близких, дом. Как там, у дяди Миши:
Скатерть, стол, уют, тепло. Там тебя, тревогу пряча, Ждут и плавят лбом горячим Запотевшее стекло.И конечно же, в отрыве от дома часто и много я вспоминаю мой родной город – Москву, который с годами люблю больше и больше. Последнее вре– С. Смолицкий мя он опять, как и во времена молодости прадедушки, сильно меняется, сохраняя свое собственное, такое милое мне лицо.
Снова, как сто с лишним лет назад, Москва переживает строительный бум, становится чище, красивее, уютнее и цивилизованнее. Оставшиеся старые здания – особняки и доходные дома – обретают новых хозяев. Всю мою жизнь я привык видеть их ветшающими, облупленными, часто – с торчащей из-под штукатурки дранкой. Сегодня они радуют глаз свежей краской, подновленными колоннами и лепниной, а по вечерам еще и прекрасной подсветкой, этого раньше вообще не было.
Когда родился мой дедушка, население Москвы как раз перевалило за миллионный рубеж. Сейчас в нашем городе живут пятнадцать миллионов человек, и автомобилей уже в два с половиной раза больше, чем тогда жило людей. Это легче сказать, чем представить.
Площадь города увеличилась почти в шестнадцать раз, и я живу далеко за городской чертой, как она пролегала в дедушкиной или даже маминой молодости. Москва превратилась в город, по которому нужно ездить в автомобиле, я и езжу. Мне доставляет удовольствие катить знакомыми и новыми маршрутами, ждать, взбираясь на Большой Каменный мост, – вот сейчас из-за Дома на набережной слева выглянет храм Христа Спасителя, потом впереди – дом Пашкова, а сейчас с крутым левым поворотом в потоке машин уйду на Тверскую. или по бульварам. или по набережным – то быстрее, то медленнее, дальше и дальше по Москве. Другие люди идут или едут по своим делам теми же улицами, что и сто лет назад. Теперь уже мой старший, Паша, учась в институте, подрабатывал репетиторством.
Улицам и переулкам возвращают старые имена. Сердцем я радуюсь, читая такие уютные, такие московские названия: Трехсвятский, Николопесковский, Златоустинский или Гусятников – но запомнить их все мне, скорее всего, уже не удастся, я вырос в других. Деду было бы легче.
А еще в Москве для меня становится все больше осиротевших домов – тех, в которых жил кто-то близкий, а теперь – никого. Первое время сердце толкалось, когда проезжал мимо них – большого «правдинского» на углу Беговой и Второго Боткинского, где жили дядя Миша с тетей Юлей; длинного серого на Кутузовском, куда я ездил пить чай с пирожными у Натальи Михайловны Бонди; на углу Садовой-Триумфальной и Долгоруковской, мы гостили там с мамой у Нины Егоровой. Тогда Долгоруковская была Каляевской. И еще, и еще.
А многих домов уже нет. Трудно узнать Тургеневскую площадь – нет читальни, нет дома 29, стоявшего когда-то на углу Мясницкой и Водопьяного переулка, да и сам переулок исчез. Теперь на месте дома, где я провел первые три месяца жизни, – громадное здание новой архитектуры, в котором соседствуют Промрад-техбанк, Гута-банк, Инна-тур и другие важные конторы. Рядом, в начале Сретенского бульвара, высятся затейливые объемы здания Лукойла, напротив которого как-то теряется казавшийся раньше очень большим дом «Товарищества „Россия“».
Я проезжаю от Тургеневской дальше по Мясницкой, и – вот он, Банковский. Три окна во втором этаже видны с улицы, но, если позволяет время, я сворачиваю в переулок, ставлю машину и выхожу пройтись. Припарковаться в Банковском, Кривоколенном и соседних переулках стало трудно: машины стоят плотно. Машины, по большей части, дорогие: жилье в центре – опять прерогатива людей состоятельных. Я смотрю на старый дом и мысленно прошу – кого? – пусть постоит подольше. Ведь памяти нужно на что-то опираться.
И вновь вспоминается голос когда-то бывавшего здесь самого, наверно, московского поэта – Окуджавы, так почувствовавшего и полюбившего душу моего родного города:
За праведность и преданность двору Пожалован я кровью голубою. Когда его не станет, я умру, Пока он есть, я властен над судьбою.1
Конечно, правильнее говорить «в Водопьяном», как и «в Банковском», однако все мои знакомые – старые москвичи, жившие в этом районе, говоря «в Телеграфном», «в Потаповском» или «в Армянском», для Банковского, Водопьяного и еще нескольких переулков делали исключение; поэтому в своем рассказе о них я решил придерживаться такого написания.
(обратно)2
«Л.Ф. Пло. Мясницкая, дом Ермакова. Телеф. 1096 и 1072» – реклама технической конторы. Эйнем – кондитерская фирма, имевшая магазины в разных районах Москвы.
(обратно)3
Софья Соломоновна (в крещении – Федоровна) Виноград, в девичестве – Залманова, была родной сестрой Берты и Абрама Залмановых и матерью Елены, Владимира и Валериана Виноград.
(обратно)4
Может быть, в январе 1918 в Ярославле еще не привыкли к новым названиям, но в мандате написано «Министерство», хотя в стране уже действовали Народные Комиссариаты.
(обратно)5
Подчеркнуто М.Л. Штихом.
(обратно)6
По тогдашней нумерации.
(обратно)7
Именно так сказано в решении Моссовета
(обратно)8
Еще позже все же узнал. Когда книга уже готовилась в печать, один дотошный знакомый, Владимир Юрьевич Дьяконов, заинтересовавшись, выяснил, что курма – широкая кофта, надевающаяся поверх халата; носили ее маньчжуры, впоследствии заимствовали монголы, китайцы и даже русские в Приенисей-ском крае, особенно забайкальские старообрядцы (но не японцы). Та, с которой играл Миша, скорее всего попала в семью с Русско-японской войны (воевали-то в Маньчжурии), может быть – через Залманова, потому и считалась японской.
(обратно)



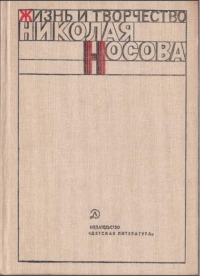
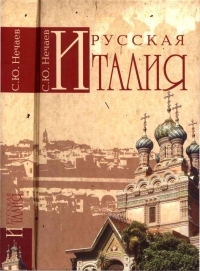
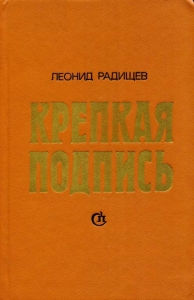

Комментарии к книге «На Банковском», Сергей Смолицкий
Всего 0 комментариев