Виктор Сиротин Лермонтов и христианство
Вектор Лермонтова
В книге «Лермонтов и христианство» Виктор Сиротин раскрывает перед читателем широкую панораму исторической жизни, причём не только России. Зная об этом из предисловия, всё же думаешь: не слишком ли широкий охват? Но автор сам отвечает на этот вопрос. И достаточно убедительно.
Казалось бы, тема не даёт повода для столь пространного анализа. Ведь в христианстве «давно всё ясно»! Однако автор рассматривает не только доступные всем принципы христианства, но и следование им. Он считает, более того – настаивает на том, что моральным принципам учения любому исследователю, а тем более исследователю творчества Лермонтова, необходимо уделять большее внимание. Ибо что, как не эти принципы, способствовало созданию современной европейской цивилизации?
Автор и не подвергает сомнению их духовную и нравственную сторону, но меряет благие намерения результатом. И если последние мало соответствуют первым, то не ищет оправдания «результатам». Лермонтов в книге рассматривается как фигура исторического масштаба, обогатившая культуру России и мира множеством шедевров. Но, по мнению автора, поэт не успел реализовать свой колоссальный потенциал. Отсюда пристальный интерес автора к духовным перипетиям его жизни. Великий поэт был православным христианином даже тогда, когда в своём творчестве подчас выходил за пределы непосредственно конфессионального вероисповедания. Наряду с поэтическими произведениями в книге рассматривается и выявляется столь же естественная связь мира внутреннего и внешнего, «в центре» которого как раз и находился поэт.
Автор берёт на себя смелость анализировать сложнейшие перипетии русской и мировой истории, не пасуя при этом перед проблемами глобального характера. В целях всестороннего, по возможности, уяснения проблемы, Сиротин прибегает к политическим и социальным проекциям, проводит параллели из самых разных периодов жизни российской и европейской истории, опирается на широкий исторический материал, прибегает к первоисточникам, рассматривает «изломы» эпох и причины духовного ущемления человека в его массовой ипостаси.
В книге Сиротина представляется актуальным его видение либеральной «болезни» (именно таковой она представляется автору) русского общества. Хотя бы потому, что рецидивы её в наши дни до странности совпадают с проявлениями «болезней» далёкого прошлого Российской империи.
На широком фоне исторической жизни России и Европы автор подробно, ярко и весьма убедительно анализирует выдающиеся произведения поэта – «Демон», «Ветка Палестины», «Три пальмы», «Дума» и ряд других. Свой анализ конкретных произведений автор «эвольвентно» (его термин) переводит в плоскость исторической жизни и наоборот. Именно в таковых переходах человеческой натуры Сиротин видит диалектику бытия.
Немалый интерес представляет теория «назавершённой дуги», которую автор прилагает к творчеству Лермонтова, но находит её параллели во всяком незавершённом творчестве. Широкий охват темы как будто отодвигает «словесный» анализ поэзии Лермонтова. Но автор делает это сознательно, поскольку «слов» до сих пор было много (считает Сиротин), – пора рассмотреть творчество великого поэта и под иным углом зрения. Полагаю, автор справился с поставленной задачей. В ряде аспектов новаторская книга Виктора Сиротина представляет интерес не только для лермонтоведов, литературоведов, филологов, но и для всякого образованного человека и гражданина, для всех, кто любит русскую литературу и не равнодушен к истории своей страны, а также к истории человечества.
И. П. Щеблыкин, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой «Журналистика» Пензенского государственного университетаОт автора
Уже название книги – «Лермонтов и христианство» – говорит о месте, которое я отвожу религии в жизни и творчестве поэта. Как громадному зданию необходим мощный фундамент, так и могучие произведения Лермонтова должны «стоять» на «глубоко врытом» анализе. Посему бытие поэта я счёл нужным предварить рассмотрением начал, на которые он так или иначе опирался в своём творчестве. Это определило структуру книги, её композицию и широту охвата.
Историческое христианство, уходя в прошлое, устремляется и в будущее человечества, что понуждает осмыслить его начала. Это важно потому, что сознавание и ощущение «Мирового духа» проходило не по одному вектору и носило разнонаправленный характер, одним из которых является христианство. Однако в силу вечного конфликта духовного и материального, событийное христианство не было тогда и не является сейчас некоей очевидностью, которой можно безапеляционно поверять явления жизни.
В силу подтверждённого историей фиаско многих религиозных учений в новейшее время происходит война даже не религий, а духовных деклараций, пытающихся заменить их мумифицированный архетип. Эти проблемы обусловливают рассмотрение прикладного выражения духовных связей.
Аpriory согласимся с тем, что «процент» христианства в творчестве Лермонтова не очевиден, как не очевидна и «точная» степень вовлечения поэта в тип учения. Потому для уяснения вопроса приходится останавливаться не только на внутренней, но и на бытийно сложившейся структуре христианства, вне чего теряет смысл сопоставление религии с творчеством великого поэта, как и со всяким другим творчеством. Автор льстит себе надеждой, что анализ этих категорий может помочь подобрать ключ к пониманию духовного феномена Лермонтова. В тексте я нередко прибегаю к курсиву, подчёркиванию и выделению слов, что, на мой взгляд, помогает выявить структуру мысли, даёт варианты и «отслаивает» уровни прочтения. Называю это «смысловой графикой». Привожу два простых, не связанных между собой примера:
«Духовно помрачённые «зилоты», в каждую историческую эпоху представая в новом сектантском обличье, может, даже и не осознают, что являются проводниками осатанелого отношения к жизни как таковой».
«Отсюда “пределы” отведённой человеку автономии и свободы, первая характеристика которой есть необходимость действия!».
В заключение хочу выразить особую признательность Наталье Купцовой, без чьей спонсорской помощи эта книга не вышла бы в свет.
Виктор СиротинЧасть I Лермонтов и христианство
Идя к истине, поклонись правде
I. Судьба Лермонтова
1
О Лермонтове ещё почти нет слов – молчание и молчание», – писал о поэте Александр Блок. С тех пор было написано много слов – и хороших, и умных, и не очень, но «молчание» так и не было нарушено… Роковой выстрел поставил в судьбе поэта точку, которая через время обратилась в многоточие. Не вызвав ни удивления, ни раскаяния в высших слоях общества, смерть Лермонтова прошла в России незамеченной. Веком позднее писатель и мистик Даниил Андреев, выводя трагическую судьбу поэта за пределы одной страны и ставя его творчество над конкретной национальной культурой, писал: «Но когда прозвучал выстрел у подножия Машука, не могло не содрогнуться творящее сердце не только Российской, но и Западных метакультур…»
С гибелью Лермонтова, писал Андреев, «оборвалась недовершённой миссия того, кто должен был создать со временем нечто, превосходящее размерами и значением догадки нашего ума, – нечто и в самом деле титаническое». Но не «творящие сердца» стояли в ту пору у русского трона, а большей частью случайные люди – «жадная толпа» мёртвых душ, отгородившаяся от своего народа не своими законами.
И в самом деле, в затянувшееся правление (1825–1855) Николая I незавидная участь ждала тех, чьи дела, мировоззрения и помыслы не укладывались в прокрустово ложе видения им жизни как службы. Приходится признать, что на особом подозрении у «Николая-Палкина» (А. Герцен) прежде всего была мыслящая часть русского общества. Как и в любом другом обществе не очень многочисленная, она легко умещалась на карающем ложе венценосного Прокруста. Из большого числа жертв николаевского режима отмечу лишь наиболее яркие светила русской литературы, коими являются А. Грибоедов, А. Пушкин, М. Лермонтов и Н. Гоголь. Так и не успев разгореться на всю силу, русские «звёзды» ярко обозначили себя на «небесной карте» мировой литературы. Уподобясь исчезнувшим из космического пространства, но столетиями излучающим свои лучи светилам, наше «созвездье», удаляясь и вновь становясь частью бытия Вселенной, открывается людям в своих неизведанных ипостасях, заветных мыслях, идеях и образах. Между тем «звезда» Лермонтова заслуживает особого внимания.
Подобно великому Данте рождённый быть «королём поэтов», Лермонтов не был «коронован» при жизни, а после смерти долго ещё не числился в когорте мировых олимпийцев. Последнее неудивительно, поскольку лавровыми венками увенчивают героев, как правило, те, кто имеет доступ к ним – венкам… Несколько поколений «уважаемых и маститых» литераторов были преисполнены недоверия к поэту, неподотчётного страха, неизъяснимого смятения и подчас негодования. Не зная, с какой стороны подступиться к Михаилу Лермонтову, большая их часть обходила вниманием его творчество, а при «внимании» старалась проскочить мимо сущности чуждого им по духу поэта. Потому Лермонтову «не посчастливилось ни в количестве монографий, ни в истинной любви потомства: исследователи немного дичатся Лермонтова, он многим не по зубам», – говорил Блок. Что уж говорить о современниках Лермонтова… Приходя в восторг от безвкусных, исполненных пустого пафоса вирш В. Бенедиктова (одно время даже «затмившего» великого Пушкина), они, не задумываясь и не мучаясь раскаянием, отдали придворной камарилье на заклание Александра Пушкина…
При жизни Лермонтова лишь самые проницательные – и в первую очередь выдающийся критик В. Г. Белинский – были изумлены «звёздной» яркостью его творчества. Но изумление единиц терялось во враждебности и непонимании поэта. Между тем русский писатель, художник, боевой офицер и не разгаданный по сию пору мистик по силе своего гения и масштабу ума был исключительно редким явлением в истории. Однако это не только не уберегло его от драматичной судьбы, но лишь ускорило трагический финал. Когда поэт жил и творил, то был загадкой для своих современников, а когда погиб, число тайн и загадок лишь умножилось. Шлейф из пустых домыслов и «разгадок» до сих пор волочится вслед за именем великого поэта.
«Венок» Лермонтова, оклеветанного молвой при жизни и, как оно издавна повелось, после смерти, и сейчас не свободен от «шипов» ничтожных клеветников и «насмешливых невежд». Окутав поэта тяжёлой завесой, всё это питается не изжитым во мнениях «невыносимым» характером его. И в самом деле. Не оставив о себе при жизни восторженных оценок, он ушёл, не попрощавшись ни с кем…
В своё время литератор П. А. Плетнёв писал своему коллеге Д. И. Коптеву с грубостью, довольно странной для академика и ректора Петербургского университета: «О Лермонтове я не хочу говорить потому, что и без меня говорят о нём гораздо более, нежели он того стоит. Это был после Байрона и Пушкина фокусник, который гримасами своими умел толпе напомнить своих предшественников. В толпе стоял Краевский (издатель Лермонтова. – В. С.). Он раскричался в «Отечественных записках», что вот что-то новее и, следовательно, лучше Байрона и Пушкина. Толпа и пошла за ним взвизгивать то же… Придёт время, и о Лермонтове забудут…» Примечательно в этом жутком отзыве то, что написан он в годовщину смерти Лермонтова – 15 июля 1845 г. Но если Плетнёву – адепту «старой школы» – можно ещё попенять возрастом, то у И. Аксакова, представляющего новое поколение, не было такого оправдания. Более деликатная по форме оценка Аксакова свидетельствует о неясности для него сути поэзии Лермонтова, как и его самого: «Поэзия Лермонтова – это тоска души, болеющей от своей собственной пустоты (?!) вследствие безверия (?!) и отсутствия идеалов». Даже Н. В. Гоголь, по-человечески глубоко удручённый гибелью Лермонтова, в статье о русской лирике уделил ему места меньше, нежели нынче забытому «поэту радости и хмеля» Н. М. Языкову… Известный журналист А. В. Дружинин в оценке Лермонтова был не только объективен, но, в отличие от «стара и млада», отражал мнение студенческой молодёжи. В статье «Сочинения Лермонтова» он отзывается на гибель поэта с глубокой горечью: «Много поэтов в мире погибало раньше срока – все славнейшие деятели русской поэзии сошли в могилу, не исполнив и половины того, на что их соотечественники могли рассчитывать, – но никогда ещё судьба не поступала так жестоко с надеждами, ею же возбуждёнными, никогда она так безвременно не похищала существа, в такой степени украшенного присутствием гения». Довольно путаным было отношение к Лермонтову поэта и критика Аполлона Григорьева. Не отличаясь дисциплиной мысли, он характеризовал свои статьи как «статьи халатные, писанные нараспашку». В целом принимая поэта, Григорьев, как и Шевырёв, «боролся» в лице Лермонтова с «гордыней духа», занесённой с Запада. Оба они, не распознав истоки противоречий великого писателя и человека, не вняли тому, что его гений принадлежал мировому культурному пространству. Не поняли они и то, что Россия, будучи частью эволюционного становления мира, является катализатором как болезней, так и достижений всей эпохи.
Изучение Лермонтова в духе старой академической науки началось главным образом в конце XIX в., когда представители новой культурно-исторической школы стали рассматривать художественную литературу в связи с историей общественной мысли. Это был шаг вперёд в исследовании русской литературы, но не в отношении Лермонтова… И это поколение, как и предшествующие ему, прошло мимо сущности поэта.
Даже став академиками и далеко «опередив» Лермонтова по возрасту (а может, по этой причине), критикам неудобно было видеть в поэте больше, нежели крайнего индивидуалиста и скептика, – предтечу «нигилистов», романтика байроновского толка. И они, лишь касаясь религии поэта или вовсе не упоминая о ней, обозревали его бытие через линзу байронизма и демонизма, «отполированную» критикой ещё в середине XIX в.
Впрочем, в 1890 г. О. П. Герасимов пишет достойный внимания «Очерк внутренней жизни Лермонтова по его произведениям». Однако в нём он больше походит на психолога-практика, который симптомы болезни сводит к её причинам. «Психологический этюд» (подназвание очерка) Герасимова был бы очень хорош, если бы предметом исследования был поэт Н. М. Языков или даже Н. А. Некрасов, но не Лермонтов. И Герасимов, хоть и называл поэта «титаном», вряд ли ощущал его истинный масштаб. Но «социальный» подход в оценке Лермонтова характерен был для эпохи, почувствовавшей тектонические сдвиги, идущие как будто от социального неустройства России. И лишь в начале следующего столетия, когда весьма болезненно для страны заявило о себе духовное неустройство человека и общества, намечаются позывы к более серьёзному изучению внутреннего бытия Лермонтова.
Итак, прошло много времени прежде чем общество, остыв от «жара души» поэта и калёного «железа» его стихов, стало (не очень, впрочем, напрягаясь) пересматривать своё к нему отношение. «Скверный характер», высокомерие, нелюдимость и презрение Лермонтова к «пыли» мира сего уже не столь очевидно вменяются ему в вину. Впрочем, эти запоздалые послабления закономерны и легко объяснимы.
И впрямь: «несносный характер» поэта не в состоянии уже проявить себя, а разящие стрелы ума не могли никого ранить. Те же, кто имели «ранения», либо ушли в мир иной, либо старались никому не напоминать о том, за что, собственно, они их получили… Хотя, и новые имена в литературе и критике в силу разных причин не могли адекватно воспринимать величественное творчество и склад души Лермонтова. Таким образом, затянувшееся «молчание о Лермонтове» не прерывалось. Никем. Правда, Лев Толстой обронит с кем-то в беседе: проживи Лермонтов дольше, то «не нужны были бы ни я, ни Достоевский»… Но, опять же, на такое смелое высказывание мог отважиться лишь отряхнувшийся от праха земного великий старец, ибо в его жизни тщеславие не играло уже заметной роли. Были ещё пронзительные характеристики, которыми почтили Лермонтова философ Вас. Розанов, литератор С. А. Андреевский и П. П. Перцов. Скажем ещё, что даже среди них особняком стоит мистическое видение судьбы и творчества Лермонтова Д. Л. Андреевым. Но это, пожалуй, всё. Словом, и эти старания увидеть поэта в свете тяжкой доли духовного избранничества, не получив развития, не отозвались эхом в «общественном молчании». Лермонтов предвидел это: «…ни счастия, ни славы / Мне в мире не найти; настанет час кровавый, / И я паду; и хитрая вражда / С улыбкой очернит мой недоцветший гений», – писал он в год гибели Пушкина.
Инициативу учёных подхлестнул первый большой юбилей поэта. В 1914 г. профессор и богослов С. Н. Дурылин издаёт книгу «Судьба Лермонтова», Л. П. Семенов – «Лермонтов и Библия», М. Никитин – «Идеи о Боге и судьбе в творчестве М. Ю. Лермонтова», а С. В. Шувалов пишет принципиальную работу «Религия Лермонтова». В них авторы рассматривают отношение Лермонтова к Богу, Библии, судьбе; делается попытка проследить истоки навязанного ранее «богоборчества» и «демонизма» поэта.
В послереволюционном – советском – периоде литературоведения возобладал принцип исследований, акцентированных на структуре и звуковой стороне произведений. То есть последние оценивались с точки зрения строфики и размера.
При анализе, проводившемся «под флейту водосточных труб», литераторы или не обращали внимания, или извращённо трактовали духовное содержание и идейную напряжённость вещей. Подходя к явлениям человеческого духа с «гаечным ключом» прогресса, идеологических пристрастий и «логарифмической линейкой» анализа, литературоведы новой формации самим стилем своих разработок ставили под сомнение необходимость в творчестве самого главного – духовной ипостаси человека (Доп. I)[1].
В предвоенные годы возникает целая плеяда исследователей (Л. Я. Гинзбург, Е. Н. Михайлова, И. Л. Андроников, В. А. Мануйлов). Однако и они, кто вынужденно, а кто «с пониманием», избегали рассмотрения духовных и религиозных мотивов в творчестве поэта, отдавая предпочтение его «революционным» настроениям. Если же касались их, то невзначай, однозначно трактуя в ипостаси богоборчества. К примеру, В. А. Архипов в своей книге «М. Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия» договаривается до атеистического мировоззрения поэта, что вполне соответствовало «прокрустовой идеологии» советской эпохи. Дальше – больше, но в тех же рамках. Ибо «шаг в сторону», как то было с видением судьбы Лермонтова «мистиком милостью Божией» Д. Андреевым, признавался побегом от «единственно верной» идеологии и донельзя политизированных литературных концепций. Но трижды прав был Михаил Булгаков, заявивший: «Рукописи не горят». Прав в том смысле, что их содержание не подвластно влиянию идеологических и политических систем, как и волевым запретам власть имущих. Поскольку великие произведения, не теряясь в эпохах и не умаляясь со временем, перестают принадлежать лишь отдельной нации и культуре, но становятся достоянием всего человечества. Время же, подобно линзе возвеличивая явление культуры, возводит его во вселенский масштаб. Это целиком и полностью относится к Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Итак, «бежали» не все. Наиболее честные и принципиальные почитатели русского гения ощущали глубину его творчества и искренне преклонялись перед настоящим Лермонтовым (Э. Г. Герштейн). Но таких было не так уж много. Как в силу объективной сложности (я бы сказал – духовной элитарности) творчества поэта, так и потому, что работники идеологического фронта, партийные кормчие и «послушный им народ» в лице понимающих всё с полуслова диссертантов, завели науку о Лермонтове в тупик. Именно так. Потому что рассматривать творчество поэта «без Бога», т. е. минуя самое главное в его произведениях, значит говорить не о нём. Увы, те, кто видят на уровне воробья, претендуют на орлиное зрение, а кто зрит не дальше своего носа – заботится лишь о линзах. Ясно, что не они и не те, кто превратил литературоведение в паланкин для идеологии, входили в братство бескорыстных и самоотверженных деятелей науки. Тенденция к разностороннему изучению творчества Лермонтова подвела к углублённому отношению к теме, что означало пристальное внимание к внутреннему миру поэта. Таковая позиция обозначила себя в конце XX в., когда духовному бытию официально «дозволено было быть».
В этот период изучение мира Лермонтова, сподобившись большей внимательности, наконец-то сдвинулось с насиженного места, знаменуя усиливающийся интерес к творчеству поэта. Правда, некоторое разнообразие в запоздалый «триумф» вносит устойчивое ощущение, что иные лермонтоведы при жизни поэта были бы его врагами… Как, впрочем, немалая часть «лермонтовской» бюрократии и номенклатурных поклонников поэта (Доп. II). И вот ещё что: независимо от идеологии, из многих работ о Лермонтове отнюдь не следует, что он гений… То есть гениальность, конечно, признаётся, но она не вытекает из текста. Создаётся впечатление, что величие поэта приносится в жертву «юбилейному признанию» его.
Отчего же нет?! Если восхищённо-парадное (не путать с восторженным), «юбилейное понимание» творчества, совершенно чуждое духу Лермонтова, вызвало бы его неудовольствие, то «учительское» определение рамок и всех точек над «i» в его произведениях, скорее всего, спровоцировало бы хорошо известный современникам сарказм поэта. Таким образом, и восхищённые лишь до первой иронии, и «покровительствующие» не позднее «железного стиха» Лермонтова (не говоря уже о домысливающих, ложно мыслящих, немыслящих и откровенно лгущих), несомненно, пополнили бы собой ряды его врагов.
Что ж, и то, и другое, и «третье» понятно: истинные величины, даже и восхищая, являются привлекательными для апологетов лишь в тех случаях, когда с ними исключены личные отношения. Живые исторические фигуры никогда не создавали вокруг себя умиротворённо-житейское и, тем паче, безответно-кладбищенское спокойствие. Собственно, они потому исторические, что всегда рассматривали человека и исследовали его таким, каков он есть. В этих целях выдающиеся авторы прибегают к художественным средствам, достигая порой большей правды и убедительности, нежели она присутствует в самой жизни. Потому и через столетия их творчество продолжает жечь пороки, как говорил поэт, «счастливых в пыли». Но и оно же, раздавая всем сестрам по серьгам, возвышает тех, кто того достоин, чему лучшее подтверждение сам Лермонтов. Кто бы и каким бы изворотам ни пытался подчинить творчество поэта, оно остаётся в русле, которое ему отвело само Провидение. Собственно, в этой мысли убеждает отсутствие фундаментальных трудов, раскрывающих бытие Лермонтова. Лишь за редким исключением изучение наследия поэта, столь не удобного для всякого идеологического клише, ведётся с пониманием сути дела, высоты задач, личной ответственности перед историей и отечественной литературой. Хочется надеяться, что феномен Лермонтова разбудит мысль ещё и в других областях знаний. И тогда его наследие станет объектом истинно научного и, что важно, универсального изучения, продвигаясь в направлении исторического восприятия судьбы и творчества великого поэта и человека. И ведь пора, давно пора!
На удивление разносторонне и богато одарённый, имевший ясный, аналитический склад ума, Лермонтов отличался силой духа и волей, обличавшей в нём природное право на власть. Он в полной мере наделён был качествами, способными обогатить историческое содержание эпохи, в то время особенно нуждавшейся в личностях такого масштаба. Но этого не произошло, как не случилось в русском обществе и осознания этой возможности, причём как в XIX в., так и в новейшее время. Обделённый пониманием при жизни, поэт и сейчас остаётся в истории мировой культуры загадочным гением, просчитать реальный потенциал которого не представляется возможным. И не только ввиду грандиозности натуры Лермонтова и бедности фактического материала, а потому ещё, что он не успел привести к надличной цельности своё творчество. Хотя и то, что есть, возвышает поэта над многими признанными величинами.
Собственно, не в них дело. Всякий исследователь обязан внимательнейшим образом вчитываться в произведения духовного титана, который (мы тоже склонны этому верить) обладал не одними только достоинствами. Увы, несмотря на то, что великий человек интересен прежде всего тем, чем он отличен от простых смертных, а не тем, чем напоминает их, общественный обыватель всегда нацелен на открытие в нём качеств, в первую очередь присущих ему самому. В случае с Лермонтовым современников раздражал, пусть и не осознаваемый ими, масштаб его личности. Потому и не прощали они ему то, что в большей мере присуще было им самим. Увы, человек в принципе склонен не замечать в себе качеств, которые ненавидит в других. И ничего тут не поделаешь: пигмей, стоящий рядом с гигантом, видит только пыль на его сапогах…
Итак, в свете высшей – духовной – реальности будем помнить о презумпции уникальных качеств творческой личности – и в моральном отношении, и в исторической жизни народа куда более важных, нежели количество по-житейски комфортных повседневных свойств. Будь то обиходные несовершенства, соседствующие с ними добродетели и прочие человеческие особенности, которые столь же естественны и понятны, как невозможность в одном случае избавиться, а в другом – обойтись без них. Но при всей распространённости и невероятной живучести пороков, как и хилых добродетелей, в жизни нередко меняющихся своими местами, не ими крепится общество, а теми, кто видит и осознаёт себя ответственным перед историей. При такой расстановке приоритетов злободневность является не более как сопутствующим фактором, поскольку ограничена мерилом «сего дня», в путанице которого порой алогично сменяются облачные, радужные или драматичные события.
Осмелюсь утверждать, что истинными подвижниками духовной жизни и делателями истории являются личности, которые действенно сохранили нравственную силу. Вне зависимости от статуса признания или степени отверженности, именно их дела и творчество более, нежели чьи-либо, свидетельствуют о жизни общества. Ибо, являясь частью истории, общество живёт теми, кто её двигает. А то, что именно они чаще всего не вписываются в политический антураж государства, социальные «пейзажи» эпохи и «виды» общества, в первую очередь свидетельствует об их избранничестве. Здесь заявляет о себе феномен изгнания из общества самого существенного в нём.
2
Что заставляет «работать» этот явный или скрытый механизм отторжения? Если коротко, то несовпадения внутренней структуры личности и жизненных устоев современного ей общества. В особенности если личность творит, то есть создаёт свой мир, плохо совмещающийся, а подчас противостоящий «утильному» существованию общества. Парадокс состоит в том, что «разность» эта как раз и несёт в себе строительное начало. Поскольку истинно нравственное, вдохновенное творчество, явленное в уникальном даровании, реализует себя в масштабе созидательной сущности. В этой ипостаси творчество свободно от всего, что безнравственно, что противостоит или не соответствует его истинному предназначению. Вместе с тем процесс созидания всегда конкретен и содержит в себе единство смысловой структуры и художественной формы, без чего не является таковым. Сама же художественная вещь закончена тогда, когда явлена в сущностях вещей.
Впрочем, здесь не мешало бы, по возможности внятно, обозначить критерии законченности, ибо в «явленности» произведения не всё так просто. Хотя бы потому, что в живую ткань вдохновенного труда вплетаются идеи и образы, подчас выходящие за пределы непосредственно художественной вещи. Реальность этого подтверждает великое разнообразие жанров и сюжетов, содержание и возможности каждого из них, как и стиль самих произведений. В творчестве Лермонтова сконцентрировано именно такое – чуждое обиходности, но явленное в высших своих измерениях творчество. Разрывая условные границы между образами и реальностью, его вдохновенная мысль вмешивается в духовное пространство, в пределах заданной темы подчиняющее себе преходящую реальность.
Под таким углом видения проблем творчества представляется очевидным, что чрезмерный интерес ко всему «легко усвояемому» в бытии Лермонтова, слишком занимая иных исследователей, уводит их внимание далеко в сторону от существа дела. «Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое!» – изумлялся Вольтер, великодушно опуская «письменность» их. Ясно, что таковому типу сочинителей не доступно то значительное в Лермонтове, что Блок назвал неоткрытым кладом, который до сего дня лежит под спудом. Именно коллизии внешнего плана, привлекая нездоровое любопытство незадачливых авторов, лишают их столь необходимой для полновесных исследований внутренней зоркости и видения целостности наследия поэта. Сам же Лермонтов, как нарочно, является плохим помощником даже и самому честному исследователю. Его, не боявшегося «мнений света», не особенно заботило, что будут писать и говорить о нем после его смерти. Словом, закрывшись от всех, поэт стремился лишь сохранить в себе то сокровенное, что могло вести его к постижению истинной – духовной – реальности. Но, как следует из первых дыханий его музы, представления Лермонтова рушились от «злобного воя» внешнего мира. Нехотя и через силу возвращаясь в общество из своего «царства», он пристально всматривался в этот мир – в душе поэта давно пережитый, а потому во многом чуждый ему.
Почему? Нет ли тут противоречия?
В судьбе Лермонтова и в самом деле обращает на себя внимание фантом недосказанного в своей парадигме творчества, в таинствах образов и духовной направленности, несомненно, явленного в сохранившихся литературных текстах и графике поэта. Потрясающая глубина прозрений поэта, уходящая в бездны надисторической жизни, духовное богатство и некая протяжённость внутреннего мира каким-то чудным образом роднят поэта с непреходящим «временем», духовно привязывая его к Всевечному, целостное ощущение которого давно уже утеряно в душе, уме и сознании «венца творения». Понимая это, Д. Андреев писал в «Розе Мира»: «Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры».
Но она потому и является миссией, что неразрывна с религиозностью поэта, которую, впрочем, неверно отождествлять с одним лишь вероисповеданием. Хотя бы потому, что даже и благочестие в последнем не дарует ещё благодати: для этого нужно нечто большее. Очевидно и то, что не всякая духовность отливается в религиозные (конфессиональные) формы. В этих «других формах» она может быть тождественной великим достоинствам, а может и «путаться» в несовершенствах гениев. И тогда, неся в себе элементы распада, она, являясь «чёрной духовностью», разлагает бытие. Словом, неверно, путая гениев со святыми, отождествлять гениальность с духовными и нравственными совершенствами. Ещё и потому, что и те и другие, существуя не только в личностных ипостасях, в той или иной мере являются детищами общественной среды, политического и социального устройства. Собственно, «святость» не является прерогативой избранников уже потому, что она исключает почти дерзновение, так необходимое для открытий в доступных человеку областях знаний и постижения бытия в его истинной сути. Как бы там ни было, «дерзкие», а потому завсегда неудобные, в одних случаях становясь жертвами социальных структур, в большинстве случаев олицетворяют те или иные «болезни эпохи». К этому добавлю, что в последней ипостаси доводится существовать как истинным, так и мнимым величинам, тоже помеченным историей. А потому прислушаемся к мысли Чаадаева: «Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы» [1][2]. Однако, несмотря на «хорошее воспитание» «веков» и плохое – людей, историческое бытие, нет-нет да и явит образец высочайшей духовности, масштабного творчества и дерзновенной мечты обустроить мир. Это происходит даже и невзирая на то, что бытие куда как полно представлено множеством самых обыкновенных несовершенств.
Так было всегда. Глубокую веру оттеняло ханжество, величавый полёт мысли оттеняло падение в ней же, грандиозные программы устроения общества и государства сопровождало непонимание их и равнодушие непосредственных исполнителей этих планов. Увы, причины болезней и пороков общества никогда не бывают обнадёживающими… Потому само стремление раскрыть и реализовать богоподобное в человеке в условиях быта и гнёта социальных условностей образовывало некую воронку, которая вовлекала в свои недра представителей самых разных областей человеческой деятельности.
Среди тех, кто наиболее отчётливо обозначил себя в опасном «душе– и «мыслевороте», включая неотрывное от духовных дерзаний творческое бытие, находишь имена людей, которые режут глаз чрезвычайной разностью своих характеров и мировосприятия, форм и стилей мышления. И в далёком и в не столь уж давнем прошлом они занимали соответствующее (или несоответствующее) им место в духовной иерархии и гражданской жизни. Подчас разнящиеся по масштабу личности, мощи дарования и глубине вовлечения в субстанциональное бытие, эти «храбрецы истории» и воины духа вызывают уважение тем, что смело брали на себя груз, неподъёмный для обыкновенного человека. Среди большого числа ярких личностей отмечу лишь некоторых. Это богословы Пьер Абеляр и Ансельм Кентерберийский, Мартин Лютер и Игнатий де Лойола, философ Сёрен Кьеркегор и Фридрих Ницше, поэты Шарль Бодлер, Артюр Рембо и конечно же Михаил Лермонтов. К феноменам художественного восприятия мира отнесу философские и эмоционально сжатые монументальные произведения великого Михаила Врубеля. С жёсткой диалектикой в творчестве русского художника контрастируют радужные цветовые гаммы в полотнах «таитянина» Поля Гогена, умевшего вознести до эдемских высот эпическую красоту Полинезии. Безмятежную красочность творений Гогена оттеняет поистине взорванная рациональность в полотнах его друга-врага Ван Гога. В число духовно оголённых деятелей истории входят многие другие великие и не очень великие путаники, как верившие во Всевышнего, так и люто ненавидевшие Его, а значит, опять верившие. Очевидно, гении рождаются вовсе не для того, чтобы быть святыми, и не обязательно для того, чтобы быть понятыми современниками… Философами и учёными прошлого «ещё раз подтверждается, – писал Артур Шопенгауэр, – что не только природа во все времена производила лишь крайне немногих действительных мыслителей в виде редких исключений, но и сами эти немногие существовали лишь для очень немногих». Ибо знать и сознавать не одно и то же; так как в первом случае участвует память, а во втором, собственно, мысль. Что касается великого дара (или наказания, что на деле не слишком отстают друг от друга), то он лишь добавляет меру ответственности за дарованное. Если же говорить о благочестии, то о его месте в жизни тех, кому ниспослан дар Божий, указывает «семейный случай» из жизни Лукаса Кранаха Старшего.
Когда супруга великого художника посетовала на то, что он пропускает воскресную литургию, Кранах, указав кистью на предмет его забот, произнёс: «Вот мой храм. Если колокольный звон застанет меня за работой, – это моё лучшее служение». Этот с канонической точки зрения небезупречный ответ между тем расставляет приоритеты в жизни реально уповающего и поясняет формы служения его. Потому остановим своё внимание на избранности не в мирском, а в духовном – вне зависимости от конфессиональной привязанности – значении этого слова.
Внутреннее богатство творческой личности, помимо дарованных ей талантов – великих, значительных или гениальных, определяется ещё духовным и моральным подвижничеством. То есть нравственные цензы, безусловно присутствуя при реализации таланта, заявляют о себе отнюдь не всегда в той форме, которая близка сердцу «повседневного человечества», наиболее характерно олицетворённого в потребителе. Ибо, лишённое пронзительного восприятия (которое тоже есть дар!) «объёма» эпохи и пространства истории, «повседневное» различает лишь тождественное себе. По-иному никогда и не было. В силу тяжести, а подчас неподъёмности «камня» моральных и этических норм, определяющих истинную свободу человека, его нравственное бытие не носит перманентного характера.
Это утверждение не менее справедливо в отношении «нравственности эпохи», инсталлирующей во всякую общественную формацию проблемы исторического существования человека. Если говорить непосредственно о социальной жизни, то она несёт в себе некую историческую истину, только если наполнена содержанием, которое определяется не отдельными выдающимися людьми, а внутренней осмысленностью всех слоёв общества.
По всему получается, что при оценке духовного в творчестве не следует прибегать к обывательскому аршину, скроенному «на глазок» из усреднённых представлений о «грехе» и «безгрешности». Для уяснения предмета исследования необходимо ощутить и понять силу творчества, которым гений раскрывает себя в бытии, включающем и непременных судей его, и остальное (к счастью, не всегда судящее) человечество. Если же исходить из «мнений» судей, опирающихся на суждения толпы, то Рембрандту, Врубелю, Ван Гогу, Гогену (etc.) можно вменить в вину многое из того, благодаря чему они стали великими художниками, почитая их за ряд бесполезных для вдохновенного творчества качеств, которыми так гордится далёкий от величия добропорядочный обыватель. Словом, если видеть деятельность художника органичной частью всей здешней жизни, то пресловутые «судейские вердикты», мерки и оценки выглядят до чрезвычайности глупо, а иногда ещё и подло. Истинный гений, реализуя свои внутренние и как будто сугубо личностные задачи, всегда является душой и оголённым нервом эпохи. То есть он аккумулирует в своём сознании весь срез бытия, донося до человека его пороки и достоинства в той форме, которая выражает их в наиболее характерном и концентрированном виде. Ибо когда мысль поэта или кисть художника ведёт вдохновение – истина принадлежит ему! Если же сузить шкалу «требований эпохи» до личностной мерки, то уникальная одарённость или глубокий ум почти всегда подводят их обладателя к ощущению своего превосходства «над всеми». Причём это происходит вне связи с его личной волей. Именно поэтому к личности такого масштаба неприменимы упрёки в «эгоизме», так как и творит и мыслит она независимо от своих «личных» интересов. Это слово беру в кавычки потому, что всё личное в этом случае отходит, уступая чему-то более значительному. На этом уровне ощущая себя частью «всего», гений вовсе не обязательно озабочен настоящим, поскольку оно является лишь частным случаем в цепи исторически преходящих мгновений. Но, существуя в преходящем, он принадлежит нескончаемому, вечному и неохватному, в которое вовлечён своей лучшей частью! Собственно, именно в такой форме «единицы вечности» содержат в себе искры мудрости Всеведающего и Неизъяснимого.
Когда гений мирового масштаба глубоко погружается в своё «я», тогда всё личностное в нём, дробясь, измельчаясь или стираясь под воздействием превосходящих её модусов, приобщается к вселенскому. Более того, становится его выразителем. И тогда оно исчезает. В этом процессе перевоплощения или «исчезновения» личного «я» опосредованно проявляется ответственность гения «за всё» человечество. Возникает парадоксальная ситуация, когда, «принадлежа всему», великий человек не принадлежит ничему (без кавычек). Разрешается этот парадокс следующим образом: гения отдаляет «от всех» то, что он принадлежит не только своему времени, но пребывает в его протяжённости. По этой же причине феномен гения, рождённый в национальном теле, но имеющий иной масштаб, охватывает пространства далеко за пределами национальной культуры. В то же время именно разница между сверхличностным и житейским сознанием, очевидное несовпадение первого с потребительским мировосприятием и куцым мышлением последнего создают почву, в которой произрастают зёрна неискоренимых в бытии «вечных» конфликтов. Они же закаляют характер истинных избранников, поскольку великое творчество создаётся в противостоянии судьбе. В то же время пресловутая «разница», возвышая первое и оставляя «на своём месте» второе, в своих уникальных и сверхмощных свойствах роднит и сближает феномен со своим Подобием, который во вдохновенном творчестве растворяется в лучах образов Его. В этом случае – исключительно редком в истории и культуре – правильнее говорить о гении-сущности. Поскольку именно «сущность», в своей первооснове содержа опыт давно ушедших времён, более всего свидетельствует о неосквернённых началах венца творения. И если в каждом человеке лучатся, поблескивают или гаснут искры Божественного («частицы Бога»), то в истинно выдающейся личности, то есть содержащей в себе архетип человека первосозданного, они являют собой качественно иную данность, которую несёт в себе величие Первоисточника.
На фоне сокровенного действа подчас тускло смотрятся «требования» конкретной эпохи, неубедительно выглядят пристрастия её господствующей части и совсем уж жалко – вкусы тех, кто живёт лишь интересами потребления. Поскольку обыватели всех мастей и рангов реагируют лишь на ту «часть» ума и деятельности ярких личностей, которую способны воспринять. Но, отмеряя и процеживая в ней «своё», они, как правило, тонут даже и в этом информационном объёме. Приходится констатировать, что, «скреплённые печатью» свыше и олицетворённые в личности, надличностные категории и сверхвозможности в постижении мира с печальным постоянством не выдерживают повседневно-банального, житейски-массированного давления со стороны тех, чья биологическая жизнь по факту исчерпывается «теплокровным» или (это звучит не так обидно) физиологическим пребыванием на Земле. И хорошо, если «жизнь» эта, никого особенно не тревожа, реализует себя в мысленном бездействии или ютится в щелях кругозора, увешанного ценниками потребительского здравого смысла. Куда хуже, если она – и тоже по факту – исполнена неуёмной энергии, зависти, злобы, гордыни и тщеславия. Тогда – это легко видеть на судьбе А. Пушкина и М. Лермонтова – «неуёмная безличность» (или, по Свифту, «толпа тупоголовых») объединяется в борьбе против личности с непременным намерением растоптать и уничтожить её. И опять приходится признавать, что честные люди не знают и половины причин, по которым они правы, осуждая негодяев…
Здесь мы почти приблизились к главной теме нашего повествования, коей является судьба великого поэта.
Однако для того, чтобы наиболее полно ощутить глубину противоречий сверхличности, каковой Михаил Лермонтов, несомненно, был, нам необходимо вновь «отойти» от него, с тем, чтобы углубиться в истоки христианской цивилизации. Рассмотрение её столь же беспокойного, сколь извилистого течения поможет нам вернее оценить духовные, этические и исторические предпосылки, предварившие её культурный эквивалент. К анализу этого феномена понуждает нас не только шкала духовных и моральных посылов, заявленная поэтом и мыслителем, но и масштабность лермонтовского человекоизмерения. В том смысле, что верхние пределы, «поставленные» человеку Лермонтовым, приближают «венец творения» к тому диапазону, какой ему некогда отведён был. Вместе с тем сложность исторически и духовно скомпрометировавшего себя творения подводит нас к необходимости углубиться в причинности внешнего, и особенно внутреннего, бытия человека. Поскольку именно там прочитывается модуль, определяющий сущность личности; модуль, способный вывести на социальную поверхность, где личность, как правило, расплачивается за то, что она есть… Этот экскурс в историю необходим и оправдан уже потому, что духовное и творческое бытие великого поэта принадлежит не только России, не только эпохе Лермонтова, и не ему одному… Горная вершина, изумляя нас своей грандиозностью, белизною и близостью к небу, поневоле привлекает взоры ко всей её массе, на которой собственно и базируется её величие. То же относится к наиболее значительным «единицам» мировой культуры, поскольку их духовная основа нерасторжима с исторической базой человечества. Сделаем небольшую ремарку.
В жизни и творчестве Михаила Лермонтова «конфессиональная духовность» являет себя не столь очевидно уже потому, что в силу масштабности личности (вернее, сущности поэта) его мировосприятие не вписывается в рамки затверженных религиозных догматов. Лермонтов отнюдь не был аскетом, а вдохновение его витало подчас далеко за пределами церковного пространства, отчего рассматривать его творчество сугубо через церковную призму будет неверно, более того – безответственно. Это обстоятельство усложняет попытки «точно» установить бытие Лермонтова-христианина, но отнюдь не делает их безнадёжными. В силу того, что всякое значительное явление имеет солидную основу, а в исследованиях духовного плана ещё и временное пространство, полагаю важным осмысление реального явления в реальном бытии. В этом и будет заключаться правильная «оценочная» стратегия. Она, безусловно, должна учитывать элементы серьёзного влияния яркой и своеобразной европейской цивилизации, оказавшей сильнейшее влияние на весь остальной мир. Однако при этом следует принять во внимание тот факт, что параллельно – и даже в противостоянии сначала с варварской, а потом с цивилизованной Европой – существовала православная ветвь христианства, развились особое состояние духа и уникальная культура, освящённая высокими категориями морали и нравственности.
Потому будет верным рассматривать христианство не в свете одних только евангельских идеалов, но и по плодам, которые оно оставило в видимой (то бишь событийной) истории. Ведь содержание и нравственные декларации всякого учения есть модель, которую нужно ещё реализовать. Не делая акцента на возможности реализации, всё же скажу, что именно она определяет бытийно-историческую ценность духовных и нравственных посылов. Далее, принимая во внимание множество исторических проекций христианства на повседневную жизнь и человека в ней, попытаемся найти в его инициативах связь между «земным» и «небесным». Этот выстроенный нами «мостик» (на «лествице» настаивать не будем) даст нам надежду выйти на ту реальность, которая определяла творческое бытие и внутренний мир поэта. Не грех помнить и то, что, при всей грандиозности, творчество Лермонтова есть средство выражения широкого диапазона обеих реальностей. Отсюда немалое внимание уделяется тому, что лежит в их основе. А это и есть тварно обусловленное протяжение духовной и исторической жизни.
Словом, муза поэта отталкивалась от духовной и исторической среды, которую он знал и которую не мешает знать нам!
Дабы приблизиться к истокам «разделения», обратимся к глубокой древности.
II. Генезис христианства
Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трёх.
Лк. 12:51–521
Первые попытки понять себя и объяснить мир, найти ответы на вопросы вселенского масштаба появились тогда, когда возникли сами вопросы. А это произошло не ранее, нежели человек стал осознавать себя. Получив первые ответы, открыв некоторые закономерности вселенской жизни и на основе имеющегося опыта создав социальную среду, человек «потихоньку» становился, по определению Аристотеля, «общественным животным» («с перьями», добавит хитроумный Платон). Наверное, в том смысле, что, изучая видимый мир и на основе своих представлений о нём создавая «вторую реальность», homo sapiens постепенно переставал быть органичной частью «первой». С появлением христианства пришло «понимание истории как в высшей мере единого процесса» (К. Ясперс). Христианское уяснение смысла жизни, внеся в бытие принципиальные критерии нравственности, а значит и ответственность за свои деяния, раскрыло перед человеком конечность его существования. В дальнейшем человека ожидала вечная жизнь или нескончаемые муки после смерти. Формула античного мира “Primum vivere, deinde philosophari” (лат.: «прежде жить, а потом философствовать») была полностью отвергнута христианами. Известное равновесие человеческого начала и природы было нарушено мерой ответственности. И не перед мифическими богами, которых древние миряне, «подружившись» с ними, воспринимали как часть обычаев и традиций, а перед реальным (это не ставилось христианами под сомнение) Страшным Судом. Так в человеческое сознание пришло ощущение истины и истории в её событийной связи. Но это же внимание к смыслу и связи событий обусловило отчуждённость человека от «неживой» природы, тождественной в христианском сознании если не с языческим, то с малоценным материальным миром. Посредством изменённого сознания о себе заявила историческая жизнь, отличная от природной тем, что преобразует мироздание с помощью человеческой воли, науки и страсти. «Рациональное» отношение к природе, подчинив себе материнскую ипостась, активно превращало её в среду обитания, в исторической перспективе обращённую в «окружающую среду». Однако в древнем мире сохранялись ещё мощные связи естественномирового, а в пределах языческих мировоззрений – и космического порядка.
Древний человек, живя «вне истории» и по этой причине ощущая себя частью вечности, воспринимал мир целостно и не разделял его как данность на какие-либо категории. Мудрый родовым мироощущением, а не личностным самоощущением, он был составной частью вселенского бытия и не имел нужды «делить» то, что существует вечно и нераздельно. Александр Блок писал на этот счёт в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906): «Непостижимо для нас древняя душа ощущает как единое и цельное всё то, что мы создаём как различное и враждебное друг другу. Современное сознание различает понятия: жизнь, знание, религия, тайна, поэзия; для предков наших всё это – одно, у них нет строгих понятий. Для нас – самая глубокая бездна лежит между человеком и природой; у них – согласие с природой исконно и безмолвно…» Не все «древние души» обладали равными возможностями в постижении мира, но все они являлись носителями единого мироощущения и, будучи органичной частью природы, воспринимали её во всех смыслах «без дураков». «Эти люди, – говорил о древних египтянах выдающийся скульптор Аристид Майоль, – умели создать мощную, поражающую форму. Ставили фигуру совсем просто, и получалось величественно. …Они воспринимали просто и так же работали – в этом их сила» [2]. Не приходится сомневаться, что сила и величие «простоты» исходили от мировосприятия египтян. Таковое отношение, распространяясь на творчество, наиболее принципиально и последовательно заявляло о себе в зодчестве, соподчинённом скульптуре. В древности ваятели умели создавать поразительные формы именно потому, что видели себя нераздельно с вселенской «простотой» и эстетической целостностью. В период наивысшего цивилизационного прозрения, ощущая себя неким «модулем вечности», человек обозначал свою связь с макрокосмом посредством величественных «знаков» (пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, 27 в. до н. э.). Отмечал своё локальное присутствие в мире посредством выстраивания равноценных природе форм (храмы в Дейр-эль-Бахари и Карнаке, 14–15 в. до н. э. и др.).
Видимая простота и целостное мировосприятие легли в основу и великого искусства древних греков. Ставя во главу угла цельность видения мира, они достигли удивительной соразмерности в архитектуре и пластике, в которых человек истинно виделся «мерой всех вещей». Именно «простота» надличностного видения мира позволила грекам создать этическую традицию, непреходящую по своим ценностным категориям.
Созданный ими на основе изобразительной системы Египта канон позволил раскрыть присущий им гений простоты и убедительности. На уровне инстинкта провидя то, к чему приведёт «умственная» оторванность человека от единства с природой, они не заботили себя разработкой сугубо индивидуального мировосприятия.
Отмечая «превосходство (греческой философии. – В. С.) над всеми её позднейшими метафизическими противниками», Ф. Энгельс писал: «У греков – именно потому, что они не достигли ещё расчленения, до анализа природы, – природа ещё рассматривается в общем, как одно целое. Всеобщая связь явлений не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания». И далее: «Если метафизика права по отношению к грекам в подробностях, то в целом греки правы по отношению к метафизике» [3]. Действительно, в древнем космосе величественной простоты и мудрости не было места тому, что позднее стало называться «психологическим проникновением». Будучи детищем последующей исторической формации, именно «проникновение» научило человека воспринимать и оценивать мир через объективно неверную призму дробного индивидуального сознания. Сумма погрешностей последнего и надорвала цельность видения мира не только в этике, но и в бытии, сузив «космос» земной ипостаси до «плинтуса» потребительского мировосприятия.
Не приходится сомневаться, что постепенная отчуждаемость человека от природы, став фактом одного из позднейших этапов цивилизации Древнего мира, обусловила его желание разобраться в случившемся микрокосме бытия. Само стремление осознать этот микрокосм было закономерно. Хотя бы потому, что заявляет о себе лишь тогда, когда нечто приобрело уже свою самость – некую автономию, настаивающую на себе. Потому что сознавание как принцип постижения может распространяться лишь на другое, на то, что к тебе прямо не относится, что «уже не твоё».
Именно в период расставания человека с «древней душой», связанный с потерей природной цельности и ощущения себя в новом качестве, родилось намерение сформировать адекватные новому видению действительности «понятия». Намерение не только понятное, но и необходимое уже. Ибо лишь постигнув и систематизировав психологически и по факту отчуждённую от человека могущественную, загадочную и не подвластную ему Среду (Вселенную), человек мог идентифицировать себя в ней.
Это прогрессивное с позиции господствующей теории познания стремление распространилось и на всеобъемлющий Универсум (Бога), математический ключ к которому хотел подобрать Пифагор, а Платон пытался философски синтезировать Его свойства. В создавшейся духовной и этической «сумятице» поздней античности заявило о себе христианство.
Замечу, что стремление «возвратить» или по крайней мере познать утраченное, и в последующие века будоражило наиболее отважные и выдающиеся умы человечества. Помимо философов и математиков не оставались безразличными к утерянному человеком «духовному Эдему» и гении Творчества, среди которых выделю Данте, Микеланджело и Лермонтова. Христианское учение менее всего стремилось открыть людям секреты успеха в жизни, а его провозвестники отнюдь не обещали дать ключи от счастья в этом мире.
Распятый Христос. Н. Ге.
Более того, противостоя язычникам с их шаткими нравственными качествами, зависящими от пёстрых верований и неровного уклада жизни, христианство не ориентировало своих приверженцев на спокойную жизнь здесь. Вместе с тем учение, казалось, открывало путь к духовной гармонии. Однако «мёртвые», как оно было и прежде, «хватали живых».
Деформация первохристианского аскетизма, духовно-нравственной полноты и этической цельности была вызвана сложностями вживления нового учения в бытие государства и функции общества, в эллинской цивилизации слагавшегося в симбиозе обычаев и римского права[4].
Однако проблема была не только в этом. Не отвлекаясь на не вполне уместную в рамках намеченной темы религиозность других племён и народов – детищ иных духовных и культурных формаций, осмелюсь коснуться начал христианского учения; концептуально цельного, но по факту конфессионально раздробленного, а в приложении к действительности – противоречивого. Если Первый Христианин нёс своё учение в словах, делах и поступках, то его (легальные впоследствии) апологеты большей частью ограничивались верою, которая, вымирая вне дел, становилась подчас ни к чему особо не обязывающим убеждением. Устойчивость вероубеждения определялась силой духа, а неустойчивость – страхом «убеждённых». Очевидно потому, что и над теми и над другими неизменно висел «дамоклов меч» политической власти, не один век оттачиваемый государственной идеологией. В этих условиях «омертвевшая буква» убеждения, заменяя живое Слово, создавала определённую среду, в которой на этической основе происходило смыкание некоторых категорий христианского учения со светской моралью, господствующими учениями, теориями и тогдашними «философиями жизни». Эти тенденции, подспудно заявляя о себе до официального принятия христианства и тем самым подготовляя для него почву, после легализации учения привели к созданию духовной иерархии – установлению разветвлённого аппарата духовной власти. Последнее стало возможным ввиду компромисса Церкви (по принципу: «кесарево кесарю, а Божие Богу»; Мф. 22:15–21) с испокон веков сложившимися приоритетами социальной жизни.
Однако по ходу исторически вынужденного сосуществования государства и Церкви происходило уточнение духовных категорий. Поскольку «государственная машина», господствующая в мире на протяжении тысячелетий, могла исправно работать, лишь исповедуя «земное», то бишь социальное и политическое, выживание. Ясно, что институт Церкви, существуя под строгим и неусыпным контролем государства, не мог не считаться с силовой «механикой» последнего. Вынужденные, а подчас необязательные компромиссы со светской властью привели к возникновению протестов со стороны ревнителей христианского благочестия (зилотов), которых духовные иерархи нарекали еретиками, а их требования клеймили как еретические. Дальнейшее развитие и умножение ересей утвердило противоречия не столько в духовной природе христианства, сколько в душах, а более всего – в умах его последователей – детищ набиравшей силу «второй» или «предметной реальности». Сразу обозначило себя и с веками усилилось несоответствие моральных настояний христианства с требованиями действительности, развивающейся по лекалам потребления. Разница между благими намерениями человека и его делами образовала непреодолимую преграду, которая дала повод заявить Ницше: «В сущности, был один христианин, и тот умер на кресте». По-другому и не могло быть в событийной истории, вершимой (павшим) человеком. Потому всякий раз, когда провозвещённой истине пытался следовать социальный человек, она неизбежно принимала его жалкое подобие.
Как было ясно задолго до христианства, подтвердилось при нём и неоднократно напоминало о себе в последующих общественных формациях: «истина» является таковою не для всех, а для тех только, кто способен её воспринять. Иными словами, она существует лишь в состоянии осознанности, а это и есть состояние, которое чаще всего посещает духовно одарённых и умственно продвинутых людей. Само же учение в приложении к действительности никогда не бывает выше исповедующих его масс.
Вот и Кьеркегор считал, что знать и осознавать истину ещё недостаточно: в истине надо быть, подразумевая необходимость практиковать знание. Ибо знание истины вне её применения означает бытие вне её. Этот тезис распространяется не только на духовные категории. Так как знаешь лишь тогда, когда умеешь делать. Во всех остальных случаях имеешь лишь представление о деле. В прикладной ипостаси «истину» и вовсе можно свести к тому, что конкретно, ясно выражено и вписывается в объективную необходимость, то есть отвечая требованиям настоящего, сохраняет свои позиции и в отдалённом будущем.
Однако будем считаться с тем, что всякое, даже и «самое точное», определение истины, – это всего лишь костыль, указывающий на то, как она хромает. Словом, «дело» истины имеет множество форм и сфер приложения, на которые мы, естественно, отвлекаться не будем. Обойдёмся лишь признанием пользы стремления к ней. Заострённое вдохновением стремление к истине может привести человека к серьёзным знаниям.
Отсюда важность творчества. Именно оно создаёт пути и придаёт исканиям формы, в своих (духовных) проявлениях не только приближающие к истине, но подчас тождественные ей, ибо в наивысших своих проявлениях они являются её частью!
Понимая это, Густав Флобер считал искусство высшей формой познания. Однако число гениев вселенского масштаба настолько ничтожно, что можно говорить лишь об исключениях, своей деятельностью подтверждающих право соучастия или сопричастности к истине. В сознании остальных она уподобляется отражению в кривом зеркале, вследствие чего «смотрящий» истину видит в нём лишь своё, уж какое ни есть, отражение.
Таковую взаимосвязь (или видение себя) подтверждает историческая практика приверженцев христианского учения, ввергнувших его в ереси, наличие и характер которых они сами же и определяли. Из великого множества ересей упомяну движение апостоликов (вальденсы, гумелиаты, лионские нищие), которые в XII–XV вв. протестовали против обмирщения Церкви и проповедовали апостольскую простоту. Однако корни их протеста берут начало, как можно догадаться, в III–IV вв. В «еретически продвинутые» Средние века к ним подключились альбигойцы, богомилы и множество других движений, которые, в разных регионах Европы являя местные формы духовного разброда, имели свои названия. К наиболее устойчивым и принципиальным «по уставу» ересям принадлежали минориты-францисканцы («младшие братья»), флагеланты («бичующиеся») и донатисты. Если минориты исповедовали крайний аскетизм, то флагеланты, «смиряя» плоть на протяжении XIII–XV вв. самобичеванием, верили, что только избиением своего тела они могут искупить личную греховность. Донатисты интересны тем, что настаивали на примате личного совершенства священнослужителя как залоге действия благодати. Очевидно, предсказуемый неуспех именно в личной ипостаси обусловил историческую непродолжительность движения донатистов. Начавшись в IV в., оно исчерпало себя уже в следующем.
Сделаем, пусть и несенсационный, но важный для нас вывод: драматический ход христианской истории обусловливала борьба духовного начала с мирским, в которой первое исторически последовательно сдавало свои позиции последнему. Именно вымывание из учения духовной причастности к истине способствовало «успешным» компромиссам христиан с формами античной, средневековой и последующей мирской власти. Между тем историческая жизнь показывает, что даже и там, где вера-убеждение христиан мирно сосуществовала с чуждыми им верованиями, учение в своих основных принципах шло вразрез с социальным устроением и требованиями (местных) политических реалий.
Не будем отвлекаться на разницу между верой и делами христиан (которая была не большей, нежели в других религиях), как и на их взаимоотношения с местными властями. Ограничимся лишь констатацией факта: если в Западной Римской империи неприятие христианской этики языческой властью представляется естественным и даже закономерным, то в исторической наследнице её – Восточной Римской, изначально православной империи (Византии), – расхождение веры с объективными требованиями экономической, социальной и политической жизни страны выглядит довольно странно. Ибо получается, что вера в своей истинности не способна к социальному выживанию ни в языческом, ни в христианском мире, то есть даже там, где она официально была принята в качестве духовного и нравственного модуля. Это «общее правило» как будто подтверждает бытие первых христиан в языческом Риме (где, мы знаем, оно было поставлено вне закона и загнано в катакомбы) и в православной Византии, в которой православие изначально являлось не только государственной религией, но единственной «принятой к исполнению» верой. Таковое, по сути своей духовное «законоуложение» ставило целью и смыслом жизни православного христианина спасение души, но обусловило его презрение к «телу» социального организма, в своей гражданской ипостаси весьма обширному и множественному. К числу духовно презренных (и по факту презираемых) относились и в самом деле далёкие от «души», но крайне необходимые для социального, экономического и политического выживания «мирские потребности» империи. В результате изолированные от реальной жизни духовные принципы православия едва ли не в первую очередь привели империю к изоляции не только в политическом плане. Византия утратила и стремление к материальному (как виделось тогда, «враждебному душе») преуспеянию. После исторически формальной борьбы с духовным инакомыслием торжество веры в Византии с середины XIV в. выражало многосмысленное «молчание» исихии (о ней – чуть позже), признанной в имперском государстве единственно прочной лествицей к спасению души императора, его подданных и всяк, духовно прильнувших к исихии.
Однако «странности» практической неприемлемости веры светскими властями в политически и культурно разных средах (до того языческого Рима и всегда православной Византии) кажутся таковыми лишь на первый взгляд. Поскольку в обоих случаях в реалии гражданского бытия привнесено было нечто, не приемлющее бытие именно в гражданской (мирской) его ипостаси. Этот затянувшийся в исторической жизни христианских государств «непорядок», очевидно, и дал рождение вышеприведённому тезису Ницше.
Имеет ли этот исторический пессимизм достаточные основания?
Ввиду важности для нас уяснения проблемы, уточним ранее отмеченный тезис, суть которого сводится к следующему: в своей чистоте и непорочности христианское учение понесло тяжёлые потери задолго до официального принятия его римским императором Константином (324 г.). К числу факторов, формировавших мировоззрение христианских общин (христианское общество к тому времени ещё не сложилось), следует добавить несомненное – «по остаточному принципу» – влияние эллинской культуры и философии (к примеру, морально-этические концепции стоиков в ряде школ идейно и нравственно предшествовали христианству). Впрочем, и мощь культурных формаций и мудрые учения философов легко перевешивала более понятная простому люду неприхотливая житейская практика и сопутствующие ей нехитрые «здешние» привязки. Такого рода пристрастия к соблазнам мира подчас не были чужды и пастырям, что вносило серьёзные коррективы как в бытие духовенства, так и в подвластные ему «овчарни»…
Вернёмся к реальным проекциям христианства.
Реалии античного мира и принятого уклада жизни привели к тому, что «при начале» IV столетия «простодушная, чистая вера в Небесного Отца, вступившего в непосредственное общение с человечеством через воплощение Сына Божия и требовавшего лишь любить Господа превыше всего, а своего ближнего как самого себя, казалась уже недостаточной духовенству, хотевшему быть посредником между землею и небом, – пишут авторы «Всемирной истории». – Исчезало, отходило в область прошедшего то прежнее, ясное, радостное, время первобытного христианства, у которого храм был не только в Иерусалиме или Самарии, но повсюду, где собирались единоверцы. …Эти дни с их беззаветным общением с Божеством миновали; понятие о «Добром пастыре» сменялось иерархическими требованиями; Его заповедь о любви утрачивала свою первоначальную простоту по мере того, как почитатели Христа выходили из катакомб и воздвигали великолепные храмы для своих молений. Римский официальный мир не мог оставить без внимания этого превращения, равно как и партийных церковных раздоров. К этому присоединилось то ещё, что христиане стали платить за оказываемое им властями снисхождение нескрываемым презрением и ненавистью к язычникам и всей обрядовой стороне их культа»[5]. Именно апология учения, противоречащая собственной практике, а больше всего несоответствие политическому и социальному устроению империи обусловили в эпоху императора Домициана (81–96 гг. н. э.) гонения на Церковь, которые продолжались более 200 лет, после чего вновь – и по тем же причинам – возникли при Диоклетиане (284–305) в 298 г. Правая рука императора цезарь Галерий и вовсе предлагал истребить огнём и мечом эту, как он говорил, «неспокойную иудейскую секту, отрёкшуюся сначала от веры своих отцов, а потом начавшую восставать против богов, чтимых в государстве, и придумывавшую себе произвольно новые законы на своих мятежных сборищах»[6]. Приучив своих граждан к чувству долга, права и ответственности, правовой Рим в лице императоров попросту не мог терпеть происходившие на их глазах пертурбации (лат. perturbatio – расстройство, смятение), видя в них угрозу основам государственной и общественной жизни, гражданскому порядку. И в самом деле, церковные летописи периода стагнации эллинского мира и нарождения нового пестрят упоминаниями о раздорах и амбициях христианских пастырей (епископов), свидетельствуя об их нетерпимости и непримиримости. Словом, пресловутый «человеческий фактор» занял место судьи в спорах исповедников новой веры, и он же, ведомый «здешним» честолюбием, инициировал первые ереси христианства.
По мере того как Римская империя превращалась в обширную территорию, охраняемую не свободными римлянами, а полунищими рекрутами из крестьян и наёмниками из варваров, ослаблялись крепящие страну духовные связи, социальные и политические механизмы. Дух гордого человека античного образца сменял не уверенный в завтрашнем дне тип гражданина, низведённого до люмпена (который, в зависимости от обстоятельств, сегодня – крестьянин-воин, а завтра – воин-крестьянин). Римский мир, будучи эклектичен как никогда, стал непредсказуем. Оторвавшись от своих основ, христианство в тот период зависло между «небом» и «землёй», что побудило мирскую власть перехватить инициативу. Её взял на себя император Флавий Клавдий Юлиан.
«Соединявший в себе, – сообщает «Всемирная история», – странным образом натуру истинного кабинетного учёного с блестящими военными дарованиями», дабы унять религиозные треволнения и страсти, намерен был создать новую религию, которая сохранила бы философию и красоту язычества с моральными принципами христианства. Однако смерть в бою с персами в 363 г. в возрасте 32 лет остановила этот смелый проект, правда, совершенно несбыточный ввиду неразрешимых в Византии противоречий духовного, этического и политического плана[7]. Примем во внимание, что по своему характеру, духовно-этическим воззрениям и в историко-культурном отношении это был первый в истории опыт соединения языческой эстетики с христианством. Идеи Юлиана, на столетия опередив искания средневековых «культурологов» и «еретиков», за тысячу лет до Ренессанса предвозвестили обусловленные цепью многовековых духовных исканий и заблуждений неоязыческие по своей сути каноны. Вследствие этого на стыке христианской этики и светской духовности были созданы компромиссные формы, призванные примирить Церковь и государство. Облечённые в христианскую эстетику латинства, они наиболее характерно явили себя в изобразительном искусстве итальянского Возрождения.
2
Кризис духовных категорий, обозначив себя уже в ранний период Христианства, неизбежно вёл к коллапсу культурно-политических формаций: рушились прежние государственные образования и создавались новые. Падение Западной и возникновение Восточной Римской империй породили новые парадоксы в исторической жизни христианства. В то время как в роскошной Византии активно формировались духовные принципы Восточной церкви, в руинах имперского Рима ютился пока ещё беспомощный (в VI–VII вв.) папский Рим. Получив поддержку франкской империи, Западная Церковь завершила формирование Папского государства (VIII в.) и заявила о своих духовных и политических амбициях. «С тех пор, как папа возложил корону императора на голову Карла Великого, произошло переплетение папских и императорских учреждений», – говорит об этом историк папства Енё Гергей. Растянувшаяся на столетия борьба «запада» и «востока» привела в 1054 г. к разделению Церквей на греческую и латинскую и послужила прецедентом для дальнейшего расслоения по конфессиональному принципу (в основе чего были не только духовные, но и исторические, и культурные составляющие, о чём скажем отдельно). Заметим, что в период «духовной» борьбы за власть в Риме, мало чем отличавшейся от греховной светской, Евангелие утаивалось от рядовых христиан как ввиду разночтений текстов Нового Завета, так и из-за нежелания самих «Святых Отец» следовать ему. Очевидно, по этой причине Св. Писание на протяжении многих веков заменялось комментариями Отцов Церкви.
Но, получив далёкими от идеала средствами практически неограниченную власть над душами людей, папство стало зависеть от тех же человеческих несовершенств. В этом не было ничего необычного, поскольку всякое общество, подчиняясь реальной власти, в качестве «залога» подчинения традиционно предлагает поклонение её иерархии. В результате негласного соглашения «залог» надолго становится модулем отношений не только снизу вверх, но и сверху вниз. Так было и в языческие времена. Вопрос состоял лишь в специфике власти, формах поклонения ей и средствах сохранения сложившихся отношений. Поскольку всякая власть – светская или духовная – прямо зависит от форм взаимосвязей и степени солидарности с народом, принявшим власть, но подчиняющимся ей отнюдь не бесхитростно. Не стала исключением и Византийская империя. Политическое, военное и экономическое ослабление Византии ускорило поражение от крестоносцев (1204), что привело к сокращению и дроблению её территорий. Этнически исключительно пёстрый «народ» империи, а впоследствии «крепкая вера» вне нужд государства были в числе главных причин, приведших к разложению страны. При сложившемся духовном, социальном и политическом хаосе не в состоянии наладить здешнюю жизнь за счёт сосредоточения на экономических проблемах и политическом выживании (Доп. III) византийские императоры, передоверив свою власть патриархату, по существу отдали бразды правления далёкому от гражданских нужд церковному клиру.
Усиливая свои позиции с начала упадка империи (т. е. с конца XI в.), клир всё больше придавал сложившейся реальности церковное оформление, содержательной частью которого несколько позднее стало учение исихастов. Однако для населения Византии соборно принятое учение не стало, да и не могло стать неким катехизисом гражданской жизни уже потому, что имело с ней мало точек соприкосновения. Став частью духовного и гражданского бытия страны, учение, в пику принципам государственности, постепенно принимало форму государственной идеологии. В ипостаси последней оно больше походило на «практическое» руководство недеяния в «погрязшем во грехе» мире, коим, собственно, для византийцев была империя. В этом смысле учение было поистине судьбоносным для духовно и политически запутавшейся Византии, территория которой ко времени её падения сократилась до пределов одного города – Константинополя.
В силу влияния исихии не только на судьбу Византии, но и (по праву духовного преемства) Российской империи, нам просто необходимо ознакомиться с сутью учения. Но поскольку рассмотрение этого духовного феномена может увести нас далеко от темы, я более детально освещаю его в «Дополнении к части I» (IV, с. 285). Здесь же ограничусь кратким изложением принципов учения.
Григорий Палама – основатель и благовестник мистического учения – считал, что в основе исихии находится идея отрешёния человека от мира и слияния его с Божеством во время молитвы посредством мистического озарения. Лишь отчуждение от личности и растворение «себя» в благодати выстраивало, по Паламе, ту чудную и единственно приемлемую для христианина лествицу, по которой могла спастись из этого мира его душа. Таким образом, учение об «умной» непрерывной безмолвной индивидуальной молитве всё время (за исключением богослужений) изначально не было ориентировано на здешнее бытие, не говоря уже о совершенствовании его. Более того, «земля» в нём недвусмысленно представлена была как вместилище всевозможных человеческих грехов и пороков, избавиться от которых невозможно, а сбежать («по лествице») можно и нужно! И в самом деле, если считать «венец творения» и весь тварный мир ошибкой Творца, то спасение путём отстранения от него видится вполне приемлемым – и не только для православного христианина.
Выйдя из стен монастыря (который, соответствуя задачам учения, был наиболее приемлемым местом для медитативной практики), борьба исихастов с духовными противниками велась долго и проходила с переменным успехом. Утверждённое в 1351 г. на двух соборах без изменений (т. е. как не должное иметь связи с обыденной жизнью) учение сформировало в стране реальность, в которой развивались старые и зрели новые пораженческие настроения. Не разрушая первые и не противостоя вторым, догматические споры стали принадлежностью не только церковной, но и гражданской истории Византии. Делая акцент на тайно-личной аскезе, а значит, заведомо противопоставляя себя открытому миру (государству), официально утверждённая «истина» не могла выдержать (и не выдержала!) испытания политической реальностью. Последняя, никогда не бывая абстрактной, являла себя вполне конкретно, а именно в столкновениях как внешнего, так и внутреннего плана. Помимо «чисто» политических причин, о себе заявляло несоответствие сложившейся «духовной реальности» экономическим и социальным требованиям времени. Так же как и историческому бытию народа, никогда не живущего изолированно от других народов и государств. В пику реалиям светлые посылы «свободных в духе» людей были не только противопоставлены созидательным волеизъявлениям, они попросту исключали гармонию внутреннего и внешнего, выражением чего является духовное и социальное (государственное) устроение. Таким образом, в своих намерениях душеспасительное, в ходе исторической эвольвенты[8] учение оказалось государство-противопоказанным. С учётом того, что человек всегда существует на стыке духовной и социальной жизни, придётся признать, что «уход от мира» (с его реальными нуждами и трагическими необходимостями, войнами, борьбой за повседневное физическое выживание, и пр.) не мог не привести Империю к дроблению, после чего в буквальном смысле последовал уход из мира народа и государства.
Впрочем, не будем брать грех на душу, вменяя грехи исторического христианства лишь носителям учения, аккумулировавшего в себе древнее стремление человека обрести внутреннюю свободу и спокойствие в ней. Посему, избегая умозрений, отдадим предпочтение диагнозу, который подтвердило дальнейшее развитие событий: Византия подписала себе смертный приговор, объединив в себе светскую и духовную власть. Собственно, дело здесь не только в объединении, а в том ещё, что, заняв доминирующую позицию, во власть вступило то, что не только не содержит в себе механизмов устроения государства, но всячески бежит от него. Исихазм в своей «партийной» ипостаси, несомненно, послужил катализатором жизни народа и государства. Ибо лишь после его утверждения в стране могла в «чистом» виде восторжествовать идея по сути обезгосударствления страны. Социальная проекция этой идеи, выстроившей судьбу империи, укладывается в несколько слов: «молясь Богу», страна перестала «грести к берегу»[9]. Молитвы духовных лидеров и наставников народа, как известно, не были услышаны. Именно «горячая» вера без дел в ряду других причин привела Византию к упадку, в результате чего уже в следующем столетии она стала лёгкой жертвой исламского меча. Тщету бездеятельной заботы о спасении души для тамошней жизни подчёркивала длительная, малопродуктивная и неразборчивая в средствах борьба со всяким инакомыслием в этой. Итак, совокупность политической слабости, экономической бездеятельности и духовных заблуждений предопределила катастрофу империи, драму которой усугубляло внутренне унылое бытие её жителей. Этнически и социально пёстрое общество выражало суть духовно измождённой страны, возглавляемой слабыми по власти и политическим обстоятельствам василевсами. Военные и дипломатические поражения вели Византию к утере территорий и политического суверенитета, а номинальные императоры безвольно сопутствовали падению института государства в историческое «никуда». Именно в этот период страну наводнили десятки тысяч «вольных» босяков и голоштанных «сумочников». Тьма неприкаянных душ являла собой рать, которую принялись улещать уличные проповедники и столь же нищие духовные зазывалы. Ведя к тотальному развалу, всё это вызвало растянувшийся на века «плач» византийских историографов. Под этот «плач», озвучивший общую растерянность, и рушилась империя, уподобившаяся «шагреневой коже». При всеобщем разладе, тайнозрительное богословие лишь сопровождало уход в историческое небытие не так давно великого Царь-града.
Сделаем вывод: Византийская империя «последнего времени» являет собой жесточайший по своим последствиям пример политически беспринципного правления, усугубленного духовным безволием, что в итоге привело её к физическому устранению из «здешней» жизни.
Но, как известно, не Византией единой была жива идея христианства, как и не в ней одной зрели человеческие несовершенства. История мировых религий, подтверждая эту тезу, помогает вывести следующую: духовный рост человека ограничен его природой, весьма далёкой от совершенства. Это заставляет нас обратить внимание на те «единицы истории», которые духовно, интеллектуально и талантом своим возвышаются над остальными.
К ним мы ещё вернёмся, а сейчас рассмотрим этическую сторону учения, или, говоря точнее, его духовные, исторические и культурные последствия.
Обращаясь к событийной истории, нельзя обойти тот факт, что, неся в себе посылы, казалось, наиболее важные для духовного и нравственного совершенствования человека и общества, приверженцам христианства не удалось «вытащить» ни то, ни другое из омута сугубо человеческих пороков. Более того, хронографы свидетельствуют о том, что упадок интеллектуальных сил общества стал неизбежным следствием исторического торжества новой веры. Выразившись в настроениях завсегда легко возбуждаемых толп, «торжество» началось с беспощадного разрушения «до основания» как удивительных по своим архитектурным достоинствам «языческих капищ», так и неповинных в язычестве грандиозных гражданских сооружений. Беснуясь от религиозного экстаза, христианская чернь низвергала, уничтожая в прах, бесценные античные статуи и барельефы. Разрушались древние библиотеки и разбивались в пыль клинописные таблицы. Были сожжены сотни тысяч свитков и папирусов, содержащих в себе бесценные древние знания[10]. Слепые адепты новой религии, презирая «плотскую красоту» форм и в течение столетий будучи не в состоянии ощутить художественные достоинства, не признавали необходимости и в самом искусстве. Вместе с тем, не видя достоинств и не ценя зримое творчество, они хорошо знали цену драгоценным металлам, а потому не «раздавали своё» нищим (Мф. 19:21), а переводили в слитки золота и серебра предметы ритуального назначения, декоративного и прикладного искусства. И опять – в который уже раз! – на стыке старого и нового возник произвол, в результате которого прежние кумиры были низвергнуты, а величественные достижения древности стали восприниматься как порождение духовного невежества и дикого язычества. Зная об этом, не грех принять к сведению то, что христианская апология, блистая белоснежными ризами теперь уже легитимного учения, имела опору в реальной власти над своей паствой. На рубеже I и II тысячелетий христианские пастыри в массе своей не помнили уже о «святых лохмотьях» катакомбного христианства. А потому, врастая в грешное бытие, облекались в «ризы», больше подобающие идеологам светского толка. Крепко стоя на земле, конфессиональные лидеры ориентировали свои духовные притязания именно на такого рода устойчивость. В их руках «клюка» первых святых и истинных духовных поводырей превратилась в авторитарный жезл епископов, карающие функции которого приняла на себя святейшая инквизиция, учреждённая в 1232 г.
В пику инквизиции будем помнить, что и во времена апостолов и их духовных наследников – Отцов Церкви, учение не в состоянии было отменить агрессивно-любознательную природу человека. Проблемы души, духа и творчества продолжали интересовать и учёных, и «простого человека», находя интерес у мистиков, схоластов и первых «эмпириков от науки» – алхимиков. К примеру, в теологии немецкого мистика Мейстера Экхарта, в чём-то предварившего идеи исихии, единство Бога и человека является метафизическим принципом, конечной целью религиозной жизни, её смыслом. По концепции Экхарта, человек способен познать Бога, поскольку в человеческой душе есть «божественная искорка», частица Божества. Именно в связи с «искрой Божией» придётся отметить, что в ликование учёных известное разнообразие вносили суды «святейшей», в пламени которых время от времени сгорали наименее осторожные и наиболее принципиальные из них.
Борьба религиозных мировоззрений, выходя за пределы непосредственно церковных догматов, находила своё отражение и в религиозной и в светской культуре. Смена духовных императивов вела к переориентации этических категорий и эстетических принципов. Затронув архитектуру, изобразительное искусство и музыкальную жизнь Европы, она внесла немалые противоречия в мировоззрение и повседневный быт людей. Однажды возникнув, духовная идеология материализовалась в подобающих себе формах и явлениях культуры. Архитектура отражала мощь, а скульптура – мятущийся дух эпохи, бурный и грозный характер борьбы за власть и души людей.
Когда же страсти несколько поулеглись, в несколько нарочитой «глади католицизма» стали вырисовываться черты «аскетического покаяния». Материализуясь в камне, богословская аскеза в XIII–XIV вв. нашла себя в вытянувшихся в небо готических соборах. Однако не соборы и тем более не замки определяли высоту христианского сознания, – а жизнь улочек и бытие человека в тесноте их. На этом фоне о себе заявляет феномен, от которого так просто не отмахнёшься.
Григорий Палама. Икона. Конец XIV в.
Величественное в пещерах, христианство обмельчало, как только вышло на площади. За исторически короткое время духовное торжество сменилось языческим в своей сущности торжищем. В то время как церковные иерархи, выстроив храмы, не уступающие дворцам, и создав иерархическую лестницу, поднимались отнюдь не к Богу, теологи, «уйдя» в латинский язык и постигая «христианский космос» с опорой на греческих (опять же, языческих) авторов, отходили от истоков христианства. Переводы Библии, сделанные в конце XIV в. «утренней звездой Реформации» Джоном Уиклифом в Англии и Мартином Лютером в Германии (1534), в информационном плане несколько повлияли на положение дел, но, конечно, не могли изменить сложившегося положения вещей. Именно Комментарии латинской Церкви держали в духовной узде и этическом повиновении паству Старого Света. Однако по всему видно было, что авторитет искусственно поддерживаемого «папского христианства» невечен. Само же учение, посредством лукавых «разъяснителей воли Божией» смыкаясь с постулатами светской власти, уходило от своего существа и приобретало черты идеологии правящих.
Отдельные святые, герои и праведники на протяжении всей истории существовали едва ли не во всех религиозных конфессиях. Но, гонимые прежде всего «своими», они не в силах были противостоять сгущающейся в «средневековую тёмноту» схоластике и мистификациям христианства. Духовная практика праведников изолировала их от общества, не практикующего духовность, а светская власть, исповедовавшая интересы государства, устраняла из себя всех, кто не шёл в фарватере её идеологических догматов. В поставленной с ног на голову реальности всё расположилось на соответствующих себе местах. Потому святые и праведники, подчас неузнаваемые никем, из века в век привычно существовали на обочине духовной жизни (в политическое и социальное бытие путь им и вовсе был заказан), в то время как неправедные и грешные, опираясь на себе подобных, вершили суд над ними во всех отмеченных ипостасях. По-другому и не могло быть: то, что по себе организовывает бытие, правит по канонам и правилам, созданным для себя. Именно в таковых реалиях первые оказывались последними, а последние – первыми.
Как то происходило со всяким учением, семена христианства прорастали в духовные злаки, если попадали на благодатную почву. Но, оказавшись на «камнях» богословских догматов, духовная суть учения мумифицировалась по сути в язычество, историческую возможность которого предвещал ещё император Юлиан. Догматически неприемлемое, неоязычество нуждалось в соответствующем оформлении, которое обеспечили ему архитектура и изобразительное искусство, лишь посредством сюжетов опиравшееся на Св. Писание. Логическим исходом или прорывом из духовного тупика явилось языческое по этическим критериям, телесное по эстетическим концепциям и прикладное по характеру искусство Возрождения. Сложившиеся противоречия ярко отразила в конце XV в. драматическая фигура Джироламо Савонаролы.
Фанатично преданный «Церкви Христовой» монах-аскет жёстко выступил против романского гуманизма в его эпикурейско-языческих формах. Считая причиной падения нравов «вавилонскую блудницу» (папство), Савонарола не без оснований видел возрождение языческого мировосприятия в творениях восторжествовавшего в Италии Ренессанса.
Помимо теологов, подчас топивших свою веру и мысль в догмах, в возрождении и развитии языческого кода «повинны» были новые – буржуазные по социальному статусу и капиталистические по средствам формы производства. Давая рост существенно обновлённым духовным и общественным отношениям, они развивались совокупно с тогдашними технологиями. Подкреплённое этическими цензами, всё это культивировало индивидуализм сильной и красивой, не чурающейся ничего человеческого личности. Для сравнения укажу, что принципиально иное отношение к жизни и переживание Бога в душе имело место в православной Руси, явленное в канонах русской иконы.
В то время как искусные мастера итальянского Ренессанса, поначалу выучив, а потом напрочь забыв византийские уроки, охотно внимали новым веяниям времени, христиане греческого исповедания раскрывали духовное переживание соборно, а значит – безличностно. Сокровения соборного восприятия Благой Вести и жития святых раскрывались в русской иконе принципиально иными средствами и не в телесных образах.
Между тем необходимо признать, что именно в культуре «римской» Италии возникло и закрепилось в искусстве понятие «человечность» (от лат. humanitas), ведомое Античности и чуждое Средневековью. Чрезвычайно характерное именно для Ренессанса, оно в телесной своей ипостаси (человеке) ускользало от духовного и светского внимания властей Московской Руси, а затем и России.
Возрождение «человека» в европейском обществе, надо полагать, было антитезой его не столь уж давнего (фигурального) изгнания из социальной и общественной жизни.
Придётся напомнить, что пресловутый «мрак Средневековья» в качестве клише возник не без участия мёртворождённых воззрений «богобоязненных» теологов и схоластов, поскольку их догматы, увеличиваясь числом и закостеневая в своих посылах, мумифицировали всё, что в них не вмещалось. Именно их стараниями плодилось церковно-смиренное (заменившее духовную кротость) и социально-послушное невежество, которое со временем материализовалось в духовную трусость и социальную инертность. Смирение пред Богом интенсивно подменялось крепостной зависимостью от кесарей и «наместников Бога».
Церковные иерархи, слабые духом и ущербные волей, читая Св. Писание, а по прочтении не помня его, лишь усугубляли общее невежество. «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие» (Мф. 23:24), уличая грехи других, в массе своей затемняли и извращали учение, в казуистике которого и сам чёрт мог бы найти себе оправдание. Именно от духовно неверных, но властвующих на многие столетия распространился посыл, сутью которого стало «смиренное» самоуничижение всегда и неверие в свои силы во всём. В итоге «достигнутая»-таки слабость духа и воли низвела божественное в человеке до «образа» и «подобия» тёмных в духе поводырей. Но, веками застилая глаза, темнота эта к эпохе Лютера сгустилась в критическую массу духовной несвободы. Её социальная опасность была обусловлена невежественностью пастырей, лукавых святош и околоцерковных ханжей, в здешней жизни лживых, алчных и агрессивных.
Немудрено, что Земля виделась властным, но тёмным поводырям плоской, как стол, а небесные светила – вращающимися вокруг «стола».
И продолжалось это «вращение» вплоть до XVII в.[11]. Таковой мрак немало способствовал мобилизации гуманистической мысли в странах Старого Света, которая с переменным успехом противостояла мечу, костру и эшафоту.
Но это не ставит под сомнение достоинства, пусть во многом и наивной, средневековой христианской эстетики, поскольку, особенно в прикладном отношении, она была выстрадана в суровой борьбе за историческое существование.
Итак, не умаляя христианства, выразившего свои духовные сокровения в эстетически ясных и цельных формах храмового зодчества, включая безличностную в своих прописях иконопись (которую не следует путать с изобразительным искусством на религиозную тематику), но споткнувшегося при освоении социального пространства, отметим, что в Средние века ясно обозначились и ярко высветились принципиальные различия духовного и этического плана.
III. Знаки и символы средних веков
Omne onum a Deo, omne malum ab homine [3].
1
Это изречение справедливо уже потому, что, упоминая плохое, не говорит только о нём. Очевидно, древние избирали среди себя мудрых для того, чтобы обойти «плохое». И это, надо заметить, им нередко удавалось. Когда человек осознавал себя «мерой всех вещей», он выстраивал величественную архитектуру. В одних случаях «мера» эта плавно устремлялась к небу (египетские пирамиды), а в других – вписывалась в горы, стелясь в пустынях и городах (храмы Месопотамии, Египта, Греции и Рима). Но во всех случаях грандиозные сооружения, своей формой и эпической сущностью обращённые к огромным пространствам, были соразмерны модулю мироздания. Когда же ощущение величавости мира сменило в Средние века психологически дробное духовное исступление и религиозный экстаз, когда мир увиделся преисполненным греховности, зла и соблазнов, когда «вдруг» оказался подвластным воздействию страшных потусторонних сил, тогда «мерило вещей» переделалось в «тварь дрожащую» (Достоевский). Преисполненная не сыновней любви к Богу, а ужасом пред посмертными карами, «тварь» эта ощутила себя ничтожной и мерзкой «рабой Божьей». Восприняв Бога по-язычески могущественным Вседержителем, по жизни она страшилась в Нём Великого Начальника. В непрестанной дрожи лишь мысль об аде отверзала в братии «богобоязненную ревность», явленную в бездеятельности и моральной бесполезности стенаний.
Но истинно вселенского масштаба трагедия человека началась тогда, когда, оставшись при своих пороках, он изменил наиболее вдохновенной своей ипостаси, а именно «дерзости» масштабного творчества. Именно тогда стали угасать в человеке искры вышнего происхождения. Как уже говорилось, в ряде случаев это имело под собой духовно и этически деформированную основу.
Скованное принципиально иного рода духовными переживаниями, средневековое сознание включилось в систему иного этического отсчёта. Готические нефы, рождая зрительский восторг пред безмерной их протяжённостью, создавали иную ритмику внутреннего пространства собора. Глазу открывались подавляющие личность изобразительные формы, в золочёном антураже которых нашёл пристанище вирус рабства здешнего происхождения. Проникая «между молитвами» в самые потаённые уголки души, он создавал очаги духовного самоуничижения. Ограничивая личностное мировосприятие, поражая совесть грехом, а больной дух бездеятельным раскаянием, вирус этот на столетия угнездился во многих сферах деятельности «спешащего в ад» человека. Хотя, внутренне протестуя против рабства, человеческий гений умел придавать творениям рук своих величественные формы, о чём свидетельствуют сохранившиеся по сей день явления его духа и культуры. «Каменной молитвой» романских, готических и русских соборов, воздымаясь к небу, но при этом говоря о человеческом, – они продолжают возвещать о не угасшей в человеке монументальности, как и о неискоренимости Божественного в нём. Словом, гений человека пробивал-таки себе дорогу, невзирая на преграды и частью противостоя им. Именно в ножницах «мира» и «духа» формировалось неоднозначное бытие Западной Европы.
Вспомним основные факторы этого бытия и попытаемся обозначить главные колеи, которые вели к деформации внутреннего уклада Старого Света.
С самого начала Средних веков историческая жизнь Западной Европы шла рука об руку с церковным бытием. Однако «руки» эти с обеих сторон были в железных рукавицах. Эвольвентное перетекание политических приоритетов в духовные определяло подчас нездоровую зависимость одного от другого, формируя новые качества взаимоотношений и меняя их историческую перспективу. Но, «умывая руки» до и после подчас грязной работы, обе стороны не выглядели от этого чище. Независимо от духа политических деклараций и духовных догматов, обе они были намертво привязаны к грехам бытийной истории. Продолжая зависеть от человеческого несовершенства, западное общество перебивалось теми же заблуждениями, которые, повторяясь и умножаясь в духовной ипостаси, заводили католический мир в тупик. Никогда не угасая в народе, ереси во второй части XIV в. из узких монашеских келий выходили «на улицу», переводя келейные споры на вымощенные камнями городские площади. В реалиях, когда нетерпимость к оппонентам и беспощадность к «врагам истины» виделась беспорочной ревностью во славу Божью, христианские партии, видя «прислужников ада» во всех, кроме самих себя, готовы были изничтожить друг друга во имя Божье. Но лишь в начале XVI столетия в духовно извращённом пространстве Европы прозвучали громовые раскаты, за которыми последовало протяжённое в её исторической жизни громыхание религиозных и гражданских войн. Суть накопившихся проблем ярко высветили «молнии» и разнесли «громы» Реформации.
Не преследуя цели подорвать основы католической веры, религиозный бунт Лютера (1517) породил массу апологетов и их противников, которые сделали это вместо него. С опорой на Св. Писание, жёстко обвиняя друг друга во всех тяжких, движение протестантов выдвинуло лидеров, поверявших учение личным пониманием веры. Между тем изобретённые догматы и групповые убеждения, в отличие от «непрактичных» исихастов, куда как соотносились с реалиями мира. Оттого, едва возникнув, протестантство начало делиться на новые, принципиально несогласные и изолированные друг от друга «единственно верные» учения и вероисповедания. Именно с этих пор христианство стало многоконфессиональным. Распавшись на «духовности» и явив дробность во всём, оно приобрело сегментарность.
Однако духовными, партийными и прочими дроблениями «по интересам» никого не удивишь – история полна ими. Куда интереснее другое: жёстко и беспощадно заявивший о себе в веках принцип духовного несогласия, за которым обычно следовало «дело» разрушения, сохраняет свои позиции до сих пор! Об этом свидетельствуют многочисленные прецеденты как религиозного, так и идеологического несоответствия своим основам, что характерно для всей исторической жизни человека.
Приходится констатировать, что духовные учения на протяжении всей истории и во множестве своём не в состоянии усовершенствовать «венец творения», лишь сопровождают его непрекращающееся падение.
Почему?
Вероятно, потому, что в рамках природы «социального человека» невозможно совершенствование того, что не было сотворено в них. Это значит, что всё, сформированное по канонам «предметной реальности», – только ей и может принадлежать. В этом разрезе интересна мысль русского философа С. Франка, утверждавшего, что научно-технический прогресс – это созревание человечества для Страшного суда. Во всяком случае, именно эта реальность создаёт трудноразрешимые противоречия между «духом» и «телом», «добром» и «злом», внося разнобой в понимание и трактовку духовных и нравственных категорий. Поскольку именно в диалектическом единстве истинных знаний и (подчас не разделённых от них ясной чертой) заблуждений, опыта и эксперимента возникла структура того, что принято называть мудростью.
В стремлении преодолеть дебри заблуждений человеку сопутствовали счастливые открытия, включённые в эволюционную спираль. Застревая в первых и раскрываясь во-вторых, эволюционные витки привели к созданию Средиземноморской цивилизации, выпестовавшей европейский мир и, посредством духовного кода Византии, – Русский мир. Из этих духовных «дебрей» – только в иной цивилизационной среде и культурной нише – вышли многочисленные восточные учения, «знаки и символы», которые, по утверждению Конфуция, «правят миром». Между тем, различаясь по форме и сущности, они несут в себе схожее с «европейским человечеством» содержание.
В отличие от христианской Европы, судьба русского православия в плане исторического выживания долгое время была относительно благополучной. Лишь вначале оно огнём и мечом прошлось по Древней Руси. В дальнейшем страна не знала ни многолетних религиозных войн, ни Варфоломеевской резни (1572), разъединявших духовную жизнь и культуру Европы. Пусть и не в одно столетие, но придя-таки к духовному единомыслию, Русь многие века в неизменности хранила древние чины. Единство веры, предотвращая келейные раздоры, в значительной степени сохраняло духовную целостность русских княжеств и самой Руси.
На этой стезе исторически знаменательными были духовные старания инока Сергия Радонежского, вдохновившего Русь на победу в Куликовской битве (1380). Противостоя изолированности от «мира» и в слове и в деле, св. Сергий реализовал своё духовное призвание в бытийной и политической ипостаси. Нераздельная с последней духовная деятельность св. Сергия краеугольным камнем легла в основу выстраивания Русского государства. И, очевидно, именно на Руси духовное своеобразие и видение себя в мире высветило новый эволюционный виток христианского мира[12], давно уже разделившегося на католиков и православных. На пути к могуществу Руси необходимо было преодолеть Смуту начала XVII в. В духовном и бытийном плане являясь болезнью роста, Смутное время оказалось серьёзной проверкой силы духа народа. Климатические особенности Руси и её «широко размахнувшееся» географическое расположение обусловили племенную разрозненность в первую очередь отдалённых её регионов. Между тем в Московском государстве наметились начала мощной духовной и психологической общности. В историческом испытании народного единства в то время именно православное (забегая вперёд, уточню – «двоеперстное») духовенство послужило государству мощной опорой. Духовный подъём, предвозвестив формирование великорусского народа, придал ему устроительную энергию, в исторической перспективе обратив Московскую Русь в великое государство. Однако последующие испытания Смутой, беспризорным язычеством и политически неслучайными ересями не прошли для страны бесследно. Именно в этот период исторической жизни России в духовном и социальном теле народа образовались ниши, в которых вызревали чуждые его духу ереси. Эти ниши в исторической перспективе и послужили своеобразным плацдармом для разрушения исконного уклада метрополии. А пока «неслучайное» положение дел, смущая народ, разлагало высшие слои общества, включая церковную иерархию.
Среди высокого духовенства (но не среди рядовой паствы) нередко было формальное исполнение обрядов. Каноническая отдалённость от «мира», как оно было в Византии периода упадка, выразилась в изолированной от жизни концепции спасения души. Совокупность новизны, входя в жизнь Московской Руси и влияя на духовенство, отражалась на его умонастроениях. Православие в видимых образах (иконах) и творимых людьми (церковных канонах) после Великого (по своим историческим последствиям, а не по причинам) Раскола претерпевало существенные изменения. Это даёт основание условно разделить русское православие по греческому образцу на внутреннее (сущее) и внешнее (духовно-унифицированное). Первое – государство-устроительное, духовно-участное и бытийно-охранительное православие, втуне проявляя себя в феноменах духовно-этнического самоощущения со времён Киевской Руси, – исторически наиболее ярко заявило о себе победой на Куликовом поле. Это – корневое для Руси – православие олицетворяет духовный воитель и собиратель земель св. Сергий Радонежский. Второе – социально аморфное православие выразило себя в «синодальный период». Вызрев к концу XVII в., оно юридически было оформлено Петром I (1721). Эта форма православия существовала до 1917 г. и после исторической (точнее, атеистической) паузы продолжается до настоящего времени. Духовно и идеологически этот период наиболее характерно выражен концепцией смирения, особенно последовательно проводимой св. Серафимом Саровским.
Св. Сергий Радонежский
Таким образом, идея св. Сергия, состоящая в триипостасной совокупности дел, спасении души и охранении Отечества, была оттеснена односторонней (по типу византийской) концепцией спасения или посильного «устранения души» из «ада» грешно-мирской жизни. Не будем углубляться в духовные и исторические причины Церковного Раскола. Отметим только, что фатальное для России духовное размежевание было спровоцировано беглыми «греческими» монахами Арсением Греком (про которого в народе сложилось мнение, что он «волхв, еретик, звездочётец, исполнен скверны и смрада езувитских ересей») и Паисием Лигардом. По факту духовная катастрофа сместила не только веру, но само бытие Московского государства. Начавшись с коварных речений «многоконфессиональных» авантюристов, Раскол прогремел в России протяжённым в веках, грозным эхом. Резонанс его по существу привёл к духовной переориентации народа и, потрясши уклад жизни страны, изменил историческое развитие Российской империи. Между тем «затейки» Никона, утверждённые Соборами 1666–1667 гг., не имели бы успеха сто и даже пятьдесят лет назад, когда «железноногий» русский народ был един в вере и деле. С церковной, богословской и «грамматической» точки зрения малосущественные «поправки» и «исправления» привели к реформам, которые немедленно послужили обоснованием для жесточайших гонений – в первую очередь и в наибольшей степени – русского народа, в своей массе оставшегося верным старой, «древлеправославной вере».
Но дело сделано. От народного бытия волевым усилием была оторвана вросшая в историческую жизнь Московской Руси духовность, воплощавшая «дух русского народа» (А. С. Хомяков) и «живую реальность» (В. В. Розанов) его, которая являла себя в мощном единстве спасения души посредством дел. Таким образом, не только вера, но и вся «старая жизнь» потерпела невосполнимый урон. Поставленная вне закона, она ушла в подполье.
Непримиримость новообразованной церковной иерархии по сути дела ко всему духовному прошлому русского народа выразилась в беспощадном избиении православного люда. Наречённые «раскольниками» староверы в одночасье были объявлены врагами веры и государства. Тотальные гонения, подорвав духовные устои и социальные связи страны, разрознили народ, недавно скрепляемый единой для него духовностью. Сам же духовный Раскол, содрогнув историческое существование Московского государства, был в числе главнейших причин, приведших Россию к социальным и политическим катастрофам, растянувшимся на два с половиной столетия. «Новое» православие, лишённое «старого» духовного стержня, на глазах народа стало обряжаться кесаревыми претензиями и наполняться ересями латинства. Пётр I не мог терпеть положение дел, когда в недрах Церкви оттачивались «клинья» нового раскола. Желая пресечь духовную суверенность «без берегов», государь едва ли не вынужденно взял под контроль духовно безжизненные формы православия и придал Русской Церкви форму, юридическим выражением которой стал Священный Синод (1721). Но, нарушив меру и здесь, и в устроении Государства Российского, увлёкшись перекраиванием всего уклада российской жизни, великий реформатор обрёк духовную жизнь народа на изолированное бытие. Великий Раскол, получивший юридический статус при Петре, жестоко прошёлся по самой сердцевине русского народа. Миллионы продолжавших исповедовать «старую» аскезу были отторгнуты от социальных функций государства. Закон в очередной раз – и чрезвычайно жестоко – встал на сторону победителей. Немеренное число не смирившихся с поражением «раскольников» (ставлю это слово в кавычки, ибо таковыми были не они) вынуждено было буквально зарываться в лесные дебри и выстраивать степные скиты в недоступных человеку местах. В пику хотению значительной части народа, к XIX в. синодское православие стало руководящим принципом Русской Православной Церкви. За два века, начиная с «разбойных соборов» 1666–1667 гг. по правление митрополита Московского и Коломенского Филарета (ум. 1867 г.), в лице староверов была практически уничтожена духовная и деловая народная элита, состоявшая главным образом из этнических русских, коими были великороссы. С арены истории была устранена духовная, экономическая и нравственная мощь, которая, противясь экспансии в бытие России «фряжских ересей», не чуждалась новизне во многих других, приемлемых для страны формах. Об этом свидетельствуют открытость к изобретательству и, говоря современным языком, инновационные тенденции в экономической деятельности староверов на всём протяжении их исторического существования.
Протопоп Аввакум. Икона конца XVII в.
О силе духа и крепости веры «старого» народа говорят его великодушие и не знающая сомнений приверженность к сути духовного уклада. Претерпевая за убеждения казни, пытки и социальные лишения, ревнители древнего благочестия, не дрогнув при жестоком выборе, сами шли на смерть. Следует признать, что удар был нанесён не только по вере народа, но и по укладу и стилю его жизни, по уважению к власти и по нравственным мерилам, в отстаивании которых русский народ искони не щадил живота своего. Ревнители древнего благочестия принципиально противились разрушению духовных и социальных устоев, но именно это произошло усилиями победившей партии, после чего в России наступило усиление чужеродных влияний. Внеэволюционное, то есть резкое и насильственное, противное всему историческому укладу страны, внедрение чуждых ей параграфов и циркуляров по «фряжскому образцу», через недоверие к ним самого чиновничества, способствовало распространению взяточничества, казнокрадства и прочих форм лихоимства. Психологически подготовленная и социально приявшая такого рода «новизну» «петербургская Россия» открылась к привнесениям всякого рода. Прошло совсем немного времени и чиновное недоверие выродилось, по Салтыкову-Щедрину, в неугасимую среди столоначальников веру в «святость своей миссии и бюрократической её безупречности».
2
Возникает вопрос: в какой «материи» кроются причины духовных изломов, в исторической перспективе приводящие к изменению судьбы народа, страны и государства? В стремлении ответить на него вернёмся к апологиям христианства. Апостолы, обращая внимание на важность духовного преобразования, призывали к совершенствованию внутреннего человека, для чего необходимо было на практике следовать вере, которая, говоря словами ап. Павла, «без дел мертва есть». Однако в массе своей преображение посредством дел не происходило ни тогда, ни в Средние века, ни в последующие исторические периоды. В длинном ряду причин, очевидно, ещё и потому, что боговдохновенное Слово пересказывалось людьми, которые запомнили его в единой сути, но в «разных словах». Потому «разных», что, воспринимая Учителя в сущности и духовном образе, апостолы выражали учение в не во всём тождественных понятиях и представлениях (см. стилистические расхождения Книг Нового Завета). Между тем как на миссионерском так и на обиходном уровне смысловая погрешность каждого «понятия» увеличивалась тем больше, чем чаще она проецировалась на жизненные явления и человеческие взаимосвязи. Таким образом, преломляемый через индивидуальное сознание наставников и разноплеменных последователей христианства, смысл духовного учения приобретал вариации и получал оттенки, которые подчас далеко уводили неофитов от искомого значения (Доп. V). В результате «новый смысл», от несоответствия с начальным ведя к искажённым понятиям, являл собой не только образное и семантическое различие… Если не принимать во внимание эти факторы, то Слово Божие и в самом деле преподносилось всеми апостолами одинаково.
Проблема позитивного взаимодействия духа, «материи» и дел, выйдя из сферы непосредственно богословия в поле человеческих отношений, активно заявляла о себе по мере распространения христианского учения. Впрочем, проблема эта имела опосредованное отношение к учению. Христианский принцип любви не стал средством преодоления бытийных и социальных противоречий ещё и потому, что евангельская идея всеобщей любви замкнулась внутри религиозных общин. Номинальное единство веры и дел образовало прокрустово ложе, в которое с самого начала не умещалась несовершенная природа человека, что в повседневной жизни подчёркивали множащиеся противоречия этического плана. Размеры пресловутого «ложа», закономерно приведшего к костру и эшафоту, как уже говорилось, определяла ещё и возможность разной трактовки Св. Писания. Последнее разделяло общество и отдельных людей на тех, кто, исповедуя веру и смело отстаивая свои убеждения, не боялся предстать перед судом, и тех, кто обслуживал суд. Причём, если в Древнем Риме в статусе «недозволенной религии» (лат. religio illicita) христианство было в принципе поставлено вне закона, то в ренессансном Риме на костре инквизиции можно было оказаться в статусе верующего христианина-еретика.
По ходу исторического развития в общественном бытии всё активнее настаивали на себе различия народов по характеру, а также вариативность духовного и культурного кода, что немало влияло на восприятие основ и принципов христианского учения. И это естественно. Как и то, что в процессе устроения бытийных взаимоотношений о себе всегда заявляли факторы, мимо которых не могли пройти ни государство, ни общество, ни отдельная личность. Духовный и культурный код страны был важным для исторической жизни народа фактором, которым нельзя было пожертвовать, не нанеся ущерба обществу, государству и сохранению народа в качестве культурно-исторического феномена и «физического лица». По мере выстраивания государства высшая светская власть осознавала силу идеи, которая, будучи признана народом, способна объединить незнающих друг друга людей и целые общества в единое и нерасторжимое целое. История и впрямь не раз подтверждала тесную связь жизни страны, духовности народа и национальной культуры. Выполняя функцию раствора, последняя крепила эти факторы в единое историческое целое. Важность духовного и культурного своеобразия народа ясно выразил русский критик В. Г. Белинский в статье «Литературные мечтания» (1834): «Каждый народ играет в великом семействе человеческого рода свою особую, назначенную ему Провидением, роль». И далее: «…только живя самобытной жизнью, каждый народ может принести долю в сокровищницу человечества»!
Но, отдавая должное «Провидению», нельзя упускать из виду, что своеобразие развития, формируя несхожие мировоззрения, предопределяло различие в понимании духовных основ, принципов и практического приложения подчас в буквальном смысле «взятой на вооружение» религии. Собственно, метаморфозы духа и их практическое воплощение не были секретом для политиков, а потому не упускались ими из расчётов. Развитие обществ, как правило, проходя в соответствующих им социальных структурах и в известной мере формируясь посредством духовного единства, преломлялось ещё и через качественные различия в культуре и материальном бытии. То есть иное мировоззрение, создавая означенные факторы, вело к иному мировосприятию и делам в мире. Конечно, при этом возникали серьёзные проблемы, но если они не имели исторического происхождения, а «всего лишь» не вписывались в пределы конкретного духовного и культурного поля, то сводились на нет путём взаимных компромиссов: политических и социальных корректив с одной стороны и «добровольного» пересмотра «устаревших» религиозных положений и догматов – с другой. Это, однако, имело допустимые пределы, поскольку существовало ещё и нечто незыблемое, что выпестовала историческая жизнь и традиции народа. Поэтому те «духовные факторы», которые не признавались опасными для «повседневной страны», можно ещё было как-то «просеять» через сито правовых, моральных и прочих цензов, но это не проходило в отношении исторически сложившейся структуры государства, которая не предоставляет правителю большого выбора. Именно необходимость сохранения структуры понуждала императоров применять жёсткие, а порой и весьма жестокие меры к тому или иному духовному (в нашем случае – христианскому) учению. Если вероучение шло вразрез с политическими основами государства, его социальным устройством и, понятно, с интересами правящих групп, – то подвергалось гонениям, а его последователи были обречены на изгнание или физическое уничтожение. Если же оно, отвечая сложившейся политической реальности и социальной структуре, не мешало (подчёркиваю это) развитию государства и жизни общества, то принималось к пользованию.
Мартин Лютер. Лукас Кранах Старший. 1529 г.
Для пояснения вновь обратимся к историческим аналогам, наиболее ярко обозначившим себя в эпоху Мартина Лютера. Знаменитые «Тезисы» Лютера находят своё объяснение в перезревших противоречиях католицизма. Однако в своём продолжении протест исторически тут же был «перехвачен» тем, что потом было признано учёными «объективно целесообразным». Но «целесообразность» эта вовсе не обязательно оправдывает протестную кривую как верных последователей Лютера, так и его не по-христиански честолюбивых апологетов. В ещё большей степени это относится к протестантам из числа духовно беспринципных противников великого реформатора. Поскольку именно такого рода «кривая» выводила на околохристианское бездорожье не только их, но и официально апробированные и духовно прижившиеся ветви протестантского движения.
Исторически в то же время «протест» эвольвентно привёл к рационализму в вере и индивидуальному восприятию её, выраженному в учении Жана Кальвина. Учение «Женевского папы» представляло собой, говоря словами Достоевского, «добродетель без Христа», или, скажу от себя, жёсткий духовно-буржуазный режим, не свободный от социально-экономических привязок, что в значительной степени обусловило идеологию накопления и практику стяжательства. Подготовленное к тому, фактически, вызовом Лютера, накопление опиралось на места в Библии (в частности, Второзаконие, 28), где богатство считается благословением, а нищета проклятием.
Таким образом, кальвинизм, послужив духовно-психологической основой для капиталистических средств производства, курил фимиам давно отвергнутому христианами «золотому тельцу» – идолу иудеев (Исх. 32). Так, вовсе и не помышляя об этом, и Лютер, и Кальвин (каждый по-своему) наполнили социальным, «деловым» и идеологическим содержанием то, что впоследствии стало называться исторической необходимостью.
Другим важным фактором, обусловившим многовековые противоречия, являются нравственные требования христианства (опять приходится останавливаться на этом), которые были и остаются чрезвычайно высокими, чтобы не сказать недостижимыми в реальной жизни. Именно ввиду малой способности следовать предписаниям Евангелия в экономически и финансово активно развивающихся странах Средней Европы, Новый Завет сотни лет утаивался от христианских народов, а по открытию его нашёл не столь уж много последователей. Слушая лишь настояния толкователей воли Божией, среди которых толкалось немалое число нечистых на душу пастырей, народ веками пребывал в тяжелейших условиях «по воле Божией».
В том смысле, что целиком и полностью зависел от феодальной и церковной власти. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых, – говорит ап. Павел. – И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:13–14).
Однако, держа в уме «сатану», не грех помнить, что именно аббаты, богословы, монахи и каноники (Франческо Петрарка, Иоганн Рейхлин, Эразм Роттердамский, Франсуа Рабле, Николай Кузанский, Николай Коперник, Джордано Бруно и др.), утверждая достоинства личности, возрождённой по образу и подобию античных времён, были первыми провозвестниками гуманизма. Именно заветы последнего, то ли закономерно, то ли по стечению умонастроений, оказали революционное влияние на становление культуры Европы.
И в самом деле, нескончаемые средневековые споры, как правило, заканчивающиеся утверждениями о враждебности для души «телесного» ощущения мира, канули в вечность. Причём смена настроений произошла при прямом участии расстриг и весьма образованных беглецов из распадающейся Византии, среди которых наиболее выдающимися были философ-неоплатоник Гемистий Плифон и греческий ученый и богослов Мануил Хрисолор. В тот период и в самом деле варварская Европа испытывала острую нужду в просвещении, а потому с великим почётом приняла византийских «латинян», оказавших значительное влияние на культуру европейских народов. Не случайно местный поэт и педагог Гуарино да Верона восторженно сравнивает Хрисолора с солнцем, озарившим погруженную в глубокий мрак Италию. Среди интеллектуалов Старого Света находила особое признание созданная по греческой кальке античная неделимость индивидуальности (лат. individuum – «неделимое»), замечу, – личности, а не «космоса» Афин, Спарты или Рима. На этот важнейший фактор античной этики обращал внимание филолог А. Лосев, считавший, что «весь эллинизм неизменно был стремлением от индивидуализма к универсализму, когда мыслилась окончательная индивидуальность как нечто универсальное, а универсальность – как нечто индивидуальное»[13]. Однако ни высокомудрые расстриги, ни старания их выучеников – гуманистов Европы – не могли воспрепятствовать буйному росту в католическом мире потенциально дробной «многовещной цивилизации». Психологически и – чего уж там! – плотски сродное ей папство благословляло всякое материальное прославление «бытия Божия». Но более всего коммерческая сущность «предприятия» выражалась в бойкой торговле индульгенциями. Истинно детища Ватикана, они под заинтересованным оком «наместников Бога» играли роль «отправных бумаг» в Царствие Небесное. Хотя и без подзорной трубы можно быть уверенным, что бойкие «верблюды» из состоятельных грешников первыми застрянут в «игольном ушке» из грехов и продавцов и покупателей. Распространяясь всё шире, «духовно-правовое» или «меняльное поле» Ватикана и вызвало мощный протест честных, мыслящих и принципиальных людей, впереди которых оказался никому в то время не известный монах Виттенбергского университета Мартин Лютер.
Ну да бог с ними, с путаниками и незадачливыми «лазальщиками» времён Рабле. Тем паче, что духовные противоречия, заявив о себе с самого начала, усилившись в Средние века, а в Новое время разродившись целой сетью вероучений, конфессий и сект, не улеглись и сейчас.
Суммируя происходившее в исторической жизни христианства, протоиерей В. Свенцицкий в докладе «Мировое значение аскетического христианства» (1908) говорил о генезисе христианской этики следующее: «Внешняя организация Церкви, в силу вещей, оказалась в наиближайшем соприкосновении и антагонизме с той естественной природной жизнью, которой жило нехристианское общество. Она-то, эта воинствующая Церковь, и вступила на путь компромиссов с князем мира сего. Она была не в состоянии победить мир сразу и потому предпочла вступить с ним в союз. Эпоха первоначального христианства закончилась – началась церковная история. …Порче и искажению подверглось всё прикладное христианство. Вся общественная мораль. Всё, что определяло отношение к внешнему миру. Абсолютные, ясные, как день, моральные требования Евангелия подверглись ограничению и из абсолютных стали относительными». Мы это знаем, как и то, что всё это – и в не меньшей степени – относится и к другим ведущим религиям мира.
Возникают вопросы: всякая ли человеческая ипостась вписывается в эту схему? И только ли вера в себя или неверие в свои силы формирует бытие?
Возникают и другие: разве искренняя вера в Бога (неверие в Него или, что ещё хуже, ханжество верующих) может преобразовывать то, что в своём надисторическом и надсубъектном развитии не выстраивается ни в лукавых, ни в святых умозрениях? – что не формируется ни на основе личных совершенств, ни тем более на их отсутствии? И потом, разве один только негативный (то есть омирщвлённый) посыл способен был создать духовные и психологические реалии, при которых «материальное» развитие в виде естественных и прочих наук «европейского мира» могло замереть едва не на тысячу лет?!
Наверное, нет. Хотя бы потому, что историческая жизнь эволюционирует не во внешних посылах, а во внутренних, то есть в душе народа, а в политической и экономической жизни она материализует качества, созревшие в глубинах народного сознания. Если принять эту тезу, то следует признать, что внешняя сторона исторической жизни реализуется видимыми событиями, а внутренняя – силами духовных недр, которые «ворочают» могучие пласты видимой, иначе говоря, событийной истории. Поэтому не будем перегибать палку, дабы не уподобиться предмету критики. Тем более, что вопрос не столько в христианской или в какой-либо другой вере, сколько в природе человека, который на протяжении исторической жизни гасит в себе искры божественного несусветными амбициями, социальным страхом, реальным или психологическим рабством. Проводниками последнего и является ханжествующее священство, «замещающее» на земле Всевышнего. Под напором подтверждённых историей фактов признаем, что в Новое время в искусственно созданной «духовной реальности», распространявшейся в пределах и за пределами религиозных конфессий, на протяжении длительного времени формировался «человек», для которого подчас и закон не писан, и сам Бог не праведен…
Вернёмся к причинам этого явления, опять ведущим нас в эпоху Реформации.
Распространение изощрённо-корыстной банковской системы и форм хождения товара, создание производительных сил и активное расширение новых производственных отношений усложнило практическое применение христианского учения в том виде, как оно трактуется (и рекомендуется к исполнению) в Евангелии. Живо схваченный Гегелем принцип «божественное всегда должно быть только в сознании, но не в жизни…», не особенно устраивая обывателя всех времён в первой своей части, вполне удовлетворял во второй. Охочий до земных благ, рядовой прихожанин всегда охотнее припадал к распятию, нежели к Богу. Европейская цивилизация на какое-то время замерла в вилке христианской морали и подчас чрезвычайно далёких от неё «требований действительности». Много позже философы и историки, выявив известную связь и взаимную зависимость духовного и материального бытия, вернулись-таки к тому, что первое определяет второе, а не наоборот. То есть не бытие (как думал Маркс) определяет сознание, а сознание формирует бытие. В частности, английский философ и историк Арнольд Тойнби убедительно показал, что всякую цивилизацию формирует тип верования, поскольку именно он определяет общую для носителей цивилизации шкалу ценностей и общие понятия о добре и зле (о том, что тип верования преломляется через тип верующего, Тойнби деликатно умалчивает, очевидно, боясь, что «добро» трудно будет различить в теснинах «зла»).
Впрочем, зависимость «шкалы» добра от типа верования если и очевидна, то не абсолютна. Ибо то, что казалось истинным в «детстве человечества», ставилось под сомнение в «отрочестве» его, а по мере взросления порой и вовсе признавалось негодным для жизни. «Гормональные» изменения homo sapiens, непосредственно сказываясь на мировосприятии (в «детстве человечества» воплощённом именно в верованиях), по ходу истории всё больше менялись в сторону отношения к действительности. Последнее выражало себя в желании переустроить бытие, которое в совокупных слагаемых полисных государств и было «миром» раннего средневековья. Так или иначе, но созерцательное мировосприятие уступало место мироустроительному. Чем дальше, тем больше оно обусловливалось потребностями практического плана, которые в разной степени интенсивности повсеместно опережали духовные интересы. Если взять к сведению отмеченную нами исторически неслучайную связь ренессансного гуманизма и протестантства, то следует принять во внимание мысль А. Лосева, считавшего, что именно с эпохи Ренессанса в социальной ипостаси началось возрождение демонского духа, ступенями которого были капитализм и социализм. Первые «плоды познания», предложенные гуманистами, и в самом деле оказались горькими, ибо вылились в религиозные войны, за которыми последовали буржуазные революции. Однако и «плоды» Просвещения оказались не слаще. Падая недалеко от ренессансного «древа Помоны», они несли в себе яд куда более жестоких революций.
Последующее развитие капиталистического способа производства в Европе стало некоей данностью, способной существовать смежно, параллельно и даже вне зависимости от типа верования (в уменьшенной зависимости цивилизации от типа верований Тойнби мог убедиться в течение долгой своей жизни). Нарастающая «вещная» цивилизация потребовала от науки точного и, главное, практически применимого знания.
Организация общества в прокрустовом ложе политических и идеологических схем потеснила христианство как духовную «надстройку» феодального мира. Активно пробивающее себя в Европе Протестантство послужило неким универсальным ключом, открывшим дверь в иное историческое пространство.
3
Новые реалии, в изысканиях естественников олицетворившие развитие и продвижение науки, жёстко поставили перед европейским миром выбор: или или. Или спасать душу, уводя человека и общество от материальных соблазнов и ремесленно-утилитарных изощрений «мира», – или «отпустить» человеческую природу на собственное усмотрение, дабы оно «догрызло» тот плод с древа познания, который однажды привёл уже человека к проклятию. Компромисс не был найден. Во главу угла встало то, против чего с бичом в руках восставал Сын Божий.
Подводя итоги, вспомним наиболее содержательные эпизоды в исторической жизни стран Старого Света.
«Мрачное Средневековье», заложив основы того, чем позднее стало гордиться «европейское человечество», сменил приснопамятный гуманизм Ренессанса, за два столетия развившийся в материализм и скепсис Просвещения. От них недалеко было до революционных настроений (или нестроений), которые не замедлили явить себя в конце того же XVIII в. Подверженный стихийному индивидуализму, мятущийся «человек» эпохи Просвещения вытолкал было взашей эффектные «завитки» барокко и рококо, намереваясь вдохнуть классический героизм в «надушенную эпоху», а заодно сохранить остатки гармонии средиземноморской цивилизации. Но не получилось. Прошло не так много времени, и лощёные категории героического, воспетого в пьесах и прописанного в трактатах просветителей, покрыл белый саван многочисленных жертв Великой французской революции. Задуманный в стиле античного благолепия «героизм эпохи» отметил себя драмой политического хаоса в стране. Тем не менее какое-то время он возвещал о себе высокой классикой, которая как-то странно уживалась с камерно-робкими мелодиями клавесина и клавикордов. Об этом упоминаю потому, что музыка наиболее чисто отражает настроения общества.
Может, ввиду этой «чистоты» звуки их, тихо угаснув в интерьерах роскошных дворцов и палат, уступили место древнему, как Египет, глубокому звучанию органа. «Флейта Пана», пережив античные времена и при римских папах став «Трубой Господней», как будто ставила под сомнение необходимость предстоящих политических свершений. Не иначе как ведая о печальной судьбе роскошных дворцов, орган во второй половине XVIII в. искал себе приют в величественных интерьерах католических храмов, наполняя их пространство музыкальной аскезой. Между тем региональной героике эпохи следующего столетия эмоционально больше соответствовало фортепьяно, богатство и широта музыкального диапазона которого, прельщая культурные слои общества, также не были слышны в хижинах третьего сословия. В пику беспокойному времени растворяясь в пространствах концертных залов, камерное звучание нового инструмента единило между собой всех, кто в век войн и революционных брожений не утерял ещё в себе эстетического восприятия. Тогда же торжество неоклассики сменил революционный романтизм, на смену которому шло оголённо-материалистическое мировосприятие. По правде говоря, нигилизм последнего, как ничто лучше, отвечал умонастроениям поднаторевшего уже в цивилизации «европейского человечества».
Цезарь
Итак, конец XVIII в. не только дал принципы новой цивилизации, но и потряс все устои предыдущих времён. Рушились вековые основы многих представлений – от элементарных до грандиозных. Век Просвещения подошёл к концу, реализовав себя в кровавой демократии Великой французской революции. С «демократией» было покончено, и её место в 1799 г. заняла не менее кровавая диктатура. Начало XIX столетия ознаменовалось новыми потрясениями и войнами. Недавнюю героику сменило разочарование в тиранах, до того казавшихся героями. Французская революция, предопределив разрушение монархий, привела к ещё большей тирании, чем прежде. Сбросив залитые кровью боевые плащи, «герои» пошли в услужение к монархам, после европейской смуты первой трети XIX в. больше напоминающим политических манекенов. Истинный Цезарь (Наполеон) умер, и Альфред де Мюссе дивится тому, что «одна смерть могла привлечь столько воронов». Такое же «вороньё», как на падаль, кинулось на «трупную и смрадную литературу, в которой, – пишет Мюссе, – не было ничего, кроме формы, да и та была отвратительна…». «Все царственные пауки разорвали Европу на части, а из пурпурной тоги Цезаря сшили себе наряд Арлекина», – подводил итоги «века» Мюссе в своей «Исповеди…». Но политическая и социальная пестрота отнюдь не была карнавальной. «Это было какое-то отрицание всего небесного и всего земного, отрицание, которое можно назвать разочарованием или, если угодно, безнадёжностью. …Ужасная безнадёжность быстро шагала по земле» (запомним это. – В. С.), – вновь выделяет состояние умов своей эпохи Мюссе[14]. Болезни «просвещённого века», перейдя в следующий, не могли не затронуть христианства. Ещё меньше, нежели прежде вписываясь в бытие, оно прирастало новыми ветвями. Но, создавая пышную крону «христианскому древу», новые конфессии лишь усиливали мрак у его корней.
Перипетии духовного и политического бытия заставляют нас прийти к следующему заключению: в свои права вступила цивилизация иной духовной наполненности, этических ценностей и социального покроя. Забыв начала своей культуры, а потому, не поняв причины заката её, «человек» Нового и тем более Новейшего времени не в состоянии был различать эпическое звучание своего когда-то великого прошлого!
Отвлечёмся от не очень утешительной истории и ещё менее оптимистичных выводов и зададимся вопросом: почему рассмотрение духовных, бытийно-исторических и культурных эвольвент, включая их эстетическое переложение, представляется не только уместным в настоящей книге, но и весьма важным? Полагаю, ответ на этот вопрос в разрозненном виде содержится на предыдущих страницах, остаётся лишь сформулировать его.
Без уяснения исторически сложившегося «прикладного» христианства невозможно серьёзное рассмотрение духовной и творческой деятельности тех, кто находился в лоне христианской Церкви, будь то православная её ветвь, католическая или протестантская. В особенности же нереально познать степень участия в христианском бытии выдающихся деятелей творчества. По той причине, что факт одарённости – дар Божий – не только морально обязывает его держателей реализовывать дарованное, но и по причинам психологического плана не оставляет наиболее честным из них иного выхода.
Что касается непосредственно Михаила Лермонтова, то к его напряжённой творческой жизни причастны, конечно же, не конкретно Византия или католический Запад во всей его культурной пестроте. И даже не исторически ущемлённое православие (в этом плане уместнее было бы говорить о духовности Древней Руси), а та духовная и этическая база, на которой выстроились эти культурно и исторически величественные феномены.
Словом, при всей противоречивости, разнородности и свойственной человеку нетерпимости к «частям» христианского тела, эти феномены содержат в себе эпические по масштабу духовные пространства, к которым творчество русского поэта не только имеет прямое отношение, но и является их частью!
Если, помимо Лермонтова, обратиться к другим выдающимся гениям, то их причастность ко всей «массе» истории подтверждают неустанные духовные поиски и вдохновенное творчество, в котором они подчас выходили далеко за пределы конкретных вероисповеданий, а в иных случаях застревали в своих личных пристрастиях. Между тем, в той или иной мере являясь проводниками вечности, именно они несли моральный груз, совершенно непосильный для обыкновенных людей.
Преодолевая соблазн углубиться в сопутствующие их исканиям заблуждения, которые, по правде говоря, куда интереснее многих современных нам «инфляционных истин», постараемся остаться в рамках темы, и без того достаточно расширенной. Отметим лишь, что такого рода «инфляции» и закономерны и неизбежны.
Здесь заявляет о себе парадокс. Он состоит в том, что религиозные адепты в качестве оппонентов признают лишь своих единомышленников. То есть ты можешь критиковать что угодно: католицизм, протестантство, православие, иудаизм и прочее, но в рамках каждого вероисповедания и только в том случае, если разделяешь основные принципы этих религий. Что уж говорить об изложении умозрений великого числа диссидентов, чьи учения не вместить ни в какую книгу?! Впрочем, даже и краткий пересчёт наиболее известных заблуждений не представляется возможным без ущерба для верного изложения их сути.
Не пытаясь заточить их в несколько абзацев, осмелюсь коснуться лишь некоторых «ересей». При этом избегая социальных прожектов философов, анализ которых требует особого аналитического пространства, что и нереально, и не требуется в настоящей книге. К счастью, от такого проекта отваживает выдающийся датский богослов XIX в. Николай Грундтвиг.
Именно он не побоялся бросить свой упрёк не в меру умствующим философам: «Вы, крупные философы, часто забываете саму жизнь в конструировании своих мысленных построений». Это замечание, очевидно справедливое в отношении современных Грундтвигу философов, трудно отнести к одному из самых ярких мыслителей и учёных – навсегда великому Готфриду Лейбницу, и тем более – к Вольтеру, который прятал свой ироничный ум дальше, нежели принято думать.
Лейбниц, признавая некую конечную высочайшую сущность, которая проста, неделима и находится вне пространственного измерения, назвал её монадой. В человеке, считал он, сосуществуют две, совершенно независимые друг от друга монады: монада тела и монада души. Лейбниц вслед за Декартом уподоблял их ходу двух синхронных часов, показывающих одно и то же время, одновременно отбивающих один и тот же такт.
Такую синхронность между душой и телом человека Лейбниц назвал Предустановленную гармонией. Распространяя её на всю материальную и духовную действительность, Лейбниц убеждён был в господстве в мире полной гармонии и согласованности. То есть зла в мире не существует, ибо все события и изменения в мире направлены на осуществление заблаговременно установленной Божеством благой цели. В своей основной работе («Теодицея» <Добродетельность Бога>) Лейбниц снимает с Бога обвинения за всё зло, которое репродуцирует себя в мире, доказывая, что созданный Богом мир является «самым лучшим из всех возможных миров».
Не столь оптимистичен был Исаак Ньютон, предполагавший периодическое вмешательство Бога в устройство мироздания ради улучшения функционирования последнего. Но в особенности протестовал против такого миро– или Боговосприятия Вольтер. Категорически несогласный с положением Лейбница и по причине долгой жизни «вечный» его оппонент, французский мыслитель не упускал случая подтрунить над немецким учёным.
Деист в духе английских буржуазных вольнодумцев XVIII в., Вольтер отстаивал свою позицию, согласно которой Бог сотворил Вселенную, однако в дела её не вмешивается.
Но, не отрицая существования иного мира и сам не вмешиваясь в дела Божьи, Вольтер оставлял за человеком его право на счастье «здесь». Относительно возможности «здешнего» счастья в то время были разные мнения.
К примеру, Лабрюйер, страдая от своего зависимого положения в мире сём, пришёл к убеждению о неспособности мира развиваться и совершенствоваться, поэтому видел себя в стороне от «мира». Монтескье и Вольтер, напротив, были сторонниками активного социального действия.
Таким образом, наряду с признанием веры ими отстаивалась необходимость дел. Вольтер, придя к своим социальным убеждениям, очевидно, не без печального личного опыта, в пику молве о нём не был безбожником. Просто его поистине феерический гений довлел над тем, что нынче зовётся политкорректностью. Однако, не избегая в своих сочинениях острых тем и, как на шпагу, нанизывая на них «злые» вопросы, Вольтеру не удавалось сбегать от их следствий. Но, бегая до глубокой старости от обеих властей, мыслитель всегда оставался при своём уме.
Саркастически относясь к попам, не меренным числом «толкователям слова Божьего» и прочим «знатокам истины», Вольтер обращал своё перо прежде всего против этой публики. Поскольку именно они, не по уму толкуя Св. Писание, плодили недоверие к христианству и к самому Богу.
Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
К тому времени костры инквизиции почти погасли уже, но оставался ещё эшафот… Поэтому Вольтер старался быть осторожным. Однако это не всегда у него получалось. В поэме «За и против» (1722) Вольтер обрушивается на зеркальное отражение придуманного Бога. Предписывая любить милосердного Бога, адепты в своём «зазеркалье» рисуют Его жестоким тираном, вызывающим страх и ненависть, но никак не любовь. «Я чтить его готов, любить сыновне, свято, – возражает им Вольтер, – /Мне ж предстоит тиран, что злобу сеет сам». «Нет, – говорит он, – Бог мой не таков, и лжёт изображенье / Того, кто в этом сердце свят». Свою поэму Вольтер заключает признанием Бога, но неприятием религии: «… сердце – не хулить, а чтить тебя готово: / Я не христианин; тем ты верней любим». Давно прошла молодость, но неисправимый поклонник Творения в его целостности остаётся при своём «старом» убеждении. В «Поэме о гибели Лиссабона» (1755) Вольтер повторяет: «Я Бога чтить готов, но мной и мир любим». О «скрытом Вольтере» довольно красноречиво говорит эпизод, который приводит в своей работе библиограф Д. Языков: «Когда Вольтера спросили, есть ли Бог, он попросил сперва плотно закрыть дверь и затем сказал: “Бога нет, но этого не должны знать мои лакей и жена, так как я не хочу, чтобы мой лакей меня зарезал, а жена вышла из послушания”»[15]. По легенде, на предложение священнослужителей «отречься от Сатаны и прийти к Господу» находившийся на смертном одре Вольтер ответил: «Зачем перед смертью приобретать новых врагов?» Его последние слова, обращённые к «божьим наместникам», не без горечи приоткрывают завесу его убеждений: «Ради бога, дайте мне умереть спокойно». Так и не отрёкшись от своих ересей, Вольтер дал понять, что душа его принадлежит Богу, а не церковной сутане. Иоганн Вольфганг фон Гёте, «отодвигая» деизм Вольтера, разработал для себя сугубо «личную» религию. Основанная на неоплатонизме, она представляла собой своеобразную смесь элементов различных философских систем и религий, в которой доминировали пантеистические представления. Великий поэт был убеждён, что бог-природа намного ближе, понятней и доступней человеку, чем христианский Бог.
Иоганн Вольфганг фон Гёте
Насколько положительно он относился к Античности, понятой им в ренессансном духе, настолько отрицательно он воспринимал христианство.
Таким образом, пантеисту и, по Мюссе, античному певцу Греции и страстному поклоннику священных форм «не хватило» и 18 веков для того, чтобы поверить христианству.
Во всяком случае, Гёте предпочёл быть «великим Олимпийцем», нежели рядовым христианином.
Джордж Байрон, по жизни не отказавшись от христианства, в своей поэме «Каин» всё же ясно даёт понять на чьей он стороне.
Авель у него приносит в жертву Богу ягнёнка, и небо принимает эту жертву, а Каин приносит в жертву «плоды земли», и ветер опрокидывает его жертвенник. Каин, возмущённый этим («Ты угодил кровавой жертвой больше: / Смотри, как небо жадно поглощает / Огонь и дым, насыщенные кровью»), убивает своего брата как пособника «кровожадного» Бога. В отличие от старших еретиков Сёрен Кьеркегор не только остаётся в рамках традиционного христианства, но и ищет путь к его истокам. Именно в стараниях прийти к истине он в своих поисках уходит за пределы канонических требований христианства своего века, которое – как и сам «век» – считал донельзя омирщвлённым. Как и Грундтвиг, считавший современные ему проповеди «заумным и хвастливым учением», «человеческим сообщением», не тождественным Слову Божиему, Кьеркегор порицал поверхностное, обрядовое отношение.
Джордж Байрон
Соглашаясь со своим учителем, прозванным «датским Лютером», он желал возвращения к подлинному, «первоначальному» христианству.
Незадолго до смерти Кьеркегор писал: «Христианство Нового Завета совершенно не присутствует. Здесь нечего реформировать!» Подлинное христианство, по Кьеркегору, предъявляет человеку безусловные требования.
Подытожим сказанное.
Реалии «века Просвещения» породили духовных и светских мыслителей, ум и веру которых разрывали глубокие духовные противоречия.
Накопившиеся за многие века, последние не торопились расставаться с теми, кто лишь умножал их число…
Стиль мышления, сформированный разной духовной и культурной средой, создавал несхожие понятия, которые лишь усугубляли «культурное» непонимание между людьми. В этой связи любопытно отметить единство мыслей при разности слов, определяющих это единство. К примеру, Кьеркегор считал, что жизнь Христа на земле не является историей. Его личность внеисторична, ибо принадлежит всей протяжённости человеческой истории. Поэтому заповеди Христа актуальны для каждого человека и поколения во всякие времена.
В пику ему Пётр Чаадаев настаивал на историчности христианства: «Христианство является не только нравственной системой, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире». В своём условном споре с датским теологом Чаадаев по сути отводит христианству то же всеисторическое значение, что и он. Кьеркегор, не уставая, высмеивал бытовое христианство «до определенной степени».
Эту же мысль русский мыслитель выразил много прощё: «Есть только один способ быть христианином, это – быть им вполне».
Время показало, что религиозное сознание может быть и бездуховным, если оно не предполагает внутреннего тяготения к Первоисточнику.
И тогда нишу духовного неведения занимает мировосприятие, базирующееся на личностных пристрастиях и моральных цензах. Между тем и во времена духовного и культурного упадка появлялись личности исторического масштаба, призванные скрутить в тугой жгут сложнейшие противоречия человеческого бытия.
Кто знает, может, лишь пройдясь этим бичом по филейным местам духовно обрюзгшего человечества, можно донести до его сознания мессианские в своей сущности, потенциально спасительные идеи.
Будучи детищами новых – во многом обеднённых – цивилизационных и культурных составляющих, эти сущности не только содержат в себе «знаки вечности», имеющие нездешнюю историю, но и являются их проводниками.
Однако оставим весьма увлекательный ход идей и исторических событий и обратимся к главному герою нашего повествования – Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
IV. Становление мира Лермонтова
Бог – это надежда для храброго, а не оправдание для трусливого.
Плутарх1
В России христианство греческого обряда было частью домашнего воспитания во всех слоях общества, включая высшие. Не был исключением и дворянский род Столыпиных-Арсеньевых, в котором ко времени рождения Миши Лермонтова немалым авторитетом пользовалась бабушка его – Елизавета Арсеньева. Следовательно, будущий поэт и по своему происхождению и по традиции был наследно-православным христианином, что в бытовавшем тогда в светском обществе «триединстве» веры, верности монархии и следованию дворянской чести предполагало следование канонам и предписаниям православного вероисповедания. Дальнейшая жизнь Лермонтова, как о том молила бабушка, должна была пройти под опекой св. Михаила Архангела.
Формирование личности поэта происходило в крайне несчастливых для него обстоятельствах. Мать, Марию Михайловну Лермонтову (1795–1817), он потерял в три года, а с отцом, которого обожал, по настоянию бдительной бабушки встречался очень редко. На всю оставшуюся жизнь воспоминания о матери, навеянные её колыбельными песнями, отзовутся в творчестве поэта печальными и светлыми образами. С этих же колыбельных лет место отца заняла бабушка поэта. Властная по характеру, деловая и богатая, она не жаловала Юрия Петровича Лермонтова – гордого, но бедного дворянина, к тому же не умевшего обустроить свою жизнь. Елизавета Арсеньева безумно любила внука, что впоследствии далеко не всегда оборачивалось для него пользой. Впрочем, благосклонно относясь к детским шалостям и потакая внуку во многом, бабушка прилагала немало стараний, чтобы Миша Лермонтов получил прекрасное домашнее образование.
Между тем трагическое разделение отца и сына под «регентством» сильной характером Елизаветы Арсеньевой привело к обстоятельствам, во многом определившим судьбу Лермонтова. Быстро развиваясь, он уже к четырнадцати годам ощущает в себе нечто, глубоко отличающее его от других. Наступает период активного духовного и физического взросления. Однако в 1831 г. в возрасте шестнадцати лет поэт теряет отца. Тяжело переживая его смерть, юноша убеждается, что это было трагедией едва ли не для него одного. И тогда он ещё больше закрывается от «ближних и друзей». За отсутствием людей, сопоставимых с ним по уму, духовным запросам и тяге к знаниям, круг приятелей Лермонтова сокращается до минимума. Именно тогда он начинает ощущать одиночество, через годы разросшееся в бездну. Но пока это не особенно печалило юношу, полного энергии и веры в себя. Быстро взрослея и по-прежнему не видя равных себе, Лермонтов окружавшему его «живому общению» всё так же предпочитает свой мир. В этот период для него характерно было «копание» в самом себе, благо, что внутреннее бытие поэта, подкреплённое воображением и серьёзными знаниями, было насыщено необычайно яркими образами (к слову, именно такого рода «биографические детали» подчас уводили в сторону исследователей [16]). Их он живо, эмоционально и талантливо переводил на бумагу пером и карандашом. Глубоко сосредоточенный на своих внутренних интересах, но замкнутый для всех, поэт аккумулировал в себе только ему ведомые пространства.
Уже первые стихотворения Лермонтова свидетельствуют не только о непреодолимой пропасти, которая отрывала его от современников, но и о том, что за нею скрывается: «Я тем живу, что смерть другим: / Живу – как неба властелин – / В прекрасном мире – но один» (1829). В полной мере осознавая глубину разрыва между ним и обществом, поэт осознавал и меру ответственности за «глагол», вложенный в его уста Всевышним. Потому Лермонтов вновь и вновь заглядывает в свою душу как внеличностный источник его гения. Идя по нему, поэт выходит на сокрытую от людей реальность, в которой время застывает в своей вечности, а дела людей представляются жалкой изувеченной проекцией иного бытия, – и тогда духовный страх окутывает поэта… Преодолевая его, Лермонтов отгоняет от себя пугающие его предчувствия: «Нет, нет, – мой дух бессмертен силой, / Мой гений веки пролетит», – под «гением», помимо своего поэтического дара, очевидно подразумевая своего ангела-хранителя, в объятиях которого, верит поэт, находится его душа… Ибо не могла – в этом он был убеждён! – небывалая мощь, данная ему, кануть в вечности без следа, без результата начатого им вдохновенного труда. При наличии огромной внутренней энергии и отсутствии достойной его перспективы, черты характера юноши приобретали резкие, а в приложении к бытовым «частностям» подчас и дерзкие формы. Подчёркнутые честолюбием юности, они отвечали таящимся в глубинах натуры Лермонтова глубоким внутренним запросам и духовным устремлениям. Всё это в период сознавания себя в мире определило первые пробы творчества поэта. Наряду с отмеченными свойствами вызревали высокие требования к себе, а противостояние первым в жизни испытаниям выработало в нём сосредоточенность и известную замкнутость, так «невыгодно» отличавшую Лермонтова от его современников. Представляется очевидным, что именно духовная мощь и широкий диапазон интересов слагающейся личности, по мере взросления заявляя о себе всё сильнее, обрекали Лермонтова на внутреннюю изоляцию. Наряду с этим зрели и охранные свойства его характера, коими были сильная воля и непреклонность следования к поставленной цели. Меняя свои формы и место приложения, внутренняя сила поэта уже в ранние годы свидетельствовала о нём как о прирождённом лидере. Это проявлялось в том, что Лермонтов уже тогда не следовал ничьему влиянию из окружающего его «вещного мира». Таковая неприступность, скреплённая превосходством и силой характера, лишь увеличивала отчуждение Лермонтова от людей.
В. И. Сиротин. Юный Лермонтов. Бронза
Среди смущавших многих современников странностей поведения поэта бросалась в глаза его внутренняя обособленность. С младых ногтей ощутив своё избранничество, юноша принципиально не желал сближаться всерьёз с кем-либо из своего окружения. «С людьми ему неизвестными, которые пытались проникнуть в его внутренний мир, Лермонтов не только не искал контакта – напротив: был резок, замкнут, насторожен, подозрителен», – пишет Ираклий Андроников[17]. Так оно и было. Хотя «подозрительная» отстранённость юноши, шокирующая случайных, преходящих, и в особенности никчёмных, знакомых, была лишь видимым барьером, призванным оградить «от всех» таинство становления его мира. Но не только. Она была ещё и необходимым условием развития сущности поэта, в своём приложении к действительности призванной оставить яркий след. Причём осознавание этого загадочного действа самим Лермонтовым (как и любым другим истинно одарённым человеком) вовсе не обязательно, потому что, не имея прямого отношения к личности, оно коренится за пределами сознания. Иными словами, когда гений ещё только находит себя в мире, его надличностная ипостась защитно отторгает от себя всё, что считает для себя вредным, поверхностным или малозначительным.
Взрослея, Лермонтов не оставляет попыток найти близких себе по духу людей, но они оказываются тщетными. Вглядываясь в жизнь и поневоле оценивая людей, он приходит к грустному для себя выводу, что с годами у человека выявляется наиболее заметное качество, которым чаще всего оказывается глупость. Что касается нравственных стремлений, то они чаще всего были (вновь процитирую О. Герасимова) не более как «приятные мечтания, которыми люди пользуются только как прикрытием своего нравственного безобразия»[18]. Не особенно отвлекаясь на первые и не в состоянии влиять на последние, поэт облекает свою врождённую внутреннюю целостность в некий «панцирь», призванный охранять его созревание от (возможно) гибельных внешних воздействий. Формы изоляции, избранные Лермонтовым, оказались весьма болезненными для обеих сторон, но это объективно не отменяло необходимости внутреннего самосохранения. Здесь уместно сказать о ценностном контрасте первозданного внутреннего и повторяющего себя в событиях внешнего мира, при котором первый символизирует собой целомудрие, первородное великодушие и чистоту, а второй – их бытийно многоликую противоположность. В этом смысле можно согласиться с Тертуллианом, считавшим, что «душа каждого человека по сути своей – христианка» (лат. Anima naturaliter cristiana).
Однако стремление поэта отгородиться заведомо было не очень надёжным средством, и он глубже уходил в себя от праздных, назойливых и любопытных. На виду последних отчуждённость юноши сменяла нелюдимость, которая казалась им злонамеренностью и враждебностью, якобы скрывающей за собой дурные наклонности. «Всем» невдомёк было, что за видимой «чертой» происходила серьёзная работа неведомого им гения.
Когда же Лермонтов не мог уберечься от назойливости со стороны в ту пору ещё не столь обширного окружения или когда ему досаждали в минуты внутреннего действа, тогда, не особенно задумываясь над последствиями, он смело шёл на столкновение с теми, кто по неосторожности или по небрежности осмелился вторгнуться на «запретную территорию». Такая реакция, распугивая «всех», отдаляла Лермонтова и от тех, кто способен был понять его. Подчас столкновения, «высекая искры», вызывали «пожар» в отношениях. Среди людей случайных, незатейливых и по-просту беззлобных, он гас достаточно быстро, так как не имел под собой серьёзной почвы. Однако разгорался в пламя, когда сталкивался с чванливой и амбициозной публикой, которой особенно доставалось от острого языка и «тяжёлого характера» поэта. Отсюда неутихающая ненависть со стороны последней. Именно эту публику Лермонтов старался не подпускать к себе. От неё оберегал он свою святая святых – творческую лабораторию. Здесь хоть и не хочется, но придётся напомнить, что все эти перипетии – чрезвычайно важные для становления характера Лермонтова и его отношений с людьми – происходили в традиционном для русского дворянства православном антураже. На его фоне, включая родственников поэта – Арсеньевых и Столыпиных, выделялась неординарная по натуре, волевая, жестковатая и неуступчивая во взаимоотношениях с людьми бабушка Лермонтова. При всех особенностях своего характера, богобоязненная Елизавета Арсеньева привила юному Лермонтову весьма почтительное отношение к вере предков. Но мы знаем, что никакая вера не существует изолированно от общества. В том смысле, что последнее может или приобщить человека к вере, или отвадить от неё. Представляется, что пути решения этой дилеммы и высокие личные требования поэта привели его к первым разочарованиям.
Встречи с обществом в нежном возрасте не принесли поэту радости, а последующие столкновения с высшим светом через годы и вовсе обернутся трагедией. Но это будет потом. Изучая этот мир, отрок продолжает искать миры иные – неизведанные и вечные («…я рвался на волю к облакам», – пишет он в 1830 г.). В минуты наивысшей духовной воли способный ощущать небесный эфир, Лермонтов по его образу создаёт свой. Но из этого как будто не получается ничего путного. В 1829 г. юный поэт печально записывает в дневник «историю» создания и краха своего «неверного» мира:
В уме своем я создал мир иной И образов иных существованье; Я цепью их связал между собой, Я дал им вид, но не дал им названья; Вдруг зимних бурь раздался грозный вой, — И рушилось неверное созданье!..Рушатся и последующие… Создав лучший, но «неверный», а потому уязвимый аналог бытия, юный поэт жил в реалиях, неизвестных противостоящему его душе видимому миру. Окружённый любящей тиранией бабушки, но лишённый духовного наставничества, поэт нередко теряет духовную нить. Когда она рвётся, тогда и начинают роиться в его душе «демоны».
В стихотворении «Мой демон» (1831; вторая редакция стихотворения 1829 г.) поэт, констатируя происходящее в его душе, буквально «выписывает» из неё свою судьбу:
И гордый демон не отстанет, Пока живу я, от меня, И ум мой озарять он станет Лучом чудесного огня; Покажет образ совершенства И вдруг отнимет навсегда И, дав предчувствие блаженства, Не даст мне счастья никогда.Ощущая в себе не только великий дар Слова и мощь духа, но и опасность соскользнуть в пропасть дел вне веры, поэт обращается к Всеведающему в «Молитве» (1829), полной свежести чувств и духовной непосредственности:
Не обвиняй меня, Всесильный, И не карай меня, молю, За то, что мрак земли могильный С её страстями я люблю; За то, что редко в душу входит Живых речей твоих струя; За то, что в заблужденье бродит Мой ум далёко от тебя; За то, что лава вдохновенья Клокочет на груди моей; За то, что дикие волненья Мрачат стекло моих очей; За то, что мир земной мне тесен, К тебе ж проникнуть я боюсь, И часто звуком грешных песен Я, Боже, не Тебе молюсь.В этом отроческом откровении Лермонтова не особенно слышится покаяние… Он не столько кается, сколько просит Бога не перечить ему (по крайней мере поначалу) в личном постижении сущего, при этом «не обещая» Богу смирения…
В выделенных мною словах, как и во всём тексте, поэт делится в молитве с тем, что захватывает его в настоящем и что он хочет разрешить самостоятельно. По форме молитва и покаяние, это стихотворение, преисполненное неподдельной искренности, больше похоже на исповедь, в которой отрок знает, на что он идёт, прозревая и меру опасности на этом пути…
В заключительной строфе юный Лермонтов «выдвигает» Богу заведомо невыполнимые «условия», в которых иносказательно опять отстаивает «своё»:
Но угаси сей чудный пламень, Всесожигающий костёр, Преобрати мне сердце в камень, Останови голодный взор; От страшной жажды песнопенья Пускай, Творец, освобожусь, Тогда на тесный путь спасенья К тебе я снова обращусь.Это стихотворение удивительно тем, что Лермонтов весьма точно прорицает свою судьбу, поскольку его духовный голод способна остановить (и остановит) одна лишь смерть. Между строк условного покаяния со всей очевидностью прослеживается обещание Богу пройти уготованный ему путь, выполнить свои обязанности на земле, возложенные на Лермонтова отнюдь не им самим… Эта уверенность в собственном предназначении и необходимость выполнить его осознавались поэтом с самого начала: «Хранится пламень неземной / Со дней младенчества во мне», – пишет Лермонтов в те же лета. Он не только верит в свою судьбу, но и знает её. Об этом поэт прямо заявляет в стихотворении «1830. Майя. 16 число», где опасается не выполнить возложенный на него труд творчества, ставший делом его жизни:
Боюсь не смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть совершенно. Хочу, чтоб труд мой вдохновенный Когда-нибудь увидел свет… —под «трудом» понимая высокое служение Отечеству (эту мысль через восемь лет он разовьёт в стихотворении «Дума»). И всё же вышнее Отечество было Лермонтову дороже…
В 1831 г. он пишет: «…Силой мысли в краткий час / Я жил века и жизнию иной / И о земле позабывал» («1831-го июня 11 дня»). Наверное, в эти «дни» юный Лермонтов создаёт одно из самых светлых своих стихотворений – «Ангел» (1831).
Ощущая впоследствии весьма образно переданную им торжественность и чудность небес, Лермонтов уже в первых строках «Ангела» «впускает» нас в чудное пространство, в котором он с нежных лет духовно был жителем:
По небу полуночи ангел летел И тихую песню он пел; И месяц, и звёзды, и тучи толпой Внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов; О Боге великом он пел, и хвала Его непритворна была. Он душу младую в объятиях нёс Для мира печали и слёз, И звук его песни в душе молодой Остался – без слов, но живой. И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна; И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.Рифма здесь, начинаясь как горный ручей, переливается в небесные струи. Она проста и безыскусна, как детская душа, как начало жизни, как первое христианство, не требовавшее доказательств. Она сродни мелодии. Это тот случай, когда слова, начинаясь, перестают ими быть, становясь струнами души. Песнь ангела о Боге здесь не просто гимн Всевышнему, но ещё и напутствие юной душе – душе-избраннице. В стихотворении-песне примечательно, что в «одном времени» как бы присутствуют «два» – и настоящее и будущее; т. е. ещё не произошедшее. Чистой душе, которой ещё только предстоит жить в мире, не заменят звуков небес (знает поэт) «скучные песни земли»… Это наложение времён мы ещё не раз встретим в творчестве Лермонтова.
В этом загадочном стихотворении поэт свидетельствует о некоей идеальной, но отнюдь не абстрактной душе, которую небесный вестник несёт не к небу, а к земле (тем самым нарушая банальную схему, в соответствии с которой полёт ангела «должен идти» непременно по восходящей, а не по нисходящей).
И в самом деле, ангел здесь не возносит к небу душу (умершего как, опять же, привыкли мы ожидать) младенца, а привносит или, лучше сказать, возвещает земле живую! В стихотворении со всей очевидностью прослеживается благая весть. Но не в библейском смысле, а в самом что ни на есть земном. Ибо «звук» небесной песни, оставаясь в «младой душе» в живой, но несказанной форме, предназначен для этого мира. Самой же (избранной) душе, воплощённой в гении и пророке, предопределено было страдать в «мире печали и слёз» (это поэт уже знает).
Не делая временного перехода, но лишь сообщая, что путь предстоит долгий, Лермонтов повествует о томлении души, которой, несмотря на вышние «чудные желания», – не суждено найти себя здесь. Налицо предопределённость судьбы – тяжёлой и отмеченной многими страданиями, но возвышенной и мужественной, одинаково принадлежащей и «земле» и «небу». В этом диапазоне в душе младенца откликаются сакральные «звуки небес»: его душа уже знает другие «песни», рядом с которыми «песни земли» не идут ни в какое сравнение. Лермонтовский ангел здесь является субъективным коррелятом души ребёнка, в которой заложено эстетическое знание сказочно быстро взрослеющего автора. Стало быть, душа младенца, внимая хвале ангела, возвещает рождение судьбы, как представляется, олицетворённой гением Лермонтова.
О том же писал Д. Андреев в упомянутой работе: «Надо было утерять всякую способность к пониманию духовной реальности до такой степени, как это случилось с русской критикой последнего столетия (XIX. – В. С.), чтобы не уразуметь свидетельств об этой реальности в лермонтовских стихах. Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что Ангел, нёсший его душу на Землю и певший ту песнь, которой потом “заменить не могли ей скучные песни Земли”, есть не литературный приём, как это было у Байрона, а факт». Не имея причин оспаривать мысль Андреева, добавлю, что именно вышнее происхождение гения наиболее убедительно объясняет его поразительное умение «с листа», то есть сразу и набело, создавать свои шедевры!
Между тем поэт не замыкается на одном только своём внутреннем мире и тем более на естественных в его лета отроческих несчастиях. Сравнительно спокойно фиксируя свои наблюдения о людях (и приходя к выводу, что «души их волн холодней»), Лермонтов провидит настоящие, уготованные ему битвы. Предощущая ещё большие тяготы, он не страшится их, ибо жаждет борьбы со злом. Воплощённое в падшем человеке, зло это нашло себя в забывшем свою праисторию обществе. С тех пор оно озаботилось тем, что ему соответствовало; духовную жизнь человека заменила событийной история. Доверяя лишь дневнику, поэт поверяет ему свои открытия и откровения, своё отчаяние, вопросы и утверждения:
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познанья, жажда славы, Талант и пылкая любовь свободы, Когда мы их употребить не можем?Возникает вопрос: в чём кроются причины столь громкого и не по годам взрослого крика души?
Очевидно, корни горечи поэта имеют давнюю историю – и вовсе не фамильную… Они уходят именно в историю. Остановимся на этом более подробно.
2
По рождению принадлежа к высшему дворянскому сословию, Лермонтов с всё возрастающей очевидностью ощущает себя в нём чужим. Такое «странное» отношение вряд ли резонно объяснять одними только пороками офранцуженной части верхних слоёв русского общества, косностью дворянских предрассудков и спесью носителей всех этих свойств. И дело даже не в ограниченности отечественных недорослей, после незавершённых реформ Петра с помощью прусского лобби при русском дворе выстроивших страну по рангу и по ранжиру. Всё это плохо или очень плохо. Но главная беда была в том, что в организованной Петром политической, военной и экономической жизни России наиболее достойную часть «гнезда Петрова» постепенно вытесняли собой случайного рода и звания «господа», которых русские литераторы в своих персонажах вывели на свет божий. Таковыми были Чужехваты и Скотинины, окружённые вконец отупевшими Простаковыми, Советницами и их малоразвитыми чадами. Неотрывные от своих литературных героев социальные и политические недоросли, став сановной челядью, требовали к себе поклонения и выражения униженного почтения. Им на смену шли искривлённые шеренги совершенно бесполезных для России Фамусовых, Молчалиных и Грушницких, во фронте которых стояли столь же никчёмные, зато рослые, «на один манер», полковники Скалозубы. Выросшее из придворных конюшен и возросшее до двора, алчное вороньё это массой своей оттеснило истинных орлов Отечества – великого, но не явленного реформатора М. М. Сперанского, генерала А. П. Ермолова и ряд других.
Почему это произошло? Разве в России не было принципов управления страной? Как известно, были. Но они имели своих антиподов в лице того же высшего сословия.
Денис Иванович Фонвизин
Пётр I, притащив за бороды упирающихся бояр на государеву службу, следуя плану реконструкции управленческих звеньев, заменил принцип родовитости на принцип личной выслуги. Оказавшись без бороды, консервативное боярство (вся сила его в бороде была!) сникло, в то время как молодые дворяне увидели для себя невозделанное поле деятельности. Для упрочения положения дел царь «закрепостил» дворян Табелем о рангах (1722). Теперь дворянство перестало быть основанием для получения чина: последний определялся только личной выслугой. «Мы для того никому никакого ранга не позволяем, – писал Пётр, – пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут». Как и всякое волевое решение, проект Петра имел свои минусы. Пётр III, поддавшись недовольству «крепостных дворян», подписывает «Манифест о даровании вольности и свободы российскому дворянству» (1762), а Екатерина II в 1782 г. окончательно освобождает их от обязательной службы. Последнее было едва ли не вынужденно, поскольку с 1731 по 1762 г. получив немало льгот, дворянство предпочитало прочно оседать в своих поместьях, в иных случаях весьма роскошных. Этот период, отмеченный превращением высшего дворянства в «праздный класс», оттенял давно наметившийся внутриполитический застой. Ценой ему было не только постепенное отстранение дворян от политической жизни, но и отчуждение их от собственного народа. В вилке между указами Петра III и Екатерины II как раз и родилось поколение, заявленное литературными персонажами В. Лукина, Д. Фонвизина и других русских классиков. Знаменитый пожар в Москве в 1812 г., осветив тщету победы «императора Запада», как называл себя сам Наполеон, мог ознаменовать рождение новой России. Но этого не произошло. Как то подтвердили ближайшие десятилетия, Россия не была готова – да её и не готовили ни к каким «кодексам» – ни к «наполеоновскому» (имеется ввиду знаменитый «Кодекс Наполеона»), ни к русскому «Гражданскому кодексу». Великая победа укрепила позиции России в мире, но не побудила правительство к проведению реформ, необходимость которых была ясна ещё Екатерине II. В результате заново отстроенная «фамусовская» Москва вошла в прежнюю свою колею. Полвека оказались потерянными… Вернёмся к мудрым и прозорливым русским классикам. В бессмертной комедии Дениса Фонвизина «Бригадир» (1769) сын Бригадира, исходя горем от того, что, как сказал бы он сейчас, «родился в этой стране», укоряет свою мать: «Всё несчастие моё состоит в том, что ты русская»… На что мать простодушно отвечает своему «золотке»: «Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная погибель». Охотное признание мамашей своего ничтожества и муки сына, в такой же мере ощущающего собственное убожество, лишь усугубляют драматизм ситуации. Страдая от стольких «несчастий», непутёвый сын бесстыдно отыгрывается на своей безропотной родительнице. Довершая её «погибель», он не склонен прощать «вину» maman: «Это такой default (недостаток), которого ничем загладить уже нельзя»… Бригадирские сыновья давно стали отцами, которые в свою очередь разродились сыновьями и внуками в лице обрюзгших и душой и телом несчётных Фамусовых и Молчалиных. Именно это деградировавшее дворянство Александр Грибоедов прямо обвиняет в измене Отечеству! Устами Чацкого автор в комедии «Горе от ума» (1824) обращается к русскому обществу:
Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты…Александр Сергеевич Грибоедов
Но не только в «наших» дворянах было дело. Уже второе столетие через пробитое Петром «окно в Европу» в Россию не ослабевал поток самого разного народа, мечтавшего обогатиться в «стране варваров» или, не гнушаясь никакими средствами, сделать быструю карьеру. Увеличиваясь числом, всё это, ширясь мутными ручьями праздного люда, оседало главным образом в столицах империи. И разобраться в этом замысловатом «народе» дано было не каждому, поскольку глупость, бездарность или посредственность, говорящая на ломаном русском языке или не говорящая вовсе (как граф Нессельроде, например), казались особенностями ума. В омуте из всякого рода и звания «беглецов» – неудачников, авантюристов, тайных и явных проходимцев – едва заметны были те, кто видел в России великие потенции и кто искренне хотел участвовать в строительстве и усилении своего нового отечества. Однако из всех именно «ловцы счастья и чинов», умело примостившись к кормилу власти, наиболее ловко вписывались в затейливый Табель о рангах. Подобно ловким картёжникам делая иной раз ставки «вслепую», чиноискатели в случае выигрыша становились «тайными» или «действительными», а при удачном раскладе «дворцового пасьянса» оказывались явными советниками русского двора. Но вся эта публика нашла себя именно в «Табеле», а не в России, в которой во второй четверти XIX в. царствовал любитель всевозможных секретных комитетов и комиссий Николай I.
Николай I
В соответствии с дворцовым артикулом став полковником с рождения[19], царь в глазах современников был «солдат по призванию, солдат по образованию, по наружности и по внутренности». Для него, по собственному признанию, развлечения со своими войсками были единственным и истинным наслаждением. Однако «развлечения» в военном деле отнюдь не равносильны пользе от них. Будущий военный министр в царствование Александра II Д. А. Милютин писал об этом: «…Даже в деле военном, которым император занимался с таким страстным увлечением, преобладала та же забота о порядке, о дисциплине, гонялись не за существенным благоустройством войска, не за приспособлением его к боевому назначению, а за внешней только стройностью, за блестящим видом на парадах, педантичным соблюдением бесчисленных мелочных формальностей, притупляющих человеческий рассудок и убивающих истинный воинский дух»[20]. Рано обнаружив пристрастие к наслаждениям такого рода, Николай с тех же пор питал отвращение к «отвлечённым» наукам и «рассуждениям». Отдавая должное первым, он на всю оставшуюся жизнь застыл в осуждении вторых. В соответствии с пристрастиями царя во всех учреждениях, гимназиях и университетах господствовали казарменные порядки. Такой метод управления государством казался Николаю I верхом совершенства: «Я смотрю на человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит». За прекословие и ослушание чиновники отправлялись «службой» на гауптвахту, а студенты отдавались в солдаты. Таковое понимание внутренней политики обусловило стиль управления страной, суть которого передаёт выговор царя, сделанный им князю Д. В. Голицыну: «Ты, я вижу, долго жил во Франции и ещё во время революции, а потому и неудивительно, что ты усвоил себе тамошние порядки. А кто погубил Францию, как не адвокаты, вспомни хорошенько! Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие? Нет, князь, пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, проживем и без них»[21]. Освобождая страну от «адвокатов» и правя «без царя в голове», Николай питал острую неприязнь ко всякому порядку, ежели он отличался от казарменного и плац-парадного.
При таковых убеждениях не приходится удивляться принудительно-силовому стилю правления царя. Справедливо полагая, что «солдатская выправка» его личных циркуляров уж куда как ровнее вольтеровских книг и манускриптов, Николай I приказал закрыть доступ в библиотеку Вольтера, некогда купленную Екатериной II, а теперь замурованную им в залах Эрмитажа. Но до того, как упокоить библиотеку, царь поставил крест на реформах, собственно и вызвавших восстание в декабре 1825 г.
Отдадим должное Николаю, – к виновникам восстания он отнёсся едва ли не великодушно (хотя до конца своей жизни так и не простил ни одного из участников восстания). Признаем это, ибо по существующим законам покушения на жизнь царя карались четвертованием. Тогда как Николай в обход законов сердобольно заменил казнь «декабристов» повешением. Вообще, к казни у него было особое отношение (возможно, из-за брезгливости к гнилым верёвкам, не выдерживающим веса отнюдь не тучных лидеров «декабря»). Потому на одном из запросов, предусматривающих смертную казнь, царь, милостиво заменив её наказанием палками, написал: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз (!). Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне её вводить…»[22].
Деятельность Николая, при всём его пристрастии к шпицрутенам, конечно, имела и позитивные черты[23]. Хотя они имели место быть не столько из-за личного участия царя, сколько благодаря уму выдающихся государственных мужей (Сперанский, Киселев, Канкрин) и военных деятелей, которые вовсе не обязательно пользовались его расположением (Ермолов). Это подметил острый ум Герцена, давшего по сию пору хрестоматийную оценку николаевскому режиму. В «Письмах издалека», размышляя о судьбе страны и русских писателей, Герцен писал в 1851 году: «Ужасная, чёрная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу… История нашей литературы – это или мартиролог, или реестр каторги…»[24]. «Исчадие мундирного просвещения», как потом назовёт Николая историк К. Д. Кавелин, начертывая своим скипетром судьбы людей, очевидно, мечтал облачить в мундир русское общество на манер служебного рвения полковников Скалозубов и по их покрою.
Однако не Скалозубы и их клоны стояли в начале имперской шеренги, растянувшейся в длинную фалангу. Впереди литературных Простаковых и пышащих плац-парадным здоровьем Скалозубов, умевших лихо закручивать ус, но лишённых всякого движения мысли, толпились реальные, презиравшие всё русское и карликовые во многих отношениях графы, случайные бароны, баронессы и прочие. Их, слетевшихся «на ловлю счастья и чинов», на беду народа, именно в Россию, «хлебом и солью» встречали давно прижившиеся в столицах типы с чертами «казарменного» или, того хуже, «жандармского дворянства», коих олицетворяли собой граф Бенкендорф и дипломированный с 1831 г. дворянин Л. В. Дуббельт. И если первый (по факту и по отзывам современников) всё же не лишён был ограниченного служебными рамками благородства, то внутренний облик Дуббельта, призванного Николаем «обуздывать печать», вполне соответствовал его внешним чертам. «Черты» эти, по словам Герцена, «имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость». Подняв свою голову как раз до уровня, начертанного скипетром царя, Дубельт по-жандармски рьяно «обуздывал» свою новую вотчину.
Конечно, не все званые ко двору были «хищными зверями» и «лисами». Среди тех, кого занесло в Россию, было немало орденоносцев ввиду выслуги (и на том спасибо!) и добропорядочности (что много лучше). Были среди них, подобно Бергу и Адлербергам [25], храбрые и трудолюбивые. Что касается барона Геккерна «с сыном», то эта пара наряду (прошу прощения) с сопливым де Барантом («салонный Хлестаков», презрительно отзовётся о нём Лермонтов), увы, тоже была частью «николаевской России». Однако весь ужас был не в том, что иные из них принадлежали к наиболее подлой части общества, устроенного то ли на прусский, то ли на французский манер, а в том, что «голуби» эти вели себя в России как стервятники или как свиньи в посудной лавке. Сам факт того, что одно ничтожество из-за пустяков лишило жизни гения русской литературы, а другое (де Барант), если бы умело владеть оружием, могло погубить другого гения, говорит о многом (Доп. VI). И даже не говорит, а вопиёт. Вопиёт о неискоренимом социальном холопстве «верхней» части либерального и традиционно беспамятного русского общества, которое в этом отношении превосходила лишь «высочайшая» власть. В лице Николая она устремила «немигающую» свою ненависть на всё духовное, неординарное и творческое в российском обществе. Причём ненависть эта по факту нацелена была главным образом на русскую элиту.
Лермонтов знал и видел всё это. И у него скоро, увы, будет повод сказать на всю Россию о том, что знал. Сейчас же, меряя каждый объект внимания большим счётом, он не оставлял надежды найти среди своего окружения тех, кто мог соответствовать этому счёту. И не находил… Он так и пишет в одном из стихотворений: «Искал друзей – и не нашел людей»… Принадлежа к высшему обществу и связанный с ним родством, Лермонтов относился к нему с долей презрения. Ещё и потому, что «лучшие представители» светского общества считались таковыми, только если выстраивались, подобно парадным эскадронам, под масть и цвет хвоста, ибо им, как и породистым лошадям, полагалось соответствовать этой «масти». В противном случае они становились изгоями внутри своего круга, превращённого в гусарский ипподром. Это было известно Лермонтову, несомненно знавшему письма Чаадаева. Последний высочайше получил статус «сумасшедшего» потому только, что не пожелал вписаться в начертанную «по хвосту» и подчиняющуюся хлысту придворную «масть».
Итак, если первые открытия психологического и житийного плана привели поэта к глубокому разочарованию в людях, то последующий опыт лишь утвердил их. Лермонтов с усилием старается сохранить свой внутренний мир, в своей сакральной ипостаси никому не подвластный, но хрупкий при столкновении с пошлостью вещного мира. Один из первых биографов Лермонтова, А. В. Дружинин, встречавшийся с многими современниками поэта, писал, что Лермонтов, «соприкасаясь со всем кругом столичного и провинциального общества, имел множество знакомых, но во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем действующим лицом». Словом, первые слёзы, по обыкновению предшествующие истинным страданиям, давно прошли, но не прошли причины, их породившие. И всё же поэт не устаёт искать в людях единство человека и Божественного в нём. Будучи максималистом, он верил – хотел верить! – тому, что и в том человеке, каков он есть, таятся искры Божии. Кроясь в «пыли» обихода, они, придёт время, подобно «искрам» небесной сини, замерцают затаённым в человеке Подобием…
На время оставим юные годы поэта и, вплотную подойдя к теме, попытаемся прояснить главную её часть: в чём и как являло себя православие и, беря шире, христианская вера Лермонтова?
Вопрос этот отнюдь не праздный, поскольку в произведениях поэта и в самом деле не прослеживается акцентированное (православное) внимание к христианству, как то было, скажем, у Гоголя. Замечу, периода отказа Гоголя от «мирских страстей» и глубоких сомнений в творчестве, что, к слову, и привело в нём к гибели великого писателя, как впоследствии и в Льве Толстом. Не было у Лермонтова «привязок» к христианству в духе Джона Мильтона или, беря пониже, мятущегося духом и тоже наследного христианина Вл. Соловьёва. Вера как таковая представляет собой феномен личностный и сущностный единовременно. Вмещаясь в личности, она находится и вне её, поскольку личность, опираясь на опыт, проверяет, а сущность доверяет тому, частью чего является. Феномен веры не может зависеть от опыта, поскольку нельзя веровать в проверяемые гипотезы, то есть в то, что доступно эксперименту и может быть подвергнуто логическому и какому-либо другому анализу.
Словом, определить прямую связь Лермонтова с духовно-философской основой православия не так просто. Можно, правда, поставить поэту «в зачёт» то, что в 1830 г. он вместе с бабушкой и кузинами ездил на богомолье в Троицкую лавру и в Воскресенский монастырь. Тем более, что, когда во время этой поездки у молодых людей произошла встреча с нищим, среди всех именно христианская душа Лермонтова (подтверждая мысль Тертуллиана) достойно отреагировала на несчастного бедолагу.
Е. К. Сушкова вспоминала: «Помолясь святым угодникам, мы поспешно вернулись домой, чтобы пообедать и отдохнуть. Все мы суетились вокруг стола, в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги…» [26]. Под впечатлением этой встречи с бродягой или нищим в считанные минуты было создано стихотворение «Нищий» – маленький шедевр, наполненный христианской сущностью:
У врат обители святой Стоял просящий подаянья Бедняк иссохший, чуть живой. От глада, жажды и страданий Куска лишь хлеба он просил, И взгляд являл живую муку, И кто-то камень положил В его протянутую руку…Можно было бы зачесть и наблюдение Печорина в «Тамани»: «Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю её мебель. На стене ни одного образа – дурной знак!» Однако духовная сторона здесь отступает перед практическим интересом героя. Поскольку «образ» в доме символизирует не только веру, но в известной мере и стиль поведения хозяев, что Печорину в тот момент было особенно важно.
Вообще, герои произведений, как известно, далеко не всегда выражают волю автора. И не только в словах, но и в делах своих. Появившись в повествовании, они, начиная жить самостоятельной жизнью, нередко «ведут за собой» автора. Поэтому наиболее адекватным выражением духовных позывов поэта следует признать его лирику. Именно она является лакмусовой бумажкой сугубо личных переживаний и настроений Лермонтова, а потому способна приоткрыть нам внутренний мир поэта.
Например, в одном из своих стихотворений Лермонтов, как о чёмто совершенно ясном говорит: «В то утро был небесный свод / Так чист, что ангела полёт / Прилежный взор следить бы мог» (1840). Бытие ангелов для Лермонтова очевидно и не требует доказательств. Мало того, поэт как будто по-свойски говорит о своих «личных отношениях» с Всевышним: «И как я мучусь, знает лишь Творец» (1831), ибо Он – единственный, кто в состоянии понять внутренние переживания и боль поэта.
Если говорить непосредственно о добрых делах, то они не имеют под собой конфессиональной привязки. Потому слова «добр по-христиански» означают лишь то, что доброта совпадает с христианской моралью, поскольку добры не только христиане. Дух милосердия и расположения к ближнему присущ большинству религий. Надо думать, православие не виделось Лермонтову неким «конфессиональным коридором», стены которого расписаны обрядностью, догматами веры и, на выходе из него, сценами из Страшного Суда. Такого рода «стены» и «росписи», рождая страх и опираясь на него, не подтверждены искренним религиозным чувством, а потому были принципиально чужды поэту. Православие для Лермонтова было, скорее, «дверью», за которой ему открывался мир Запределья, не вмещающийся ни в какое конфессиональное исповедание. Это был мир, в котором поэт оставался наедине с Богом. Мир, который сам он предощущал и который был ему предвещён.
Но был ещё и другой мир… Противоестественный и враждебный Богу, он противостоял и первозданной душе человека.
Пространства этого мира, переданные Лермонтовым кистью, поистине космического масштаба мы находим в поэме «Азраил» (1831). Азраил [27] по своему масштабу – явный литературный предвестник лермонтовского «Демона», но ещё не «Демон». Ангел Смерти, как и Демон, страдает, но, как и он, безвыходно:
Всё умирает, всё проходит. Гляжу, за веком век уводит Толпы народов и миров И с ними вместе исчезает. Но дух мой гибели не знает; Живу один средь мертвецов, Законом общим позабытый, С своими чувствами в борьбе, С душой, страданьями облитой, Не зная равного себе.Однако, несмотря на ледяной космос и «мертвецов» в нём, в «облитой страданьями» душе Азраила всё же теплится нечто первопричинное, а потому ценное для него. Именно «чудный край» начальной, а значит, – безгрешной жизни Азраил клянётся глубоко схоронить в своём сердце. Эти воспоминания о потерянном, он, с опорой на свою «должность», старается сохранить любой ценой. «Хотя бы на меня восстал весь ад», – клянётся протеже невинных душ. Зная, насколько важно было Лермонтову прояснить истоки Добра и Зла, жизни и смерти, можно предполагать, какую духовную нагрузку и душевные муки испытывал юный поэт. Но он знает свою силу и смело внедряется и душой и сознанием «в мир», страшный всякому живому существу. Поэт вкладывает описание этого мира в уста своего героя:
Когда ещё ряды светил Земли не знали меж собой, В те годы я уж в мире был, Смотрел очами и душой, Молился, действовал, любил. И не один я сотворён, Нас было много; чудный край Мы населяли, только он, Как ваш давно забытый рай, Был преступленьем осквернён. Я власть великую имел, Летал, как мысль, куда хотел, Мог звёзды навещать порой И любоваться их красой Вблизи, не утомляя взор, Как перелётный метеор Я мог исчезнуть и блеснуть. Везде мне был свободный путь. Я часто ангелов видал И громким песням их внимал, Когда в багряных облаках Они, качаясь на крылах, Все вместе славили Творца, И не было хвалам конца.Однако внутренне поэт не особенно задерживался в «мире» Азраила… Земля и жизнь на ней были ему важнее. Поэтому Лермонтов (в поэтической ткани повествования несколько насильственно) отстраняется от опасного мира и влагает в уста Ангела Смерти своё – живое, здешнее. В этом внезапном переходе от потустороннего к здешнему миру однозначно прослеживается личное и даже сугубо личностное, а именно лермонтовское. Примечательно, что в «разговоре» с Богом Лермонтов, пожалуй, более конкретен, нежели с людьми. Устами Азраила (забудем на время, что Азраил герой всё же не лирического произведения) он обращается к Всевышнему:
…Всесильный бог, Ты знать про будущее мог, Зачем же сотворил меня? Желанье глупое храня, Везде искать мне суждено Призрак, видение одно. Ужели мил тебе мой стон? И если я уж сотворён, Чтобы игрушкою служить, Душой бессмертной, может быть, Зачем меня ты одарил?В этих вопросах, граничащих с обвинениями, совершенно очевидно прослеживается реальность по-земному ощутимого толка. Конечно, она оказывается несказанно проще, грубее и куда как мельче космической.
3
В драме «Menschen und Leidenschaften (1830) Юрий Волин перед самоубийством повторяет схожие упрёки: «Зачем хотел Он моего рождения, зная про мою гибель?.. Где Его воля, когда по моему хотенью я могу умереть или жить?» (Здесь и далее выделено мною. – В. С.) В отчаянии Юрий обвиняет Бога в отсутствии милосердия: «Я стою перед Творцом моим. Сердце моё не трепещет… Я молился… не было спасенья… я страдал… ничто не могло Его тронуть».
И здесь мы видим, что в своей совокупности противоречивые «требования» героев Лермонтова говорят о признании автором в Боге – личности. Правда, лермонтовский Вадим, признавая, – в гордом отчаянии противостоит Богу: «Ты меня проклял в час рожденья… и я прокляну твое владычество в час моей кончины» (1834).
Впоследствии упрекнув Бога в чрезмерной «занятости» небом («Демон»), поэт в начальном периоде своего творчества как будто сомневается в абсолютной благости Верховного существа, что подтверждают монологи и отдельные реплики его литературных персонажей. Они столь часты и искренни, что это даёт нам право уравнивать их с лирическими откровениями поэта.
Лермонтов, да, верит в бытие Бога – Творца всего сущего. Но это означает ту Целостность, которая предусматривает существование не только добра, но и зла… Не желая примириться со злом, поэт видит оружием борьбы с ним свой Гений, который, верит он, дан ему не случайно. Именно отсюда «растут» корни протеста Лермонтова. При этом следует принять во внимание, что исходят они не от личности, а от сущности поэта. Именно избранность, полагает юный поэт, даёт ему моральное право на «тяжбу» с Тем, кто его избрал. Однако её не стоит преувеличивать.
«Вопросы» Лермонтова чисты уже потому, что они исходят, как уже говорилось, от его сущности, имеющей духовную опору в первозданной (добиблейской истории), а затем уже в «известной нам» библейской и исторической жизни. И всё же в некоторых аспектах протест Лермонтова сродни вольтеровскому. Вспомним: французский мыслитель до глубины души поражён был гибелью Лиссабона[28]. На фоне такого рода трагедий страдания Иова, вызвавшие его «борьбу» с Богом, выглядят никчёмными.
Но, ценные, как символ человеческой немощи и ограниченности, старые, как мир, вопросы эти по-прежнему остаются в силе: если христианский Бог есть Бесконечная Любовь, то как она соотносится с гибелью и страданиями огромного числа людей, включая тысячи неумевших и неуспевших согрешить? Ведь земная твердь, разверзшаяся в Лиссабоне, испещряя город, поглотила в себя и духовные форумы, средоточием которых являлись символы христианской любви – храмы! Разве эти духовные святыни, намоленные поколениями христиан, не призваны были очищать души людей?
Если от катаклизмов, природа которых не ясна, вернуться к «мирной» жизни, то и здесь всё обстоит не лучшим образом. Дело, ведь, не только в том, что мир повсеместно и повседневно исполнен зла, а в том, что зло доминирует в нём… Ибо что, как не характер явления, определяет его главенствующие свойства?! Разве не они предопределяют направление мысли и ход духовных поисков? Но если так, если зло в мире неизменно, нескончаемо и зачастую торжествует, то в чём являет себя Добро сотворившего мир и человека? Бог знал, что Адам согрешит и человечество пойдёт к своей погибели и позволил это. Зачем?
Лермонтов не находит ответа на подобные вопросы. Начав в юности «тяжбу с божеством» (признаемся, что эта, вошедшая в литературу формула всё же принадлежит духовному антагонисту поэта, В. Соловьёву), Лермонтов персонифицировал её, ибо не сомневался в личностном существовании Бога. Иначе все обращения – и героев, и самого Лермонтова – становятся бессмысленными. Вопрос упирается лишь в духовную форму этой (для поэта) очевидности. Ибо поэт видит Его главным образом в ипостаси Судьи, что в известной мере расходится с толкованием Бога через его сына – Христа, которого поэт упорно обходил своим вниманием.
Итак, литературные тексты (а другими источниками мы не располагаем) не дают конфессионально точного определения религиозности Лермонтова. Это можно сделать разве что методом вычитания. О таком «счёте», в частности, говорит драма «Испанцы».
В ней испанский дворянин Алварец хвастается перед Фернандо одним из своих предков:
Вот тут написано, что сделал он: Три тысячи неверных сжёг и триста В различных наказаниях замучил. Фернандо (насмешливо) О, этот был, без спору, муж святой; Конечно, он причислен к лику? Алварец (равнодушно) Нет ещё!..Для итальянца-иезуита патера Соррини и вовсе нет ничего святого. Впрочем, говоря в храме «святых здесь нет…», он проговаривается о своём «божестве»:
Что значит золото? – оно важней людей, Через него мы можем оправдать И обвинить, – через него мы можем, Купивши индульгенцию, Грешить без всяких дальних опасений И, несмотря на то, попасть и в рай.Не в лучшем свете предстают в глазах Лермонтова и русские монахи. В повести «Вадим» говорится, что они, проходя по церкви, «толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность». О такой «мелочи» Лермонтов не упоминал бы, если б она не бросалась ему в глаза во время литургии и не была характерна для духовного клира.
Итак, произведения поэта, родившегося в православной семье, несомненно, указывают на его сословно-природное или наследственно-христианское вероисповедание. Однако эти же произведения не дают ясного ответа о степени глубины – о внутренней причастности поэта к православной вере. Мало того, христианское мироощущение Лермонтова порой граничит с деистическим. Очевидно, дабы не перейти «опасную» границу, поэт, обманывая себя (ибо просит как будто не за себя), прибегает к защите Божьей Матери:
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою Пред твоим образом, ярким сиянием, Не о спасении, не перед битвою, Не с благодарностью иль покаянием, Не за свою молю душу пустынную, За душу странника в мире безродного…Тем не менее благоговейное отношение к христианским святыням не случайно пронизывает ряд стихотворений поэта. Уже потому, что, будучи глубоко духовными, они преисполнены искреннего религиозного чувства.
Однако чувства эти, даже если они чисты, искренни и носят глубинный характер, – всё же не главное. Знаки и символы веры сильны и действенны тогда, когда они в лице исповедующих веру участвуют в жизни. То есть когда они не только сопровождают, но и формируют бытие человека.
Именно это мы наблюдаем в благоухающей чистотой материнства «Казачьей колыбельной песне» (1840). Образ матери-казачки здесь иконописен и возвышен природной невинностью младенца. В этой ипостаси подобная Божьей Матери, казачка, предвещая своему младенцу будущее, в песне «вручает» ему оберег для участия в нём. Поэт, родившийся с душою странника, посредством матери передаёт ребёнку судьбу воина. Само же стихотворение – от начала и до конца – религиозно по своей сути:
Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю. Тихо смотрит месяц ясный В колыбель твою. Стану сказывать я сказки, Песенку спою; Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки-баю. По камням струится Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползёт на берег, Точит свой кинжал; Но отец твой старый воин, Закалён в бою: Спи, малютка, будь спокоен, Баюшки-баю. Сам узнаешь, будет время, Бранное житьё; Смело вденешь ногу в стремя И возьмешь ружьё. Я седельце боевое Шёлком разошью… Спи, дитя моё родное, Баюшки-баю. Богатырь ты будешь с виду И казак душой. Провожать тебя я выйду — Ты махнёшь рукой… Сколько горьких слёз украдкой Я в ту ночь пролью!.. Спи, мой ангел, тихо, сладко, Баюшки-баю. Стану я тоской томиться, Безутешно ждать; Стану целый день молиться, По ночам гадать; Стану думать, что скучаешь Ты в чужом краю… Спи ж, пока забот не знаешь, Баюшки-баю. Дам тебе я на дорогу Образок святой: Ты его, моляся Богу, Ставь перед собой; Да готовясь в бой опасный, Помни мать свою… Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю.И это произведение Лермонтова проникнуто чистотой веры в бытие Бога, которая в развитии «личных» отношений выходит за пределы конфессиональной ниши. Такую, то есть «свою», веру он не подвергал ни сомнению, ни скепсису. И, не смотря на то, что у Лермонтова иногда проскальзывает в духе Вольтера ощущение Бога в «природной» ипостаси, в целом он в своих произведениях отдаёт христианству должное как части «внутреннего человека». Отсутствие у Лермонтова прямого цитирования или устойчивых поэпизодических аллюзий при обращении к библейскому тексту объясняется тем, что поэт обращал внимание на эпизоды Св. Писания, которые в его сознании соотносились с неписаным «текстом» и который несёт в себе извечные неразрешённые, а порой и неразрешимые вопросы.
Отсюда неканоничность (не путать с апокрифичностью) христианства Лермонтова. Он не был «болен» христианством (читай – православием) в том смысле, что находил его частью бытия, ведущего свою историю от сотворения мира. И ещё меньше походил поэт на приходского послушника, меряющего всё сущее «небесным» аршином, преподанным ему приходским же священником. Мировидение Лермонтова простиралось дальше и, уж конечно, было выше духовного кругозора церковно-приходского круга. Но, в чём-то совпадая, а в чём-то расходясь с последним, оно реализовывало себя в поиске и обретении морального и нравственного смысла человеческого бытия. В этом отношении мировосприятие Лермонтова было новозаветным. В одних случаях открытые взору, в других – сокрытые или явленные опосредованно, эти искры Божии рассыпаны по всему творчеству Лермонтова. Не обременяя читателя доказательствами очевидного, приведу лишь проникнутые трагизмом строки поэмы «Валерик» (1840), в которых одушевлённая религиозность являет себя в наиболее чистом виде:
Я думал: жалкий человек, Чего он хочет!.. небо ясно, Под небом много места всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он – зачем?Однако поэт не задерживает надолго своё внимание на «отвлечённом» христианстве. Обладая мистической проникновенностью в сочетании с духовной одарённостью и к тому же будучи человеком поступка, Лермонтов смотрит в направлении христианского учения, а не на указующий перст приходской церкви. Отсюда неканоническое, а порой и жёсткое восприятие мира Лермонтовым. Мира, неотрывного от дел и сопутствующих им грехов.
Вместе с тем поэтические «молитвы» поэта говорят об устойчивой вышней направленности его поэзии. Минуя церковный приход, они ориентированы на Всевышнего в природной его ипостаси, что особенно ярко выражено в одухотворённом всевечной жизнью стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…». Впрочем, обращение поэта непосредственно к Богу (тем более «через природу») при желании можно отнести к «ересям Лермонтова», ибо это не очень характерно для православного человека, а с позиции иных его адептов – и вовсе кощунственно. В этом смысле Лермонтов больше «протестант» (ставлю это слово в кавычки не только потому, что он им не был, но и потому, что апелляции поэта «к небу» и к Богу по внутренним мотивам своим чрезвычайно сложны, а в силу метафоричности, присущей художественному Слову, выходят за рамки протеста).
Но, всё глубже уходя в свой мир, от которого «рукой подать» до мира нездешнего, поэт не порывает с обществом, с которым у него уже в юные годы начинается «вечный» конфликт. Хоть и возведённое в «толпу», общество всё же привлекает его внимание. «Кто толпе мои расскажет думы? / Я, или Бог, или никто» (1831), – говорит поэт «толпе», между тем отдавая первостепенное значение своим думам.
В чём ещё кроются корни протеста Лермонтова?
На этот вопрос-бумеранг ответ уже, кажется, дан: в жизни… Правильнее сказать – в бытии человеческом, причём в ипостаси не ограниченном рамками одной только России.
Лермонтов из гущи жизни и из глубины истории черпает вселенское ощущение и «вечные» знания, недоступные тем, кто существует в поле вещественных интересов. Отсюда его предощущение истины, которая по частицам растворена в тварном мире, человеке и обществе, пронизывая Вселенную и составляя тело Бога. Именно эта ипостась стала субъектом творчества одного из самых глубоких и пронзительных поэтов мира!
Внутреннее развитие Лермонтова проходит стремительно и мощно, но пока в этических пределах своего сословия, в которые скоро вклинятся главные противоречия эпохи. В период 1830–1834 гг. он начинает несколько поэм и роман в прозе.
Однако талант Лермонтова растёт столь стремительно, а мировоззрение обогащается столь быстро, что в процессе работы над темой он перерастает свой сюжет, стиль и формы подачи его. В этом, наверное, главная причина незаконченности большинства ранних произведений поэта, включая роман «Вадим» (1833–1834). «Поэтические скороходы» казались Лермонтову впору, пока он облекался в них. Но, «надев» их и начав «ходить», он скоро убеждался, что они ему тесны.
Быстро пройдя «азбуку» христианского учения, Лермонтов проникает в суть диалектического противостояния Добра и Зла. Глубину и сложность этого противостояния поэт почувствовал уже в ранние годы, но для придания ему формы и создания образов потребовалось некоторое время. Ввиду доминанты поиска истины в творчестве поэта, полагаю правильным исследовать его не по годам, а по содержанию, «возраст» которого в человеческой истории доступен лишь единицам. По такому содержанию творчество Лермонтова весьма взрослое, причём с самого начала.
Коль скоро речь зашла о духовных составляющих, ещё раз примем к сведению, что у Лермонтова нет прямых апелляций к Христу (к Матери Божией есть), в то время как к Богу он обращается несчётное число раз, – и вовсе не всегда с покаянием… Как уже говорилось, в некоторых случаях Лермонтов протестует, «спорит» с Богом и даже как будто упрекает Его: «Он занят небом, не землей!», но никогда не бунтует против Бога как Сущности. Даже и тогда, когда поэт подвергает сомнению Его всеблагость, он не протестует против Его доминирующей власти. Ибо верит в мудрость Бога-Судьи, а значит, и суда Божьего. Всё говорит о том, что отношение Лермонтова к Богу личное, но обращается он к Нему не как личность, а как Творение Его! Отсюда своё, особое, отношение поэта к миру, значительной частью которого (и в прямом, и в переносном смысле) является российское бытие. Обладая тончайшей духовной организацией и способностью отыскать в бытии мелодию, исходящую от изначального Слова, умея видеть сокрытое в душах людей и ощущать вечное и нетленное в преходящей истории, Лермонтов наделён был свойствами ума и характера, которые дают основания считать его поистине феноменальной личностью. Но, ощущая в себе печать вневременного и вечного, поэт, как уже говорилось, с отрочества мучается незнанием истинной цели здешнего своего пребывания:
Не для ангелов и рая Всесильным Богом сотворён, Но для чего живу, страдая, Про это больше знает Он. Как демон злой, я зла избранник, Как демон с гордою душой, Я меж людей беспечный странник, Для мира и небес чужой…Впрочем, видя себя в духовной «вилке», Лермонтов с юношеской горячностью явно наговаривает на себя. Ощущая себя странным среди людей, преувеличивает значение людских отношений. С другой стороны, посредством собственного избранничества (это было решённое дело для него) приобщаясь к высшему в человеке, Лермонтов стремится постичь Бога через лучшее Его творение. Потому, отвратив себя от самозваного «высшего общества», он не только копается в себе, но изучает человеческую историю, пытаясь разобраться: когда и почему «будут первые последними, и последние первыми» (Мф.19:30), и когда воссмеются плачущие. Зная основные европейские языки, изучая древность и постигая законы хода вещей под разными углами и с разных точек зрения, Лермонтов научается читать и то, о чём авторы предпочитали умалчивать. И чем глубже погружался он в знания, чем яснее видел общность драматических коллизий событийной истории, тем яснее ему становились пути, по которым человеческое бытие соотносилось с вечностью. Владея неменяющейся информацией, Лермонтов внимательно следит за происходящими событиями, предвидя те из них, которые ещё не обозначили себя. Во всяком случае, уже в юности поэт был в курсе всего наиболее важного, что происходило в России и Европе.
В этом аспекте интересна связь глубокой мысли, духовного прозрения и поэтического Слова.
Связь эта не только естественна, но и взаимообусловлена. И чем богаче единство всех её составляющих, тем она прочнее. Ибо в сплаве Мысли-Слова являет себя код, прямо связанный с гармонией Вселенной. Подобно храмам древности, грандиозным и величественным именно тогда, когда они становятся частью природы, «архитектура» поэзии содержит в себе «те же» элементы, с помощью мелодии стиха вплетающиеся в «код» вселенной.
Не случайно наивысшее раскрытие ума, духовного дара и универсальной талантливости Лермонтова проявилось именно в богатстве и мелодичности Слова. Изначально содержа в себе вселенскую интонацию и ритмику, Слово, как ничто, лучше способно передать и образ, и подобие Изначального.
Поэзия потому для Лермонтова имела смысл (и в его исполнении является истинно великой), что он умел найти и выразить в ней те гаммы человеческих переживаний, которые только и могли вписаться в ёмкий вселенский хорал.
Именно этот вселенский и всеисторический «смысл», углублённый исследованиями души человеческой, служил Лермонтову и средством и целью.
Заветы Предвечного Лермонтов поверял делами человека через веру, но предсказуемо не находил между ними прямой связи. Стучащие в двери мира слышали лишь гул запертой двери, а просящим вкладывался в руку камень…
Но холод и жестокосердие «мира» уже и в юные годы не были ему в новинку. И хотя сила Слова не беспредельна, феноменальный дар Лермонтова подвёл его к той, невыразимой никаким человеческим текстом (поэт не раз сетует на это) истине, которая некогда ослепила библейского пророка. Вместе с тем, храня в душе «завет Предвечного», Лермонтов убеждён в том, что мир – и человек в нём – существует не для того, чтобы духовное бытие отрывать от дел, а священную благодать обращать в духовную праздность…
Ещё в 1831 г. Лермонтов пишет: «Мне жизнь всё как-то коротка, / И всё боюсь, что не успею я / Свершить чего-то!», здесь же признаваясь, что «…жажда бытия / Во мне сильней страданий роковых…». Опасения опять уступают предвидению: «Душа моя должна прожить в земной неволе / Недолго…» Разница в том только, что «испуг» по этому поводу у Лермонтова прошёл. И здесь, и в дальнейшем он едва ли не холодно констатирует то, что впоследствии и произойдёт… И опять провидение, отмеченное нарастающим «с годами» самоутверждением: «Я чувствую – судьба не умертвит / Во мне возросший деятельный гений!» И далее: «Я рождён, чтоб целый мир был зритель / Торжества иль гибели моей…» (1832). Однако понимает поэт неоднозначность явленных ему откровений, неочевидность даже и ближайшего будущего, легко вписывающегося во всякого рода «обстоятельства» и превратности судьбы. В драме «Странный человек» (1831) Лермонтов устами своего героя, вне сомнения, говорит о себе: «Я не сотворён для людей теперешнего века и нашей страны».
Лермонтов знал, что говорил. Наблюдая своё окружение и то, чем жили верхние слои русского общества, он не желает принимать положение вещей, при котором русская элита малодушно и с большим отставанием не к месту и не ко времени копирует исторические одежды «века Разума».
Понимая, что всё это установилось надолго, Лермонтов не признаёт исторического права за сложившимся порядком вещей. Понимал он и то, что жизнь народа, нераздельная с исторической судьбой родины, была увязана с державной властью. Парадокс состоял в том, что эта «объединённая» жизнь, в которой не было ни взаимного понимания, ни влечения, не имея исторической перспективы, после декабря 1825 г. не имела ещё и реальной альтернативы… Может, поэтому Лермонтов не находил нужным системно обличать государственную власть даже и в «немигающей» её ипостаси.
Собственно, не в стране и даже не в царе было дело: «я не создан для людей, – говорит его герой в той же драме, – я для них слишком горд, они для меня – слишком подлы».
И опять перед нами во весь свой исторически непомерный рост поднимаются проблемы внутреннего, этического и нравственного порядка. Но среди множества житейских проблем в жизни общества время от времени заявляют о себе таинства, духовная и моральная ипостась которых многомерна, а потому не поддаётся однозначным оценкам. Будучи катализатором внутреннего состояния истинно великих людей, они особенно ярко проявляются у тех, кто наделён могучим даром творчества.
V. В веригах добра и зла
Что люди? Что их жизнь и труд? Они прошли, они пройдут!
М. Лермонтов. «Демон»1
Вряд ли нужно специально доказывать, что творчество – это не только процесс созидания, но в большей степени – состояние души в этом процессе. Важнейшим критерием истинности творчества и высоких достоинств художественного произведения является наличие у автора внутренней чистоты и степени сопричастности с великими сущностями бытия. Отмечали мы и то, что гений, вовсе не обязанный олицетворять собой святость, отнюдь не должен походить и на злодея. Нравственные показатели исключительно важны, но не они определяют суть уникальной личности. Надо понимать, что «внутренний человек» в гении не является ни величиной постоянной, ни величиной неизменной. Потому что его задача – оповестить эпоху о некоей исторической программе, суть которой органично связана со средствами её реализации. О степени истинности этой «программы» говорить не будем, ибо ничего из того, что делается человеком, не может претендовать на истину, не говоря уже о её «последней инстанции». Яркий пример тому – Мартин Лютер, не только наделавший массу ошибок, но и как будто соблазнивший души христиан. Словом, гениальность содержит в себе некий диапазон свойств, которые, подчас не предохраняя гения от «злодейства», всё же являются наиболее вероятной возможностью выразить лучшее в человеческой природе. И когда это случается, когда несовершенное в человеке уступает высшему в нём, тогда становится ясным и очевидным наличие в нём качеств, сопричастных этим сущностям. Ибо творит нравственный человек лучшим, что в нём есть! Именно это определяет духовную высоту и уровень художественности произведения, являющегося способом выражения внутреннего мира человека, настояний общества и самой эпохи. «Человек творит в жизни только то, что он сам есть в религиозном измерении: пустая душа не создаст духовного богатства; мелкая душа не сотворит величия; пошлый человек не узрит Бога и не воспримет Его лучей, и не передаст их другим», – писал философ И. Ильин в «Аксиомах религиозного опыта», делая акцент на духовности в бытии. Взаимосвязи внутреннего мира творческой личности в коллизиях социальной жизни прямо связаны с духовными мерилами, коими в христианском мире является Новый Завет. К этому обязывает многообразие форм некогда единой веры, для уточнения которых остановимся на характере её и особенностях, явленных нам в событийной истории.
Лермонтов, слушая своё время, едва ли не в большей степени жил «историческими воспоминаниями», имевшими отличную от событийной жизни природу. Эта не вещная реальность отзывалась в его духовной памяти мощными и ёмкими во времени образами. В тварном бытии, включающем и его эпоху, они насыщены были памятью о прежнем человеке. Ни печальные под свинцовым небом равнины России, ни беспечные столицы отечества не способны были погасить в душе поэта «звуки» вечности. Понимая творчество как священный алтарь, за которым происходит служение поэта, Лермонтов внимал и воспроизводил вышнее в своём творчестве, посредником чему было вдохновение. К поэту более, нежели к кому-либо, относятся пламенные строки из его собственного стихотворения: «Твой стих, как Божий дух, носился над толпой…». Активное вовлечение в священное действо в принципе противостояло смиренному (а в приложении к реальной действительности – пораженческому) психотипу, который широко внедрялся в сознание народа и в саму толщу народной жизни после Раскола православия. Из жизни и творчества Лермонтова следует, что он был беспощаден к злу во всех его проявлениях. Поскольку убеждён был, что духовная сила, честь, достоинство и облагороженный труд, не приемля зло, создают историческую перспективу народной жизни. Являясь органичной частью вышнего творчества, они способствуют развитию духовного мужества куда больше, нежели идеологические клише, способные лишь на время скрепить разрозненное в настроениях гражданское общество. Ибо вышеперечисленные достоинства, став важнейшими компонентами общественной жизни, являются наилучшим строительным материалом для каждого настоящего и грядущих поколений. Именно эти мысли, возвеличенные до масштаба народа и его исторической перспективы, звучат, «как колокол на башне вечевой, / Во дни торжеств и бед народных»!
В этом плане, соединяясь с духовным смыслом существования человека и гражданина, творчество Лермонтова в своих наивысших проявлениях свидетельствует о Боге в не меньшей степени, нежели классическая богословская мысль.
Если же учесть, что в ипостаси дела оно реализует собой Дар, то по соучастию в «планах» Бога (а не только восхвалением Его словами), – «Божий дух» в стихах Лермонтова присутствует даже и в большей степени.
Айхенвальду принадлежит мысль, которую буквально можно отнести к творчеству Лермонтова: художник «продолжает дело Бога, воплощает Его первоосновную мысль. Творение ещё не кончилось, и поэт, священник искусства, облечён великой миссией вести его дальше, развивать предварительные наброски и планы божества, контуры природы. Наместник Бога на Земле, так сплетает он своё творчество с творчеством вселенной». Хотя признаем, что в этом состоит назначение человека в его первозданных, духовно не растраченных качествах.
Олицетворением такого человека и является Поэт, Художник. Но утраченное в своей чистоте, теперь назначение это является прерогативой лишь духовных избранников или, по Айхенвальду, «священников искусства». Причём не выполняя требования общества, а, скорее, в пику ему. Потому лишь наиболее принципиальные и мужественные, к коим, вне всякого сомнения, принадлежал Михаил Лермонтов, вменяли себе в обязанность нести людям Глагол. Это была та добровольно возложенная на себя обязанность, которую великим поэтам надлежало выполнять свято и духовно нераздельно. Ибо они – последние, кто, открывая формы сотворчества, могут и должны, по словам Александра Пушкина, «глаголом жечь сердца людей». Ибо в наивысшем взлёте своего вдохновения они apriori являются проводниками «мыслей» Бога и миссионерами Его планов относительно человека. И Лермонтов, как никто более, по своей духовной сути и величественному дарованию призван был к этой миссии. В полной мере это проявит себя несколько позднее, когда спадёт пелена его юношеских грёз.
Пока же не главные представители, а лучше сказать – небольшие «чины» высшего общества, к которому принадлежал сам Лермонтов, замечают происходящие в его душе и характере изменения. А как же иначе: праздное поколение, бесследно растворяющееся во всяком будущем, просто не могло не обратить внимания на свой антагонизм.
Но, видя лишь поверхность этих изменений, а в зеркальном отражении этой «поверхности» угадывая себя, они злобно реагируют на «актёрство» и сарказм поэта. Уз ком у кругу привилегированного сословия никак не хочется в недавнем «маленьком и неуклюжем Мишеле» признавать то, о чём никто из них и мечтать не мог. Ответ Лермонтова «толпе» – так поначалу в рукописи было озаглавлено стихотворение – был прям и жёсток:
Безумец я! вы правы, правы! Смешно бессмертье на земли. Как смел желать я громкой славы, Когда вы счастливы в пыли? Как мог я цепь предубеждений Ум ом свободным потрясать И пламень тайных угрызений За жар поэзии принять?В поэзии Лермонтова с ранней юности сильны личные мотивы. Но по-другому и не могло быть. Поскольку, изучая общество и работая над собой, поэт через себя пропускал жизненные перипетии. Если же учесть, что он совершенно отчётливо осознавал своё превосходство над всеми, с кем ему довелось общаться, то чего удивляться «судейским» интонациям даже и в «любовной лирике» поэта. После одного из разочарований, коих у него было немало, Лермонтов в начале 1832 г. в послании «К***» пишет:
Как знать, быть может, те мгновенья, Что протекли у ног твоих, Я отнимал у вдохновенья! А чем ты заменила их? Быть может, мыслию небесной И силой духа убеждён, Я дал бы миру дар чудесный, А мне за то бессмертье он?В этом же стихотворении Лермонтов как будто определяет свою «светскую программу» на тот период: «Со всеми буду я смеяться, / А плакать не хочу ни с кем»…
Между тем в жизни поэта происходят крутые изломы, сыгравшие печальную роль в его судьбе.
Весной 1830 г. благородный пансион, воспитанником которого числился поэт, был разогнан Николаем I. Разглядев в учебном заведении крамолу, царь указом Сената преобразовывает его в гимназию. В сентябре того же года, после сдачи экзаменов Лермонтов был зачислен на нравственно-политическое отделение Московского университета. Но в Москву пришла холера, и в сентябре университет закрывается более чем на три месяца.
Как «холерное» время, так и весь 1831 г. отмечен упорной работой Лермонтова над стихотворениями и несколькими поэмами. В следующем году он продолжает занятия в университете, но чувствует себя неуютно в его стенах.
Уровень преподавания не устраивает Лермонтова, а среди сокурсников он не находит близких себе по духу людей. В 1832 г. поэт оставляет Московский университет и переезжает в Петербург, надеясь продолжить образование в Петербургском университете, однако ему отказались зачесть прослушанные в Москве курсы. Чтобы не начинать обучение заново, Лермонтов принимает совет родных избрать военное поприще. Осенью того же года он поступает в Школу гвардейских юнкеров.
Казарменные условия существенно отразились на формировании личности Лермонтова. «Придержав» его музу, дали возможность заглянуть в себя, развили в нём чувство товарищества. И в «школьный» период Лермонтова не оставляют вопросы философского, морального и этического плана.
Подметив качественные изменения «добра» и «зла», как в изменяемых обстоятельствах, так и в их продолженности, он формулирует один из вопросов и сам же даёт ответ на него в незаконченном романе «Вадим»: «Что такое величайшее добро и зло? – два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга…»
И впрямь, разве добро иной раз не оборачивается злом?! Разве мало примеров того, как самые добрые слова, поступки и дела посредством жизненных обстоятельств и участвующих в них людей обращаются в свою противоположность?! Ведь в приложении к действительности доброта даже и «в чистом виде» подчас таковою не оказывается. Ибо сеющий доброе и вечное не всегда знает, насколько оно окажется таковым в восприятии других людей, в конкретной ситуации, в цепи последующих обстоятельств… Значит, не являясь абсолютом, «доброта» не безупречна. В особенности когда она, по неведению человека, реализует себя вне связи со слагающейся обстановкой и изменяющимися условиями, когда она, по факту, слепа и бесформенна. Но ведь тогда она не является таковой, ибо не приносит ожидаемого результата… Но если так, если таковая «доброта» не сочетается с целевой установкой, если она, сосредоточенная на «самой себе», бесформенна и деструктивна, а по результату условна, то это, скорее всего, глупость…
Лермонтов лишь обозначает свою мысль, ход которой мы, вовсе не настаивая на выводах, пытаемся проследить. И тогда «незримая цепь» добрых и злых дел поневоле приводит нас к заключению, что истинная доброта – та, которая, будучи искренней и бескорыстной, в своей структуре содержит доступную человеку справедливость. Однако последняя по самой сути своей предполагает не только благие дела и добротолюбие, но и воздаяние по заслугам. Это означает, что доброта не чужда карающему мечу Фемиды, ибо в своём действе не может не реагировать на зло!
Но как его отличить?
Ведь во всяком «личном» зле участвуют ещё и другие люди, из «дел» которых, собственно, и скроена жизнь… В этом единстве противоположностей «лермонтовская цепь», смыкаясь своими концами и удаляясь друг от друга, являет нам метафизическое «целое», в котором нет места двусмысленности.
По-своему блистательный диалектик, Лермонтов мог не разделять мысль Лейбница, считавшего действительный мир «наилучшим из всех возможных миров», за что, как мы знаем, великому немцу доставалось от его оппонента – гениального мыслителя и остроумца-пересмешника Вольтера.
Лермонтов же приходит к отмеченному «единству» как будто лишь в своих грустно-ироничных стихах. Вспомним его обращение к А. О. Смирновой:
Без вас – хочу сказать вам много, При вас – я слушать вас хочу: Но молча вы глядите строго, И я в смущении молчу! Что ж делать? – Речью безыскусной Ваш ум занять мне не дано… Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… 1840Столь же величественна грусть в стихотворении «Отчего», посвящённом княгине М. А. Щербатовой. В изумительном по психологическому проникновению этюде, в котором «правда жизни» лаконична и сжата в философскую формулу, Лермонтов достигает наивысшего эмоционального накала:
Мне грустно, потому что я тебя люблю, И знаю: молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гоненье. За каждый светлый день иль сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно… потому что весело тебе… 1840Желание Лермонтова постигнуть «отдельную» душу человеческую оттеняет глубокое ощущение единства противоречий, полнящих историческое бытие «всего» человека.
В числе других эту цель преследует поэма «Демон», великая «Дума» поэта и множество больших и малых сокровений, «в беспорядке» разбросанных во всём его творчестве.
Оставим незавершённый роман Лермонтова и вернёмся к более раннему периоду его творчества.
Ведь и до «Вадима» у Лермонтова был сильнейший интерес к взаимоотношениям Добра и Зла, которые становились полем битвы вселенского масштаба.
Ещё раз обратим внимание на то, что в своей ранней юности (1829–1832) Лермонтов часто обращается к Богу. Ещё только подходя к полю битвы, на котором, по словам Ф. М. Достоевского, «дьявол с Богом борется», поэт терзался сомнениями на свой счёт. И, надо сказать, схватки внутреннего человека с внешним дорого ему стоили… Лермонтов верил в свой гений, в свои силы, в своё предназначение и в свою миссию, но ведал и то, что по человеческой слабости даже и гений может сбиться с предназначенного ему пути. И тогда он может оказаться не на той стороне битвы… Поводов к тому было сколько угодно.
В «предказарменный период» Лермонтов пишет загадочное стихотворение «Смерть».
Ласкаемый цветущими мечтами, Я тихо спал, и вдруг я пробудился, Но пробужденье тоже было сон;В этом «втором» – неразрывном с первым – сне поэт вдруг забывается душой:
И чрез мгновенье снова жил я, Но не видал вокруг себя предметов Земных и более не помнил я Ни боли, ни тяжёлых беспокойств О будущей судьбе моей и смерти: Всё было мне так ясно и понятно И ни о чём себя не вопрошал я, Как будто бы вернулся я туда, Где долго жил, где всё известно мне… Вдруг предо мной в пространстве бесконечном С великим шумом развернулась книга Под неизвестною рукой, и много Написано в ней было, но лишь мой Ужасный жребий ясно для меня Начертан был кровавыми словами…Здесь опять мы наталкиваемся на провидение Лермонтовым своей судьбы, которая в разных вариациях трагически часто сводилась к печальным итогам.
Вот только для души ли?!..
Пером взрослеющего мастера поэт со свойственной ему духовной проницательностью пытается осмыслить свой жребий.
В стихотворении «Бой» читаем:
Сыны небес однажды надо мною Слетелися, воздушных два бойца; Один – серебряной обвешан бахромою, Другой – в одежде чернеца. И, видя злость противника второго, Я пожалел о воине младом; Вдруг поднял он концы сребристого покрова, И я под ним заметил – гром. И кони их ударились крылами, И ярко брызнул из ноздрей огонь; Но вихорь отступил перед громами, И пал на землю чёрный конь. 1832Картины развернувшейся в небесах битвы поневоле отсылают наше внимание к Откровению Иоанна Богослова. Однако Лермонтов не цитирует его, а, обобщая, приводит к некому символу. Рассмотрим его отдельно.
2
Заключительная книга Нового Завета, пророчащая будущее, не порывает с тайнами Ветхого Завета. В Книге пророка Иезекииля, где на «дом Израиля с крепким лбом и жестоким сердцем» (Иез. 3:7) посылаются громы и молнии, «потому что они – мятежный дом» (12:2), читаем: «…отверзлись небеса, и я видел видения Божии» (1:1): «И увидел я, и вот рука простёрта ко мне, и вот в ней – книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был снаружи и внутри, и написано на нём: “плач, и стон, и горе”» (2:9—10).
В Откровении Иоанна находим: «И увидел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облечённого облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные; В руке у него была книжка раскрытая. …И я пошел к ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь её; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед» (Откр. 10:1–2,9).
Это состояние – одного в другом – проходит через послания и Иезекииля и Иоанна.
Пророк Иезекииль увидел: «Подобие четырёх животных… И у каждого – четыре лица, и у каждого из них – четыре крыла» (Иез. 1:5–6). «И всё тело их и спина их, и руки и крылья их, и колёса кругом были полны очей. …И у каждого из животных четыре лица: первое лице – лице херувимово, второе лице – лице человеческое, третье лице – львиное и четвёртое – лицо орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых я видел при реке Ховаре» (10:12,14–15).
Иоанн узрел небесный престол, из которого «исходили молнии и громы и гласы… И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей…» (Откр. 4:5–8).
Далее пред очами Иоанна является «конь белый и на нём всадник, имеющий лук… И вышел он как победоносный, и чтобы победить…». За ним появляется «конь вороный, и на нём всадник, имеющий меру в руке своей», после чего вышел «конь бледный, и на нём всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним…». «Шестая печать» открыла Иоанну трагедию истинно космического масштаба, ибо «звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои… Ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (6:2,5,8,12,17).
Эти же строки великой Книги, вероятно, будоражили и душу Джорджа Байрона. Мы знаем, что в юности именно он оказал на Лермонтова сильнейшее влияние.
Грандиозное произведение английского поэта «Тьма» относит нас к тем же источникам – взаимосвязным пророчествам Иезекииля и Иоанна.
Читаем у Байрона в переводе И. Тургенева:
Я видел сон… Не всё в нём было сном. Погасло солнце светлое, и звёзды Скиталися без цели, без лучей В пространстве вечном; льдистая земля Носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил, Но дня не приводил он за собою… И люди – в ужасе беды великой Забыли страсти прежние… Сердца В одну себялюбивую молитву О свете робко сжались – и застыли. Перед огнями жил народ; престолы, Дворцы царей венчанных, шалаши, Жилища всех имеющих жилища - В костры слагались… города горели…Иоанн «видел и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе живущим на земле…» (Откр. 8:13). Байрон как будто продолжает речения Ангела:
Любви не стало; вся земля полна Была одной лишь мыслью: смерти – смерти Бесславной, неизбежной… Страшный голод Терзал людей… И быстро гибли люди… Но не было могилы ни костям, Ни телу… Пожирал скелет скелета… И даже псы хозяев раздирали…«И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю… И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них…» И опять Байрон, то ли во сне, то ли в смятённом бодрствовании создавший картины, достойные его гения:
…И мир был пуст; Тот многолюдный мир, могучий мир Был мёртвой массой, без травы, деревьев Без жизни, времени, людей, движенья… То хаос смерти был. Озёра, реки И море – всё затихло. Ничего Не шевелилось в бездне молчаливой. Безлюдные лежали корабли И гнили на недвижной, сонной влаге… Без шуму, по частям валились мачты И, падая, волны не возмущали… Моря давно не ведали приливов… Погибла их владычица – луна; Завяли ветры в воздухе немом… Исчезли тучи… Тьме не нужно было Их помощи… она была повсюду… 1816На этом у Байрона завершаются ужасные видения. Что касается отрывков из Св. Писания, то они и в слитном чтении не ясны, отчего даже и среди богословов до сих пор имеют разные толкования. Вернувшись к Откровению, завершу его более приемлемыми для богобоязненного читателя строками Иоанна: «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною» (Откр. 12:2,3,7–9).
Итак, нам ясно, что библейские источники важны для понимания внутренней борьбы, проходившей в сознании Лермонтова. Опосредованно мотивы древних пророчеств проходят через многие произведения русского поэта. Вот и стихотворение «Бой» (наряду с «Демоном» и «Предсказанием») через духовное ведение поэта открывает неведомые нам и невидимые нами битвы «сынов небес» – тех, которые отпали от Бога, с теми, кто приял Его. Отблески небесных войн проникают (по «праву» наибольшей одарённости) и в души избранников, одним из которых был Лермонтов. Именно сердца избранных, в которых искры Божьи возгорались в яркое пламя или, погасая, обращались в пепел, являлись наиболее обширным полем битвы Добра и Зла.
Обращает на себя внимание то, что «младому воину»-победителю у Лермонтова противостоит «чернец» (т. е. монах, давший обет безбрачия и, по канону, посвятивший себя Богу). Символ этот в полной мере не поддаётся раскрытию. Но можно предположить, что «в одежды чернеца» облачился отпавший от истинной веры и пересоздавший себя в грехе человек.
Ощущение ответственности и неотвратимости наказания за забвение истинного образа Божия, обжигая душу Лермонтова, поневоле отсылает и нас к огненным пророчествам Иоанна…
Прибегая в своих произведениях к иносказанию, поэт в стихотворении «Бой» даёт своё видение небесных битв, в которых архангелы пророка Иезекииля были «те же животные», а четыре шестикрылых «животных» Иоанна («лев», «телец», «как человек» и «орёл») у небесного трона предшествовали «всаднику на белом коне…». Поэтически стилизуя небесные войны, Лермонтов «сужает» их до борьбы символов.
После «Боя» вернёмся в «казарму» Лермонтова, пусть даже читать в ней можно было только уставы и циркуляры, а молиться курсанты могли лишь о том, чтобы Всемогущий избавил их «от маршировки» и прочих издержек «школьной» жизни.
В казённом учреждении, где Лермонтов проводит два года, ему, очевидно, было не до смеха… Эти годы, названные им «эти страшные годы», и последующие «гусарские будни», как видно, не отличались разнообразием впечатлений. Не случайно поэт просил друзей не забывать его в «будущем заключении». Но «страшными» они были ещё и потому, что по уставу школы юнкерам было запрещено читать книги литературного содержания. Можно только гадать, каково было Лермонтову от этого «пункта». В этих условиях молитвы, за исключением «юнкерской», не слишком часто находят отклик в его душе. А потому не знаем мы их. Никаких особенных изменений в его жизни за это время не происходит: поэт как будто полностью погружается в тот мир, который он давно понял и который столь же давно презирал. Однако, «смеясь со всеми», Лермонтов не хочет (и не может) обманывать истинных и преданных ему друзей. Именно поэтому в «эти страшные годы» мы не находим от него посланий верным ему друзьям – А. Верещагиной и М. Лопухиной. Позднее поэт признаётся: «Причиной… был страх, что вы по письмам моим заметите, что я почти не достоин вашей дружбы, ибо от вас обеих я не могу скрывать истину; от вас, наперсниц моих юношеских мечтаний, таких чудных, особенно в воспоминании». Как будто предвидя «школу жизни» гвардейских юнкеров именно в таком жанре, ангел-хранитель Лермонтова Лопухина пишет ему: «Остерегайтесь сходиться слишком близко с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечётесь» (выделяю курсивом потому, что и Юрий Петрович Лермонтов в своём завещании писал о добром сердце сына. – В. С.).
Вместе с тем польза от Школы для поэта была в том, что, являясь в некотором роде усыпальницей добродетелей, она послужила ему некоей моральной точкой отсчёта. Хотя не стоило бы преувеличивать грехи элитного заведения. Как и всякое другое среди подобных ему, Школа не была свободна от «гвардейских» и прочих чудачеств, в которых немало преуспел и Лермонтов. Будучи невысокого роста, но широк в плечах и обладая большой силой рук, он предпочитал неуставное соперничество с признанным силачом Школы Евграфом Карачинским. Однажды они на спор гнули руками и вязали узлом шомполы гусарских карабинов. Во время одного из состязаний их и застукал директор школы генерал Шлиппенбах. В результате оба силача за порчу казённого имущества были немедленно отправлены на сутки под арест. Шалости Лермонтова, не прекращаясь и в дальнейшем, не раз приводили его к столкновению с великими князьями. Их острота была в том, что всякая высочайшая реакция на явные нарушения устава делалась смешной и несуразной. Так было, когда в сентябре 1838 г. Лермонтов явился на парад со слишком короткой саблей. Великий князь Михаил Павлович – известный блюститель устава и «школьных скрижалей» – тотчас приказал отобрать саблю у курсанта. Её он отдал играть своим детям, а «обезоруженного» поэта отправил на гауптвахту на 15 дней. Лермонтов решил исправиться. Выйдя из-под ареста, он завёл себе настолько огромную саблю, что она при ходьбе цеплялась за мостовую и стучала по ступеням. Преисполнившись негодования, поднаторевший в разоружении великий князь вновь отправил его на гауптвахту.
И всё же, что ни говори о Школе, смелость, воинская удаль и рыцарское отношение к товарищам всемерно поощрялись начальством. Не зря Школа гвардейских подпрапорщиков была местом, из которого вышли герои будущих войн и многие видные представители военной и культурной элиты России XIX – начала XX вв. Сам Лермонтов «в юнкерской Школе был хорош со всеми товарищами, – писал в своих воспоминаниях А. М. Меринский, – хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за всё ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить».
Подчёркиваю этот «недостаток» поэта, поскольку именно он скоро сыграет в его жизни роковую роль. Что касается выбора «учебного заведения», то Лермонтову уготован был жребий военного уже потому, что литература была призванием для него, но не для его сословия, и, уж тем более, – не для его родственников. Последних олицетворяла Елизавета Арсеньева, ни на йоту не отступавшая от предрассудков своего сословия. Так что пребывание в элитной «казарме» было для поэта вполне предсказуемо.
Как бы там ни было, Лермонтов оказался в Школе юнкеров, в которой литература была запрещена. Однако Библию Николай, говорят, почитывал, потому вряд ли относил её к литературе, а мысль и воображение царь и подавно не мог запретить. Но и Лермонтов, скорее всего, не зачитывался Св. Писанием – уж больно условия были для этого неподходящими. В то же время было бы неверным привязывать внутренние интересы поэта к «физической» обстановке и обстоятельствам жизни казармы. Гений Лермонтова способен был видеть и ощущать духовные катаклизмы независимо от настоящих, мелких и всякого рода преходящих событий. Тем более, что непрямое цитирование Библии характерно для всего его творчества. И всё же, не имея возможности вчитываться в тексты, поэт, вне сомнения, помнил Откровение Иоанна Богослова.
Период «заключения» миновал, и Лермонтов окунается в «дворцово-гусарское бытие», сверкающее золотом мундира и дворцовым паркетом. Если ранее в письмах к друзьям поэт писал: «до сих пор я жил для литературной славы, принёс столько жертв своему неблагодарному кумиру…», то теперь, уступая «законам жанра», – Лермонтов не преминет похвалиться: «Я не пишу романов, я их делаю». Однако блеск «гусарских романов», в который вмешивались пока ещё не очевидные в своей социальной направленности размышления о диалектике бытия, не слепил ум поэта и не помешал ему видеть реалии в их истинном свете.
Уже в 1835 г. Лермонтов пишет поэму «Маскарад», изобразив в ней общество, в котором «под масками аристократической чинности и чопорной благопристойности скрыта рабская угодливость пред власть имеющими, наглая дерзость разврата, алчная откровенность наживы, вопиющее ничтожество мысли и низменность чувств, – писал литературовед и богослов С. Н. Дурылин. – Как Чацкий презирает ничтожную среду Фамусовых и Молчалиных, так Арбенин, герой “Маскарада”, презирает жизнь, обычаи, дела и мысли светской черни, которою он окружён. Что ни стих в роли Арбенина, то злая эпиграмма на этих великосветских рабов низкопоклонства, корысти и лицемерия»[29]. Поэма «Маскарад» – это совершенно очевидный и могучий в своих потенциях литературный предвестник суда Лермонтова над «жадною толпою», стоящею у трона.
Заметим, что разница между «грибоедовской Москвой» и «маскарадным» обществом в поэме Лермонтова была такой же, как между пушкинским Онегиным и лермонтовским Печориным[30]. И Чацкий и Онегин представляют собой яркие, но в известной мере барствующие личности, вольность которых не цепенела пред ледяными, немигающими очами Николая, смотрящими как будто из ниоткуда… Этих литературных героев не затронул «гвардейский» стиль сомнительно державной власти и её клевретов, нравственной жертвой которых несомненно стал Печорин. Заявив о себе с самого начала николаевского режима, «стиль» государственной беспомощности и позора воочию предстал перед всем миром лишь через тридцать лет – в Крымской кампании.
Заменив военные учения парадами, дворцовыми шарадами и «победными реляциями» над провинившимися офицерами, Николай подвёл Россию к войне, к которой она оказалась совершенно не готова. В начале своей «службы» изгнав прославленных генералов, царь улещал себя нехитрыми познаниями в государственном и военном деле, чего для победы было явно недостаточно. Отсюда поражение в «любимом занятии».
Словом, это были неведомые литературным героям Грибоедова и Пушкина годы, когда царь правил деревянной головой, железной рукой и холодным сердцем. Потому и Чацкий и Онегин лишены метин от державной «трости» государя-императора. Тяжесть её вполне ощутило на себе следующее поколение русского общества в лице Арбенина и разгадавшего судьбу России Печорина – проводника многих мыслей Лермонтова.
Случившийся пасынок фамусовской Москвы и Николая I, лермонтовский Арбенин не желал быть жертвой такого рода двойственности. Не хотел и не терпел двусмысленности своего положения! Арбенин – это Чацкий 1830 г., который скоро воплотится в ещё более мощную фигуру – лермонтовского Печорина. С той лишь разницей, что Чацкий мог ещё позволить себе вскричать в конце комедии: «Вон из Москвы! сюда я больше не ездок», тогда как Арбенину в период николаевской реакции «ехать» было некуда… Разве что «по свету», что Герцен, «разбуженный» декабрём 1825 г., не преминул и сделать. Потому, не имея выхода и мучаясь от безысходности, Арбенин погибает. Сначала этически – как личность, поскольку не находил для себя ниши нравственных идеалов и духовной чистоты, – а потом и как физическое лицо. Между тем жизнь самого поэта прервала «диалектика» николаевского режима.
Как гром среди ясного неба грянула смерть Пушкина! Отозвавшись острой болью в душе Лермонтова, она преобразила его ум и волю в единый кристалл, через который вскоре преломилась судьба его самого. В исключительно сильном по волевому импульсу и страсти стихотворении «Смерть поэта» Лермонтов – Поэт и Гражданин – бесстрашно обрушивает свой гнев на «молву» и ближайшее окружение царя – истинных виновников гибели дивного гения. С горечью и презрением обвиняя соучастников преступления, грозя им Божьей карой, поэт в их лице разит само зло! Впервые ощутив на себе мощь лермонтовского стиха, «наперсники разврата» почувствовали и опасность для себя… Но ещё большие беды грозили самому поэту. Ибо никогда ещё в русской поэзии не звучали столь сильные обвинения трону и системе правления.
Жребий брошен! Поэт пристально вглядывается в постыдно равнодушную к добру и злу «угрюмую толпу» – в своё поколение, лишённое веры и надежд. И, находя объяснение, не находит ему оправдания… Уж е осознав, что он другой – «ещё неведомый избранник», Лермонтов по-другому, нежели того требуют приходские вероучители, смотрит, оценивает, судит и осуждает свет.
Запечатлённый в знаменитом стихотворении праведный гнев Лермонтова приводит к последствиям, резко изменившим его жизнь. «Скипетр» Николая разлиновал его небо в клетку.
Оказавшись в реальном заточении, поэт сильно и по-иному испытывает нужду в молитве. В уединении он начинает видеть дальше и проникновеннее. Осознавая масштаб трагедии, Лермонтов понимает и неслучайность её. Злой рок вершит свои дела, но никогда не выходит за пределы предначертанного… Гибель Александра Пушкина воочию явила тщету, ненадёжность и недолговременность человеческих планов, но не отменяла необходимости бороться со злом и его причинами. Невозможно воспроизвести мысли, обжигавшие сознание поэта, но можно предположить очевидное: Лермонтов знал, что вышел на «тропу войны», и его мучило соотношение гражданской борьбы (в необходимости которой он был уверен) и духовного смирения (благодать которого ощущала его безличная, растворённая в вечности сущность). Суть дилеммы была в том, что должно делать и что нужно в жизни принять. Размышляя о превратностях судьбы, Лермонтов через высокое окно каземата смотрит на «квадраты» небес, различая в них вечное пространство, и на обрывках бумаги создаёт бессмертные произведения – «Когда волнуется желтеющая нива» и «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…». Об определённом «согласии» поэта с «небом» говорит то, что с этого периода его творчество взмывает поистине в небесные высоты. Едва ли не каждое новое произведение поэта свидетельствует о могучем взлёте его духа и грандиозном масштабе истинно лермонтовского дарования! Вероятно, в эти минуты духовного восторга из груди Лермонтова вырвались полные достоинства слова: «И в небесах я вижу Бога…» Это признание есть истинное свидетельство присутствия Бога в лучших произведениях поэта.
3
В январе злополучного для России года Лермонтов, создав поэтические произведения духовной и философской направленности, пересматривает и уточняет позиции морального и этического плана. В его строках усиливается гражданское звучание. Дух поэта, взмывая высоко в небо, «спускается» на землю, ибо видит себя бойцом здесь – в этом мире. Оттачивая «клинок» своего железного стиха, он относится к грозному оружию как к другу и защитнику: «Люблю тебя, булатный мой кинжал, / Товарищ светлый и холодный…» Ему поэт даёт клятву верности: «…я не изменюсь и буду твёрд душой, / Как ты, как ты, мой друг железный» («Кинжал»). Но один в поле не воин, поэтому Лермонтов ищет соратников в борьбе – и не находит… В стихотворении «Поэт» (1838) он, упрекая своих собратьев по перу в «бесславии и безвредности», уподобляет их сочинения блещущей на стене золотой игрушке. Но не таково призвание истинно Божьего дара. Сознавая высокое назначение и пограждански бескомпромиссную силу «могучих слов», Лермонтов нетерпим к малодушию «века»:
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, Своё утратил назначенье, На злато променяв ту власть, которой свет Внимал в немом благоволенье?В этом произведении поднявшись до пророческого видения, Лермонтов не отделяет поэта от Слова. Вочеловеченное в Логосе, оно прежде было сродни благовесту. Поэт ассоциативно апеллирует к иному времени, к тому, когда Слово несло соборную функцию, присущую пастырю и духовнику, перед духовным напутствием которого склонялось гражданское общество. В эти, иные, времена народ, отстаивая своё Отечество, злато «менял» на власть и на возможность подвига, а не наоборот… Поэт поясняет то главное, что объединяет миссию поэта, пророка и пастыря народа:
Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы, Он нужен был толпе, как чаша для пиров, Как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой; И, отзыв мыслей благородных, Звучал, как колокол на башне вечевой, Во дни торжеств и бед народных. И это истинно так!Двести с небольшим лет назад именно духовное пастырство в могучем слове и молитве оказалось наиболее мощным духовным источником, спасшим Москву, а вместе с ней – и Московскую Русь[31].
Героическая деятельность православного духовенства в начале XVII в. вдохновила народное ополчение на беспощадную борьбу с поляками, а патриарх Гермоген, благословив народ и прокляв врагов Руси, и вовсе принял от них мученическую смерть. Во всенародном подвиге защиты Отечества особенно отличилась Троицкая лавра.
Любопытно, что по случаю вступления польских войск в Москву и победы «просвещённого христианства над московским варварством» в Риме в 1611 г. был объявлен всехристианский праздник. В такой форме папа выдал польским оккупантам индульгенцию, «отпущающей» им грабёжи и насилие.
В своём стихотворении Лермонтов не случайно несколько раз прибегает к священной для Руси-России православной символике, поскольку она играла важную и непреходящую роль в жизни русского народа.
Колокол на вечевой башне издавна был своеобразным «языком» – призывным гласом народного бытия.
Но то было в прошлом…
И слово и дело, полагает Лермонтов, перестали уже играть важную роль. В эпоху теряющихся смыслов и символов поэту представляется необходимым подвиг пророка:
Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк? Иль никогда на голос мщенья Из золотых ножён не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья?..В этих строках Лермонтов отождествляет себя не с пророком, а лишь с образом его (прямая, но метафорически смягчённая аналогия заявит о себе в «Пророке», 1841).
Но образ этот могуч! Печаль, тоска и разочарование в нём выходят за пределы личностного «суда», ибо стихотворение преисполнено общегражданского, а значит, народного самосознания. В своём наивысшем посыле индивидуальное здесь отрекается от «самоё себя» – от эгоистических пристрастий, от всего личностного и преходящего.
Схожее – надличностное – отношение к Родине пронизывает стихотворение «Бородино» (1837), где устами участника битвы Лермонтов бросает своему безвольному поколению: «Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя: / Богатыри – не вы!»…
Рождённый для великих дел, ибо наделён был необычайно острым и быстрым умом, способностью к глубокому анализу, могучей энергией и силой духа, Лермонтов в отрочестве ещё писал: «Мне нужно действовать, я каждый день / Бессмертным сделать бы желал, как тень / Великого героя, и понять / Я не могу, что значит отдыхать».
Но жажда здешней активности не отодвигает в нём поисков гармонии с внутренним бытием, ощущение значимости которого пронизывает всю его жизнь.
«Моя душа, я помню, с детских лет / Чудесного искала…», – писал он тогда же в сокрытой от всех тетради.
Однако служба-ссылка и горы Кавказа не оградили великого поэта от миссии поэта-пророка, а «всевидящий глаз» III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (и, очевидно, не только «третьей»…) бессилен был заглянуть в его душу. Неизменная красота гор, приближая дух поэта «к небу», увеличивала его потребность к внутреннему единению с Вседержителем. Выходя на кремнистый путь и изумляясь чистоте небесного пространства, Лермонтов обращается к нему своими внутренними очами и создаёт одно из самых художественных в мировой литературе и чудных по чистоте и искренности произведений – «Молитва» (1839):
В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть: Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучьи слов живых, И дышит непонятная, Святая прелесть в них. С души как бремя скатится, Сомненья далеко — И верится, и плачется, И так легко, легко…Однако мир не меняется. И даже эта молитва, пронизанная лучами благодати, не ограждает поэта от язв и противоречий мира, от которых не была свободна и его душа… Пронзительным умом и цельностью натуры Лермонтов восхищает одних и вызывает неугасимую ненависть у других. Им претит его властный характер, не способный к подчинению. Между тем духовные поиски поэта не особенно расходились с принципиальным и жёстким неприятием пошлости и лицемерного «приличия». «Судья безвестный и случайный, / Не дорожа чужою тайной, / Приличьем скрашенный порок / Я смело предаю позору; / Неумолим я и жесток…», – писал он в стихотворении «Жур налист, Читатель и Писатель» (1840).
Белинский, встретившись наконец с «другим» Лермонтовым в Арсенальной гауптвахте (куда поэт угодил после вразумления одного из многих «ловцов счастья и чинов» – де Баранта) в 1840 г., был, по его признанию, поражён и раздавлен могучей натурой поэта. «Неистовый Виссарион», который в скором времени будет гневно и безапелляционно распекать великого Гоголя, при встрече с Лермонтовым отдал ему безусловное превосходство во всём!
Восторг Белинского не был чрезмерным. Внимательно следя за творчеством Лермонтова, критик не мог не ощутить в нём исключительную силу, масштаб и благородство устремлений. Но, не зная всего наследия поэта, горячий поклонник М. Бакунина (в 1845 г. писавший Герцену: «В словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут») не мог увидеть главное, что оправдывало духовное и нравственное существование Лермонтова, а именно гипотетически возможное преодоление пороков «послеадамового человека», в существе своём не изменившегося за тысячелетия. Однако для успеха столь рискованного предприятия необходимо было прозреть парадигму бытия, уходящую и в прошлое, и в будущее… Эвольвентно принимая в себя нравственно и этически спорные коллизии, включая трудноуловимые по характеру и обманчивые по содержанию внешние переустройства общества, парадигма эта с незапамятных времён ставила в тупик самые выдающиеся умы. К распознаванию донельзя запутанных форм Добра и Зла, протянувшихся в истории от Ветхого до Нового времени, и обратил свой гений Михаил Лермонтов. На это он имел, пожалуй, большее право, нежели кто-либо другой. По той причине, что истинно великое можно поверять лишь соразмерным ему. Философ и писатель Василий Розанов – один из немногих, кто сумел увидеть истинную величину и разгадать значение поэта в мировом Логосе – говорил по этому поводу: «Лермонтов не только трогает звёзды, но имеет очевидное право это сделать, и мы у него, только у него одного, не осмеливаемся оспорить этого права. Тут уж начинается наша какая-то слабость перед ним, его очевидно особенная и исключительная, таинственная сила».
Глубокий ум Лермонтова способен был и смело проникал в ветхие пласты времён, с первых Дней Творения хранившие сокрытые от всех «знаки», гармонию и мелодику вселенского бытия. И тогда он откликался на них так, как это мог делать только истинный поэт:
Есть речи – значенье Темно иль ничтожно, Но им без волненья Внимать невозможно. Как полны их звуки Безумством желанья! В них слёзы разлуки, В них трепет свиданья. Не встретит ответа Средь шума мирского Из пламя и света Рождённое слово; Но в храме, средь боя И где я ни буду, Услышав, его я Узнаю повсюду. Не кончив молитвы, На звук тот отвечу, И брошусь из битвы Ему я навстречу.Уж не от «центра» ли вневременья, затронутого Словом, исходили «волшебные звуки», навстречу которым поэт готов был броситься в битву, даже не окончив молитвы?!.. Не та ли это субстанция вечности, матрица которой и не содержит, и не исчисляется временем?!.. Ведь там, в искривлённом и неудержимо «вертящемся» пространстве-времени, все события – и прошедшие и будущие (ускользающего «настоящего» там тоже нет) – существуют как уже состоявшиеся. Если так, то, не являясь самоценными, они выстраиваются в событийный ряд лишь в человеческом сознании при помощи ничего особо не представляющей собой воли человеческой.
Очевидно, вдохновлённый «звуками» лермонтовской музы и, вне сомнения, зная вышеприведённое стихотворение поэта, Н. В. Гоголь 28 февраля 1843 г. в письме к С. П. Шевырёву едва ли не дословно пересказывает слова поэта: «Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много такого, что может только почувствоваться, глубиною души в минуту слёз и молитв, а не в минуты житейских расчётов!» Замечу всё же, что, разделяя пафос лермонтовской музы, Гоголь, потонув в слезах покаяния, потерял свою «битву». На одном из этапов напряжённой внутренней работы над Словом, застряв между Богом и Кесарем и не сумев разрешить проблему духовной связи творчества в миру, Гоголь утерял источник вдохновения, место которого заняло расстройство души… Лермонтов на более высоком уровне понял связь «земного» и «небесного». Не опускаясь до «рабствования в Боге» и не воздымаясь до сугубо человеческой гордости, поэт видел себя соработником Всевышнего. Последнее соотносится с формой служения или духовной практикой истинно православного монаха, который в грозную для Отечества годину берёт в руки меч и облачается в латы воина. По всей видимости, ощущение такого рода внутреннего единства придавало поэту немалую смелость. Дерзновенный охват вселенского бытия, им явленный, даёт основания предположить, что именно желание заглянуть в неведомое, которое перебарывает стремление «потрясти» ускользающее от человека «вечное безмолвие», отличает Лермонтова от многих великих предшественников и современных ему коллег по перу.
Но так ли уж бесспорно право поэта «трогать» звёзды? И – да простят мою дерзость ревнители церковных догматов! – насколько далеко оно распространялось?..
Расставить по полочкам «отличия» поэта от других гениев едва ли возможно, да и вряд ли стоит этим заниматься. Гораздо важнее попытаться раскрыть его духовные поиски. Именно они привели к столь величественному содержанию его творчества (попутно обогатив поэзию разнообразным строем стиха, а стихосложение – художественными формами). Это подметил А. Блок, писавший о трансформациях Лермонтова-стилиста: «В языке Лермонтова, отличавшемся, по выражению Белинского, “истинно пушкинскою точностью выражения”, много слов народных и областных, оборотов французских и церковно-славянских». Но если первые говорят о наличии в культурной части русского общества европейских влияний, то церковнославянские «обороты» Лермонтова свидетельствуют о его глубоком единении с жизнью народа.
Существенная особенность внутреннего Лермонтова (а именно там нужно искать сущностные достоинства поэта) состоит в том, что, апеллируя к Богу, он открывал для себя пути земные, которые хотел довести до человека мыслящего, отнюдь не только в России бредущего по жизни «без шума и следа». Зорко следя и откликаясь на здешние войны, поэт и мыслитель знал, что они лишь в малой мере отражают битвы тамошние… Зная это, Лермонтов пытался понять меру возможностей и степень участия в них человеческих сил. В этом состояла высота его миссии – в этом состояла и ответственность поэта перед его Творцом!
В своей сложности и многообразии этот феномен наиболее ярко открывается в поэме «Мцыри» и, пожалуй, в одном из самых сложных произведений мировой поэзии – поэме «Демон». А. Пушкин, отмечая гениев-новаторов мировой литературы, так писал об этом: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью – такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте в “Фаусте”…». К этим славным именам со всей уверенностью можно вписать имя Лермонтова, ибо в ряде его произведений, особенно в поэме «Демон», сокровения поэта и мыслителя свидетельствуют не только о печальном творении Его… Исследуя «время» в его духовной и исторической протяжённости, Лермонтов с горечью убеждается в силе и усилении распространяющегося в мире зла, присутствие которого ощущает повсюду. Путая род людской, оно завораживает и совращает многих. Сначала ощущение, а затем глубокое осознавание эвольвентной подмены критериев добра и зла привело Лермонтова к анализу их первоистоков. Пронзительно мощное сознание поэта, прозревая настоящее и угадывая связи прошлого с будущим, устремлялось в зримые дали вечности. Проникая в сущее, дух Лермонтова стремился к постижению таинств прошлого и будущего, запечатлённого в матрице Вечности; того не свершённого и не свершившегося ещё, что не определяется временными или событийными факторами, ибо неведомое не имеет временного отсчёта и узнаваемых (бытийных) форм. Отсюда «неясность» фактора времени в ряде произведений поэта, как в своём «прошлом», так и в «настоящем» принимающих форму вечного. Та малая, приоткрытая поэтом «часть» его и есть высочайшая по своим духовным позывам лермонтовская реальность.
И опять убеждаешься в том, что мир Лермонтова – это особый мир, а потому для понимания его необходимо исследовать не указующие «персты» (отдельные стихотворения), а направление всего творчества, существующего в ипостаси духовного новатора и бойца. А всего творчества потому, что лермонтовское вневременное бытие несёт в себе реалии, не тождественные вещественным. Оно содержит в себе гармонический ряд, не способный реализоваться ни в условиях, ни средствами этого мира. На первый взгляд подобное рассмотрение духовного вектора Лермонтова может показаться неким мистическим преувеличением. Но это только на первый взгляд. Потому что человек метафизически, как личность, связан со своим Творцом. По этой причине в наивысшем своём духовном воодушевлении (феномене гения в творчестве) человек органичен и неразрывен со своим Первоисточником. В этой, не сотворённой руками духовной лествице нет ни «ступенек», ни промежуточных звеньев – есть только умение слышать и реализовать Слово, возможности которого необъятны, и именно по этой причине оно не всегда доступно рядовому сознанию. Этот феномен отчуждения (от мира) проявляет себя в тяге поэта к «забытию», выраженному в стремлении к вышнему
«царству». Поэт и литературный критик С. А. Андреевский прямо говорит об этом: «В истории поэзии едва ли сыщется другой подобный темперамент. Нет другого поэта, который так явно считал бы небо своей родиной и землю – своим изгнанием…» Представляется очевидным, что «сын земли с глазами неба», по точной метафоре Вел. Хлебникова, выпадая «из мира печали и слёз», хотел обрести некогда утерянную человеком свободу, присущую тому миру, где искры Божии горят своим истинным светом. А это и есть, очевидно, то Царство, которое кроется внутри тех, кто не утерял в себе Образ Божий. Именно об этом говорит поэт в своём мистически-загадочном стихотворении «Выхожу один я на дорогу…»
С детских лет Лермонтов грезил о той Свободе, единственно в которой мог найти вышний покой – тот, которому нет названия, но в котором обитала жизнь под шум листвы и «сладкий голос» небес. Эта тихая песнь ангела завораживала Лермонтова с отрочества, потому что вещала она «о блаженстве безгрешных духов», которых поэту не могли заменить «скучные песни земли». Потому с надеждой вглядывался он в звёздное пространство. Именно там искал он общения с Всевышним, к которому шёл в полном одиночестве[32].
VI. На поле битвы
О вы, которые в челне зыбучем,
Желая слушать, плыли по волнам
Вослед за кораблём моим певучим,
Поворотите к вашим берегам!
Не доверяйтесь водному простору!
Как бы, отстав, не потеряться вам!
Данте. «Божественная комедия»1
Как оно обычно бывает, личные переживания и впечатления довлеют не только над разумом, но и над творчеством поэта или художника. У Лермонтова иначе. Исходя или, лучше сказать, отталкиваясь от личного опыта, он ставит его под сомнение, как только осознаёт ограниченность личностного переживания.
Человек Лермонтову всегда был весьма важен: кому как не ему он посвящает всё своё творчество?! Но интерес этот, идя вровень с этическим пониманием «человека» в обществе древними римлянами, неразрывен у поэта с высокой гражданственностью. Однако и здесь интерес, крепко связывая его с Отечеством, простирается много дальше и, главное, – выше. Мысль Лермонтова охватывает пространства, в которых даже и самые глубокие привязанности не имеют самодовлеющего характера.
Вспомним строки из стихотворения «Родина» (1841), в котором поэт говорит о своей «странной» любви к Отчизне. Признаётся в том, что «…тёмной старины заветные преданья // Не шевелят во мне отрадного мечтанья», что, при всём (очевидном для нас) интересе к старине, – он любит «её степей холодное молчанье, / Её лесов безбрежных колыханье, / Разливы рек её, подобные морям». Однако и это богатство не исчерпывает в сознании поэта привязанность к Родине. Видимо, потому, что ширь Отчизны является для него лишь началом, от которого он «уходит» в иной духовный и пространственный масштаб, поскольку испытывал в нём нужду. Потому «говор пьяных мужичков», который по-своему был люб Лермонтову, но который он упоминает не без доли иронии, становится неслышным, когда перед его глазами встают «дрожащие огни печальных деревень». В особенности если учесть своё – личностное — отношение Лермонтова к «огням». Находя отклик в его душе, рефлексируя со звёздами и как будто «перемигиваясь» с мирозданием, огни, зажжённые человеком, являются своего рода отражением или даже соучастниками «говора» небесных светил.
Итак, восприятие человека Лермонтовым носит не столько имманентный, сколько сущностный – всечеловеческий — характер. Однако последнее не означает некую абстракцию. Сущее у Лермонтова, составляя красочную мозаику мира, складывается из своеобразия национальных культур. Этот предмет поэт обсуждал в беседах с московскими славянофилами, в частности, – с Ю. Самариным. О важности национального бытия для Страны и народа в ней напоминает нам и В. Белинский: «Только живя самобытной жизнью, каждый народ может принести долю в сокровищницу человечества». Именно духовное бытие в национальном, в данном случае представленном гением Михаила Лермонтова, придаёт его творчеству культурно-историческое, а значит, всемирное значение. Проявления этой значимости яркими искрами рассыпано во всех его творческих исканиях, но особенно мощно оно заявляет о себе в поэме «Демон». Казалось бы, именно в ней отроческие ещё «искры» протеста обретают ясность и ярко разгораются в «пламя» всепожирающего крайнего индивидуализма. Но это лишь кажимость. Индивидуализм поэта лишён личностных пристрастий. Он последователен и нисколько не противоречит раскрытию темы, указующей на силы «космического» зла и греха в мире. В своей духовной эвольвенте поэт отчуждается от крайностей всего личностного. Соединяя их с «общим» человеческим содержанием, апеллирует к вестнице души человека – совести.
Напомню, к эпохе Лермонтова в высших слоях европейского и русского общества сложился культ по-светски аллегорической «мефистофелианы», которая не имеет очевидной связи с библейским падшим ангелом, восставшим против Бога. Слишком уж тесно связанные с вирусами Просвещения, сыгравшего роль повивальной бабки Великой французской революции, «демоны эпохи» не были тождественны теологическому их определению, как, собственно, и месту их в жизни общества. Отсюда подобная «чайльд-гарольдовскому плащу» декоративная функция «демонического» творчества писателей XVIII – XIX вв., среди которых мы находим Мильтона и Клопштока, Гёте и Байрона, де-Виньи и Гюго и других «носителей демонизма».
Лермонтов, однако же, разобрался с демонами много глубже своих коллег по перу. Его Демон далёк от эффектных сюжетов-страшилок, под зевоту случайных зрителей разыгрываемых на театральных подмостках Европы.
Гордый Сатана Мильтона и философствующий Мефистофель Гёте (между тем испугавшийся пентаграммы Фауста) слишком уж неотрывны от здешнего мира с его длиннохвостыми рогатыми, в шерсти «чертями» и крепдешиновыми «ангелами». «Он выше нас, – говорит о Боге мильтоновский Сатана, – не разумом, но силой, а в остальном мы все равны». Настолько «равны», что у де-Виньи он очеловечивается до «печального, очаровательного юноши». Не то у Лермонтова.
Предчувствуя движение исторических пластов России и Европы, он отходит от вошедшей в традицию умствующей театрализации зла в сторону реального зла, рассредоточенного в мире и обладающего сверхчеловеческой мощью. Даже и соблазнённый «землёй», Демон Лермонтова является частью космического целого. Потому он и во зле подчинён вышним, непререкаемым законам. Не оспаривая их, Лермонтов тем не менее выходит ему навстречу.
При этом поэт лишь оборачивает «европейским плащом» руку, в которой уверенно держит меч. Лермонтов начинает свою поэму тревожно и величественно:
Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землёй, И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой; Тех дней, когда в жилище света Блистал он, чудный херувим, Когда бегущая комета Улыбкой ласковой привета Любила поменяться с ним, Когда сквозь вечные туманы, Познанья жадный, он следил Кочующие караваны В пространстве брошенных светил; Когда он верил и любил, Счастливый первенец творенья! Не знал ни злобы, ни сомненья, И не грозил уму его Веков бесплодных ряд унылый… И много, много… и всего Припомнить не имел он силы!Далее следует прямая характеристика Демона. Не отличаясь от канонической, она в общих чертах знакома нам:
Ничтожной властвуя землёй, Он сеял зло без наслажденья. Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья — И зло наскучило ему.Но, пролетая над Землёй, «изгнанник рая», хоть и презирая, не мог быть совершенно чужд сотворённой благодати. Красота Мира такова, что от неё дух захватывает! Лермонтов исподволь подводит нас к тому, что такой мир не мог не задеть в Демоне «забытые» им чувства и ощущения. К слову, и здесь поэт красочно и весьма точно описывает картины, которые можно увидеть лишь сверху:
…Под ним Казбек, как грань алмаза, Снегами вечными сиял, И, глубоко внизу чернея, Как трещина, жилище змея, Вился излучистый Дарьял, И Терек, прыгая, как львица С косматой гривой на хребте, Ревел, – и горный зверь и птица, Кружась в лазурной высоте, Глаголу вод его внимали; И золотые облака Из южных стран, издалека Его на север провожали; И скалы тесною толпой, Таинственной дремоты полны, Над ним склонились головой… И дик и чуден был вокруг Весь Божий мир; но гордый дух Презрительным окинул оком Творенье Бога своего, И на челе его высоком Не отразилось ничего.Здесь следует дополнение, казалось бы, расставляющее точки над «i» в душе Демона:
…И всё, что пред собой он видел, Он презирал иль ненавидел.Но это пока… Летая над Миром, презирая всё и без услады сея зло в нём, Демон разглядел земную, но в совершенстве своём неземную красоту. Первозданность Эдема почудилась Демону в чистом и целомудренном облике девы. «С тех пор как мир лишился рая, / Клянусь, красавица такая / Под солнцем юга не цвела!» – в изумлении восклицает он. И тогда в Духе Зла происходит движение внутренних, дотоле неведомых ему сил и чувств, которые «с первых дней творенья» не рождались в нём.
Перед нами разворачивается трагедия, начало которой восходит к сотворению Мира и человека в нём. Мощь и единовременно очарование тварного мира такова, что могучий Демон, «вспомнив», теперь уже не может и не хочет (!) забыть здешние чудные и неповторимые мгновения, длина которых в первые «дни», наверное, покрывала тысячелетия человеческого времени. В своей поэме Лермонтов как бы обращает ток времени вспять, выявляя существо Дня Творенья в его первозданной красе и совершенствах, которые, однако же, через время покинули человека. Но, как оказалось, и по прошествии тысячелетий в человеке затаённо продолжают храниться начала той чудоносной красоты, которая выступает синонимом Бога. Именно её ценность и благотворную силу впоследствии вновь и вновь пытались открыть те, кому понятно было её внутреннее очарование.
Античные времена донесли её Средним векам, а Данте, пытаясь прочувствовать, воспел её в отвлечённых образах. Однако Божественную суть этой красоты могло отразить лишь безличностное отношение к ней. Потому именно византийская икона, одухотворённая внутренним прочтением образов, анонимная и бестелесная по стилю исполнения, отразила дух её. А русская икона через духовные искания старцев, аскетов и монахов-иконописцев посредством тончайшей расстановки композиционных мотивов, организации светоносного цвета и гармонии образов укрепила содержание её. Но уже мастера Ренессанса, опредметив материальное во внутреннем, гениально воплотив образ в телесную красоту, но развоплотив её в образе, «вернули» её человеку, вновь указав ему на немеркнущий идеал внешнего и внутреннего совершенства. Здесь уместно вспомнить, что утверждение ценности реального человека обозначило себя ещё во фресках Джотто, продолжилось в исканиях Мазаччо и достигло особой высоты в образах Боттичелли. На ценности красоты, лишённой «случайных черт», присущих каждой эпохе, настаивали многие. Говорил о ней и Достоевский. Именно такого рода красота, полагал писатель, посредством заложенной в ней внутренней гармонии способна изменить мир. Лермонтов как будто подтверждает это:
И Демон видел… На мгновенье Неизъяснимое волненье В себе почувствовал он вдруг, Немой души его пустыню Наполнил благодатный звук — И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты! И долго сладостной картиной Он любовался – и мечты О прежнем счастье цепью длинной, Как будто за звездой звезда, Пред ним катилися тогда. Прикованный незримой силой, Он с новой грустью стал знаком; В нём чувство вдруг заговорило Родным когда-то языком. То был ли признак возрожденья? Он слов коварных искушенья Найти в уме своём не мог… Забыть? – забвенья не дал Бог: Да он и не взял бы забвенья!..Образ Демона грандиозен в многообразии и сложности чувств, охвативших его.
Но если с задачей передать словом человеческое в нечеловеческом, вероятно, лучше всех в русской и европейской литературе справился гений Михаила Лермонтова, то равноценно перевести внутренние борения Демона «в краски» смог, наверное, лишь фантастический талант Михаила Врубеля. Русскому художнику более, нежели кому-либо, даровано было умение обращать в «драгоценные камни» самые обыкновенные цвета. Лишь его гений, сопоставимый с лермонтовским, мог передать в живописи и в графических листах непостижимое совершенство Мира, целомудрие княжны и бездонное зло Демона. Как будто следуя теми же «космическими переулками» и вбирая в свои удивительные композиции красоту минералов земли и космоса, печальный и магический гений Врубеля мог отобразить неземную стать Духа Зла.
Доверимся, однако, религиозному сознанию Лермонтова.
Услышав «волшебный голос над собой» (в отличие от Тамары мы знаем, что это был чарующий голос Демона):
Она, вскочив, глядит вокруг… Невыразимое смятенье В её груди; печаль, испуг, Восторга пыл – ничто в сравненье. Все чувства в ней кипели вдруг; Душа рвала свои оковы, Огонь по жилам пробегал, И этот голос чудно новый, Ей мнилось, всё ещё звучал. И перед утром сон желанный Глаза усталые смежил; Но мысль её он возмутил Мечтой пророческой и странной. Пришлец туманный и немой, Красой блистая неземной, К её склонился изголовью; И взор его с такой любовью, Так грустно на неё смотрел, Как будто он об ней жалел. То не был ангел-небожитель… Её божественный хранитель: Венец из радужных лучей Не украшал его кудрей. То не был ада дух ужасный, Порочный мученик – о нет! Он был похож на вечер ясный: Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..Кто ж это был? Демон?
Да. Но в тот момент это был Демон преображаемый!
Неземная красота беспорочной Тамары как будто озарила «дух изгнанья» нездешним светом первичного ангельского сознания, пробудив в нём воспоминания далёкого, безнадёжного и невозвратно ушедшего прошлого… Но безнадёжного ли? Отвергнутый Всевечным в финальной своёй гордыне, Демон, как представляется, не был отвержен в начальном блеске херувима, поскольку всякое творение – тем более лучшее – содержит в себе отцовский «ген», являющийся органичной частью Сущего. Потому даже и восставший против Бога в принципе не утрачивает способности к внутреннему преображению, а значит, имеет надежду выбелить свою душу до первозданной чистоты её.
Ощущая тревогу от неведомой ей «туманной и немой» силы и прозревая в ней беду для себя, Тамара не в состоянии защититься от неясного пока ещё для неё искуса (как потом выяснится, «духа лукавого») и просит отца отдать её в монастырь.
Следуя за своей героиней, Лермонтов вновь разворачивает перед нами панораму дикой природы Кавказа и следы пребывания человека в ней. «Ряд… крестов печальных / Безмолвных сторожей гробниц» повествует об этом. Однако эти печальные свидетельства жизни теряются в первозданной красоте гор. С лёгкой руки поэта мы различаем величественные «вершины цепи снеговой», а рождённые в их недрах горные ключи весело катят свою прохладу в синеющие дымком просторные долины.
В этом потерянном Эдеме, казалось, могут обитать лишь херувимы да ангелы… Но если нерушимая краса диких ущелий, мира и человека всё ещё свидетельствует о величии и гармонии начального творчества, то красота Демона представляется чудовищной и холодной ввиду её – отстранённой от человека – антисвятой воли и безукоризненности, подчёркнутых ледяным безразличием и бессудной жестокостью.
Между тем, несмотря на внутреннюю ущербность Демона, сила его чар такова, что юную княжну оставляет сон и покой: «Святым захочет ли молиться, – / А сердце молится ему…»
В то же время и Демона как будто жгут «случайно» пробудившиеся в нём, но на поверку чуждые его духу позывы, безусловно, духовного происхождения. Равный своей избраннице по внешней красоте, он несопоставим был с Тамарой в красе внутренней. В Демоне начинает зарождаться гнев и страх… С давних времён вольный, суровый и могучий, он весьма серьёзен в посетивших его мыслях, чувствах и новых ощущениях…
Вернёмся к смятению, на время развеявшему цельность Духа Зла.
2
…Привычке сладостной послушный, В обитель Демон прилетел, Но долго, долго он не смел Святыню мирного приюта Нарушить. И была минута, Когда казался он готов Оставить умысел жестокой. Задумчив у стены высокой Он бродит: от его шагов Без ветра лист в тени трепещет.Трепещет и душа Демона. Обладая несокрушимой силой, он впервые и со всей очевидностью ощущает свою зависимость от здешней духовной и телесной красоты – земного отпечатка истинно Несокрушимого…
Однако красота не панацея от всех бед! Это мы видим в предощущении Тамарой Демона. Сознавая присутствие чарующей сверхъестественной силы, Тамара откликается на человеческое в ней. По-иному и не могло быть.
Чуждая пороку душа Тамары даже и во сне способна реагировать лишь на тождественное. Сам же Демон испытывает потрясение и растерянность.
Что-то странное, сильное и доселе неведомое осеняет его дух. Всё мрачное и тёмное в Демоне поддаётся прежде несвойственному ему благотворному воздействию…
Казалось, невозможное становится возможным, – несостоявшееся может стать явью…
И Лермонтов, создавая образ Злого Духа словно из неведомых никому космических форм, как будто идёт навстречу нашим догадкам:
…Тоску любви, её волненье Постигнул Демон в первый раз; Он хочет в страхе удалиться… Его крыло не шевелится! И, чудо! Из померкших глаз Слеза тяжёлая катится… Поныне возле кельи той Насквозь прожжённый виден камень Слезою жаркою, как пламень, Нечеловеческой слезой!.. И входит он, любить готовый, С душой, открытой для добра, И мыслит он, что жизни новой Пришла желанная пора. Неясный трепет ожиданья, Страх неизвестности немой, Как будто в первое свиданье Спознались с гордою душой. То было злое предвещанье! За предвещаньем следует прозрение…Последняя строка поэмы знаменует кульминацию столкновения Добра и Зла, как будто предполагающая победу первого… Но этого не происходит. Чёрное не может стать белым! В планы Всеведающего не входило примирение с воплощением лжи и порока. Потому в поэме Лермонтова сомнение в необходимости творить зло, блеснувшее было лучами первоначального света в «душе» носителя Зла, скоро гаснет, ибо соткан тот был из ненависти и ядовитых корней сатанинской гордыни… В этом всё дело! «Умысел жестокий» не мог измениться, а поэтому Зло осталось в силе… Ещё и по той причине, что в силе остаются те противоречия, которые перешли к людям во времена первого предательства заветов Предвечного. И человек, оставшись при своих пороках, до сих пор питает ими Духа Зла. Эта, в пределах свободы воли «диалектика» делает преждевременной помощь тем, кто не особо озабочен ею… Потому Дьявол и остаётся при своей мощи. Вот и здесь появившийся херувим – истинный носитель Божьей воли и власти – пытается оградить невинную душу Тамары от Злоносителя. Но сила Демона – некогда первого среди ангелов и второго после Бога – всё ещё велика. В нём просыпается «старинной ненависти яд», и он, без труда отстранив Ангела, является пробудившейся Тамаре.
К этой встрече мы ещё вернёмся; сейчас же проследим коллизию столкновения противоположных сил.
Нащупывая пути и прослеживая истоки неугасающих пороков, Лермонтов, как уже было отмечено, в образе Тамары противопоставляет Демону Добро. На протяжении всей жизни работая над поэмой (и, что примечательно, оставив неизменными первые две строки), поэт изыскивает возможности смирения Зла посредством Любви и… не находит их. Между тем именно величественный по своему духовно-историческому проникновению поиск, прослеживая диалектику Добра и Зла, привёл к созданию выдающегося произведения. «Очевидно, если бы не смерть, – замечает Д. Андреев в «Розе Мира», – он ещё много раз возвращался бы к этим текстам и в итоге создал бы произведение, в котором от известной нам поэмы осталось бы, может быть, несколько десятков строф». Прерывая мысль Андреева, скажу, что так оно, скорее всего, и было бы. Поскольку в Лермонтове со всей очевидностью заявляло о себе стремительное творческое взросление в совокупности с исключительно редким среди смертных сочетанием могучего духа и великого ума. Если первый помогал ему преодолевать бесконечные пространства закрытых для всех «миров», то второй боролся за своё право «прочесть» и понять почти недоступное уму человека. И Лермонтов, как и те единицы несобытийной истории, в которых таится единоцельный образ и подобие Бога, имел для этого особые основания. Об этом праве – праве Лермонтова – и говорил Д. Андреев: «…дело в том, что Лермонтов был не только великий мистик; это был живущий всею полнотой жизни человек и огромный – один из величайших у нас в XIX веке – ум». Этот, в некотором роде нечеловеческий ум и вёл Лермонтова по только ему одному уготованному пути, который неизбежно должен был закончиться Голгофой поэта… Ибо даже такого масштаба ум не давал Лермонтову привилегии познать Бога. Хотя, заметим для себя, поэт на это всерьёз никогда и не претендовал. Ощущая в себе силы невероятные и не принимая близко к душе церковно-каноническое наставничество, Лермонтов (как, впрочем, Ф. Достоевский, Н. Лесков и ряд других деятелей русской культуры) не терпел чрезмерности официозного «чинопочитания» обеих, по факту, «здешних» властей – синодальной и светской.
Вместе с тем, не оспаривая догмат непознаваемости Всевышнего, Лермонтов не впадает в другую крайность. При действительно имевшем место презрении поэта к «падшему человеку», оно не распространялось на всех людей. Однако в сочинениях литературоведов XIX – начала XIX в. именно «презрение» стало расхожим местом. А ведь Лермонтов нигде не унижает ни духовные качества, ни ум человека, ни его возможности постижения Бога до пределов, за которыми «венец творенья» предстаёт как полное ничтожество. Этого нет в творчестве Лермонтова, не было в его личной (увы, во многих случаях оболганной «обидчивыми» современниками) жизни. Нет этого и в реальности. Поскольку если разделять «богоприятную» (якобы любезную Богу) позицию, в соответствии с которой человеку «ничево не ведомо», что он не способен понять не только «пути Божии» и осознать своё место в величественном акте Творения, но даже не способен понять и самого себя, то придётся признать, что Бог по своему Образу и Подобию сотворил… полуидиота, совершенно не способного ни понять, ни осознать, ни внутренне приобщиться к своему Создателю!
Не признавая первую позицию и не соглашаясь с её посылами, Лермонтов, по факту, как никто, ясно опровергал и кощунственные «выводы» из неё.
Читая наиболее вдохновенные произведения Лермонтова, ловишь себя на мысли, что поэт истинно способен был лицезреть Всевышнего своими внутренними очами. В стремлении внутренне приблизиться к своему Источнику, Лермонтов и ушёл с головой в протоисторию человечества. Никакие трудности, никакие превратности судьбы не могли отвадить поэта от работы над грандиозной и героической в своей сущности поэмой.
Лермонтов в ипостаси поэта и воина был очевидным носителем эпического начала в душе, явленного его музой. Грандиозная многоохватность и глубина поэмы заключается в том, что в пространстве мира Лермонтов пытается воссоздать своего рода первоконструкцию Добра и противостоящего ему Зла.
Первое (условно) воплощено в чистой душе Тамары, которую оттеняет «гений греха» – Демон. Носитель законченного зла ненавидит «всё, что пред собой он видел».
Чего стоит одно только «представление» себя и единовременно признание Демона в любви Тамаре! Исполненное исполинской силы, оно трагично, как всё истинно великое:
Я тот, которому внимала Ты в полуночной тишине, Чья мысль душе твоей шептала, Чью грусть ты смутно отгадала, Чей образ видела во сне. Я тот, чей взор надежду губит; Я тот, кого никто не любит; Я бич рабов моих земных, Я царь познанья и свободы, Я враг небес, я зло природы, И, видишь, – я у ног твоих! Тебе принёс я в умиленье Молитву тихую любви, Земное первое мученье И слёзы первые мои. …Я раб твой, – я тебя люблю! Лишь только я тебя увидел – И тайно вдруг возненавидел Бессмертие и власть мою.Но, «отдавая» себя Тамаре «в рабы», Демон тем самым опосредованно преклоняется перед Творцом, ибо ему ясна природа её гармонии и красоты…
Именно по этой причине Демон испытывает страх и «внутренне» ненавидит Источник своего страха, воплощённый или вочеловеченный в Тамаре. Дуализм преклонения-ненависти пронизывает всю поэму Лермонтова.
Автор ставит её во главе угла потому, что дух рабства, страха и ненависти проходит через всё историческое бытие человечества! Это противостояние Добру, неискоренимое в человеке и неспособное быть преодолённым здесь, мучает Лермонтова, ибо он, как никто, чувствует в себе некий залог возможной внутренней победы.
До времени оставаясь над схваткой, поэт как бы «со стороны» пытается разобраться в коллизиях «вечного» противостояния. Именно эта (надличная и сверхобщественная) высота, поддержанная пронзительным умом, проникновенным духом и непостижимыми знаниями о формах борения добра и зла в человеке, позволяла Лермонтову видеть мир в парадоксах послеадамовой истории: той, в которой и невиновные в первобытном грехе наследовали его последствия. Обусловив некую «сумму» исторических грехов человека и определив мистерии бытия, «история» и повела «невиновных» по ложному пути в понимании происхождения зла в мире.
Положение усугубляли лжеучителя, ханжи и мнимые поводыри. Обличая связь с Злоносителем там, где её не было, они сбивали с толку и слепых и зрячих. Неверность закосневших в своих пороках реалий порождала у человека досаду и разочарование, опять создавая своеобразную «сумму зла».
Так эволюция греха, ограничив духовное совершенство человеческой природы, свела её развитие к застывшему в своей порочной неизменности временному бытию.
Несомненно, ощущая, ведая или прозревая диалектику Добра и Зла во времени, Лермонтов не рисует в одних только чёрных тонах того, кто некогда был избран Богом.
Его Демон противоречив и не лишён известного обаяния. Как будто надеясь на поражение сатанинской гордыни, что означало бы (духовную) победу Добра, Лермонтов влагает в уста Демона, склонившегося к ногам Тамары, «молитву тихую любви». Его признания сродни исповеди субстанционально меняющегося сознания, если только оно применимо к Демону:
Какое горькое томленье Всю жизнь, века без разделенья И наслаждаться и страдать, За зло похвал не ожидать, Ни за добро вознагражденья; Жить для себя, скучать собой И этой вечною борьбой Без торжества, без примиренья! Всегда жалеть и не желать, Всё знать, всё чувствовать, всё видеть, Стараться всё возненавидеть И всё на свете презирать!..И это «внутреннее» преображение, казалось, вот-вот достигнет своего апогея, после чего демонизм (как мы помним, – «зло наскучило» Демону задолго до встречи с Тамарой), будучи единовременно источником и вместилищем мирового зла, падёт наконец, не устояв перед силой любви, долженствующей распространиться на человечество во всей его массе. Ибо «демонское» начало, наполнив собою жизнь и растворившись в душах людей, всё же сконцентрировано в самом Духе Зла. Казалось, духовный переворот всего (подчёркиваю это) человечества возможен ещё и потому, что «программа» созидания изначально была заложена в душу «венца творения». Вот и настоящая «исповедь» Демона как будто говорит о возможности изменения самого хода истории! Она ясно свидетельствует о том, что животворящая сила любви в эти минуты «держит» Демона в духовном поле Тамары. Откликаясь на мольбу беспомощной княжны пощадить её душу, Демон делает поистине героическую попытку отказаться фактически от своей, проклятой Богом сущности:
Клянусь я первым днём творенья, Клянусь его последним днём, Клянусь позором преступленья И вечной правды торжеством. Клянусь паденья горькой мукой, Победы краткою мечтой; Клянусь свиданием с тобой И вновь грозящею разлукой. Клянуся сонмищем духов, Судьбою братий мне подвластных, Мечтами ангелов бесстрастных, Моих недремлющих врагов; Клянуся небом я и адом, Земной святыней и тобой, Клянусь твоим последним взглядом, Твоею первою слезой, Незлобных уст твоих дыханьем, Волною шёлковых кудрей, Клянусь блаженством и страданьем, Клянусь любовию моей: Я отрёкся от старой мести, Я отрёкся от гордых дум; Отныне яд кровавой лести Ничей уж не встревожит ум; Хочу я с небом примириться, Хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру…[34]В пароксизме раскаяния и в отчаянии от несбыточности его клятвы (это ему ясно было с самого начала!) Демон возводит её в ранг «очистительной», но всё же отвлечённой молитвы. Его слова – своеобразный памятник всему лживому, но великому в своей искренности, грандиозному в преобразовательной ипостаси и… несбывшемуся. И всё же в эти мгновения он верит или хочет верить собственным словам. И вновь чудится, что Демон готов сжечь мосты со своим прошлым и (в это верим уже мы) без сожаления об утерянной мощи вернуться к своему Отцу.
Поскольку в недрах Духа Зла заложено и это, возрождающееся в своей созидательной сущности стремление. Этот поистине всемирный акт тем более представляется вероятным, что всё «в начале» вечности произошло от Благого Источника. Как будто «идя по нему», Демон пылко клянётся своей жертве, но, увы, клятвы и обещания его, обрамлённые жемчугом истинной поэзии, отвлечённы и безблагодатны:
…Для тебя с звезды восточной Сорву венец я золотой; Возьму с цветов росы полночной; Его усыплю той росой; Лучом румяного заката Твой стан, как лентой, обовью, Дыханьем чистым аромата Окрестный воздух напою; Всечасно дивною игрою Твой слух лелеять буду я; Чертоги пышные построю Из бирюзы и янтаря; Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака, Я дам тебе всё, всё земное — Люби меня!..Приняв воображаемое за действительное, а скорее, солгав самому себе, Злой Дух на мгновение отходит от самого себя, что невозможно… Потому финал встречи «духа порочного» с неосквернённой пороком душой оказался печален. И символичен. Попытка совместить несовместимое в своей, наверное, последней, вынашиваемой им в вечности надежде, рушится. Он это знает. Более того – знал… Даже и «покаянная» слеза Демона прожигает камень, а лобзания, отравленные смертельным ядом, несут человеку смерть. Зная все последствия истинно демонической «любви», гений искушения, зла и коварства допускает гибель Тамары, после чего облекает свою душу в адские ризы.
3
Сцена мёртвой княжны исполнена величия прощания с землёй и перехода в иное состояние:
И ничего в лице её Не намекало о конце В пылу страстей и упоенья; И были все её черты Исполнены той красоты, Как мрамор, чуждой выраженья, Лишённой чувства и ума, Таинственной, как смерть сама.Смерть Тамары не конечна. «Мраморный» облик её светел, но вместе с тем и противоречив. Яд, убивший тело, коснулся и души, не устоявшей перед искушениями:
Улыбка странная застыла, Мелькнувши по её устам. О многом грустном говорила Она внимательным глазам: В ней было хладное презренье Души, готовой отцвести, Последней мысли выраженье, Земле беззвучное прости…В следующей строфе перо Лермонтова вновь воплощается в магическую кисть живописца, ибо только ею, пожалуй, можно передать вселенские просторы Кавказа. Чудится, что и режущие ущелья бурные реки, и мирные селенья гор были взбудоражены смертью Тамары. Внекалендарный и мистический «час раскаянья» сближает их полуреальных жителей – от праотцов до нынешних, столь же грешных… Эти горные жители и возводят храм, на котором покоятся кости всяких, в том числе и лихих, людей.
Сам же храм, устроенный на скале, разрастается кладбищем, как будто приближающим таинство того и другого к небу… Над вечным покоем и повстречался Демону Ангел, уносящий в иные пределы упокоившуюся душу Тамары.
В эпизоде вознесения «грешней души» Тамары узнаётся (надо полагать, не без «согласия» автора) Ангел Лермонтова, который некогда «душу младую в объятиях нёс для мира печали и слёз». Здесь же душа Тамары возвращается туда, где ей не будут докучать «скучные песни земли». Но Злой Дух всё ещё дорожит тем, что, опорочив, считает своим. Отбросив ризы, сотканные из лжи и коварства, он является в истинном своём облике. И облик этот – ужасен!
Но, Боже! – кто б его узнал? Каким смотрел он злобным взглядом, Как полон был смертельным ядом Вражды, не знающей конца, — И веяло могильным хладом От неподвижного лица…Однако на этот раз «адский дух» проигрывает духовный поединок с Ангелом, ибо в сей час попущения злу нет и быть не может! «Дни испытания прошли; / С одеждой бренною земли / Оковы зла с неё ниспали. / Узнай! Давно её мы ждали!», – заявляет Ангел и решительно отгоняет от своей драгоценной ноши Духа Зла. Точки над «i» расставлены. Всё кончено… для Демона:
И проклял Демон побеждённый Мечты безумные свои, И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви!..Результат прочтения Лермонтовым великой Книги Бытия оказался неутешительным… Как поэт, философ и мистик, он приходит к мысли, что в мире способно быть, но никогда – торжествовать Добро. Ибо мир этот создан не для совершенных душ. Там:
Где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты, Где преступленья лишь да казни, Где страсти мелкой только жить; Где не умеют без боязни Ни ненавидеть, ни любить, —не может существовать духовно организованное бытие!
Это, однако, вовсе не означает, что Лермонтов разделял манихейские идеи, в соответствии с которыми «тьма» падшего человека поглощает светлое царство добра, тлеющее в нереализованной его ипостаси. Человек, вмещая в себе и добро и зло, путается в них, но его бытие не есть средоточие одного только зла, а потому нет нужды отказываться от него. Уж если кого уличать в тяжком грехе отказа от «мира», так это духовно невежественных пастырей (не обязательно синодского толка), которые всякую привязанность «к земному» объявляют «исходящей от дьявола». Причём духовно помрачённые «зилоты», в каждую историческую эпоху представая в новом сектантском обличье, может, даже и не осознают, что являются проводниками осатанелого отношения к жизни как таковой. Поскольку формы этой жизни – в том числе социальные и культурные – есть зерцало не только осквернённой некогда души человеческой… Может, в неведомом человеку измерении они являются спрограммированной на всю историческую жизнь тварного мира возможностью соучаствовать в мироустроении, которое изначально задумано было, как незаконченное… Поневоле приходишь к мысли, что «смирение» и «богобоязненность» здесь играют роль «овечьего фартука», за которым скрываются интересы, далёкие от всяких форм жизни. Этот неочевидный для пасомых «фартучный» отказ от «мира» и скучивает духовно неразумную паству в толпу, слепо следующую в направлении бытового, социального и политического пораженчества. Прослеживая начала зла, Лермонтов пытается прояснить его духовные извивы. Метафизически единый со своим Творцом, поэт и философ уходит в глубины человеческой субстанции. Он не только считает себя вправе делать это, но заглядывает в «кладовую» Бога, в которой пытается разглядеть духовный потенциал человека. Ибо лишь только восстановившись в лучшем, он может противостоять мировому Злу.
Человечество могло развиваться вариативно. Адам мог и не согрешить… Бог мог предотвратить грех, но попустил его. Потому что замыслил человека – по своему образу и подобию! – как автономно развивающуюся духовную и физическую субстанцию, обладающую свободой воли и выбора, на что не способна была «полумашина», послушно следующая всем Его желаниям, указаниям и надеждам. То есть задуман был человек, способный не только к саморазвитию, но и к тому, чтобы соучаствовать (вносить свои «поправки») в замыслах Бога. Отсюда «пределы» отведённой человеку автономии и свободы, первая характеристика которой есть необходимость действия! Последние предполагают ответственность, напрямую зависящую от внутреннего богатства человека, включающего дарования. По этой причине свобода тяготит и пугает слабых, глупых и бездарных, но вдохновляет сильных, умных и талантливых. Дерзостный мистик в Лермонтове не оставляет попыток приоткрыть завесы, скрывающие внеисторические причины противостояния Тому, кто провидел всё… И то, что отрицание Демона «совпадает» с личностными (правильнее сказать – сущностными) открытиями Лермонтова, не роднит его с первоотрицателем, но лишь подтверждает глубоко укоренившуюся в бытии реальность зла. Того утвердившегося порядка вещей, с которым Лермонтов был не согласен и с которыми всю жизнь боролся! Не согласен потому, что «порядок этот» деформирует в человеке Первообраз, а боролся потому, что желал воспрепятствовать этому. Потому бунт Лермонтова против Бога кажущийся. Он есть, и в то же время его нет, поскольку пребывает в иной ипостаси.
Остановимся на этом отдельно.
«Ропот» поэта на Того, кто «изобрёл его мученья» (у Лермонтова «мои»), сродни стенаниям Иова, который поначалу не имел для этого причин.
Вспомним, помимо семерых сыновей и трёх дочерей, «у него было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги»; и был он «знаменитее всех сынов востока» (Иов. 1:3); наконец, Иов был любим Богом. Однако о душе праведника у Него было особое попечение и на Иова обрушились великие несчастия (2:6). Кознями Сатаны, но попущением Бога потерял Иов и детей и скот свой, а сам поражён был «проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его» (2:7). И тогда, не выдержав испытаний, возопил Иов: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: “зачался человек!” День тот да будет тьмою; да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет!» (3:3–4).
Схожие противоречия теснят героев произведений Лермонтова и его самого…
В драме Лермонтова «Два брата» Юрий в отчаянии обвиняет Бога в жестокости. Не смиряясь и не преклоняясь перед неисповедимыми судьбами Провидения, он говорит: «Я не уступлю – борьба только начинается – я рад, очень рад! Посмотрим – все против меня – и я против всех!..» Умный и весьма одарённый Владимир Арбенин (драма «Странный человек») сетует: «Никто меня не понимает…»; «Никто… никто… ровно, положительно никто не дорожит мною на земле… Я лишний!..»; «Где мои исполинские замыслы? К чему служила эта жажда к великому? Все прошло!..» Но это – люди, которых странный человек, вообще говоря, презирает. В минуты наибольшего отчаяния Арбенин с вызовом обращается к высшей силе: «Бог, Бог! во мне отныне к Тебе нет ни любви, ни веры!.. Но не наказывай меня за мятежное роптанье… Ты, Ты сам нестерпимою пыткой вымучил эти хулы… Зачем Ты дал мне огненное сердце, которое любит до крайности и не умеет так же ненавидеть! Ты виновен, пускай Твой гром упадёт на мою непокорную голову! Я не думаю, чтоб последний вопль погибающего червя мог Тебя порадовать…» У Иова: «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» (Иов. 3:11).
Как мы знаем, Лермонтов не имел ни детей, ни «много прислуги», ни ослов, а потому у поэта не могло быть такого рода страданий. Говоря проще, Лермонтов не имел великих мирских благ (да и здоровьем особенно не блистал), потеря которых побудила Иова к мятежу против Бога. Потому поэт лишь «упрекает» Всевышнего за то, что Он «так горько прекословил надеждам <его> юности». К тому же, несмотря на исключительную одарённость, в свои лета поэт не мог (да и не особенно стремился) быть знаменитым. Чего уж тут и на что сетовать?!
Дело, однако, не в славе и не в ослах (на отсутствии которых, впрочем, не буду особенно настаивать), в числе скота или в детях, а в ощущении поэтом своей миссии и личной ответственности в бытии, течение которого он изменить не мог. Потому Лермонтов, как и Иов, ощущая «особое попечение» о себе, жаждет «вестника избавленья», который поведал бы ему «цель упований и страстей». Ибо лишь суд Божий и совести – благовестницы души – признаёт поэт; только им подотчётно всё его существо, – ими пронизаны его произведения. Ощущая на себе таинственное бремя ответственности, но не всегда различая вышнюю волю, Лермонтов в стихотворении «Благодарность» вновь адресует Богу своё разочарование:
За всё, за всё Тебя благодарю я: За тайные мучения страстей, За горечь слёз, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей;Врагов у Лермонтова и в самом деле было немало. Как правило, число их полнилось из ближайшего окружения поэта, что ничуть не противоречит характеру дружеских связей. Ясно ведь, что друзья не бывают врагами: они ими становятся лишь тогда, когда перестают быть друзьями. Это умозаключение подтверждают древние, как мир, людские несовершенства, среди которых, пожалуй, чаще всего заявляют о себе: себялюбие, трусость, жадность, жестокость и, скажем так, недомыслие. Увенчанные мелкостью души, они скучивают из себя некий «кодекс», который назовём «кодексом глупца» или «друзей Иова». Эти-то «друзья», любовно относясь к себе, но не щадя слабостей в других, дают советы и учат, «как жить» для того только, чтобы утвердиться в своих достоинствах, в которых в глубине души они со всеми на то основаниями сомневаются. Но это касается наиболее инициативных из «друзей». Для остальных, при лености и недостаточной склонности к мышлению, самое консервативное мнение всегда будет и самым верным. Подтверждение этому и многому другому находим в древних – клинописных ещё – текстах. Они же, как видим, есть и в Св. Писании.
Впрочем, у Иова несколько иначе. Его друзья не враждуют, не мстят и не клевещут, а многоречиво утешают. Но «утешения» болтливых и полуслепых хуже клевет, потому что в первых нужно ещё разобраться, а последние говорят сами за себя. Вот и жена Иова поучает его в духе «сократовской половины»: «похули Бога, и умри» (2, 9). И всё же несчастья и мрак в головах окружающих не затмили душу ни Иова, ни Лермонтова, ибо они не оскорбляют Бога хулою. Хотя на то были ещё и другие причины.
Стенания Иова, свидетельствуя о человеческой слабости («Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? …Твёрдость ли камней твёрдость моя? и медь ли плоть моя?». 6, 11:12), всё же имели опору в благочестивой мудрости: «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое не будем принимать?» – укоряет он свою «Ксантиппу» (2, 10). Муки Лермонтова, также имея духовную основу, носят иной характер, поскольку они сверхличностны. Исследуя душу человека, с трудом отыскивая или вовсе не находя в ней Образ, поэт в глубоком отчаянии подступает к бездне, у края которой существующая духовно бесформенная жизнь видится ему пустой и глупой шуткой.
Иов в несколько иной ипостаси покушается на дар жизни. В его словах слышится боль души обновлённого человека – того, который знает первородный грех, но не видит себя законным преемником его: «Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков! Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?» (7, 20). Не в состоянии переносить непосильные для человека страдания и несогласный с этим, Иов впадает в тяжёлое отчаяние; в ярости своей он близок к богохульству: «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» (16, 20).
Лермонтов подошёл столь же близко к опасной черте, но не переступает её. Чуждый трусости «истово верующих» монахов, которые в «Мцыри» во время грозы, толпясь при алтаре, «ниц лежали на земле», Лермонтов видит всю нелепость «состязания» с Богом. Его «тяжба с Богом», имея другую почву, носит иной характер. Он вряд ли уподоблял себя библейскому персонажу (вне духовного контекста и идей Ветхого Завета вполне заурядного) и, быть может, даже не думал о нём. Но всё творчество поэта, жаром горящее в «пустыне» Безвременья, вопиёт к Непогрешимому и Всемогущему о человеческой боли – той, которая пронизывает всю бытийную историю.
Потому «Благодарность» Лермонтова – это, скорее, стихотворное свидетельство глубокой горечи в молитве. В духовном плаче оно очерчивает тот «круг», за пределами которого простираются грех, отчаяние и мрак поглощающей душу бездны…
Осознавая это, герои Лермонтова (и здесь, и в ряде других его произведений) успевают остановиться на краю её, как Иов, которого провоцировал тот же Демон.
Застывает перед ней и Лермонтов… За что же ещё поэт «благодарит» Бога?
За жар души, растраченный в пустыне, За всё, чем я обманут в жизни был… Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне Не долго я ещё благодарил. 1840 г.В этих строках сквозит тяжёлая – не по годам, а по «лермонтовскому возрасту» – усталость. Проистекая из самых глубин его духа, она лишала поэта уверенности в том, что он выполнит-таки свою миссию, изначально заданную не им…
Изнемогая от козней непотопляемых «кесарей» царского двора, Лермонтов-офицер тем более не мог противостоять скипетру Николая I, с самого начала царствования превращённого им в армейскую дубину.
В следующем году, уезжая на Кавказ и, очевидно, держа в уме царя земного, Лермонтов, без особого энтузиазма и не очень веря своим надеждам, напишет:
Быть может, за спиной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей.Увы, готовый к битвам с реальным врагом, поэт – жертва «мнений» и мстительности света – обречён был на плановые баталии и случайные стычки с дикими племенами Северного Кавказа.
VII. Совесть и со-вестие в поэтике Лермонтова
Вы тащите к церковному елею
Такого, кто родился меч нести,
А царство отдаёте казнодею [4];
И так ваш след сбивается с пути.
Данте. «Божественная комедия»1
Не питая иллюзий на счёт своей сословной и социальной защищённости, Лермонтов, давно ещё обратившись «в турка», писал «иностранцу»:
Ты знал ли дикий край, под знойными лучами, Где рощи и луга поблёкшие цветут? Где хитрость и беспечность злобе дань несут? …Там рано жизнь тяжка бывает для людей, Там за утехами несётся укоризна, Там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! Этот край… моя отчизна! «Жалобы турка», 1829 г.Пожалуй, нет нужды доказывать, что «турецкие» жалобы Лермонтова имели под собой достаточные основания. Чуть позже Лермонтов в поэме «Последний сын вольности» более чем прозрачно намекает на своих старших современников, которые, по словам Герцена, «разбудили» следующее, безусое, но от этого не менее доблестное и ещё более дерзкое поколение:
Но есть поныне горсть людей В дичи лесов, в дичи степей, — Они, увидев падший гром, Не перестали помышлять В изгнанье дальном и глухом, Как вольность пробудить опять. Отчизны верные сыны Ещё надеждою полны: Так, меж грядами тёмных туч, Сквозь слёзы бури, солнца луч Увеселяет утром взор И золотит туманы гор.В том же 1830 г. Лермонтов в одном из своих незаконченных стихотворений едва ли не прямо обращается с утешениями к сынам отчизны, начавшим терять надежду на вольность:
Сыны снегов, сыны славян, Зачем вы мужеством упали? Зачем?.. Погибнет ваш тиран, Как все тираны погибали!..Пройдут годы после «турецкого плена»; среди «тёмных туч» и пасмурного столичного климата растают надежды на свободу, возмужавший поэт вступит в жизнь… – и не впишется в «уровень», начертанный императорским скипетром. Далее будет изгнание. Для Лермонтова наступят тяготы безысходной зависимости как от сановных, так и от армейских посредственностей. Впоследствии критик А. В. Дружинин напишет о Лермонтове: «Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество».
Вернёмся на минуту к расстановке сил у вершины власти.
Графы К. В. Нессельроде, А. Х. Бенкендорф и иже с ними лишь возглавляли толпу стоящих или неслышно скользящих у трона, за которыми семенил на цыпочках сонм пусть не столь именитых, притязательных и сытых, зато куда более прилипчивых. Словно плесень, они покрывали собой отсыревшие формы и подгнившие кормила власти страны.
Следуя установившейся со времён Петра монаршей традиции привечать иноземцев более, нежели своих, Николай I явно ставил себе в заслугу умение избавлять Отечество от «сомнительных лиц», в особенности если они были российского происхождения. Комплекс неполноценности, присущий Николаю, очевидно, по природе и с лёгкой руки отца (Павла I) закреплённый шомполами сурового воспитателя М. И. Ламсдорфа, заявлял о себе в боязни ярких и талантливых личностей. Причём комплекс этот и неизъяснимый страх побуждали Николая применять «силу», ещё будучи в статусе великого князя и наследника престола, за что подчас получал уроки в духе «шомполов Ламсдорфа». Когда на смотре полка Николай публично осмелился заявить воинскому строю: «Я вас в бараний рог согну», капитан Василий Норов – боевой офицер и кавалер многих наград – потребовал у него сатисфакции. А остальные офицеры лейб-гвардии Егерского полка в знак протеста вышли в отставку. Всю жизнь помня шомпола прусского генерала, а более всего – вызов русской гвардии, царь, как мы помним, с 1825 г. с особым недоверием и подозрительностью относился к элите русской армии. Что касается инако-, а в особенности дерзкомыслящих из светской «гвардии», то царь (вспомним Герцена) незамедлительно объявлял их сумасшедшими или отправлял в ссылку. Таким способом царь избавлялся в том числе и от неугодных ему лично. Среди «сумасшедших» оказался умнейший П. Я. Чаадаев, в числе сбежавших были философ В. С. Печёрин, поэт Н. П. Огарёв и сам Герцен. В числе «дипломатически ссыльных» отмечу лишь А. С. Грибоедова, едва только раскрывшего свой гений драматурга, а среди «просто ссыльных» укажу писателя А. А. Бестужева-Марлинского. Разжалованным же в рядовые «вольнодумцам» из элитных офицеров, сосланным «в солдаты» поэтам из дворян и насмерть запоротым «шомполами Николая» простым солдатам и вовсе несть числа. В частоколе загубленных жизней, судеб и талантов нашлось место и Михаилу Лермонтову – заложнику обстоятельств и ничтожных людей.
Раз уж мы упомянули происхождение власти и пресловутые обстоятельства, вернёмся к поэме «Демон», в которой намертво сплелись интересы «земли» и «неба».
Вскрывая зло «на земле», Лермонтов проводит в поэме проекции к битвам, которые, очевидно, происходят и там. Потому слова Лермонтова: «Он занят небом, не землёй!» – не упрёк Богу, а констатация наиболее важного в истинных над-вселенских реалиях, с которыми здешний мир связан лишь опосредованно (вспомним откровения средневековых мистиков, в лице св. Августина допускавших «параллельное» бытие).
Глубина и неразрешимость проблемы не дают покоя Лермонтову, тяготят его, но он вновь и вновь возвращается к ней. На протяжении всей своей жизни поэт пытается приблизиться к её духовному пониманию. Именно в этом контексте глубина страданий Демона сродни состоянию души автора поэмы.
Из всего следует, что попытки Лермонтова «примирить» Демона с Богом есть не что иное, как аллегорическая форма (или поиск решения) духовного запустения здесь – в этом мире. И не случайно завершение поэмы совпадает с началом её.
Круг пройден! Лермонтов – мистик, исследователь и создатель поэмы – бессилен перед диалектикой мира, не им заданного. Демон, страдающий конечной бесполезностью своего внеисторического бытия – и в этом смысле родственный мукам автора, – тяжело расшибается о «камни» космической диалектики. Но то – Демон. Лермонтов не оставляет попыток постигнуть смысл нарушенной некогда гармонии «венца творения». Всего лишь тень от бескомпромиссной битвы «сынов небес» пала на чело Поэта; именно он оказался в числе избранных, могущих прочувствовать и приблизиться к пониманию, но не разгадать смысл Зла. Ибо обречённое на поражение, оно им не исчерпывалось… Мечты «духа изгнанья», как во зле, так и в попытках творить добро (не зря он в своей клятве упоминает «вечной правды торжество»), были безумны изначально, ибо нельзя проникнуться добротой и любовью, оставаясь Демоном – надменным и гордым. А потому всё закономерно приходит к известному нам трагическому финалу…
Духовная субстанция Поэта, витая между теряющимся в вечности «первым днём творенья» и «его последним днём» (нигде не отмеченным сроком Судного Дня), не могла провидеть всего плана (Бога), в ипостаси времени «зажатого» человеком в вековые, годичные и часовые исчисления. Тварный человек (т. е. уже созданный) не завершил ещё свою эволюцию в пределах заданной ему природы, которая меряется наиболее выдающимися носителями духовного начала и в которых ярче, нежели в других, вспыхивают искры Божественного плана. Трагическая незавершённость лучшего в тварном мире и обусловила некоторые «неясности» поэмы.
Случившаяся ограниченность природы человека, в которой духовному началу активно противится телесная его ипостась, очевидно и мешала Лермонтову «пробиться» к материям тончайшего мира. Многое постигнув, сумев лицезреть землю «в сиянье голубом», душа поэта всё же витала где-то под распростёршимся над землёй высоким «куполом» мироздания.
Невольно возникает вопрос: уж не близкое ли освобождение от довлеющей «материи» даёт возможность человеческой субстанции ощутить нечто, доселе неведомое?! Может, именно это прочёл на лице Александра Пушкина В. А. Жуковский?! Как известно, находясь у смертного ложа Пушкина, Василий Андреевич поражён был тем, что в первые минуты после смерти поэта по лицу его разливалась «какая-то глубокая удивительная мысль… какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание… выражение величественной торжественной мысли…»
В одном месте Лермонтов проговаривается как будто о том же.
Весьма вольно переведя стихотворение Генриха Гейне «Они любили друг друга…» (1841), Лермонтов с каждым поэтическим «шагом» отходит от первоисточника, в котором ему явно было тесно[35]. У Гейне влюблённые умирают, но, в полном согласии с романтической традицией, автор тешит души любящих «встречей» за гробом; «там» – среди райских кущ, роз, пения соловьёв и ангелов (атрибутика символов такого типа типична для лирики Гейне), они, теперь уже вечно молодые, счастливо решат свои, не разрешённые на земле коллизии.
У Лермонтова соловьёв и роз нет и в помине. Повествуя о трагической разлуке влюблённых, он создаёт неочевидные, эфемерные образы:
Они любили друг друга так долго и нежно, С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной! Но, как враги, избегали признанья и встречи, И были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страданье И милый образ во сне лишь порою видали. И смерть пришла: наступило за гробом свиданье… Но в мире новом друг друга они не узнали.Тема гибели личного «я» или бессмертия в безличности не только интересовала, но и волновала поэта. Всегда. «В сырую землю буду я зарыт, / Мой дух утонет в бездне безконечной» (1830), – отчаивается он не только в стихах, но и в письмах.
Ощущение «того» мира чем-то связывает поэтические лики Лермонтова с образами «Божественной комедии» Данте. Они и вовсе были бы сродни «жизни» царства теней, если бы итальянский поэт не придавал каждой встречаемой «там» душе физическую узнаваемость. У Лермонтова душа, покинув тело и вместе с ней личность, как будто остаётся в сущности умершего, которая тонка и неощутима, ибо принадлежит другой Субстанции – бестелесной, существующей в ином пространстве и времени…
Лишённые личности, души у Лермонтова при встрече потому не узнают друг друга, что принадлежат миру иного измерения. Их не могут заботить прежние привязки – они попросту «не помнят» о них. Там, где не существует «размеренного» людьми времени, где оно другое, потому что вечно, не может быть участвующих в нём – во всех отношениях временных – персон, лишённых или наделённых (это никому неведомо) личным бессмертием… Но то – «там»… – «здесь» же противостояние высокого и низкого, великого духа и заурядности обусловило трагизм «личных» противоречий Лермонтова. Их усугубило окружение поэта – вялое духовной памятью и суетное в своих стремлениях.
Но как великая поэма Лермонтова (о творчестве в целом речь уже шла) соотносится с христианским мировоззрением и с православием в частности?
Опираясь лишь на канонические «буквы», в отношении последнего можно сказать, что… не очень соотносится, – и закрыть тему (или по-редакторски – бросить её «в корзину»). Но не всё так просто. Как в отношении поэмы «Демон», так и ряда схожих по настрою произведений.
Мы уже говорили, что иные произведения Лермонтова настолько лучезарны, духовно светлы и смиренномудры, словно писаны в состоянии духовной аскезы, не противореча ни духу христианства, ни его догматам.
Потому веришь: достигнув глубочайшего (доступного лишь духовным подвижникам и истинным ратникам духа) внутреннего уединения и освободив себя от внешних привязок, поэт, прикоснувшись к неведомому, умел ощутить подлинную реальность.
О проникновении поэта в духовную реальность в числе других говорит его «Молитва». Наполненная смирением могучего бойца, а не «смирного» пораженца, она пронизана тем религиозным чувством, сообразно которому «Матерь Божия» приносит мир в душу человека. Случайными подобные позывы быть не могут! Впрочем, и здесь постараемся оставаться беспристрастными.
Исследователь творчества поэта Нестор Котляревский, довольно верно выразив весьма не простой характер молитвенного душенастроения поэта, более точно определил направленность воинского духа Лермонтова: «Молитва не могла стать конечным выводом его мировоззрения; он искал в ней лишь отдыха от минувших тревог в ожидании бурь грядущих»[36]. Сергей Шувалов более категоричен: «Христианство, понимаемое как религия смирения, отречения человека от своей индивидуальности, не могло быть принято Лермонтовым: слишком сильно было развито в нём чувство личности, слишком много “мятежного элемента” лежало в основе его натуры». И далее: «Взгляды поэта на божество далеки от христианского понимания: у него Бог – Творец мира и Судья (часто грозный и неумолимый), а не Бесконечная Любовь. Признать сущностью божества любовь Лермонтов не мог, так как этому мешало существование зла в мире; Бог, создавший, непонятно зачем, горе и страдания и заставивший людей испытывать их, не может быть бесконечно добрым, благим, – и действительно, поэт нигде не говорит о благости как свойстве божества; христианское представление – “Бог есть любовь” – осталось чуждым поэту». «Божество, смирившееся до принятия человеческой природы, было непонятно поэту, который страдал в тисках этой самой природы, Богочеловек не мог привлекать внимание того, кто был, по словам Влад. Соловьева, сверхчеловеком, идейным родоначальником ницшеанства»[37].
Лермонтов и в самом деле не мог и не воспринимал «переложение Бога» в христианство в той части, где оно было «религией рабов». Очевидно, ещё и потому, что оно являлось таковым для тех, кто был рабом (психологическим ли, по «смиренному» своему установлению, либо по усмотрению духовных наставников) до христианского вероисповедания. То есть кто «естественно» вписался в него по своему рождению, в силу локальной традиции и ряду других причин. Таким образом, жизнь сама определяла Рубикон: кто мог и искал в жизни дело, тот находил его, а кто подавлял в себе личность или вовсе не был ею, тот «богобоязненно» участвовал в торжестве неправды в силу «смиренного» непротивления злу в мире. Поскольку проблема «Лермонтова в христианстве» таки существует, есть смысл вернуться к ней под несколько иным углом зрения. Религиозность Лермонтова, явленная со всей очевидностью в Слове, понуждает понять её проявления через Слово же. Но и здесь нас подстерегают немалые трудности. При «теоретическом любопытстве» относительно религиозности великого человека (в данном случае Михаила Лермонтова), полагаю особенно важным обращать внимание на духовно-нравственное содержание его творчества. Так как, являя себя не «на небеси», а в здешней жизни, оно реагирует на неизбежные в обществе, а потому жизненно важные требования этой жизни. Если же занять противоположную позицию, то придётся отправить «на костёр» или на слом львиную долю великих произведений литературы, искусства и архитектуры, а заодно отказаться и от самой жизни… Всё это, как мы знаем, в истории уже было и есть не что иное, как проявление варварства и ненависти к человеку, выраженное в форме уродливого «приятия» Бога.
2
Итак, знание поэтом характера и души народа обязывает нас рассмотреть духовные и исторические аспекты исповедуемого им православия. Обязывает потому ещё, что личности (а лучше – сущности) ранга Лермонтова в своих духовных посылах и творческой направленности нередко выходят далеко за пределы конфессионального прочтения канонических текстов.
Вообще говоря, такого рода прочтения являются следствием исторической привязанности народа к своим традициям и культуре. Опираясь на своё ощущение исторического бытия, народ создаёт свой «язык» общения с Богом. Таким образом, духовный и культурный феномен (любого) народа является опосредованным «переводчиком» Св. Писания, как и священных книг в принципе. В этом историческом феномене, имеющем глубинный характер, заявляет о себе эффект духовной диффузии, которая выражается во взаимном проникновении «духовных основ» народа и собственно религии. И что здесь является содержанием, а что формой – не всегда ясно, ибо «победившая» сторона является и побеждённой. Так как «обе стороны» вынуждены считаться с тем, что дало жизнь народу и сформировало из него исторически перспективную (или мало-перспективную) нацию. Формируя восприятие христианства на свой лад, именно эта жизнеутверждающая основа создаёт «тоже христианские» религии, которые, ввиду этнокультурных особенностей и форм исторического развития, находят нетождественное им и попросту малое понимание среди других народов – носителей иного духовного, культурного и цивилизационного кода. Но и эти же своеобразия, ввиду их очевидного духовного и этического «пристрастия», зачастую не находят понимания как среди гениев, так и «просто» одарённых свыше людей. Иначе говоря – среди наделённых вышним пониманием сути вещей. Между тем именно «единицы духа» и «частицы истории» способны прозревать в недрах духовной реальности то, что порой недоступно и богословам, не говоря уже о рядовых апологетах христианства.
Для более полного уяснения духовности и творчества поэта «в рамках» православия отвлечёмся от непосредственно литературы и вернёмся к рассмотренному уже в первой главе состоянию православного сознания России XVII–XIX вв., вне чего бессмысленны всякие умозаключения на этот счёт. Ибо лишь по уяснению реального положения дел станет возможным прочтение духовных сокровений поэта и, беря шире, русской литературы.
Как мы помним, в середине XVII в. Россию поразил Раскол, который не только внёс разлад в душу и ум народа, но и изменил перспективы исторического развития страны. Чудовищная по своим духовным и культурным последствиям борьба с «раскольниками» (коими на самом деле были Никон и его последователи) обусловила исход наиболее твёрдых исповедников «старой» веры.
Только при Петре I по всему миру рассеялось более 900 000 жертв духовной и физической тирании! Не пожелав предать старую веру и тем самым изменить отеческим святыням, они стояли перед нехитрым выбором: казнь, увечье, каторга или отвержение от всех гражданских прав. Наряду с устранением из гражданской жизни «раскольников» уничтожались и «письмена языческие», бывшие таковыми уже потому, что принадлежали «старой» вере.
Знал ли Лермонтов о формах и средствах жесточайшей борьбы синодского православия со староверами? И если знал, то как это повлияло на его мировоззрение и отразилось в творчестве?
Ответ очевиден: Лермонтов не мог не знать того, что творилось в России уже более полутораста лет и в наиболее отвратительных формах усилилось именно в правление наиболее жестокого «борца с Расколом», Николая I. Лермонтов мог не знать «деталей» – числа казнённых, запытанных до смерти, изувеченных, сосланных на каторгу и замученных «на свободе» старообрядцев, как и количества покинувших Россию, но не мог заблуждаться относительно трагических следствий Раскола. Зная суть дела, Лермонтов вряд ли мог остаться равнодушным к тому, что изменило духовное существо народа и судьбу России (схожий интерес к судьбе страны наблюдался у Александра Пушкина, о чём свидетельствует его намерение дать панораму реальных исторических событий, потрясших Россию в конце XVII – начале XVIII в.)[38].
Сейчас весьма трудно, если вообще возможно, определить подлинное отношение наших поэтов к «двоеперстной вере» и её несгибаемым последователям, но интерес к теме у Пушкина и Лермонтова, несомненно, был. У Лермонтова об этом свидетельствуют, в частности, «Песня про купца Калашникова» (1837), в которой особенно красочно заявляет о себе глубокое знание автором души народа, народного быта, языка и нравов. Может, именно поэтому дивное произведение было сотворено, как «песня», – на одном дыхании. Ибо, по словам Лермонтова, поэма была написана им в три дня (!), когда по болезни он не мог выходить из дому.
Виссарион Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1840) писал о поэме: «…поэт от настоящего мира неудовлетворяющей его русской жизни перенёсся в её историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился с ним всем существом своим». И повторяет: «Самый выбор этого предмета свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современной действительностью и перенёсшегося от неё в далёкое прошедшее, чтобы там искать жизни, которой он не видит в настоящем». Но «русская жизнь» (читай – духовная жизнь), о которой лишь обмолвился Белинский, имеет не только политические и социальные формы, критиковать которые в России при Николае было совершенно невозможно. Главной проблемой страны было затянувшееся в истории духовное небытие народа, о чём критик вообще не особенно распространялся, а в данном случае по понятным причинам не смел писать. Надо думать, именно знание тайников духа народа, подмеченное Белинским, позволило Лермонтову выразить благодать веры главного героя поэмы, олицетворив в нём несокрушимую силу духа и богатырскую удаль народа. Оно же помогло поэту избежать субъективного, этически неверного и исторически безответственного отождествления народа лишь с позитивным, духовным и нравственно прекрасным. Ибо народ – особенно во времена духовных смут – бывает ещё злонамерен и подл, что подтверждает та же история – и не только России. Лермонтов мыслил категориями, которые помогали ему проникать в глубинные пласты народного бытия, приближая его понимание к истинному. И не случайно в той же статье Белинский отмечает разницу между духом народным и духовной автономией автора, посредством художественного Слова вовлечённого в «царство народности»: Лермонтов «вошёл в царство народности как её полный властелин, и, проникнувшись её духом, слившись с нею, он показал только своё родство с нею, а не тождество… показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества».
В поэме Лермонтова налицо духовное и нравственное противостояние; восстание чести против бесчестия и нравственного (применительно к теме – конфессионального) разложения, олицетворённого в гуляке-опричнике. «Он вышел из-под опеки естественной нравственности своего общества, а другой, более высшей, более человеческой, не приобрёл: такой разврат, такая безнравственность в человеке с сильной натурою и дикими страстями опасны и страшны», – писал о беспутном Кирибеевиче Белинский.
Не менее очевидно и то, что духовному величию и нравственной победе правого дела сопутствует метафизическое (в бытии – историческое) его поражение, ибо «дело» разнузданной опричнины «на Руси» осталось жить…
Возмездие свершилось! Не зная истинных причин смертного боя, царь в гневе обращается к купцу Калашникову: «Вольной волею или нехотя / Ты убил насмерть мово верного слугу / Мово лучшего бойца Кирибеевича?» Купец отвечает, но тайный по смыслу ответ его автор адресует не только Ивану Грозному, но и (не без вызова и упрёка) своему времени. «Я скажу тебе, православный царь…», – говорит оскорблённый муж, создавая «треугольник» из личности, царя и веры, в котором вера личности формально терпит поражение с неправославным по духу царём.
Здесь отвлекусь от диалога и напомню, что особенно в те времена заезжих иностранцев поражала беспрецедентная сила духа и веры русского народа. Именно тогда «время» и вера содержали в себе ту нравственность и те «железные ноги», на которых стояло православие. Именно духовная воля долго ещё – и не однажды – шла наперекор власти, правительству и самому царю. Вот и Кирибеевич боязно склоняется перед «правдой истинной», исповедуясь грозному царю в том, что соблазнённая им красавица «В церкви Божией перевенчана, / Перевенчана с молодым купцом / По закону нашему христианскому». В отличие от опричника купец Степан Парамонович не просто стоек в вере, но готов биться насмерть за поругание брака, заключённого «пред святыми иконами». Потому, идя на смертный бой с преступившим веру, завещает он меньшим братьям свою последнюю волю: «Буду насмерть биться, до последних сил; / А побьёт меня – выходите вы / За святую правду-матушку». Поскольку нравственность в понимании Лермонтова есть инструмент добра, отточенный совестью!
Как известно, духовные установления, святость и правда на Руси при «старой» вере были синонимами. Это единство правд и дало название древнему памятнику славянского права – «Русская правда». Оставаясь верным ей, купец и после поединка не пасует перед царём; он готов предстать со своей правдой на суде Божием: «Я убил его вольной волею, / А за что про что – не скажу тебе, / Скажу только Богу Единому»[39]. В поэме сюжет и самый дух её являют именно тот язык и те нравы, которые были присущи православию, не разделённому «затейками» Никона; то есть мощному пласту древней веры, в той или иной форме продолжающей жить в народе и по сию пору.
Сумма особенностей внутреннего мира купца позволяет думать, что не только по времени, но и по своему духу «Песня…» есть поэмагимн истине в вере! В поэме исключительно сильно явлены «старые» морально-нравственные установления и мощь противостояния даже и государственной (в лице царя) власти, коли она не права…
Отношение Лермонтова к вверенным Синоду поместным епархиям опосредованно прослеживается и в его неоконченном романе «Вадим» (1833–1834).
«Меня взяли в монастырь, – говорит Вадим, – из сострадания – кормили, потому что я был не собака и нельзя было меня утопить (здесь и далее выделено мною. – В. С.)». О духовной жестокости и ограниченности монахов свидетельствуют признания Вадима: «Они заставляли меня благодарить Бога за моё безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов…». «…Все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рождения или старости, не способные ни к чему, кроме соблюдения постов…». А вот сцена из церковной службы: «…Он (Вадим. – В. С.) поспешно взошёл в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную, – эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче! и они, крестясь и кланяясь в землю, подталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте; но не смели…». В другом месте Вадим, очевидно, не хуже Мцыри знавший будни монастыря, в грозном отчаянии заявляет своей сестре Ольге: «Не говори мне про бога!.. Он меня не знает; он не захочет у меня вырвать обречённую жертву – ему всё равно…»[40]. Его сестра, пылая гневом и жаждой мести к погубившему их отца помещику Палицыну, не только отвечает настроениям Вадима в ипостаси вожака, но, призывая себе на помощь святые таинства, считает вправе в борьбе со злом прибегать к силе человеческой: «Клянусь этим Богом, который сделал нас несчастными, клянусь Его святыми таинствами, его крестом спасительным, – во всём, во всём тебе повиноваться – я знаю, Вадим, твой удар не будет слаб и неверен…»
Мы уже говорили, что герои художественного произведения не обязательно являются рупорами идей автора, поскольку ткань вольного повествования составляет интерферентную связь многих мотивов, в которых сокрыта (иногда весьма глубоко) мысль автора, его ощущение истины и его истинные ощущения. Однако в приводимых отрывках родство мышления героев и автора подтверждает линейная, не подверженная каким-либо сомнениям передача их умонастроений. Эта связь подтверждается и более поздними произведениями Лермонтова, которые объединяет мотив бегства. Сначала Вадим, потом Мцыри бегут (первый условно, а второй непосредственно) из монастыря, значение которого имеет двоякий смысл. Если в церковной трактовке он олицетворяет собой прибежище духовного братства, не приемлющего ценностей мира (что, впрочем, не является гарантом духовного продвижения, о чём, помимо художественного вымысла, есть немало свидетельств в монастырской истории), то в литературном значении и в светском обиходе – это нередко тюрьма, в коей заточается дух непокорства и свободолюбия. Если Вадим, покинув монастырь, с сарказмом заявляет: «Я… любовался на тюрьму свою; она издали была прекрасна!», то Мцыри уже не любуется «тюрьмой». После неудавшегося бегства возвращённый в «неё», он с гордым отчаянием заявляет старику: «…жизнь моя / Без этих трёх блаженных дней / Была б печальней и мрачней / Бессильной старости твоей».
Итак, монастырь в сознании поэта, мягко говоря, не был средоточием духовных упований. Если расширить вопрос до православного бытия России, то примем во внимание, что Лермонтов не был церковным историком. Следовательно, не мог знать тонкостей духовного Раскола, история которого в то время не была ни исследована, ни написана, а события и факты бесправной жизни староверов передавались в официальных заключениях (как тогда, так, впрочем, и сейчас) очень предвзято. Что уж говорить об истории Раскола, если даже история Российского государства была написана Н. М. Карамзиным лишь в начале XIX в. Лермонтов вряд ли обладал неписаными, т. е. рукописными источниками Раскола, а потому, настойчиво обращаясь к узловым моментам истории Отечества, исходил из собственного ощущения эпохи. К этому поэта понуждало двойственное положение, как Русской Церкви, так и православного народа. Не располагая к оптимизму, оно давало повод к отчаянию и скепсису. И не только Лермонтову…
И в самом деле, утеряв свою независимость к концу XVII в. и с начала следующего став в ряд казённых учреждений, Священный Синод одно время возглавляли не только атеисты, но и масоны, – пусть безвредного, полезно-просветительского или попросту «карманного» типа[41]. Пример Византии никого из русских монархов ничему не научил. Путая Богово с Кесаревым, они включили Церковь в тело государства и тем самым приняли на себя не свои функции. В результате внешняя «христолюбивая» политика России приняла формы, подчас несовместимые с интересами государства. Так было при императорах Павле I, Александре I, Николае I; те же плевела «политики примирения» разбрасывал Александр II (1855–1881), за «пирровы (для России) победы» прозванный в Европе Освободителем. Если в гражданской и общественной жизни религиозное и светское мировоззрение отнюдь не всегда противостоит (а могут и вовсе не противоречить друг другу), то в политике разница между духовным мировосприятием и требованиями необходимости являет себя наиболее чётко (Доп. VII). Она же, принципиально заявляя о себе в общественной жизни, находит своё отражение и в творчестве. Поскольку всё это так или иначе перекликается с исторической и духовной жизнью Страны, проследим различия между церковно-монашеским (монастырским) и светским бытиём.
Самые ревностные адепты православной веры вряд ли будут оспаривать тезис, в соответствии с которым назначение земной Церкви состоит в необходимости указывать направление в Царство истины. А раз так, то не указующий перст должен привлекать внимание, – а именно направление, куда он указывает. Если же «перст» настаивает на себе как на некоей самости, тогда из сознания вымывается представление о самой цели, что и ложно и кощунственно. А так как свято место пусто не бывает, то цель в этом случае заменяется средствами. По этому поводу полезно принять к сведению афоризм Козьмы Пруткова: «Многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».
Но заблуждения, как и фанатизм и сектантство, никогда не существуют изолированно. Наиболее распространённые из них, уча тому, что дела человеческие должны подчиняться заботе о душе (что весьма ценно даже и помимо идеи спасения души), очерчивают «духовным скипетром» границы «спасения» таким образом, что они не выходят за пределы церковного обихода. В соответствии с подобными «начертаниями» православный человек, пребывая в подчас изолированном от жизни церковно-приходском «мире» и следуя установлениям и предписаниям поместной церкви, не должен поднимать свою голову выше «уровня» церковной ограды. В подобном ограждённом сознании реальный мир, представляемый как полный антагонист духовного, является неким вместилищем «мирского зла»; мир этот нужно отвергать, по возможности порывая контакты с ним… Мы уже говорили о том, что сектантство внутреннего плана, взращённое ложными «духовными окормлениями», переходит в социальное бытие и через устранение «гордыни» честолюбия убивает в человеке волю «к этой» жизни. Именно такого рода «вера» чревата разрушением прежде всего духовных, а потом уже и социальных устоев общества, исторического бытия страны и в конечном итоге – самого государства!
Лермонтов не мог и не принимал веры в такой форме. Его убеждению было противно изъятое из мира и общества существование. В идеале могущее питать душу и совесть немногих (келейных отшельников и условных монастырских святых), оно не действенно, да и не предназначено для тех, кто родился для воли, а не для монастырской «тюрьмы». Исключения не могут и не должны быть правилом для всех. Сам по себе институт отшельничества далеко не бесспорен. По факту узкий и немногочисленный, он, расширяясь в сознании народа, критической массовостью своей способен создать «миры» изолированные и духовно выхолощенные, плодящие псевдодуховность, не имеющую никакого отношения к спасению кого бы и чего бы то ни было. Словом, возведённое в стиль и принцип жизни, «праведное невежество» напрочь исключает органичную связь духовного и материального мира. Лермонтов, не принимая внешней, обрядовой религиозности, если она не была проникнута искренним религиозным чувством, восставал против такового положения вещей. Благо, что личный опыт у него был. В юности ещё, посещая с бабушкой церковь, он наблюдал подобные «служения Богу». Очевидно, именно их он не без сожаления описал в «Вадиме».
3
Итак, Лермонтов знал, что такого рода «спасение души» заканчивается там же, где начинается. Где же искать причины этих, как оказалось, духовно-исторических противоречий? Суровые требования действительности вносили (или должны были вносить) свои коррективы в мировидение политиков и монархов. Как то показывает политическая история государств: если бытие народа не отвечает нуждам страны – его разрушают бунты и восстания. Примеры вхождения во власть православных аскетов Византийской империи и особенно трагические результаты пользования ими властью подтверждают: религиозное мироотношение условно действенно и (ещё более условно) безгрешно до тех пор, пока не выходит «на свет Божий», то есть за пределы монастырских стен и конфессиональных интересов. Впрочем, обилие условностей не исключает разногласий и взаимную вражду в том числе – цитирую поэта – и «в обители святой». Когда же духовенство начинало учить «мир» тому, к чему не имело ни прямого отношения, ни призвания, и о чём (на это тоже укажем) не имело в рамках мирских категорий правильного понятия, или когда цесарская власть сама склоняла свою выю пред духовной властью, тогда мир полнили сумятицы духовного и бытийного плана. Тогда и государство, потеряв реальную (то бишь – земную) точку опоры, шло и к политическому развалу, и социальному хаосу. Духовный опыт Византии, никогда особо не тяготевшей к разрешению мирских проблем, подтверждает это. Этот опыт, казалось, по достоинству должна была оценить духовно близкая Византии Российская империя. Этого, однако, не произошло…
Бурной смене эпох, как правило, предшествуют духовные смятения и падение нравов, чему почти всегда сопутствует ломка традиций. Вследствие этого меняется пульс жизни всей страны, что приводит к резкому изменению уклада жизни населяющих её народов.
Отрицание православия, каким оно было до проклятий его на соборах 1666–1667 гг., вывернуло наизнанку душу народа. Потому в новой пост-никоновской реальности удалой купец Калашников вполне мог принять участие в пугачёвском бунте под началом какого-нибудь духовно озлобленного Вадима. Но не только «случайная» неприкаянная удаль лихих молодцов и «духовных горбунов» может сбить людей с исповедного пути. В массе своей отнюдь не состоящий из героев и праведников народ, устав от духовного гнёта и ущемления жизненно важного для него родового уклада, сам способен к «лихой» инициативе. И тогда потерявший веру и «царя в голове», взявшись за вилы, народ не всегда в состоянии отличить правого от виноватого! Так оно случалось в России довольно часто, так оно произошло и в дальнейшем…
Неоднократно преданный русский народ с середины XVII в. оказался на духовном распутье и в историческом итоге (имея в виду события в России начала XX в.) отказал в доверии обоим властям – и светской, и церковной. Отсюда та «лёгкость», с которой он при большевиках крушил храмы, не особенно щадя священнослужителей и, понятно, дворянское сословие. Этого следовало ожидать потому, что духовно-историческая твердыня России на протяжении веков приравнивалась к инаковерию, а следование исконному древнерусскому православию означало преступную ересь, которая подавлялась самыми жестокими методами! В этих реалиях купцы Калашниковы, участвуя ли в бунтах, занимаясь ли делом или с головой уходя в добротолюбие, были маргиналами в собственной стране, а внецерковные Мцыри становились агрессивными разночинцами и нигилистами. Ко второй половине XIX в. именно «мцыри», сбросив узы морали и нравственности, оказывались Смердяковыми и Свидригайловыми, а духовные дети их воплотились в социальных бандитов и революционеров. Однако церковные иерархи не желали ни видеть вещи в реальном свете, ни называть их своими именами. Закрепляясь в духовной жизни России, они осуждали едва ли не всякую активность в миру, распознавая в ней дерзость, самонадеянность и «мирскую гордыню». К греху причислялось едва ли не всё, что не вмещалось в духовно разлинованное, социально отмерянное, государственно адаптированное, но при этом исторически недавнее православие. Особенно нетерпимо клир относился к тем, кто, исповедуя православие, не гнулся пред
Церковью как учреждением. Такого рода «еретики» – как «старые», так и новые – по николаевским законам[42] оказались на положении нелегалов. В буквальном смысле, будучи вне закона, они никак не могли рассчитывать на благорасположение духовных и светских владык. Но не искала его ни многомиллионная народная масса России, ни отдельные «удалые купцы». Не падал ниц пред владыками и Лермонтов.
Но какое отношение имел поэт к «запредельным» социальным и политическим инсинуациям и… к староверам-скитникам? И причём здесь, собственно, литература?
А притом, что художественное Слово является одной из важнейших составляющих не только культурного, но и духовного бытия народа, создающего страну и существующего в государстве. В этом качестве участвуя в формировании мировосприятия, оно в духовно-нравственной ипостаси выполняет высокое призвание, говоря словами А. Пушкина, «глаголом жечь сердца людей». С Пушкиным солидарен был поэт и выдающийся переводчик Николай Гнедич: «Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом».
А раз так, то литература имеет прямое и непосредственное отношение к духовному и, уж конечно, ко всему «мирскому» в жизни человека и общества. Потому что государство (если не слишком мудрствовать в его определении) есть совокупность духовного и социального устроения сего мира, а литература в художественной форме отражает бытие народа в этом устроении.
Следовательно, литература прямо участвует в делах не только культурного, социального и политического, но и духовного бытия народа. «Литература у народа, не имеющего политической свободы, единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести», – писал Герцен, акцентируя своё внимание на важности социального и политического аспекта гражданской жизни.
Таким образом, ставя духовные и политические задачи на своём уровне, литература решает их своими специфическими средствами. Потому теснить или сталкивать литературное Слово с патристикой, требуя от первого тождеств, сродни евангельским, столь же нелепо, сколь уравнивать молитву с поединком.
Всякому своё дело: монаху – благословлять священный бой, воину – участвовать в нём!
Итак, религиозность Лермонтова вряд ли имеет ярко выраженное «конфессиональное лицо». Вместе с тем, его любовь к Отчизне не могла существовать раздельно от веры предков, выраженной православием.
Не явленная в общении с людьми, по существу, предавшими веру отцов, вера поэта со всей очевидностью явила себя в образе купца Калашникова. По-староверчески духовно непреклонный, именно он вышел моральным победителем в битве с реальным злом.
По убеждениям и занимаемой позиции в жизни Лермонтов был нетерпим ко лжи «мира сего» и беспощаден к злу его. Как писатель и философ, он в русской литературе задолго до Достоевского – и весьма глубоко! – ощутил опасность зла не только как такового, но в прямой связи с настоящим и будущим Отечества, а это означает – исторического зла. Существуя в духовном измерении, подчиняющем в нём всё личностное, Лермонтов воспринимал свою эпоху как решающую в битве страны не на жизнь, а на смерть. Жизнь Отечества поэт воспринимал как поле, на котором он должен был найти свою сторону… Выбор этот поэт сделал, как и определил средства борьбы. Лермонтов знал, когда «стяжать мир», а когда становиться под стяги праведного воинства. В своей внутренней жизни неразрывный с Первоисточником, он своим «внешним» существом принадлежал отечественной истории, поэтому понимал: не может придавать духовную силу то, что разоружает сознание! В своём роде Лермонтов был духовным чадом устроителя земли русской Сергия Радонежского. Преподобные «старой» Руси, разнясь по стилю и степени участия в жизни народа с последующими (синодальными) святыми, находились на флангах того духовного воинства, которое билось за правду в миру и Отечестве. Иначе говоря, – участвовали в духовном и земном деле. «Дух мирен», Слово поэта и бич, разящий ростовщиков на ступенях храма, не противоречат, а дополняют друг друга, каждый по-своему излечивая тех, кто способен к оздоровлению. Последнее, очевидно, касалось не всех… «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые», потому «всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь», – гласит Евангелие (Мф. 7:18–19).
Слово Лермонтова побуждало к делам тех, кому нужен был лишь толчок, и обжигало жаром калёного стиха тех, кто того заслуживал! В отличие от песнопевцев и актёрствующих бардов не сладость пустых переживаний нёс Лермонтов. Размахивать мечом картонным был удел других – тех, кого чуть позднее нещадно клеймил Фёдор Тютчев. С горечью наблюдая «мир в петличках», коим была «петербургская Россия», униженно расшаркивающаяся пред всяким движением Европы, Тютчев – поэт и гражданин – ясно выражал то, о чём думал и что знал Лермонтов.
Наблюдая духовный закат Запада и не имея повода для восторгов относительно своего Отечества, Лермонтов видел свою миссию в духовном подвиге сродни ратному. Потому он обращался к «небу» не как раб Божий, а как Творение Его. «Никто так прямо не говорил с небесным сводом, как Лермонтов, никто с таким величием не созерцал эту голубую бездну», – писал С. Андреевский.
И в этом смысле творчество Лермонтова религиозно более, нежели тексты многих выдающихся духовных и светских писателей. Вместе с тем Лермонтов не был и не претендовал на роль духовного поводыря – это удел иной категории людей. Воспринимая картину мира в связях духовной и бытийной истории, Лермонтов видел своё участие именно в таком диапазоне. На этом подчас незримом поле битвы наиболее действенным оружием ему служил «железный стих», которым он нещадно бичевал торгующих совестью, а в другом помощником ему был Глагол метафорического Пророка. История впоследствии не раз подтвердила гражданскую бескомпромиссность Лермонтова, так и не смирившегося с духовной неволей и унижениями своего народа.
Как конкретно на фоне этих реалий выглядит религиозность великого поэта, и что, собственно, является религиозностью в творчестве?
Главнейшим свидетельством религиозного содержания, пожалуй, следует признать духовную сопричастность к созиданию, которое не может реализоваться вне развитого сознания и нравственно ведомой свободной воли человека.
Условный «раб Божий» (не будем пока придираться к этой во многих отношениях ущербной формуле Богопочитания) не есть раб по натуре. Рабское сознание может быть религиозным, но никогда – духовным. Поскольку оно не в состоянии осознать Бога непрестанно пребывает в тенетах мелкодушия и трусости. Облачившись в «вериги» сомнения в человеке вообще и в себе, в частности, оно, отмеченное печатью фанатизма, нередко вырождается в сектантство. Но и высокое сознание есть лишь условие для вышнего осознавания. И если духовным оно является, когда мораль человека и его нравственность подчинены вестнице души – совести, то религиозным оно может быть, если со-вестие это подчинено некой цельности, незримо стоящей над всем.
Сходные процессы наблюдаются в творчестве. Религиозность автора проявляет себя не внешне, не религиозными атрибутами, но лишь, когда душа его в процессе духовного действа становится живой тканью неугасимого и вечного. Ценность духовности в «чистом» виде состоит в том, что она надличностна и в этом смысле анонимна, поскольку личное и авторское в ней растворяется в чём-то большем и куда более значительном, принадлежащем не одному только автору. В этой кульминации духа, творчество, наполняясь религиозным содержанием, становится религиозным. «Под религиозным содержанием искусства, – писал Лев Толстой, – я разумею не внешнее поучение в художественной форме каким-либо религиозным истинам и не аллегорическое изображение этих истин, а определённое, соответствующее высшему в данное время религиозному пониманию, мировоззрение, которое, служа побудительной причиной сочинения драмы, бессознательно для автора проникает всё его произведение». Но участвовать в этом таинстве, продолжает свою мысль писатель, «может только тот, кому есть, что сказать людям, и сказать нечто весьма важное для них: об отношении человека к Богу, к миру, ко всему вечному, бесконечному». В этом смысле творчество Михаила Лермонтова истинно религиозно. Но, натыкаясь на реалии, несовместимые и несопоставимые с духовными категориями, Лермонтов прибегал к пылающему огнём «глаголу», единственно, по его мнению, способному выжечь коросту мелкодушия и пробудить спящую совесть. Наделённый беспрецедентной одарённостью, с юности зрелый поэт как никто остро чувствовал (прибегну к уместной здесь мысли Вл. Ходасевича) «роковую связь человека с художником, личной участи с судьбой творчества». Веря в предначертанное и поверяя здешнее бытие вышним, Лермонтов был непримирим со злом в его бытийной ипостаси. Будучи дворянином и профессиональным воином (и в этом качестве проявляя исключительную храбрость), поэт принадлежал к числу людей, чьи честь и достоинство соответствовали их таланту и духовному величию. Потому гражданская позиция в произведениях Лермонтова заявляет о себе с самого начала – сильно и бескомпромиссно! Даже своего кумира – Александра Пушкина Лермонтов как-то упрекнёт в том, что он пошёл на компромисс с «вельможной» Россией: «О, полно извинять разврат! / Ужель злодеям щит порфира?» (1831). Лермонтов принципиально не согласен с тем, что борьба с публичным злом есть дело полиции, а не поэзии. «…Позабыв своё служенье, / Алтарь и жертвоприношенье, / Жрецы ль у вас метлу берут?», – укоряет пушкинский Поэт «толпу». «Ведомый» Вергилием, Пушкин раскрывает своё поэтическое кредо: «Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв» («Поэт и толпа», 1828).
У Лермонтова иначе.
Осознавая силу «созвучья слов живых», он готов был броситься в битву «на звук тот». Ему куда ближе гражданская позиция «исправившегося» Пушкина, запечатлённая в его ответе «Клеветникам России» (1831).
Уличая «озлобленных сынов» Запада в малодушии пред «наглой волей» Наполеона, Пушкин предостерегает и потомков «клеветников»: «Есть место им в полях России, / Среди нечуждых им гробов». Столь же высокий пафос пронизывает знаменитое «Бородино» Лермонтова, преисполненное духом массового патриотизма и самоотверженного геройства. Именно по этой причине поэт, неудовлетворённый пассивностью своего поколения, приводит ему в пример «дядей», прошедших школу непобедимых полководцев – П. А. Румянцева и А. В. Суворова. В «Бородино» у Лермонтова не очень навязчиво, но всё же заявляет о себе мотив отчуждения сильного духом народа от внешней власти. Этот мотив станет особенно заметным, если сравнить стихотворение с не столь уж давними одами, посвящёнными победе русского оружия. Ни на шаг не отходя от престола, они, по сути, являются безудержными панегириками императорской власти. И это при том, что праведность «помазанников божьих», утверждённая законами и возведённая в абсолют, нередко оспаривали их дела.
Отношение Лермонтова к символам власти, коими помимо державного орла и воинских штандартов являются ещё церковные символы, не раскрыто, а потому до сих пор являет собой загадку. Ведь не могут же упоминания о них в немногих произведениях поэта служить прямым и непререкаемым свидетельством о конкретном к ним отношении. В особенности, если символы вплетены в ткань лирического стихотворения (на прозу, ввиду большей её вовлечённости в размыслительную ткань произведения, в этом смысле возлагается большая ответственность).
Применительно к здешней власти всё обстоит несколько проще. Но и здесь, дав присягу и подтверждая её доблестью на полях сражений, поэт никогда не преклонялся пред нею как таковой. «Таковая» власть вызывала у поэта неприятие, ибо он отчётливо видел её неверные следы в истории.
Но, не падая ниц перед властью, Лермонтов с достоинством склонял свой дух перед Всевышним. Не отвлекаясь на борьбу с несчётной николаевской камарильей, поэт в минуты наивысшего вдохновения создаёт свои образы и символы, облекая их в покрова вечности. Касаясь неба челом своего гения, поэт в минуты наивысшего духовного напряжения спорит с «небом», а в периоды внутренней гармонии возносит к нему свои молитвы. Именно в это время земной путь виделся ему благодатной нивой.
Но всё это, увы, длилось не слишком долго. И Лермонтов вновь – в полном одиночестве – выходил на только ему видимую дорогу… Обжигаемая солнцем днём, ночью она рассыпалась блеском мерцающих кремнистых камней. Очевидно, только эти пространства очищали душу поэта от причин и следствий бытийных противоречий. Наверное, именно тогда, когда его внутреннее бытие приобретало ясные формы, под пером поэта рождались произведения истинно родниковой чистоты, одним из которых стала «Песня про купца Калашникова».
Воистину, являя собой кристалл духовной и моральной красоты, она таит в себе свидетельства глубокой тяги поэта к «народной» вере. Неизбывно живя в его душе, она явлена в отторгнутых обеими властями «старых» символах.
Итак, никак не ставя знак равенства между духовной и светской властью, Лермонтов всё же отдавал предпочтение первой. Однако в какой степени?
О его отношении к монастырям и его обитателям мы знаем. Догадываемся и о восприятии им старой веры, наиболее тождественной духовным потребностям народа и жизни страны. Вместе с Лермонтовым знаем о том, что духовная власть, олицетворённая церковным клиром, не всегда помнила о ближнем при жизни. А в проповедях, иной раз отваживая от самой жизни, подчас вспоминала о человеке лишь в молитвах «за упокой душ раб Божьих».
Но если так, если в отношении к народу духовная власть вряд ли превосходила светскую, то как поэт относился к такой власти?
VIII. Между властями
Человек не должен быть рабом даже во имя истины и добра.
Рабиндранат Тагор1
Вряд ли поэт ставил перед собой вопросы именно в такой форме. Но нам придётся их ставить, поскольку всякий серьёзный разговор о «власти» поневоле выявляет отношение к ней и, по мере углубления в тему, вызывает вопрос: к какой именно власти? Ибо лишь понимание форм, устройства и происхождения власти может помочь уяснить, о чём, собственно, идёт речь. В этом плане весьма интересна мысль соотечественника поэта – великого Михайло Ломоносова, который в по-личностному категоричной формуле выразил свою гражданскую позицию: «Я не только перед вельможами земными, но и пред Воинством Небесным дураком и холопом предстать не желаю!»!
Церковное понимание власти, отталкиваясь от Евангелия, но этически не слишком отличаясь от трактовки её в дохристианские времена, прямо указывает на божественное происхождение «власти». Читаем в Послании к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (13:1–2).
То есть получается, что вся власть от Бога. Но всякая ли? Может, иная власть и от дьявола?.. Как разобраться во всём этом?!
Начну с того, что утверждать: всякая власть во все времена от Бога, значит подменять Бога дьяволом, поскольку, по факту, – история человечества перенасыщена кровью, жестокостью, коварством, предательством, ложью и прочими неизменно повторяющимися во времени пороками, которые власть не только фокусировала в себе, но которые в иных обстоятельствах и приумножала…
Эта историческая данность более, нежели что-либо ещё, ставит под сомнение тезис: вся власть от Бога. И в самом деле: может ли неизменное во времени и неискоренимое в жизни (а значит, – и в душах человеческих) зло иметь Вышнее покровительство? Ведь получается, что всё зло происходит не только по попущению, но и по «молчаливому» благословению Божьему… Желающим, если не уяснить истину, то по крайней мере приблизиться к её пониманию, обычно рекомендуют обращаться к священным текстам. Но, опять, – к каким? В точности ли «до буквы» сохранены древние тексты? Теми ли толковниками они собраны и отсортированы? И как быть с множеством апокрифов, которые Лютер признавал «хорошими и полезными для чтения»? Признанные людьми не боговдохновенными, они многие столетия изъяты из духовного обращения.
Не будем тратить силы на неуместное здесь сопоставление древних текстов, сетуя на приблизительность переводов Св. Писания (замечу только, что любой перевод отражает уровень развития «сознания» конкретной эпохи и духовную культуру переводчиков) [43], но обратимся к смыслу, который лежит в основе всякого текста, не только священного.
Для начала признаем, что высшая светская власть венчает собой не только трон, но весь исторический путь государства, развитие Страны и народа, выстраивавшего власть, выбиравшего правителя и согласившегося с его широкими или неограниченными полномочиями. Существуя не «вообще», а всегда исторически и событийно конкретно, власть создаёт автономные звенья, которые почти всегда согласованы или развиваются в русле высшей инстанции, олицетворённой местным «цезарем». Таким образом, «корона» символизирует не только факт светской власти, но и исторический путь к ней, неотделимый от средств. Нет нужды доказывать, что путь этот, помеченный неразборчивыми и нередко кровавыми средствами, тернист отнюдь не по-христиански… Но, даже и пойдя на соглашение с церковным клиром, «терния власти» отнюдь не притупились в политическом содержании, в котором роль острых «шипов» играло доступное эпохе оружие. И во времена крестоносцев, и в Новое, и в Новейшее время всякая «военно-христианская» власть твердила и продолжает утверждать: «С нами Бог!» Именно «с нами» и ни с кем другим! – даже, если противная сторона с ещё большим рвением декларирует свою принадлежность к христианской идее и Богу. Что касается рядовых граждан, то, как бы они ни старались, во все времена в их сознании выстраивалась иерархия духовных и моральных ценностей, присущих конкретно им, не превышающая их уровень мировосприятия, соответствующая именно их представлениям о духовности и о критериях самих ценностей.
По существу такое же происхождение имеют духовные идиомы и словесные сочетания типа упоминавшегося уже «рабства Божия», благостность которого очевидна, ибо подразумевает преклонение пред Богом как Творцом сущего. Однако в «земном» и (прошу прощения за столь неудачную формулировку) в туземном сознании коленопреклонённое или рабское сознание наделяет Бога свойствами, скорее присущими местному начальству, которое психологически, по факту и «по должности» олицетворяет (опять прошу прощения) местное властвование человека. Помноженная на количество «мест» такого рода власть предвещает, реализовывает и «духовно» обосновывает повсеместную тиранию. Таким образом, «духовное» возвышение Субъекта («духовное» ставлю в кавычки, ибо это под большим вопросом) происходит за счёт нижайшего самоуничижения, чтобы не сказать – самоуничтожения личности в человеке. Следовательно, не умея (или не желая) духовно вырасти, раб собственного страха, лени и невежества утверждает себя в том, что ему наиболее свойственно!
После сказанного просто необходимо рассмотреть отношение Лермонтова к высшей светской власти.
Отчасти речь об этом уже шла, поэтому не будем обращаться ко всему творчеству поэта. Но, помня лермонтовские строки: «Есть суд земной и для царей», сосредоточимся на самом очевидном и ярком в отношении к светской власти примере – стихотворении «Смерть поэта».
В нём Лермонтов далёк от «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», но ещё дальше – от покорности власти «помазанника Божия» в лице Николая I. Время не для холодных оценок, считает поэт. Зло проникло в самую сердцевину самодержавной власти, поэтому Слово Лермонтова разит копьём, широким остриём которого являются заключительные тринадцать строк. Подобные калёной стали, они перевешивают всю стихотворную филиппику Лермонтова.
Смерть гения открыла язвы российского общества социально-исторического происхождения. Именно к этим реалиям, олицетворённым людьми, обращает поэт свои гневные строки: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата! / Есть грозный суд: он ждёт». Это обвинение, содержащее указание на небесную кару, почти зрительно вызывает образ молнии, по «вертикали власти» разящую сверху – вниз. Но контекст этой связи многосложен. Стихотворение не даёт никаких оснований полагать, что в гибели Пушкина Лермонтов видел Божий промысел. Бытие и характер деятельности христианина не являются для поэта синонимом обречённости и безволия.
Это свойственно падшим до нулевого уровня человекам, в виду личной никчёмности видящим «предопределение» во всём, а потому не желающим и не способным противостоять никакому врагу. От такого «рабства в Боге» один шаг до рабствования вне Его, что есть просто рабство!
Для Лермонтова вера в Бога не только не исключает противостояние злу, но – и это «чёрная кровь», прилипшая к трону, почти физически ощутила это на себе – предполагает наказание, адекватное преступлению.
Поэт, всецело стоя на стороне оскорблённых и оклеветанных, негодует на, по сути, санкционированное «здесь» убийство Александра Пушкина (ибо царь со всеми его знаменитыми «отделениями» мог – если бы захотел – предотвратить гибель великого поэта). Верный своему пониманию правды, Михаил Лермонтов (как, собственно, и Пушкин) ни в творчестве своём, ни в жизни никогда не подставляет свою щеку под удар. В соответствии с принципами гражданина и боевого офицера он и словом, и делом разит лицемеров, открытых врагов и скрытых недругов Отечества. Разит ещё и потому, что удар поэта – упреждающий.
В своём эпиграфе-призыве (который не будем принимать всерьёз, ибо, принимая в расчёт предсказуемый арест поэта, он, скорее всего, был тактической уловкой): «Отмщенье, государь, отмщенье! / Паду к ногам твоим: / Будь справедлив и накажи убийцу, / Чтоб казнь его в позднейшие века / Твой правый суд потомству возвестила, / Чтоб видели злодеи в ней пример», Лермонтов как будто призывает государя-императора к правосудию. Даже не призывает, а скорее, даёт возможность или напоминает русскому царю о его долге беречь и защищать славу России, в данном случае явленную в Слове и олицетворённую Александром Пушкиным.
Однако жандармская этика Николая в этом аспекте не увязывалась даже с достоинством рядового дворянина… Потому, не имея иллюзий относительно царя, Лермонтов начинает свой реквием по Пушкину спокойно и величественно:
Погиб поэт! – невольник чести — Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой!.. Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид, Восстал он против мнений света Один, как прежде… и убит!Однако Лермонтов не может слишком долго сдерживать своё презрение и гнев к злоречивым заговорщикам, активным пособникам и пассивным убийцам Пушкина, и слог его приобретает обвинительные, жёсткие, чеканные формы:
Убит!.. К чему теперь рыданья, Пустых похвал ненужный хор И жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор! Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар? Что ж? веселитесь… Он мучений Последних вынести не мог: Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно Навёл удар… спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет. И что за диво?.. издалёка, Подобный сотням беглецов, На ловлю счастья и чинов Заброшен к нам по воле рока; Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы; Не мог щадить он нашей славы; Не мог понять в сей миг кровавый, На что он руку поднимал!.. И он убит – и взят могилой, Как тот певец, неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такою чудной силой, Сражённый, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной Вступил он в этот свет завистливый и душный Для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, Зачем поверил он словам и ласкам ложным, Он, с юных лет постигнувший людей?.. И прежний сняв венок – они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него: Но иглы тайные сурово Язвили славное чело; Отравлены его последние мгновенья Коварным шёпотом насмешливых невежд, И умер он – с напрасной жаждой мщенья, С досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, Не раздаваться им опять: Приют певца угрюм и тесен, И на устах его печать. ……………………… А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов! Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда – всё молчи!.. Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждёт; Он не доступен звону злата, И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: Оно вам не поможет вновь, И вы не смоете всей вашей чёрной кровью Поэта праведную кровь!О последних шестнадцати строках следует сказать особо.
Тяжело переживая гибель любимого поэта, Лермонтов захворал нервным расстройством. В эти дни к нему зашёл его родственник Н. А. Столыпин (брат Монго-Столыпина). Принадлежа к высшему обществу, он служил в министерстве иностранных дел под началом графа К. В. Нессельроде, который, напомню, состоя на службе русскому царю с 1816 г., так и не удосужился выучить русский язык. Столыпин – постоянный посетитель салона его жены, где ненавидящая поэта графиня Нессельроде затевала интриги и злобные сплетни, – равнодушно отнёсся к гибели Пушкина. Заведя разговор о мало значащем для него событии, чиновник, выразив мнение завсегдатаев салона, принялся выгораживать Дантеса в инсинуациях относительно Пушкина. Видя, с какой настойчивостью тот оправдывает невольного (считал Столыпин) убийцу Пушкина, Лермонтов пришёл в недоумение, которое сменило негодование. Поэт назвал Столыпина врагом Пушкина, осыпал упрёками, а в ответ на его холодные возражения закричал: «Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд!». Не желая более продолжать спор, Лермонтов заявил «жителю салонов», чтобы он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. Тот не преминул выполнить волю Лермонтова, бормоча себе под нос: «Mais il est fou а lier» («Да он дошёл до бешенства, его надо связать!»).
Гнев поэта не был делом случая.
Он понял, что жестоко ошибся…
Никто из высших слоёв русского общества, за исключением близких друзей Пушкина и друзей Отечества из самых разных слоёв общества, не принял близко к сердцу гибель гения! Да и мало кто сознал, что произошло. В этом Лермонтова убедил «вежливый» визит Столыпина. «Хора … пустых похвал» погибшему поэту не было, как не было ни «рыданий», ни даже «жалкого лепета оправданья»… «Благодарные» потомки временщиков, причисленных к знати и создавших себе «благородное имя» отнюдь не за воинские доблести и не на гражданском поприще; все эти графы Орловы и Завадовские, Воронцовы и Бобринские, князья Барятинские и Васильчиковы, бароны Энгельгарты, Фредериксы и просто великосветские подлецы, сколотившие немалое состояние на «обиженных родах», торопились выразить своё сочувствие «пострадавшему» Дантесу. Что уж говорить о Фредериксах, если даже близкий друг Пушкина П. А. Вяземский, по словам С. Н. Карамзиной, в период травли поэта «закрывает своё лицо и отвращает его от дома Пушкиных»… И впрямь, что значит смерть поэта рядом с тем, кто, умея нравиться всем, обласкан был самим государём-императором! Прав был Вольтер, когда говорил: «Чтобы добиться успеха в этом мире, недостаточно быть просто глупым, нужно ещё иметь хорошие манеры»…
2
Вместо громкого плача по мокрым и холодным камням Петербурга застучали колёса экипажей завсегдатаев Двора и светских гостиных, выстраивавшихся в очередь соболезнований Дантесу… Вне сомнения, Лермонтов знал, куда ступала «рабская пята» «надменных потомков» и куда «стучали» колёса. Визит Столыпина лишь подтолкнул его к пониманию того, что число недругов, наводнивших русский двор с обеих сторон, огромно… Это и вызвало гнев поэта! Но, если «беглецы», может, и не ведали, на что поднимали руку, да и не особенно желали щадить славу тех, кто обесславил их в общеевропейской войне с Россией в 1812 г., то равнодушие к судьбе Отечества и беспощадность к славе России соотечественников не имеет, считал Лермонтов, и не может иметь никаких оправданий! Потому, выгнав легкомысленного и пустого родственника, поэт, в гневе ломая карандаши, в четверть часа написал заключительные строки, пылающие страстью, презрением и призывом к возмездию. Праведный гнев поэта в одночасье создал в нём трибуна, в душе которого не было места смирению по отношению к палачам великого выразителя души и Слова народного.
О том, насколько было далеко от народа русское дворянство, явствует из опасливого донесения своему правительству посла Франции в России. Барон Амабль Гийом де Барант (отец де Баранта, впоследствии дравшегося на дуэли с Лермонтовым) писал, что возмущение русского общества «походило на то, которым воодушевлялись русские в 1812 году»[44]. Но, то – русский народ. Вельможное дворянство, обеспокоенное сложившимися «неудобствами» в карьере Дантеса, держа в уме «мысль», сочло за благо оказать моральную поддержку именно ему… Таким образом, псевдорусский слой не упустил случая сделать реверанс своему идолищу, коим был, конечно же, «запад». Даже и невзирая на то, что в данный момент он олицетворял собой полное ничтожество. Но дворянству в ливрее и не нужна была личность. Достаточно было персоны, перед которой можно было «отметиться», то есть отбить поклоны, идеологически давно уже носящие ритуальный характер. Подобный тип иностранца в собственном отечестве, прижившегося в гостиных наихудшей части «высшего» общества России, живо, принципиально и весьма образно дал и высмеял в своих комедиях ещё Денис Фонвизин, а историк В. О. Ключевский описал в своих «Портретах». У «человека этого класса» (в тексте Ключевского – «межеумка, исторической ненужности», «случайно родившегося в России француза») не было ничего общего с народом: «Усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, – всё было чужое… а дома у него не было никаких органических связей».
Таковое положение дел было исторически ненормально и не могло продолжаться бесконечно долго. Не могло уже потому, что в противовес «петербургской России», при Николае ставшей «ведомством» Нессельродов, Бенкендорфов и Клейнмихелей, существовала ещё другая Россия. Та, которой нужен был трибун Отечества. История показала, что люди и великие идеи рождаются обстоятельствами, нуждающимися «в оформлении» самих себя. В данном случае гибель одного гения возвестила рождение другого – Глагола той России, которая изнывала под гнётом такого рода державности, в которой не было место собственному народу. Трибуном и Глаголом не «петербургской монархии», а России Отечественной и стал провозвестник суда земного, до той поры безвестный двадцатидвухлетний поэт.
По мановению ока широко распространившиеся огненные строки Лермонтова обожгли души тех, кто годами плёл Пушкину терновый венец, иглы которого были отравлены ядом неугасимой злобы, светской пошлости и иезуитских сплетен. Все они узнали себя… и оскорбились пощёчиной, коей была правда. Элегия «Смерть поэта» есть блистательный пример того, что Слово гения является Делом! О «глубокой оскорблённости» придворной клики говорит то ещё, что произведение Лермонтова, и то без заключительных строк, было опубликовано в России лишь в 1858 году! Это тем более показательно, что в пору хождения «Смерти поэта» по рукам в многочисленных списках, высочайшая реакция на него последовала незамедлительно. Но тип реакции николаевского двора на «вольнодумца» никого особенно не удивил. Было ясно, что принципиальная позиция Лермонтова, подчеркнутая в заключительных строках, предопределит его судьбу, скроенную по лекалам Главного жандармского управления. «Бесстыдное вольнодумство, более чем преступное», – откозырял царю шеф жандармов граф Бенкендорф. «Приятные стихи, нечего сказать, – согласился с ним Николай и, вспомнив про свои обязанности «врачевателя», добавил: …Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону». Однако ни «первый», ни его послушная тень не умели понять, что в лермонтовских строках заявлен не столько «суд» автора, сколько предвещание им Высшего суда. «Медицинское освидетельствование», как оно и ожидалось, не дало «положительных» результатов и автор «Смерти поэта» немедленно был осуждён согласно «шпицрутенным законам» николаевского суда[45].
Уже сидя на гауптвахте, поэт сначала ощутил, а потом осознал тяжкий приговор, который вынес ему царь – лично!
Слепой политик – Николай I отметил себя в истории не только неумением выбирать политических советников (что, собственно, и привело Россию к поражению в Крымской войне), беспощадностью к «вольнодумцам» и вообще ко всякой оппозиции. Среди «дел» царя особенно громко вопиет бездумно-жестокое социальное и физическое искоренение староверов, и без того уже не одно поколение бывших вне закона в собственном Отечестве. Такой же удел ожидал и тех, кого он лично ненавидел. В последнем случае «перегибы» монарха не знали меры. Иное – и по-своему тоже личное – было отношение к царю и его «толпе» у Лермонтова.
И раньше не имея особых иллюзий относительно благородства и великодушия монарха, поэт сейчас теряет последние. Но, не заблуждаясь на счёт личных качеств, культурных привязанностей и эстетических переживаний Николая I (он даже «женскую прелесть без мундира не воспринимал», шутили современники), Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта» нигде, ни единым словом, ни намёком не прошёлся на счёт царя! И не из боязни, разумеется, и не только из презрительного равнодушия к Николаю как личности (здесь уместно добавить, что «отчерченные» монаршим скипетром, личности в окружении Николая были наперечёт).
В брошенных Столыпину гневных словах Лермонтова: «…так есть Божий суд!» личностное начало исчезало в более важном. Трагедия всколыхнула душу Лермонтова в её сущности. Потому в недрах сознания поэта родился образ или преддверие Суда, которое в экстатическом порыве надличностного духа было тождественно суду Божьему. В своём существе финальная часть «Смерти поэта» была экстатическим обращением к Богу, отнюдь не всегда долженствующим быть в форме покаянной молитвы или ассоциироваться с абстрактной и, тем паче, граждански бездеятельной благостностью… Во всяком случае, в те мгновения Лермонтов аккумулировал в себе (но, не отождествляя с собой как с личностью) нечто, превышающее личностное отношение.
Поэт и дипломат Фёдор Тютчев не забирался так высоко, но, адресуя царю свою уже оплеуху, был всё же «чуть откровеннее» Лермонтова. При этом поэт воздаёт должное Николаю не по одному только настроению, но по его историческим заслугам. Правда, Тютчев «оценил» царя лишь после его смерти, но потому только, что она дала ему возможность подвести итог всему правлению императора – одинаково бездарному во внешней и внутренней политике:
Не Богу ты служил и не России, Служил лишь суете своей, И все дела твои – и добрые и злые — Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые, Ты был не царь, а лицедей. 1855Но не будем столь строги к царю, как строг и беспощаден был к нему поэт и дипломат Фёдор Тютчев, тем более, что понятия «царь» и «лицедей» не исключают друг друга. Хотя… высылка Лермонтова в действующую армию на Северный Кавказ была приговором, который нёс в себе физическое устранение поэта. Это подтвердила дальнейшая, оскорбляющая столь высокий сан, «суета» Николая, а более всего – зловещее напутствие царя: «Счастливого пути, господин Лермонтов!».
И всё же будем объективны. Поэт не только по злой воле царя оказался в «горячей точке», коим тогда был едва ли не весь Северный Кавказ. Стихотворение Лермонтова, вознеся Глагол на вершину социальной жизни, лишь «помогло» венценосцу явить свой произвол. Ибо те, кому «не должно сметь», не смели и не хотели иметь своё суждение. Для тех же, кто и хотел, и смел, был начертан «николаевский уровень», на который издалёка указал Герцен. Можно не сомневаться, что Лермонтов-воин, презиравший хищную власть во всех её видах, восстал бы против неё в любой отведённой ему нише, а дух пророка в нём искал и находил себя в провозвещении целостности духовного и гражданского начала. Объединённые в одном человеке, обе эти ипостаси являли себя в форме, которая наиболее соответствовала положению дел.
В стихотворении «Кинжал» Лермонтов, зная цену клинку в деле, ласково зовёт его «товарищ светлый и холодный», однако заканчивает своё произведение, как мы помним, клятвой верности долгу Поэта:
Ты дан мне в спутники, любви залог немой, И страннику в тебе пример не бесполезный; Да, я не изменюсь и буду твёрд душой, Как ты, как ты, мой друг железный.В стихотворении «Поэт» Лермонтов, вновь возвращаясь к кинжалу и называя его «клинок надёжный, без порока», во второй его части прямо обращается к Поэту, трубный глас которого способен и должен «воспламенять бойца для битвы». Написанные в первый год после гибели Александра Пушкина, эти произведения отдают жаром, в котором закалён был, а впоследствии «заворонён» синевою небес «железный стих» Лермонтова. С этого периода его муза каждодневно подтверждает древнюю мудрость: «Чернила поэта стоят столько, сколько кровь мученика»…
Здесь необходимо сказать, что, будучи задиристым в иных жизненных обстоятельствах, в творчестве Лермонтов никогда не сбивался на мелочи. В «устном слове» подчас допуская резкие выпады против недругов Отечества, которые по этой причине немедленно становились его личными врагами, в своих произведениях Лермонтов свободен от субъективных оценок и личностных пристрастий. Стоя над схваткой «глазастых» царедворцев, поэт никогда не привязывает свою лиру к «ушам» и «глазу» николаевского режима. Внутренне свободный от него, поэт пытается увязать воедино духовную, народную и государственную волю, которые только и могут стяжать мир и благоденствие его Отчизны. Являясь базой общественной жизни, именно такое бытие определяет формы и меру ответственности гражданина перед обществом и государством, где «мера» эта неразрывна с духовностью нравственно полноценных личностей. Именно совокупность существующих в традиции и культуре духовной и нравственной ипостаси, во многом определяя социальное устройство, формирует и тело Страны. Именно литое единство этих связей создаёт устойчивое равновесие бытия народа в государстве, которое не способно исторически долговременно существовать вне ответственности перед собственным народом. В этом состоит историческая обязанность института государства. Сам же народ оставляет след в истории, только если способен выработать своё особое мироощущение и убедить мир в его исторической необходимости. Основанное на духовных категориях, это мироощущение внутренне родственно (также эволюционно обусловленной) всякой другой культуре. Являясь и началом, и следствием развития исторической жизни народа, она заявляет о себе до тех пор, пока живёт государство, не имеющее причин существовать вне своего народа. Вне этой «связки» смирение пред волей врага приводит народ, потерявший коллективную волю и превращённый в стадо, к состоянию всеми битого холопа, презираемого всеми, у кого в душе нет места рабству.
Особенно в этом вопросе у Лермонтова не было недомолвок и неясностей. Всякая полуправда воспринималась им как коварство, в уродливых формах которой извивается ложь. Подслащённая и заглаженная до лицемерия, она «портила желудок» обществу, отравляя эволюционное и политическое бытие народа. Ибо не одними мировыми войнами и «надмирными» заблуждениями рушится мир, а здешними и тутошними. Потому «смиренный» отказ от борьбы с социальным злом воспринимался поэтом как само зло. Но то – Лермонтов.
Те, кто «уповают на Бога» пустыми стенаниями и «безутешным плачем», за долготою которого не помнятся уже причины и начала «духовных страданий», обычно не сворачивают уже с пути «слёзного покаяния». Ущемлённым в личностном плане, бесприютным в социальном, а в жизненных обстоятельствах неизменным в своём малодушии ничего больше не остаётся, кроме как «честно» признать ту форму «духовного пребывания», которая им наиболее соответствует. Наверное, про таких «честных» до поры до времени (вспомним Кьеркегора) и христиан «до определенной степени» писал Фридрих Шиллер в пьесе «Разбойники»: «Если сгонишь честного человека с насиженного им места – быть ему у чёрта под началом». Шарахаясь по жизни от всего, что обязывает к действию из опасений: «как бы не согрешить!» или «как бы чего не вышло…» (а это уже Чехов), духовные обыватели всех сословий, страшась изначально дарованной человеку свободы, фактически отчуждают себя от бытия как такового. Это, к счастью, мало свойственно истинно деятельным и по-настоящему честным людям. «Если бы у всех людей страх перед грехом оказался бы сильнее любви к добру, то жизнь не земле была бы совсем невозможна», – говорил философ Иван Ильин.
И всё же куда более живучим оказался тип бездеятельного человека. Потому, когда возникает острая необходимость действовать, «рабствующие в Боге» всякий раз куда-то исчезают, прячась в перипетиях литургий или зарываясь в «книжное христианство», очевидно, полагая, что Бог подсчитывает службы и страницы духовной литературы, которую они думают, что читают… Завсегда готовые унизить себя «перед Богом», духовные недоросли и фиктивные страстотерпцы на самом деле никнут духом перед своим психическим клоном, коим является властный «хозяин» или строгий «начальник», но уж никак не Бог. При этом согбенные «от бремени и полноты раскаяния» мученики с истёртыми коленями никогда не задаются вопросом: а нужно ли это Ему? – но, расшибая свой лоб об пол, по-рабски кощунственно отвечают за Него.
Вспомним загадочную битву в стихотворении «Бой», в которой «злой чернец» не удержался на своём чёрном коне. Этот бой, происходивший «над» поэтом, передаёт отношение Лермонтова к злу, в том числе облечённому в святые ризы. У нас нет свидетельств о том, что поэт по жизни в лоб осуждал духовных ханжей. Очевидно, не до того ему было. Но всё его творчество ясно говорит о неприятии им «рабствующих в Боге». Поскольку, оставаясь рабами и вне Его, они рабствуют перед всеми – как перед сильными мира сего, так и перед слугами их. Отношение Лермонтова и к тем, и к другим было если не откровенно презрительным, то снисходительным до презрения. Наверное, потому ещё, что особенно в рабском состоянии души обретает себя холопский, радостно-слезливый покой всякого слабодушия. Таковое состояние, низвергая ум «в пыль» мелочности, унижает и обессмысливает саму жизнь. В этой единственно комфортной для них позиции духовные иждивенцы, скрывая свою внутреннюю ущербность, с мазохистским сладострастием унижают себя перед Тем, кто в том не нуждается и кого они не знают. Не знают, потому что личность, вовсе не тождественная порокам индивидуальности, нуждается не в унижении, а в совершенствовании, на что не способно ни обезличенное уничижение, ни духовное ничтожество. Именно такого рода безличности находят «душевное успокоение» в переосмысленных на своём уровне и на свой лад словах апостола: «Не судите, да не судимы будете, и каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7:1–2).
Показательно, что в своём «суде» Лермонтов никогда не опускался до мелкого счёта. Вспомним, даже в пронизанном болью и горечью стихотворении «Смерть поэта» убийце Пушкина, как персоне, отводится ничтожное место – его попросту нет в тексте! Очевидно потому, что Лермонтов придавал не буквальное, а сущностное значение словам «не суди». Будучи великой личностью, Лермонтов не судил, как личность. Гнев поэта, как таковой, превышает личностную ипостась ещё и потому, что был выражением высокой гражданственности, которая в данном конкретном случае была предана не только высшим светом, но ещё и державной властью! В этом аспекте, а именно – масштабностью внутренних мерил происходящего, поэт напоминает древних и последующих пророков. И хлеставший менял на ступенях храма, и апостолы знали, что осуждение, через личное пристрастие приводя к ложному суждению, в практической жизни нередко доходит до суда над ближним. Если же в душах судей корысть, в голове – глупость, а в руках сосредоточена немалая власть, то они, как оно было в истории не раз, прибегают к устранению своих врагов и недругов. Ясно, что правды в такого рода судах нет и быть не может. Собственно, в отличие от запутанной донельзя «буквы», сущность заповеди в (общей) нравственной установке ввиду её простоты и ясности доступна даже и девственным умам.
Период «турецких» настроений поэта не прошёл. Для этого не было повода. Поэт знал и видел, что разделение народа на свободных (только потому, что они не являются крепостными) и несвободных по закону – противоестественно, ибо степень свободы в первую очередь меряется теми, у кого она отсутствует. Именно пребывание людей в «стойле» крепостного права, как и наличие околокрепостного статуса, способно превратить общество в малосмысленное «количество».
В Москве поэт встречается со славянофилами и подолгу беседует с ними. О степени близости и расхождения их взглядов можно только гадать, но объединяло Лермонтова с собеседниками сознание неприкаянности народной жизни. Всё это, вызывая гнев Лермонтова, находит своё выражение в художественном Слове. В таковом качестве оно подобно бичу, которым поэт нещадно хлещет на ступенях храма Отечества «наперсников разврата». Именно в эти отравляющие душу «мгновенья» калёный стих его обрушивается на головы торговцев совестью, чинами и душами человеческими, а более всего – Отчизной. Причём, бичуя порок, Лермонтов всегда конкретен. Истинно «святыни верный часовой», он через проникновение в суть вещей и посредством поэтических метафор обличает всё, что, выхолащивая душу человека, обращает гражданское общество в безликую толпу. «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам всё тянуться за Европою и за французским?» – пишет Лермонтов А. А. Краевскому.
Остро поставленная Лермонтовым тема Поэта и Гражданина навсегда станет в России злободневной. Позднее она несколько утеряет свой накал, но приобретёт союзников в «житийной» своей ипостаси. Её разовьёт Ф. Тютчев и в особенности Н. Некрасов.
Остановимся на отношении Лермонтова к неосуждению, свободе мысли и свободе, как таковой.
3
Аккумулируя духовный опыт исторического христианства, Лермонтов не мог не видеть разницу между «словом» и «делом»; межу тем, что сказано и что сделано. Отдавая должное пользе истинно духовных книг, один из глубочайших умов века не мог не знать, что богословие само по себе не тождественно Истине, поскольку и оно есть слова людей. Опираясь именно на свои слова и суждения, духовенство посылало на костёр еретиков, мерой вины которых и основой для осуждения были те же «слова» и соответствующий им суд. А раз так, то всяк человек, претендующий на Истину, лжёт, ибо не знает её. Помимо лжеучителей, это относится и к ряду толкователей Св. Писания. История религий свидетельствует: все настаивающие на принадлежности к телу Церкви конфессии и деноминации, вплоть до самых изуверских сект, имеют в основе одну и ту же Книгу. Все опираются на неё как в доказывании своей истинности, так и в обосновании своих заблуждений, плодя духовную ложь, исторический обман и невежество. Под давлением непреходящей лжи и неискоренимого шарлатанства богословы Новейшего времени вынуждены были признать, что существует столько же ложных учений о любви, сколько ложных учений о Боге… Не мог не знать Лермонтов и того, что всякое взятое отдельно от добро-деяния и доброто-любия (которые в обоих случаях проводят идею делания), суждение о словах апостола приводит к заблуждению, степень и опасность которого в первую очередь зависит от духовного и умственного развития. Ибо в буквальном своём значении (т. е. оторванные от нравственного смысла) слова ап. Матфея рождают в сознании невежд ложные выводы, которые становятся фальшивым руководством по жизни. Увы, многовековые поиски истины, а главное, результаты этих поисков убеждают нас в том, что в рамках человеческой природы она может быть осознана, а значит, реально существует лишь для свободных в духе и разумных в своей свободе людей. Для тех, кто способен распознать «знаки» истины в бытии, то есть говоря проще, – для умных. О том, что охотников до истины было не столь уж много, а распознавших её и того меньше – свидетельствует та же история.
Тем не менее, возлюбившие буквальное значение слов апостола имеют в этом свой резон и моральный интерес. Потому что внешний – побуквенный – смысл выводит их дела и, понятно, их самих из-под огня критики. «Смысл» этот тем меньше стоит, что тебе – только и всего! – «предписывается» закрывать глаза на неправедные дела других… Таким образом, общее следование «правилу» идеально вписывается в узкий эгоистический мирок «не судящих». Духовно выхолощенное и сноровисто отполированное «сапожными щётками» ханжей до блеска жандармского сапога – это «правило» и стало для исповедников лжи основой круговой поруки. Неким – «почти рекомендуемым», а значит, во всех смыслах удобным способом сокрыть свои грехи по принципу: «Обращай внимание на свои грехи, а я буду лицезреть свои. Правда, мне не под силу бороться с ними, потому что слаб я (как, впрочем, и ты!), ибо сказал апостол: «человек есть ложь»… Так что – не суди меня, а я не буду судить тебя»!
Вот оно – соломоново решение! Никто никого не судит и не осуждает… – и все рады этому. Ведь, осуждая, ты наживаешь врагов, а не осуждая, приобретаешь если не друзей, то единомышленников (тех же ханжей). В этом случае и общество будет выглядеть «прилично», потому что в нём «не будет греха», и ты, поскольку «не допускаешь» его. Да и откуда греху взяться-то? Ведь, если нет объекта осуждения, значит, нет и субъекта, проводящего зло.
В соответствии с казуистикой ханжей, если ты уличил солгавшего во лжи, значит, согрешил, ибо осудил… грех. И не только сказать, но и думать об осуждении лжи (и остальных пороков) нельзя, ибо в соответствии с наущением «евангелических софистов», если помыслил – уже согрешил! Вот и получается, что духовное рабство, переведённое в бытийную плоскость, – оказывается просто рабством. Что уж тут говорить: с точки зрения рабствующих ханжей, даже и зло в мире творится во славу Божию! К сказанному добавлю, что «философия» неосуждения была особенно гладко вылощена при митрополите Московском Филарете. Почитая Серафима Саровского лишь на расстоянии и немало способствуя казёнщине в Церкви, он вызвал этим недовольство многих современников, которые – от Пушкина до Лескова – отзывались о нём без особого почтения. Не случайно Святейший Синод (очевидно, не без благословения Филарета) пожалел «несчастного убийцу» поэта и уже через четыре года отменил Мартынову епитимью.
Михаил Лермонтов был органически чужд такого рода «философии». Его «железный стих» есть лучшее свидетельство «побуквенного» неприятия отвлечённо-нравственной позиции, в которой неосуждение (концептуально – никого и ничего!) обезволивает характер человека. Однако безволие не является неким конечным фактом. Продолжая себя в аморфности и неуверенности в себе, оно лишает человека инициативы как таковой и приучает к покорности всякой силе. И потом: если ты не уверен в себе, то как можешь быть уверен в других, которые, как и ты, не веря в себя, не могут верить и тебе?!.. Такого рода тотальное «никого-неосуждение» таит в себе яд психологической ущербности и, формируя ханжество, ведёт от недоверия к безверию. Всё это, помноженное на количество, и создаёт бездумное, скученное в толпу толполитарное общество, состоящее из множества «тоже не судящих», духовно разобщённых и личностно стёртых, морально раздавленных и обездушенных людей, унифицированных в псевдообщество. Ибо не судить (т. е. не выносить суждения) по существу означает никогда и нигде не делать самостоятельного выбора. Иначе говоря, вести сомнительно-человеческое бытие вне какого-либо рассуждения, как и мышления вообще… Эту «линию ханжей» прежде всего опровергает сама жизнь, всегда ставящая человека перед выбором, который делается при помощи развитого сознания и жизненного опыта, с опорой на морально-нравственные критерии и рациональное суждение. Опровергает её своей жизнью и творчеством Михаил Лермонтов, стремившийся к осмыслению социально активного человеческого бытия (вспомним размышления Печорина перед дуэлью) посредством осознанных форм свободы. Устами Мцыри поэт ясно говорит о том, что родился он для воли, а не для «тюрьмы». Однако духовные рабы, боясь воли, не испытывая нужды в правде и тяготясь поисками её, видят истину в покорности как таковой, приравнивая свою «находку» к истине в последней инстанции. В соответствии с ханжеским «смирением» всякая ищущая мысль тождественна осуждению, что обессмысливает мышление как таковое.
Между тем, механизм стремления к безмыслию прост, как медный пятак, что не удивительно, ибо присущ тем, кто мало способен к мышлению и ещё меньше – к какому бы то ни было делу. Из никчёмной «мысли» духовных простецов и вытекает, что всякий анализ подобен греху.
И в самом деле, приводя доводы «за» и «против», ты осуждаешь одно и хвалишь другое, в последнем случае вновь совершая грех, ибо опять судишь… Хотя ещё Пьер Абеляр убедительно показал, что Бог дал человеку многое для достижения благих целей, следовательно, и ум, и нравственные устремления (намерения, по Абеляру), дабы удержать в пределах игру ума и направлять религиозное верование. Вера, учил средневековый диалектик, зиждется непоколебимо только на убеждении, достигнутом путём свободного мышления; а потому вера, приобретённая без содействия умственной силы и принятая без самодеятельной проверки, недостойна свободной личности. Именно – личности, которой желательно быть или уметь стать!
Однако выстраивание личности требует немалых усилий, что отпугивает всех, кому предпочтительнее ублажать слух свой отвлечёнными разговорами «о душе» или думать о чём-нибудь «жизненном и очень простом».
«Что пользы овцам в том, что никто не ограничивает их свободу слова? – говорил о них современник Лермонтова Макс Штирнер. – Всё равно они будут только блеять…»[46].
Итак, и по Лермонтову, и «по Абеляру», и по суждению ряда богословов и мыслителей (Штирнера, так и быть, упоминать не будем), для приведения доводов которых, право, места не хватит, – человек в принципе свободен выносить суд, руководствуясь изначально заложенной в нём свободой неосквернённой мысли, нравственного суждения и действия.
Но вот незадача: при упоминании о «свободе» возникает дилемма, пусть не очень удачно, зато вполне доступно сформулированная в вопросе: «свобода от…» или «свобода для…»?
Лермонтов оставил не слишком много непосредственно своих суждений о свободе. Зато мы помним его «вечные» вопросы и сентенции в ряде произведений: «…жалкий человек, / Чего он хочет!..» («Валерик»). А в «Герое нашего времени» Лермонтов устами Печорина задаёт «вечный» и для всякого мыслящего человека важный вопрос: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные…».
Но, если мысли Печорина несомненно исходили из глубины души самого Лермонтова, то смысловая полифония сложнейшей в идейном и этическом плане поэмы «Демон» в некоторых своих моментах как будто приобретает независимое от автора звучание. К примеру, в одном месте Дух Зла, называя себя «царём познанья и свободы», тут же даёт сильную антитезу: «я враг небес…». Однако именно эта формула показывает, что Лермонтов (особенно в этом случае никак не являясь «рупором» Демона) враг лишённой духа нравственности бессмысленной, а значит, духовно бессодержательной свободы.
Поэтому первую часть поставленного выше вопроса Лермонтов, надо полагать, признал бы ложной. Поскольку свобода может быть только для чего-то. В «свободе от…» наличествует лишь желание освободиться от неких пут, после чего может сложиться (а, может, и не сложиться) верное отношение к проблеме: для чего или во имя чего получена, а лучше – завоёвана и хранима свобода. Обращение Мцыри к чернецу символизирует именно такого рода свободу. Поскольку она характерна «пламенной страсти» не только беглеца, но и самого поэта. Здесь со всей очевидностью Лермонтов устами своего героя насыщает свободным сознанием сильного духом человека – человека, жаждущего свободы и деятельности, потому что способен к оному:
Ты хочешь знать, что делал я На воле? Жил – и жизнь моя Без этих трёх блаженных дней Была б печальней и мрачней Бессильной старости твоей.Этот стих даёт ответ и тем «богобоязненным», кто в своей духовной лени и социальном бездействии прячется от очевидной необходимости бороться за чистоту бытия.
Из всего следует, что, не приемля суесловия, Лермонтов отводил особое место гражданской позиции. Последняя, характеризуясь прежде всего честью и доблестью, предполагает в человеке развитие и духовных качеств. Уже потому, что существование вне высоких гражданских добродетелей не стимулирует и духовные проявления. Вообще говоря, именно гражданская доблесть более всего характеризует бытие homo sapiens как в разумной, так и в духовной его ипостаси. И дело тут даже не в «отвлечённых» добродетелях, а в том, что отсутствие их в повседневной жизни может привести к социальной катастрофе общество, Страну и государство. Однако именно «дела мира» не вписываются в умозрения рабствующих «в Боге». Следуя их наущению, всякое событие в качестве «свидетельства Божия» должно принимать коленопреклоненно и с благодарственной молитвой – от нашествия Мамая и вторжения Наполеона – до ужасов прочих войн, не говоря уже о меньших исторических напастях и совсем уж ничтожных бытовых недоразумениях. Во всём этом, толкуют рабы, есть «перст Божий», в их понимании указующий лишь одно направление – вниз. Ибо лишь унизивший себя до омерзения и кающийся до исступления может войти в царствие небесное. А потому не должно «перечить Ему», отстаивая свою (читай – грешную) волю, которая проявляется в следовании «мирским» интересам. Это может быть творчество, а может быть борьба за свободу Отечества, что буквально вытекают из «богобоязненной» духовности ханжей. Но, выкладывая «козырь» тотальной зависимости от воли Божьей, духовные лицемеры не ведают (и это в лучшем случае) того, что раскладывают «пасьянс», ведущий общество и страну в бытийное никуда. Им же самим – отвергающим «гордыню» суверенности не только теоретически, но в политических и социальных её формах – тоже не светит ничего хорошего… Однако чёрт, как говорят знающие люди, давно проникнув в типографскую краску, с тех же времён не чурается и церковной сутаны, всему этому, однако, предпочитая умы искренне стремящихся к истине. Принципиальным искателем её был и Лермонтов.
В России на тропу «христианского благочестия в миру» вслед за Гоголем вступил было и Лев Толстой. В своём романе «Война и мир» он, по сути, всё сводит к «произволению Божиему», которое понял («почувствовал») Михаил Кутузов, а потому не противостоял предрешённому. По Толстому, Кутузов потому победил Наполеона, что не проявлял инициативу, а, всё время отступая, «давал возможность» Богу распорядиться обстоятельствами по Своему усмотрению[47]. Толстой, пожалуй, и сражение при Бородино вывел бы из текста, если бы оно не имело место в действительности. Однако компромиссы подобного рода казались писателю половинчатыми, и он в конечном итоге совершенно логично отрёкся от всех своих литературных произведений…
Может, желание Лермонтова проследить эвольвенту духовной реальности в связи с волей человека, исторической закономерностью и предопределённостью свыше и привело его к мысли написать, увы, неосуществлённый, роман-трилогию от «гнезда Петрова» до своей эпохи?!
Применительно к творчеству и гражданской позиции Лермонтова и с учётом духовного влияния на бытие России православия до синодского периода, рассмотрим известное назидание преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Это полезно сделать потому ещё, что духовно светлое, но вневременное, а потому социально ни к чему не привязанное (т. е. – лишённое «по-земному» конструктивной основы) смирение красной нитью проходит через все увещевания синодской Церкви. Хотя сама она, придётся заметить, в духовном, реальном и вынужденно-политическом бытии не слишком часто следовала собственным увещеваниям. Умело вплетённая новыми патриархами во внешне роскошный узор синодо-государственного бытия России, «нить» эта вплелась в двухвековые заблуждения обеих властей. Она и выстлалась впоследствии в «мягкую дорожку», приведшую к жесточайшему по своим последствиям аду «русской» революции в 1917 г. В последующем красном терроре и огне гражданской войны обуглились обе ипостаси – и Божья, и Кесаря…
Вернёмся к мысли св. Серафима.
О том, что правда, вырванная из контекста и возведённая в абсолют, становится ложью – сомнений не вызывает. В ещё большей степени это относится к словам преподобного, взятым отдельно, то есть рассматриваемым вне конкретной ситуации, иной раз требующей применения жёстких, а в иных случаях жестоких мер. Ибо одно дело, ко гд а «дух мирен» стяжается в монастырской епархии, заведомо исключающей жестокость за отсутствием причин, её вызывающих.
Другое дело – государственные структуры и гражданское общество. Опираясь на обязанности граждан перед Отечеством, они функционируют в иной ипостаси. Это значит, что «обычная жизнь» народа неразрывна с социальной инициативой и, беря шире, – с политикой, проводимой государством. Именно в этих исторически обусловленных реалиях лукаво используемый тезис св. Серафима несёт в себе однозначно пораженческое содержание. Поскольку «дух мирен» не способен ни сосуществовать с «миром» никогда не прекращающихся войн, ни, как показывает история, прекратить их[48], а значит, и стяжать себя (единичные случаи, а также легенды, сказания, «чудеса», и прочее – в расчёт не идут)… Здесь поневоле приходит на память русская пословица: «И смирен пень, да что в нём».
Серафим Саровский
И впрямь, смирение, и, беря шире, – христианство состоит не в том, чтобы всякий раз при виде кнута оголять спину. Уж кто-кто, но Лермонтов более, нежели кто-либо умел различать рабское состояние сознания от смиренности религиозного духа, способного постоять за себя. Собственно, это понимание свойственно было всем, кто ощущал в себе искры Божии. И десятилетия спустя, когда «искры» другого уже века и порядка готовы были разгореться в неугасимое пламя, Д. Мережковский, отметая апологию «подставления щёк», говорил: не следует смешивать «истинное Христово смирение сынов Божиих» с «мнимо-христианским рабьим смирением».
Возникает вопрос: по какой шкале отмерять и какими ценностными категориями надо руководствоваться, вчитываясь в строки, в частности, лермонтовского «Демона»?
Оценка поэмы колеблется между приятием её как великого произведения и полным отрицанием ввиду вредности и опасности её для души православного христианина. На этом фоне типична огульная критика светской культуры со стороны, в чём особенно преуспевают не по уму православные христиане. Эти вечные «зилоты», не способные к сопереживанию чего-либо, кроме собственных заблуждений, и вынудили писателя и критика Андрея Воронцова обратить внимание на статью (правда, не опубликованную, оговаривает он) «Интеллигенция против Христа», в которой православный автор лихо относит к супротивникам Христа едва ли не всех русских и советских писателей, записав «в демоны» и Лермонтова. Этот чудовищный навет на русскую литературу совершенно справедливо вызвал его возмущение. Говоря о «тайной цели ниспровергателей», Воронцов пишет: «Они не отпавших от Христа писателей разоблачают, они отвергают светскую культуру вообще. И хотят отлучить православных от большой русской культуры! …Господь наделил нас свободной волей, которую можно использовать и во грех, и во благо, и творчество – одно из проявлений этой свободы. …Потому светская литература и отличается от духовной, что имеет право на заблуждение»[49].
К этому добавлю, что, если мерить мировую культуру по шкале духовно невежественных и попросту глупых ниспровергателей, тогда едва ли не всю мировую классику – Гомера и Шекспира, Пушкина и Толстого, Мандельштама и Есенина, Хаксли и Стейнбека, Маркеса и Борхеса – нужно отправить на костёр. И дровишки в него будет подкладывать не «святая простота», как то было во времена благоверного Яна Гуса, а именно они – искушённые во лжи «ревнители благочестия», за многие столетия напитавшиеся ханжеством, имя которому церковное безверие! Не претендуя на святость, они способны предать анафеме всякого противящегося именно их грешно-человеческому видению мира, как то уже было в XVII в., – от бесподобных в истории Церкви проклятий, которым подверг ревнителей древней православной веры Московский «разбойничий собор» 1666–1667 гг., казалось, само небо должно было вздрогнуть!
Здесь ещё раз обращу внимание на то, что безапелляционные до глупости, нелепые до абсурдности и безнравственные до преступности, споры эти вылились в такие «дела» «соборных разбойников», что уже самим фактом ставят крест на морали их устроителей! Всё это, лишая Московские соборы духовного смысла, надолго учредило духовную нестойкость церковного аппарата[50]. Потому вопрос о благочинности «освящённых поправок», обновлённых текстов и самих духовных начётчиков, иные из которых по новым и новейшим канонам были возведены в ранг святых… – отпадает сам собой. Но и эти заблуждения не были новы под луной. Да простится мне упоминание католика, но Пьер Абеляр, за преданность вере, добродеяния и аскетизм прозванный «можансюрским отшельником», был не единственным из богословов, кто утверждал: даже апостолы и отцы Церкви могли заблуждаться. Что уж говорить о беспамятных новых «ревнителях» и их светских приспешниках, ханжеством, расчётливостью и мелковидением не однажды способствовавших духовному и политическому краху России.
Вернёмся к Михаилу Лермонтову, творчество которого убедительнее всяких слов свидетельствует о том, что он относился к Библии как к Книге именно Бытия, то есть как к живительному началу всего сущего.
Исходя из этого, Лермонтов письменным интерпретациям Св. Писания предпочитал исследование тварного мира с помощью духовного и мощи творческого наития, поскольку справедливо полагал, что откровения Св. Писания, исполненные благодати, причастны миру видимому и ощутимому. Духовным посредником между этими «мирами» является Церковь, которая есть мистическая реальность, коренящаяся в беспредельном и лишь отчасти познаваемая в Боге. Отсюда печальный интерес Лермонтова к следствиям этой реальности, с незапамятных времён нашедшей себе пристанище в нише «насущных» интересов, «вещных» пристрастий и позирующего вероисповедания.
В духовном и нравственном плане показательно отношение Лермонтова к человеку, уникальность состояния души которого утверждается всем его творчеством.
Об этом свидетельствует исповедальная интонация в предисловии к «Журналу Печорина»: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».
Это поразительное свидетельство проникновения в душу человека в её затаённой первозданности и первоначальных богатствах, превышающих всё личностное, может служить ключом к пониманию самого Лермонтова. Сознавая себя творением Божьим – и не самым худшим, поэт не испытывал необходимости подавлять в себе самость, свидетельствующую о большем, нежели личность. Потому в своём творчестве Лермонтов даже и худшие черты венца творения не модулировал до духовного и психологического рабства. Хотя бы потому, что, свойственное именно падшему человеку, оно неприемлемо для Творца!
IX. В спирали преданий и «кольце» вечности
У нас нет исторических воспоминаний, но велика память стихийная: нашим пространствам ещё суждено сыграть великую роль. Мы слушали пока не Петрарку и не Гуттена, а ветер, носившийся по нашей равнине; музыкальные звуки нашей жестокой природы всегда звенели в ушах у Гоголя, у Толстого, у Достоевского.
А. Блок (1919)1
В сентенцию Александра Блока легко вписывается имя Лермонтова, поскольку в своих произведениях поэт раньше упомянутых Блоком классиков проник в природу «мощного человека», в России как нигде скоро меняющего «соху» на «булатный нож». Суммируя прозрения поэта, поневоле приходишь к мысли, что Лермонтову внутренним оком дано было «считывать» сущностную, исторически не оформленную ещё информацию, в каких-то знаках явленную уже в прошлом времени. Ибо что ещё, как не эта способность, может объяснить поразительное по спонтанной реализации творчество поэта?! Лермонтов, как оно обычно бывает среди великих мастеров Слова, работал с текстом до тех пор, пока не придавал ему образность, силу, выразительность и блистательную форму. Но он в таком изобилии и так скоро высыпал на бумагу свои шедевры, что это невозможно объяснить одним лишь поэтическим вдохновением и ещё труднее оправдать «логикой» гениальной одарённости. По всему выходит, что феномен вышнего дара и неукротимой творческой энергии Лермонтова заслуживает особого внимания.
Вдохновение, сродное искромётному бенгальскому огню, присуще не всякому гению, а тому только, который искренне стремится реализовать большее, нежели вмещает в себе его личность. С точки зрения формальной логики, это можно объяснить тем, что в моменты вдохновения человек творит лучшим, что в нём есть. Значимость истинно созидательного (подчёркиваю это) творчества зависит от совокупности внутренних качеств, не только превышающих личностные, но подчас и «уходящих» от них. Именно в этих условиях неотрывная от внутренних свойств душа великого человека – в эти минуты безличностная – в своей направленности от субъекта (каковой он обыденно есть) к божественной ипостаси в нём раскрывает себя в грандиозных явлениях творчества.
В свете сказанного, и принимая во внимание юные годы поэта, нужно ли удивляться его «бытовому» негодованию на слепоту присно не видящих и не желающих видеть в человеке подобие Божие?! Это движение Святого Духа в человеке вообще и в Лермонтове, в частности, надо полагать, и есть яркие всплески нереализованного в тысячелетиях божественного огня в нём.
Тем же, кто упорно меряет внутреннюю жизнь лишь мерилами внешней, ясно отвечает стих из Евангелия: «Для чистых всё чисто: а для осквернённых и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть» (Тит. I:15).
С детства осознав глубину небесного «эфира», частью которого является духовная ипостась земной жизни, Лермонтов напряжённо ищет жизнь настоящую. Ощущая в себе духовную и умственную мощь, он полагает возможным, если не «взобраться» к вышнему бытию, то хотя бы распознать его. «Твой слабый луч, сражаясь с темнотой, / Несёт мечты душе моей…», – писал юный поэт, обращаясь к «звездам». Но внутреннее взросление продолжается, и исследователь таинств разделённых миров попутно выходит на смежные духовные и пространственные величины. Именно этим объясняется неустанная тяга его к постоянному их вместилищу – «небу». Однако Лермонтов приходит к этому, лишь умудрившись духовным опытом. Только в этом новом состоянии поэт, наблюдая «желтеющую ниву», способен погрузиться «в какой-то смутный сон». Именно тогда, вслушиваясь в лепет ручья и смиряясь душевно, Лермонтов уверенно и с полным правом на то заявляет: «И в небесах я вижу Бога…»!
Но происходило это посредством тонких материй живого мира, который указывал на иной; другими словами, – имело место в особом состоянии духа. Очевидно, именно в этом состоянии возникала невидимая стороннему глазу тончайшая нерукотворная лествица, звенья которой обрывались тотчас, если поэт лишён был возможности пребывать в состоянии мира и гармонии. По контрасту с этими «материями» видимый (внешний) мир представлялся в сознании Лермонтова жалкой и несовершенной проекцией вышнего мира – мира Божественного в человеке. Отсюда по-юношески открытое (и в этом смысле подчас чрезмерное) презрение поэта к антагонистам этого мира – держателям всяческих пороков. Повсеместные и неизбывные, они при духовной мелочности их носителей обычно олицетворены посредственностью.
Вместе с тем, в творчестве Лермонтова заметно и другое видение человека. Того, в котором сосредоточены негаснущие искры вышних достоинств. И это видение ничуть не преувеличено, поскольку не противоречит ни Библии (в Ветхом Завете в Псалме 8:6–7 читаем: «Не много Ты умалил его <человека> перед ангелами; славою и честию увенчал его; поставив его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его»), ни Отцам Церкви («О человек, ради тебя вочеловечился Бог, и ты должен высоко ценить себя», – писал Блаженный Августин). И лучшим свидетельством такого человека является сам Лермонтов.
В «тайном» умении поэта постигать пространства, становиться свидетелем «миров иных» и даже как будто канувших в вечность цивилизаций убеждаешься, читая стихотворения «Ветка Палестины» (1837), «Три пальмы» (1839) и в особенности «Пророк» (1841). Эти шедевры, поистине сотворённые не умом и талантом человека, а вечной душой, потрясают чуткостью к пульсу истекающего из вечности времени и ощущением истины, верой в неё и горечью, вызванной безотрадной разлукой с первочеловеческой духовностью. Трагизм этого расставания заявляет о себе во всём, повсеместно, и не только в скоро исчезающей в вечности событийной истории. На протяжении всего своего существования людское бытие упорно эволюционировало в бескрылое и «вещное» незатейливое пребывание, всё более склоняясь к праху предметной реальности. Предшествуя и сопровождая разложение души, именно она предвосхищает её падение. «Ветка Палестины» – по глубине мысли скорее эпическая поэма, нежели стихотворение, – была создана Лермонтовым, как о том сообщает А. П. Шан-Гирей, «по внезапному вдохновению», которое посетило поэта во время визита к А. Н. Муравьёву, не так давно вернувшемуся из святых мест в Иерусалиме. Лермонтов не застал его, но в образной увидел пальмовую ветвь.
Очевидно, настроенный на разговор о тех местах, поэт, глядя на пальмовый лист, погрузился в мир ассоциаций, идей и библейских образов. В результате «напрасного» ожидания было создано поистине бессмертное произведение.
Надо заметить, что «намарал» (так обычно Лермонтов именовал процесс создания своих произведений) его поэт на обороте листа бумаги, на котором оставил свою записку. Причём – набело, то есть «сразу и навсегда». То был не первый случай, когда Лермонтов создавал свои шедевры в порыве невероятного по силе и глубине вдохновения. Подумать только: если бы поэт застал своего приятеля, то «Ветки Палестины» не было бы… Вот он – Его Величество Случай! Но не только он. Лермонтов обладал абсолютным чувством Слова: а ведь это и есть непосредственное приобщение к тому, что, как мы знаем, было в начале всего.
Сверхъестественную скоротечность мыслей и образов поэта подтверждает С. Раевский, живший с ним в Петербурге в одной квартире. Друг поэта вспоминает, что чувства и мысли Лермонтова сменялись с какой-то необычайной быстротой. Как ни была глубока, как долго ни таилась в уме его мысль, он обнаруживал её пером и кистью с изумительной лёгкостью. Однако спонтанность (в данном случае поэтического) озарения лишь подчёркивает значимость произведения в его явленной из глубины сознания содержательности. Этот феномен сам по себе свидетельствует о концентрации знаний духовной и исторической жизни человека. Поданные с невероятной быстротой и мощью творческой энергии ветхие пласты человеческого бытия покоряют простотой подачи, убедительностью художественной правды и красотой стиля. Перехлёстывая через «край» сознания, поэма эта как будто достигает «краёв» самой вечности. По глубине и охвату темы родственная духовному подвигу «Ветка Палестины» обнажает внутреннюю чистоту поэта, которую отражают кристаллы ясной и модально выверенной художественной формы. Подобно Кастальскому ключу, строки поэмы несут в себе и земную правду, и вечную, не осквернённую человеческим тщеславием и мелкодушием. Посему правда эта труднодоступна для поверхностного мышления и суетного сознания. Само же произведение дышит историей. И не только ею. Вещие строки поэта содержат в себе предведение, пророческую силу и ясное ощущение библейских времён. Может, именно эти свойства роднят величавое течение мыслей и ассоциаций поэта с насыщенными библейской историей «водами Иордана», в сознании Лермонтова символизирующими несокрушимый, неизменный ток времени и единовременно – бесстрастность нескончаемой вечности.
Тонкие листья увядшей пальмовой ветви, ассоциативно перенеся мысль Лермонтова в ушедшие тысячелетия, затронули тончайшие струны его души, и он предстаёт пред нами другим – совершенно не схожим с образом мятежного гордеца, наделённого «дерзким и несносным характером». Посредством образов, растворённых в неустанном потоке вечности, поэт видится как будто вне личности, – средоточия человеческих несовершенств. Именно в этом затаённом от всех качестве он склоняется пред «заботой тайною хранимой» веткой Палестины, не иначе как по вышнему произволению занесённой в пронизываемый холодными и сырыми ветрами Петербург. В иссохших листах пальмы читая игру лучей нещадно палящего солнца, Лермонтов видит листья брошенными народом наземь во славу Учителя. Но пройдёт время, и те же люди, поправ священные листья, бросят свои проклятья в Того же… Поэт как будто видит и слышит их…
Мысль поэта переносится в край, где горные хребты Сирии и Ливана тысячелетиями укрывали ливанский кедр; край, взрастивший не тлеющие в веках египетские смоквы. Руками тесальщиков превращённые в глубокие ковчеги, они становились вечным пристанищем могущественных фараонов. В последний раз напоённый бальзамом и пальмовым вином пускался прах их в параллельный мир, где, как верилось египтянам, как и на земле, текут благодатные воды Нила. Но то были тамошние упования. Между тем, «здесь» воды Нила меняют свои русла, а ветры и пески пустыни одинаково небрежно гуляют как по величественным пирамидам и ступам, так и по безвестным приютам безымянных аравийских кочевников. Стираемые временем и те, и другие превращались под солнцем и ветром в песчаные холмы, пыль и золу… Но наряду с реальными и подсознательно достоверными Лермонтов создаёт эпические картины, в содержание которых вклинивается боль души его (или, лучше сказать, накопившейся к его) времени. Многие столетия, потраченные на поиск истины лучшими и мудрейшими из людей, не оправдали своих усилий, и, со временем это стало очевидным, во многом дискредитировали и даже опровергли себя… И всё это повторялось. Многократно. И то, что было, повторяясь, обращалось в то, что будет… И опять всё текло попрежнему… Ибо то, «что делалось, то и будет делаться…», – писал Екклесиаст (1:9).
Вслушаемся же в ритм истинной поэзии, шелест пальм и «шум» истории:
Скажи мне, ветка Палестины: Где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины Ты украшением была? У вод ли чистых Иордана Востока луч тебя ласкал, Ночной ли ветр в горах Ливана Тебя сердито колыхал?Стихотворение начинается с вопросов. Географически локальные и даже «местные», они охватывают огромное духовное пространство. Пронизывая всё произведение, вопросы эти отсылают нас в библейские времена, преследуя цель ощутить или даже войти в прежнее духовное состояние. И становится ясно, что смысл произведения именно в этом. Через видимый символ (не в каноническом смысле) христианства Лермонтов пытается найти контакт с тем временем.
«И пальма та жива ль поныне?» – спрашивает он тысячелетнюю вестницу: «Всё так же ль манит в летний зной?..» – обращается он к той пальме, которая в отличие от других – нетленна. В поисках духовности утраченного времени великий поэт спонтанно разворачивает перед нами панораму, красочность которой включает в себя многое, но ещё больше подразумевает; в этом многом угадывается и невысказанное им… Ветвь-символ «знает» больше, нежели человек, даже и самый просвещённый. Отсюда настойчивые обращения-вопросы Лермонтова: «Скажи…», «Поведай…». Вместе с тем в символических просьбах поэта угадывается смиренное приятие им любого ответа, ибо «ответ» этот вышний, а потому подлинный! Зная прошлую и как будто провидя последующую судьбу Палестины
(по легенде обязанной своим названием римскому императору Адриану, хотя источники свидетельствуют о том, что персидский царь Кир Великий ещё в 537 г. до н. э. разрешил евреям вернуться в Палестину), Лермонтов метафорически уходит в глубь печальной судьбы Израиля эпохи Второго Храма…
Молитву ль тихую читали Иль пели песни старины, Когда листы твои сплетали Селима бедные сыны?Эти строки, говоря о многом, подразумевают большее…
Так случилось, что на небольшом участке земли, где неприкаянно обитали «сыны Селима»[51], за столетия столпились многие племена и народы.
Радость вернувшегося колена Вениаминова омрачилась тревогой, вызванной противостоянием прижившихся в средней Палестине халдеев и сирийцев, богослужение которых составляла смесь израильских и языческих верований. Двухсотлетнее персидское владычество было безрадостно. Сменившая его власть македонского царя скоро перешла к египетским Птоломеям и Селевкидам, поделившим между собой наследство Александра Великого. Источники Иордана были свидетелями поражения последнего Птоломея (в 198 г. до н. э.) от Антиоха III из династии Селевкидов. Прозванный «Великим» и бывший таковым Антиох, снедаемый честолюбием, овладел Иерусалимом и всей Палестиной, но, разгромленный римлянами, скоро погиб бесславной смертью грабителя безвестного храма…
Вновь рассеянные, иудеи пытались оградить храм Соломона от посягательств язычников (греков и римлян), которые при наследнике Антиоха оскверняли храм жертвоприношениями Зевсу (именно на месте старого Храма римляне чуть позднее выстроили храм Юпитеру Капитолийскому[52]). Опять восстав, иудеи несколько десятилетий отважно защищали свою святыню, но новь были жестко подавлены. Почти двести лет копилось возмущение, и в 66 г. оно открыло себя в восстании против римского владычества.
Истины ради скажем, что к тому времени в стане иудеев давно уже не было единства, потому восстания их не были однозначно антиримскими. В то время Иерусалим представлял собой горн, полный раскалёнными углями духовных фракций – фарисеев, ессеев, саддукеев, эллинистов и прочих «неучтённых», из числа которых выделились непримиримые зилоты. «Поселив» Единого Бога в храме Соломона, они только себя считали вправе ревновать Всевышнему. В пику им эллинисты полагали, что Бог живёт не только в Храме. «Только война, мощно и внезапно обрушившаяся на Иерусалим, положила конец беспрерывным распрям, раздиравшим его партии», – пишет Иосиф Флавий в «Иудейской войне».
Окончанию распрей, как это ни покажется странным, способствовало ещё и снижение духовной составляющей иудеев. Религиозное противостояние привело к созданию партий и войне между ними, в результате чего иудаизм, кристаллизовавшись в «здешних» привязках, из религии выродился в идеологию. Идеологию «правящего класса» иудействующих – жрецов и левитов. Горн междуусобиц чреват был гражданской войной, которую не хотели допустить ценящие порядок римляне.
Знал ли Лермонтов перипетии религиозных схваток и рукопашных боёв, суть которых открылась лишь учёным, имевшим доступ к письменам, и подчас – в более поздние времена?
Может, и не знал. Но поэту и не нужно было знать то, что он ведал – образно и без искажений. «Селима бедные сыны» были «бедны» своей нетерпимостью не только к иным верованиям, но и к самим себе…
Дальнейшее известно: теперь уже сыном римского императора Веспасиана Тита Иудея была предана огню и мечу. Несмотря на непрекращающиеся в Южной Палестине духовные разногласия, и последующие поколения иудеев оставались верны святыням своих предков, которых по-прежнему презирали римские колонисты-язычники. В 132 г. под предводительством Бар-Кохбы было поднято восстание, вошедшее в историю под названием II Иудейской войны. Рим и на этот раз подавил сопротивление, после чего в Южную Палестину были направлены новые партии колонистов. Полнясь пришельцами, Иудея из века в век являла собой тлеющую в землях Ближнего Востока и подчас ярко вспыхивающую духовную, этническую и культурную мозаику. Эти палящие во времени «куски смальты» обречены были, воюя между собой, многие столетия обжигать ненавистью древние холмы и долины…
Так явила себя историческая правда. Лишённая справедливости и противостоящая истине, она содержит в себе множество невыученных уроков истории.
На фоне взаимных усобиц, нескончаемых войн, бунтов и нашествий новых кочевников лишь прохладные воды Иордана, собранные из источников Хермонской вершины, искрясь на солнце, были попрежнему свежи, чисты и безмятежны. Из века в век они освежали собой знойные долины, в которых мирно уживались любящие тёплый климат стройные пальмы и не терпящий жару дуб. На севере проходя через Галилейское море, на юге воды Иордана теряются в Мёртвом море, на которое взирали замершие в нескончаемом времени горные вершины Ливана и Хермона.
Покрытые вечными снегами, они высятся над серпантином гор и перемежающих их долин, тянущихся до песчаной пустыни на юге, где африканская жара убивает всякую растительность. До сих пор места эти, обращённые в утлые города и селения, являют собой незаживающие раны живущих там народов…
Словно воплотившись в дух и бытие времени, Лермонтов воссоздаёт тайный смысл истории, воспроизводя невысказанное содержание ушедших столетий. Но достигает он этого как будто не только словесными средствами. Лицезрея жизнь той пальмы, на которой он различает святую пыль того времени, поэт прибегает к цветам и краскам, которые создают ощущение немеркнущей жизни. Вместе с тем, стоя над горечью народов Палестины, поэт ясно видит и путь к гармонии, который даёт в образе «ветки» – символа непреложной Истины, той, которую нёс в себе достойный небес «божьей рати лучший воин»:
И пальма та жива ль поныне? Всё так же ль манит в летний зной Она прохожего в пустыне Широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной Она увяла, как и ты, И дольний прах ложится жадно На пожелтевшие листы?.. Поведай: набожной рукою Кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ты след горючих слез? Иль, божьей рати лучший воин, Он был с безоблачным челом, Как ты, всегда небес достоин Перед людьми и божеством?.. Заботой тайною хранима, Перед иконой золотой Стоишь ты, ветвь Ерусалима, Святыни верный часовой!Последние строки поэмы ложатся в сознании подобно вешним лучам солнца – сумеречно, мягко и торжественно:
Прозрачный сумрак, луч лампады, Кивот и крест, символ святой… Всё полно мира и отрады Вокруг тебя и над тобой.2
Интерес Лермонтова к «восточной» тематике не ослабевает. В последнее своё пребывание в Петербурге он сообщает своему издателю А. Краевскому: «…поверь мне, – там, на Востоке, тайник богатых откровений». А за год с небольшим до того пишет стихотворение «Три пальмы», в котором перекликается и даже как будто полемизирует с Александром Пушкиным.
В «Подражании Корану» (1824, VIII–IX) Пушкин провозглашает неприемлемость и Богом, и людьми расчётливой доброты (VIII):
Торгуя совестью пред бледной нищетою, Не сыпь своих даров расчётливой рукою: Щедрота полная угодна небесам. В день грозного суда, подобно ниве тучной, О сеятель благополучный, Сторицею воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжанья, Вручая нищему скупое подаянье, Сжимаешь ты свою завистливую длань; Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной, Что с камня моет дождь обильный, Исчезнут, господом отверженная дань.Скупой дар в завистливой длани не угоден Богу, ибо подобен праху земному – горсти пыльной, в то время, как безрасчётное – всецелое добро вознаграждается сторицей.
Грешен и ропот на Божью волю, поскольку вводит в глубокий сон души и разума. Душа вне укоров совести может и не проснуться… «В пустыне блуждая три дня и три ночи», путник, ропща на Бога, бесплодно ищет ручей или хотя бы тень. Но вот, измождённый, томимый телесной жаждой, он видит «кладезь под пальмою». Духовное зрение путника, очевидно, устав задолго до физического истощения, ещё более оскудело за время несчастливого путешествия; и он, и сейчас не вспомнив о Боге и не благодаря Его, – бежит к источнику:
…И жадно холодной струёй освежил Горевшие тяжко язык и зеницы, И лёг, и заснул он близ верной ослицы — И многие годы над ним протекли По воле Владыки небес и земли.Надо полагать, это место олицетворяет собой многолетний сон человечества, олицетворённого в неблагодарном, «усталом» в грехе путнике. Но вот прошло и это время… Долго ты спал, говорит устами Пушкина неведомый глас (отрывок IX):
… Взгляни: лёг ты молод, а старцем восстал, Уж пальма истлела, а кладезь холодный Иссяк и засохнул в пустыне безводной, Давно занесённый песками степей; И кости белеют ослицы твоей.В этот момент в объятом горем старике просыпается душа, и он постигает сущность свершившегося. Из глубины сердца исходит обновление души его и сознания; в какие-то мгновения он становится старцем, а в духовных реалиях – отшельником. Безрасчётная искренность его полна раскаяния. «Бывший» старик (т. е. бывший им до наступившего духовного возрождения) казнит прежнее своё нерадение, пеняя на слепой, соблазнивший его сон, который и есть сон души, сознания и разума.
Новый – внутренний человек в преображающемся на глазах «старике» понимает заслуженность кары. Совокупность новых качеств и обусловливает его глубокое внутреннее преображение. Пароксизм отчаяния – в своей сути глубоко смиренного – через новые реалии пробуждает в старике нового человека, и Всеблагой вознаграждает его прежним обличьем:
…И чудо в пустыне тогда совершилось: Минувшее в новой красе оживилось; Вновь зыблется пальма тенистой главой; Вновь кладезь наполнен прохладой и мглой. И ветхие кости ослицы встают, И телом оделись, и рёв издают; И чувствует путник и силу и радость; В крови заиграла воскресшая младость; Святые восторги наполнили грудь: И с Богом он дале пускается в путь.Так заканчивается у Пушкина «Подражание Корану».
Реминисценцию из Пушкина Лермонтов превратил в эпическое сказание. Несколько смещая акценты, поэт говорит о неприемлемости ещё и гордой доброты – той, которая настаивает на себе. В этом месте он полностью солидарен со своим великим современником, заявившим: «Щедрота полная (но не скупая, завистливая или самодовлеющая) угодна небесам».
Вместе с тем в «Трёх пальмах» Лермонтова нет чуда, счастливо венчающего пушкинское «Подражание…». Нет там ни ослов, ни ослиц. Вместо них – верблюды, мерным ходом своим располагающие воображение к ощущению нескончаемых пустынь, зноя и обжигающего жара песков.
«Восточное сказание» Лермонтов начинает описанием степного оазиса – своеобразного маленького Эдема аравийских пустынь. В первой же строке стихотворения слышится не только шелест раскалённого песка, но стелящийся по нему ветер, который, наталкиваясь на «стволы» из твёрдых согласных, останавливает внимание читателя на излучине непосредственного действа:
В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли, Родник между ними из почвы бесплодной, Журча, пробивался волною холодной, Хранимый под сенью зелёных листов, От знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли; Но странник усталый из чуждой земли Пылающей грудью ко влаге студёной Ещё не склонялся под кущей зелёной. И стали уж сохнуть от знойных лучей Роскошные листья и звучный ручей.Завязка поэмы строится на том, что, размеренная, не знающая перемен жизнь не воспринимается уже благом. Бытие «пальм» спроецировано от общества, протекает вяло, бездеятельно и – применительно к теме – безличностно. В токе времени перестаёт цениться и даже ощущаться привычный ход вещей, а установленный порядок не воспринимается уже таковым. На этом фоне жажда деятельности понимается буквально – в активном и подчас бездумном участии в бытии, иной раз сопряжённом с трагическими и невосполнимыми переменами его.
И стали три пальмы на Бога роптать: «На то ль мы родились, чтоб здесь увядать? Без пользы в пустыне росли и цвели мы, Колеблемы вихрем и зноем палимы, Ничей благосклонный не радуя взор?.. Не прав твой, о небо, святой приговор!»Здесь «добро» непременно хочет быть заметным – узнанным, увиденным, услышанным и задействованным. Степень пользы в ходе ожидаемых (и даже требуемых!) перемен не признаётся существенным, потому что она (польза) «очевидна». Забота о будущем также не проглядывается в этих требованиях, что вызвано неведением объективных обстоятельств настоящего, всегда существующего между прошлым и будущим. И неведение это глубокое, потому что в нём нет понимания прошлого и видения будущего.
В этой сумме неведений активная деятельность самоценна как таковая, то есть за незнанием предопределённого безотносительно к ожидаемому результату; в напоре «доброты» отсутствует понимание связей сущего, а потому нет и осознавания собственно добра… И всё же «небо», вняв ропоту, как будто сжалилось над гордыми пальмами:
И только замолкли – в дали голубой Столбом уж крутился песок золотой, Звонков раздавались нестройные звуки, Пестрели коврами покрытые вьюки, И шёл колыхаясь, как в море челнок, Верблюд за верблюдом, взрывая песок.В каскаде метафор на глазах читателя рождаются удивительно живые и яркие «по краскам» сцены, напоминающие «африканскую кисть» Эжена Делакруа и искромётные рисунки самого Лермонтова. В живописных «видах», созданных как будто бы игрою сиюминутного воображения, гений поэта и художника сливаются воедино. Впоследствии, пожалуй, лишь кисть великого Врубеля сумеет так же «жарко» выразить изящество и богатство восточного колорита. Здесь же, в «цвете» слова, почти физически ощущается не меняющееся с веками бытие кочевников, подчёркиваемое неспешным ходом каравана, в котором бьёт ключом своя жизнь:
Мотаясь, висели меж твёрдых горбов Узорные полы походных шатров; Их смуглые ручки порой подымали, И чёрные очи оттуда сверкали… И, стан худощавый к луке наклоня, Араб горячил молодого коня. И конь на дыбы подымался порой, И прыгал, как барс, поражённый стрелой; И белой одежды красивые складки По плечам фариса вились в беспорядке; И с криком и свистом несясь по песку, Бросал и ловил он копьё на скаку. Вот к пальмам подходит шумя караван: В тени их весёлый раскинулся стан, Кувшины звуча налилися водою, И гордо кивая махровой главою, Приветствуют пальмы нежданных гостей, И щедро поит их студёный ручей.До сих пор всё идёт хорошо… Польза, о которой мечтали пальмы, налицо: желание добра соединилось с приятием его. Но именно здесь «пружина» сюжета начинает разжиматься, в «кольцах» своих являя диалектику нарушенного бытия: гордыня – как во зле, так и в делании добра – не приводит ни к чему путному. Вне тока духовной эволюции могут возникать лишь насильственно слагающиеся обстоятельства, которые и создают всякого рода «противоположности». Складывающиеся калейдоскопически, они открывают другую сторону реальности. В по-новому или вчуже слагающихся условиях они являются той жестокой реальностью, которая уничтожает саму жизнь… Причём жестокость этих «новых» реалий вовсе не обязательно вытекает из существующих (политических или социальных) противоречий.
Всё гораздо проще: человек, живущий бездуховной жизнью, никогда не будет ценить то, что выходит за пределы его потребительских интересов. Здесь, в «факте» конфликта «пальм», по сути, зашифрована вся человеческая история, которая на протяжении тысячелетий являет собой непрекращающуюся жестокость, эксплуатацию, предательство и вражду, замешанные на крови, духовном ханжестве и светском лицемерии… Фактически перед нами предстаёт история «человеческого» отношения к жизни через… неприятие и даже отрицание её:
Но только что сумрак на землю упал, По корням упругим топор застучал, И пали без жизни питомцы столетий! Одежду их сорвали малые дети, Изрублены были тела их потом, И медленно жгли их до утра огнём. Когда же на запад умчался туман, Урочный свой путь совершал караван; И следом печальным на почве бесплодной Виднелся лишь пепел седой и холодный; И солнце остатки сухие дожгло, А ветром их в степи потом разнесло. И ныне всё дико и пусто кругом — Не шепчутся листья с гремучим ключом; Напрасно пророка о тени он просит – Его лишь песок раскалённый заносит, Да коршун хохлатый, степной нелюдим, Добычу терзает и щиплет над ним.И в этом произведении предвещая то, что неизбежно должно произойти (и таки произошло!), Лермонтов указывает на опасность столь же банального, сколь и преходящего потребительского отношения человека к благам природы и беспощадности ко всему живому, включая ближних своих. И здесь поэт заостряет свою мысль не столько на человеческой неблагодарности (это свойство, ввиду его широкой распространённости, как будто давно уже перестало считаться пороком), сколько на грехе глубокого (до подлости!) равнодушия ко всему… Именно взращённое безжалостностью равнодушие, по мысли поэта, приводит к фатальному для всех форм жизни слепому бездумию, при котором реалии воспринимаются не в своих истинных качествах. И тогда в искривлённом зеркале пустого ума и ополовиненной души способность к накоплению видится умом, а бескорыстие предстает, как безнадёжная глупость. Искренность воспринимается, как нелепость; честь и достоинство – как негодные «для жизни» и даже опасные для неё; дружба – как «хорошая» возможность обогатиться за счёт другого. При таком состоянии духа приятие добра понимается буквально, как полезное только для себя. Само же добро не воспринимается в качестве носителя нравственной и этической категории. При таком раскладе (или разложении души) оно является лишь «счастливой» возможностью – упущенной или реализованной, не суть важно – приумножить блага, которыми могут быть только материальные.
Равнодушно-эгоистическое пользование оказываемым добром (при этом не замечая и не ценя его) тем страшно, что свидетельствует о тяжёлом сне души, рождающем химеры… Любая активная подлость, принося зло, энергетически рано или поздно всё же исчерпывает себя. В то время как равнодушие есть постоянная, неменяющаяся во времени в своих характеристиках, а потому не устающая в своём негативе самость, в чреве которой свивают свои гнёзда коварство и зло, порождая и множа разномасштабную подлость. «Искал друзей – и не нашёл людей…», – писал об этом Лермонтов в 1830 г. В этой до предела сжатой мысли поэта указан сниженный диапазон человечности, что в не меньшей мере и при несомненно большей ответственности духовного сословия относится к нему более, нежели к какому-либо, включая потомственных или невольных язычников. Апостол Павел пророчески говорил о тех, кто, погрязнув в чтении священных текстов, видят одни лишь буквы: «Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу» (К Титу, I:16).
В поэме Лермонтова кочевники (читай – те же миряне), сжигая дерево, дающее благотворную тень, и оставляя после себя почву бесплодную, на которой «лишь пепел седой и холодный» – уничтожают саму жизнь… «И ныне всё пусто и дико кругом», – завершает свой реквием по такой жизни поэт. На фоне содеянного просьбы ключа о тени выглядят и жалко, и нелепо. Потому они и не востребованы. Не ценящие живое, заслуженно обречены на пустоту мёртвого…
Весьма интересно, что в стихотворении Лермонтова «Три пальмы» нет персон: есть «караван» и «нежданные гости», но нет главных героев. Хотя зло, которое они приносят, «очеловечено» и в содержательном ключе произведения общественно значимо, поскольку несёт гибель человеку. Открывая-таки присутствие последнего, Лермонтов делает это мастерски и исключительно декоративными средствами. Так, наверное, арабская швея искусно включает в свой живописный ковёр какой-нибудь яркий орнамент, узор из листьев лотоса или играющих с солнцем пальм. Именно это не узнанное в героях безличностное зло придаёт стихотворению-сказанию, поданному в форме восточной притчи, поистине эпическое звучание. В полифонии художественного, философского и этического смыслов поэмы слышатся мелодии, уходящие высоко в небо и в то же время стелющиеся по извивам земли. Ибо в своём духовном (и в этом смысле глубоко религиозном) посыле поэма-притча является напоминанием о непреходящей духовной самоценности нравственности. Той безрасчётной, чистой и самодовлеющей нравственности, которая всё ещё способна изменить мир человека – и внутренний, и внешний. Пафос рассмотренных «сказаний» Лермонтова являет собой вышнее напоминание той проповеди, которая адресована была всем… В этой ипостаси оба стихотворения Лермонтова пересекаются с темой пушкинского «Подражания Корану».
Следует обратить внимание ещё на один принципиальный момент. Великие умы и деятели творчества Запада раскрывали версии «сна Разума». Просвещённого, а затем и ослеплённого «светом» знаний, которые освоить были не в состоянии. Лермонтов знал это, но знание его было нераздельно с тем художественным Словом, которое органично Великому Первоначалу. Воплощённое в мощной мысли и ярких образах, Слово поэта потому не меркнет во времени, что, подобно драгоценному алмазу, содержит в себе не исчезающие в человеке россыпи божественного.
И в этом симбиозе Лермонтов выступает как мыслитель именно духовного плана. Поэма-притча Лермонтова о потерявшей себя душе и ослепшем сознании, нацеленном на скорый успех, настолько ёмка, глубока и убедительна, что позволяет считать «Три пальмы» произведением прежде всего духовной мысли.
Виссарион Белинский, прочитав в августе 1839 г. «Три пальмы» в «Отечественных записках», писал Краевскому: «Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое». Месяцем позже в письме к Станкевичу Белинский приводит целиком «Три пальмы» и заявляет: «На Руси явилось новое могучее дарование – Лермонтов»!
3
Гений Лермонтова мужает не по дням, а по часам. Ему становятся доступными неведомые или забытые человеком реалии и вышние образы. Период, когда «грозы» бытийного мира (в котором он с отрочества чувствовал себя чужим) рушили «неверное создание» отрока, давно миновал. Много раз встречавший опасность и не однажды видевший смерть в бою, Лермонтов ещё чаще встречается на светских раутах с «нивой» иного рода. Это приносило свои плоды – он становится сильнее духом, в нём активно зреет пророческое видение, оттачивается мысль. В то же время «мысль» поэта принадлежит тем же, с отрочества только ему известным пространствам. Наряду с ними Лермонтову всё очевиднее представало поле битвы, на котором ему не дано было одолеть невидимого врага… Помимо молитвенного состояния души, при котором он «видел Бога» и мог черпать новые силы, Лермонтов находил уединение в по-прежнему неведомом никому «царстве дивном» или поднимаясь на горные вершины. В эти минуты, оставаясь наедине с ними, душа его залечивала свои раны, а «пессимизм силы, гордости, божественного величия» (О. А. Андреевский) достигал предельной искренности, глубины и трагизма. В этом состоянии создавались великие произведения и задумывались новые.
Но не горы окружали великого поэта, а люди, при мелкости которых первые выглядели особенно величественно. Такова реальность, и Лермонтов не мог не считаться с нею. С наступлением зрелости он внутренне становится как будто более осторожным, а внешне по-особому или, лучше сказать, по-своему внимательным к людям, что отметил ещё при жизни Лермонтова в одном из своих писем Ю. Ф. Самарин: «Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами».
Тогда же Лермонтов отмечает про себя ценность «истории души человеческой, хотя бы самой мелкой души», и говорит об этом устами Печорина в романе «Герой нашего времени». И всё же мысль поэта недолго задерживалась на «мелких душах», поскольку сущностно он пребывал далеко от них. Когда же возвращался, его опять ждали испытания и битвы, увы, не достойные гения.
Свидетельством тому является написанное кровью сердца стихотворение «1-е января», беспощадное к себе, к своей эпохе и к так и не реализовавшему свой потенциал человеку. Рождённое не столько откровением разочарованного духа, сколько универсально страдающей душой, это произведение может послужить ключом ко всему творчеству поэта.
Во время короткого своего пребывания в Петербурге Лермонтов, нарушив негласное табу, под новый 1840 г. посетил бал Дворянского собрания. Надо знать, что в высшем свете считалось крайне дерзким и неприличным, если опальный офицер, отбывающий наказание, смеет явиться на бал, на котором присутствовали члены императорской фамилии. Лермонтов знал это. И пришёл. Возможно, он надеялся хоть в чём-то ошибиться относительно общества или поправить что-то в своём восприятии его. Итак, Лермонтов вновь оказался среди людей, в ритме мазурки привечающих паркетный блеск и каноны «приличных» манер, но никогда не прощающих тех, кто не следует тому же. Окружённый давно знакомой ему «пёстрою толпою», «забывший приличия» поэт очутился среди множества картонных ликов и стёртых лиц, мало чем отличающихся от масок. Рассеянно поглядывая на толпу и не особенно надеясь распознать в ней лица, он находит вокруг себя лишь «приличьем стянутые маски», среди которых, надо сказать, в то время был очень моден.
Втянутый в вихрь бала, Лермонтов вовсе не желал ненароком сбить какую-нибудь из них. (Доп. VIII) В эти минуты внутренне отдаляясь от сияющих танцоров, он старается не попадать в потоки знакомых ему с отрочества «холодных волн».
Быть может, холод последних в эти минуты отнёс поэта далеко от «масок» и от Дворянского собрания – и он узнаёт себя в местах своего детства:
И если как-нибудь на миг удастся мне Забыться, – памятью к недавней старине Лечу я вольной, вольной птицей; И вижу я себя ребёнком; и кругом Родные всё места: высокий барский дом И сад с разрушенной теплицей; Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд, А за прудом село дымится – и встают Вдали туманы над полями. В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты Глядит вечерний луч, и жёлтые листы Шумят под робкими шагами…Поэт чрезвычайно живо воплощает свою «мечту» в реалии, в той или иной мере знакомые каждому человеку. Однако истинные её формы выходят далеко за пределы барского дома и сада, с разрушенной теплицей. Не в состоянии ни оживить дрёмы своей души, ни пребывать в них так долго, как того хотелось, поэт любит своё создание, ибо лишь оно одно связывает его с истинной реальностью, полной «лазурного огня». В это время Лермонтова посещают мысли, ассоциации и настроения, никак не совместимые с окружающими его людьми:
И странная тоска теснит уж грудь мою: Я думаю об ней, я плачу и люблю, Люблю мечты моей созданье С глазами, полными лазурного огня, С улыбкой розовой, как молодого дня За речкой первое сиянье. Так царства дивного всесильный господин — Я долгие часы просиживал один, И память их жива поныне Под бурей тягостных сомнений и страстей, Как свежий островок безвредно средь морей Цветёт на влажной их пустыне.Ясно, что чудесное видение не может длиться слишком долго среди толкотни «масок». Чья-то игривая шаль или гусарский «локоть», очевидно, вызывает поэта из оцепенения:
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, И шум толпы людской спугнёт мечту мою, На праздник незваную гостью, О, как мне хочется смутить весёлость их И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью!..Заметим, что «горечь» Лермонтов ставит впереди «злости». И отнюдь не только из ритмического удобства. Ибо горечь его есть сожаление, причём – глубинного характера! То г о, который превышает всякое личное отношение. Поэту горько не только от «сегодняшнего» его окружения, но оттого, что ничего не меняется!.. Мечтами и чаяниями существуя в своём времени, но принадлежа «всему», поэт негодует на всевечную неисправимость человека, в данном случае заявленную в обществе, считающемся высшим.
О том, что стихотворение Лермонтова не отражает лишь «мотив» тогдашнего своего настроения, говорит всё его творчество, как раннее, так и «позднее».
В юности ещё разгадав людей, эту «кучу каменных сердец», души которых «волн холодней», Лермонтов глубоко разочарован, но это не отлучает его от веры в сокрытые в человеке вышние достоинства, природа которых уходит в праисторию. Поэт мечтает о наступлении «золотого века», когда люди вновь станут невинными и чистыми, как дети:
Не будут проклинать они. Меж них ни злата, ни честей Не будет; станут течь их дни, Невинные, как дни детей. Меж них ни дружбу, ни любовь Приличья цепи не сожмут, И братьев праведную кровь Они со смехом не прольют. 1830Как видим, и через десять лет Лермонтов, постигнув людей на несравненно более высоком уровне, всё же склоняется к «древней» своей, а лучше сказать – надисторической мечте. В романе «Герой нашего времени» он по существу пишет о том же: «Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: всё приобретённое отпадает от души, и она делается вновь такой, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять».
Нет нужды уточнять, что Лермонтов не имел в виду некую идиллию, в которой «всё прекрасно». В которой и стар, и млад, представляя собой идеальное общество, исполненное высокого личного и семейного достоинства, являют собой степенные картины в духе предреволюционного французского классицизма. О такой идиллии поэт мог говорить лишь с налётом добродушной иронии, в чём и признаётся: «Смотреть до полночи готов / На пляску с топаньем и свистом / Под говор пьяных мужичков» («Родина», 1840).
К слову, именно в этом стихотворении поэт, с великой любовью описывая исторические и природные нивы России, проговаривается о чём-то большем. Потому и говорит о странной своей любви к Отчизне. Эта «странность» ему дороже «высоких материй», в духе заветных преданий «тёмной старины» и славы, купленной кровью. Здесь поэт ясно говорит о значимости «незначительного» – того, что составляет для него Отчизну, которая истинно наполняет его жизнь глубоким содержанием. Мы уже приводили мысль Лермонтова о полезности «истории души» даже и самого маленького человека. Её оттеняет внутренний монолог Печорина о людях, некогда премудрых и их жалких потомках, после чего герой обращает свой взор на звёзды, которые «спокойно сияли на тёмно-голубом своде». Представляется очевидным, что «незваная гость» – «мечта» Лермонтова в стихотворении «1-е января» – есть не что иное, как воспроизведение в подсознании исчезнувшего уже мира, который никто не помнит уже, но который некоторые знают… И «овеществление» этого мира в «детстве» поэта является метафорой, наиболее способной передать «детскую наивность» тех людей и того мира. Не вовлечённые ещё в историческую жизнь, они, надо думать, владели формами бытия, рядом с которым последующие общественные формации кажутся нагромождением инновационного хлама. Бал, очевидно, был лишь внешним раздражителем, разбудившим подсознание поэта. Как в солнечный день внезапно надвинувшаяся тень понуждает вас взглянуть на небо, так и фальшивое веселье, по контрасту, вызвало в душе Лермонтова заветные идеи и первозданные образы. В тех обстоятельствах слепое веселье в глазах поэта было сродни затмению или пиру во время чумы. Для ассоциаций такого рода вовсе не обязательны какие-то особые условия, поскольку всегда и при любых обстоятельствах человек и общество, говоря о себе, заявляют о своих главных качествах. Другое дело – уметь увидеть их. Озарение такого рода, при необходимых для этого обстоятельствах, посещает лишь готового к нему. Не только Архимед купался в ванной и не только Ньютону пало на голову яблоко – важен ещё субъект, вовлечённый в действо.
В данном случае среда – поверим поэту, – большей частью состоявшая из тех, чьи лица немногим отличались от привычных и даже сроднившихся с ними карнавальных масок – лишь аккумулировала в себе свойства, которые способно было вскрыть другое сознание. И в таком кругу умеющему видеть откроется истинная, исторически неизменная и духовно ущербная сущность «всего» человека. Ибо включает она в себя «те же», не меняющиеся в веках мысли, дела и побуждения.
Реальность такого рода, явленная именно в таком виде, истинно трагична. Именно в эти минуты Лермонтов с горечью (и добавлю – человеческой злостью) осознаёт, что всё напрасно! – и духовные подвиги, и исторические геройства… И не в конкретном обществе и даже не в России тут дело (Доп. II). Не греша сиюминутностью настроений и не имея иллюзий относительно любого общества, Лермонтов, обращая взор на своё поколение, бросает свой «железный стих» не только в него. Отражая эпоху (но принадлежа не только ей), «стих» этот, закалённый во времени и заворонённый в многоконфессиональном безверии, долго ещё будет пугать тех, кто не осознаёт многомерность трагедии пересозданного человеком бытия!
Стихотворение «И скучно, и грустно» (1840) было написано в схожем состоянии духа – духа, распятого в земной юдоли. Именно в этой психологической нише в душе Лермонтова родились мысли, со времён Екклесиаста никем не опровергнутые до сих пор!
Лермонтов берёт «руду» человеческих свойств такой, какая она есть, и, не очищая, – отливает её в своеобразный памятник «жизни». Созданный в какие-то мгновения, но видимый издалека, он как будто содержит в себе патину многих веков. И несправедливо будет пенять поэту на то, что «монумент» его выглядит страшно, ибо не он придумал свойства этой «руды»:
И скучно, и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды… Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. А годы проходят – всё лучшие годы! Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда, А вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: И радость, и муки, и всё там ничтожно…Каждое слово здесь чеканит непреходящие в веках и не меняющиеся в них человеческие устремления, развитие которых не отличается многообразием, а финал одинаков…
Напрасна вековая мысль человека… – его страдания, мужество в борьбе за лучшую жизнь и тяжёлые поражения на этой стезе… Напрасны искусство и явления творчества… А значит – и радость, и печаль…
Напрасны лучшие движения души и любовь к ближнему – безответная, униженная или преданная. И счастье, и доблесть, и ненависть – всё эфемерно и… бесплодно! Всё суета и тлен! Ничто не способно изменить того, кто не желает этого сам!
С потрясающей силой, простотой и «железной» логикой Лермонтов даёт контуры сущностей, которые по своей плотности и богатству смысловых оттенков превосходят пространные трактаты и, пожалуй, тяжелее томов психологических исследований о человеке. Без оглядки на Соломона, Лермонтов – мыслитель и мистик – даёт срез бытия, который включает в себя и «законные» притчи, и древние апокрифы: и сказанное и записанное, и сказанное, но забытое, и не сказанное…
Но и в этом своём «многовековом отчаянии» Лермонтов фиксирует лишь «часть» человеческого бытия. Ибо только лишь в отчаянии не могли бы развиться непреходящие по своим духовным, этическим, нравственным и художественным достоинствам «тонкие материи», созданные тем же человеком.
Но в данный момент не о них речь…
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг Исчезнет при слове рассудка: И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, Такая пустая и глупая шутка… Это уже не «железный стих»… – это приговор!Но горечь от такой жизни не есть истина в последней инстанции. Лермонтов знает это! И, зная, показывает другим зев бездны, в которой исчезает пустая жизнь и в которой может исчезнуть душа человеческая… Последнее страшно, потому что тогда весь мир ни к чему… Тогда и воля, и гений человека – бесполезны, как пуста и никчёмна жизнь – безутешная, бездушная и не осознанная… Тогда и все проявления её лживы, ибо исходят от неприкаянного духа. Тогда всякая правда оборачивается ложью. Ибо ложь, змеем извиваясь на месте утраченной души, чести и совести, рядится истиной. Потому, раскрывая всё это, Лермонтов предостерегает!
В величественном произведении «Пророк» поэт прибегает к иносказанию, но теперь оно носит у него подчёркнуто личностный характер:
С тех пор как Вечный Судия Мне дал всеведенье пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром Божьей пищи; Завет Предвечного храня, Мне тварь покорна там земная; И звёзды слушают меня, Лучами радостно играя…– говорит пророк.
«Пророк». М. Врубель. 1902
До трагической гибели поэта остаются считанные недели или даже дни. Круги жизни пройдены… Так же и его Пророк… Не он первый был проклят духовными слепцами и не ему последнему предстоит допивать горькую чашу отречения людей от самого главного в них… Истина, недоступная сознанию отбывающих жизнь, и на этот раз оказалась поруганной. Сказанное – не понято, сделанное не нашло приверженцев, а жёсткое вразумление вызвало неутихающую злобу. Изгнанный, пророк покидает общество. Когда наступит последнее время, люди, может, пошлют за ним… Только вот – не окажется ли это слишком поздно?!.. В своём многомерном послании современникам и потомкам (по факту биографии – завещанию)
Лермонтов облекает своего героя в ветхие одежды библейского Пророка, под которыми проглядывают вериги, истязающие душу автора. Единовременно апеллируя к прошлому, обращаясь к настоящему и предостерегая будущие поколения, Лермонтов не заканчивает стихотворение на мажорной ноте. Ибо ведал поэт, что духовные знания, малодоступные, а потому бесполезные для большинства, тяготят людей именно своей трудной доступностью, приводя в ярость осознанием собственных несовершенств и упорством в следовании им. Потому и говорят «старцы» быстро взрослеющим детям своим – по духовному и историческому «факту» таким же, как и они сами:
«Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами: Глупец, хотел уверить нас, Что Бог гласит его устами! Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм и худ и бледен, Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его!»Ничего не меняется и впоследствии… Опять «всё нереально, кроме нереального, – через сто лет после Лермонтова напишет поэт Георгий Иванов, – всё бессмысленно, кроме бессмыслицы. Человек одновременно слепнет и прозревает. Такая стройность и такая путаница. Часть, ставшая больше целого – часть всё, целое ничто. Догадка, что ясность и законченность мира, – только отражение хаоса в мозгу тихого сумасшедшего»[53]. Но эту ложь, исходящую из безверного духа и растянувшуюся во времени, опровергает сам Лермонтов, его гений, его стремление и право «на равных» говорить с Тем, чьим образом являются души, не исчезающие в Вечности…
X. Поэт и воин
«Для духа, сознающего свою силу, нет внешней власти: он не боится ни огня, ни железа, ни клеветы, он не боится ничего на свете».
Марк Аврелий1
Самосознание Лермонтова было очень высоким и посредством его великого дара соотносилось с эволюционной самостью, внешнее проявление которой есть историческое бытие. Однако, реализуясь в жизни и в творчестве, самосознание гения этически являло себя в разных ипостасях. В творчестве свободный, а в жизни подобно Прометею «навечно» прикованный к «скалам Кавказа», поэт с холодным презрением наблюдал дворцовую суету «таящихся под сению закона» «наперсников разврата». Этим он ожесточал против себя недремлющие «очи» высшего общества и высоких канцелярий, включая смежную им жандармерию, которая и не помышляла отряхиваться от налипшей к ней грязи.
И всё же, несмотря на густоту в жизни «праха земного», поэт не отчаивался разглядеть Божественное в человеке. Если «счастливые в пыли» вызывали у Лермонтова печаль и отторжение, то несчастные от неё побуждали в нём веру в человека.
Это отметил В. Белинский при встрече с ним в 1840 г., на что Лермонтов, улыбнувшись, отвечал: «Дай-то Бог». Итак, поэт не оставлял попыток переоткрыть в человеке те свойства, которые некогда определяли его как венец творения. Кому бы из героев своих произведений Лермонтов ни влагал в уста «не свои» мысли, везде ощущается его могучее сознание, в наивысшей точке вдохновения касающееся самого «неба».
Уже говорилось, что поэт принадлежал к типу людей, чья жизнь отмечена неприятием их со стороны большинства. Лермонтовское бытие отделено было «от всех» потому, что, заряженное проникновенным творчеством, соотносилось с духовной реальностью, в человеческой ипостаси всегда существующей автономно. В противном случае она перестаёт быть таковой. Если к признанию своего таланта поэт относился с философской отстранённостью, то пессимизм и оптимизм тем более были чужды ему. Хотя бы потому, что пессимизм – это болезнь слабого духа, а оптимизм «без берегов» свидетельствует о неглубоком уме. Лермонтов полагал, что лучший способ обезопасить свой мир – это создать фантом, который подобно тени связан с формой общества, но не принадлежит ей.
Однако и «фантом» не облегчил его существование. Более того, приумножил неизбывное в человеческих связях злоязычие и социальную бездушность. Словом, «адресат» творчества Лермонтова был далёк от посылов его души. Это подчёркивало одиночество поэта и не могла смягчить позиция Лермонтова, неизменно чужого в светском окружении, а потому обречённого на внутреннее изгнание… Вместе с тем разница между поэтом и схожими с ним по характеру психологическими типами состоит не столько в масштабе и уникальности личности его (от легендарного Гомера до реального Гёте и самого Лермонтова число гениев было велико), сколько в умении видеть и ощущать то, что выходит за пределы собственно человеческого сознания. Эта способность и давала Лермонтову моральное право облекать в художественную форму лабиринты своего, искрящегося божественным в человеке, Царства Дивного. Являя себя в поистине нездешнем вдохновении, «касаясь» высей, мало кем из гениев тварного мира видимых «с земли», именно оно определяло поистине нездешнюю чистоту духа Лермонтова.
Выйдя на кремнистый путь, до блеска отполированный стопами поколений, Лермонтов, подняв голову к мерцающим в небесных вихрях звёздам, духовно принадлежит истинному источнику света. В восторге, потрясшем всё его существо, он в одном из самых «нездешних» своих произведений передаёт очень даже земные и единовременно надземные, ощущения. Ибо и в благостном состоянии духа Лермонтова не оставляют тяжёлые вопросы:
Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом… Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? Жалею ли о чём? Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть!Заканчивая своё, пожалуй, самое загадочное стихотворение желанием «забыться и заснуть»… здесь – на земле, Лермонтов тут же уточняет:
Но не тем холодным сном могилы… Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Тёмный дуб склонялся и шумел. 1841Вчитываясь в этот не меркнущий во времени, поистине «звёздный» шедевр, приходишь к мысли, что Лермонтова более всего заботила внутренняя – безгрешная и вечная – жизнь. Иначе говоря, та осознаваемая им тяга живого слияния с Вечностью, которая, вообще говоря, не свойственна обычному человеческому сознанию. Но она не способна быть понятой до конца в этом мире уже потому, что духовная реальность впускает лишь равного себе! В этом видится проблема анализа не только этого стихотворения, но и всего творчества поэта. Поскольку по факту оно есть та самая лермонтовская реальность, которая существует независимо от понимания или непонимания её, как и от приятия её… Однако реальность эта не была порождением лишь мощного ума, воображения и даже гения поэта. Исходя не «от себя» только (личности), но от того, что венчает её, она в каких-то «частях» принадлежит духовному миру «всего» человечества. Потому постижение этой реальности, «искры» которой воплощены в духе и творчестве Лермонтова, доступно лишь тому, кто, узрев её в истинной ипостаси, способен быть её частью. А это значит – быть частью того «мира», который качественно отличен от обиходного; в котором «день» и «ночь» не определяются и не разделяются привычным человеку временем, как и пребыванием в нём… Лишь понимание этого способно прояснить поистине необыкновенное и чудное состояние души поэта. Трудность, однако, в том, что приобретённое ли, прочувствованное или дарованное состояние это мало свойственно обыкновенному человеку. Уже потому, что существует оно вне личности как таковой. Эту данность, принимая во внимание инобытие, а не ощущение непосредственно смерти, отмечал в своих философских записях Марк Аврелий. Будучи стоиком, а потому, не придавая слишком большого значения «вещным» ценностям, римский император указывал на существенное в отмеченном нами состоянии: «Тот, кто боится смерти, боится либо потерять все свои чувства, либо испытать другие ощущения. Но если ты лишён твоих чувств, ты не подвержен больше ни боли, ни лишениям; если же чувства твои иной природы, то и ты сам – иное существо».
Говоря о своеобразии внутреннего мира поэта, отметим ещё одну особенность.
Обладая (или, скорее, – «наказанный» с рождения) уникальным поэтическим даром, духовными свойствами и психологической проникновенностью, Лермонтов существует в духовном пространстве, которое не определяется одними только религиозными категориями. Может, именно глубина интересов в заданном не им «пространстве» и привела к тому, что Лермонтов не мог ни примириться с предрассудками эпохи, ни ужиться с ограниченностью общества, в полной мере разделявшего эти предрассудки. Вечно живые Фамусовы и Молчалины, перелицовываясь в каждом поколении, не меняли своих главных черт. Более того, мелкость душ, высмеянная Д. Фонвизиным, увековеченная А. Грибоедовым и «умерщвлённая» Н. Гоголем, вновь оживала и множилась в новых уже лицах. Именно здесь кроется неприятие, граничащее с предательством творчества А. Пушкина ещё при жизни поэта, отмеченное зорким оком его выдающегося собрата по перу[54]. Оно и не удивительно: мелкодушие есть сводная сестра слабости и трусости, которые рождают предательство. Но констатация реальности вовсе не означает необходимости её составляющих. Понимание этого подвигало Лермонтова не снимать боевой шлем и не класть «в угол» меч своей музы.
Здесь скажем, что превосходство гения над обществом, не говоря уже об обывателях всех мастей, состоит не только во всеоружии великого дарования и сопутствующем ему богатом внутреннем мире. Главным образом, оно являет себя в следствиях дарования и в мировосприятии, которое вовсе не всегда совпадает с категориями, мерилами и «требованиями» эпохи. Гений отнюдь не обязательно нисходит к обществу с «возвышенным челом» и с «руками, сжатыми крестом». Сам Лермонтов «на людях» нередко откровенно дурачился (чтобы не сказать – «валял дурака»), прикидываясь «одним из всех», чем в своё время озадачил даже Белинского.
Во всяком случае, о шалостях и «плохом поведении» неистощимого на выдумки поэта свидетельствуют жалобы многих, пострадавших от его острого языка и живых карикатур. Конечно, не это определяло его характер, но так уж повелось в истории, что связь с эпохой непосредственных её выразителей чаще всего носит опосредованный и, как в случае с Лермонтовым, «неприятный» характер. Но это мало заботило поэта. Существуя в обществе, он почти всегда жил «рядом» с ним, раскрываясь лишь тогда и в том качестве, которое соответствует переживаемому им «моменту истины», не имеющему ни очевидного адреса, ни конкретного источника. Что касается «поэтической истины», то она не имеет объяснения, и, что важнее, не нуждается в нём. Поскольку поэт в принципе – не то, что он пишет, а то, что он есть. И если он есть, и это совпадает с тем, что он пишет, тогда гений его заявляет о себе в полную силу. Когда же ему мешают или вовсе не дают делать своё, как то было с Лермонтовым (Николай сослал поэта на Кавказ с явным намерением навсегда избавиться от него), тогда гений идёт ва-банк. Тогда, восстав, он рвёт путы и крушит своих врагов, ибо не себя этим спасает, но предназначение своё! То г да всяк, поганящий пороги величественного храма или посягающий на дивный мир гения, сокрушается им, или в неравном бою гибнет он сам… Непонимание «стратегического направления» внутреннего бытия великого поэта приводит к кривотолкам и вытекающим из них ложным оценкам характера Лермонтова и его творчества.
Наверное, к заблуждениям именно на этот счёт можно отнести замечание Достоевского о Лермонтове: «Не дозрел до простоты». Хотя слова эти, продиктованные великому писателю особенностями его собственного мироощущения, можно отнести к непониманию этой «простоты» им самим. У Лермонтова достаточно много именно простых произведений. В том смысле, что они лишены и гнева, и раздражения, но полны духовной ясности и лучатся приятием ближнего. Да и суть христианского мировосприятия отнюдь не ограничивается банальностями по жизни нередко лживого смирения, к которым так любят прибегать люди нерешительные, мелкодушные и попросту слабые, а значит, и не сильные в вере.
Лермонтов был великим поэтом, но был ещё и личностью, масштаб которой не уступал его дарованию. Поэтому его судьбу и творческое бытие правильнее было бы рассматривать в связи не только с исторической судьбой его родины – России, но и с жизнью всечеловеческой. Прозревая свою эпоху, поэт видел то время, когда будут сокрушаться святыни и разбрасываться «камни», крепящие общество; предвещал время, когда «пища многих будет смерть и кровь»… Изучив историю России и Европы, Лермонтов умел распознавать повторяемость витков «судьбы», в России, как нигде, напоминающих неверное скольжение иглы по повреждённой пластинке. Но жёсткий и как будто холодный анализ поэта, имея надличностный характер, уж куда как чужд менторству не в меру частых «провозглашателей истины». При всём своём «холоде» он подавался силе жара и сокрушения сердца поэта. Предельная активность творящего духа заметна в каждом моменте поэтического творчества Лермонтова, ибо является главным условием приобщения к истине. Всё ещё существующая, хоть и тяжело раненая ханжеством «слуг Божьих» и умствованиями недругов Всевышнего, истина открывалась лишь не привязанным к «стойлу» меркантильных интересов и потребительскому здравому смыслу. На это состояние души и ума обращали своё внимание многоопытные древние христиане Египта и русские старцы. «Есть сокрушение сердца правильное и полезное – к умилению его, и есть другое, беспорядочное и вредное – только к поражению», – учил Марк Подвижник. Но что «правильное» и что «беспорядочное» сокрушение, каждый постигал в силу личного духовного опыта. Творчество Лермонтова понуждает признать, что он видел правильность в посильной ему борьбе со злом, для чего, наверное, и наделён был могучим даром творчества.
Итак, конфликт поэта с обществом был неизбежен, в особенности, если учесть, что Лермонтов не умозрительно, а сущностно пребывал в «другом мире». Неразлучная с внутренним бытием, мысль его много и напряжённо работала. Начиная со стихотворения «Смерть поэта», творчество Лермонтова обретает невероятную мощь, духовную проницательность и интеллектуальную глубину. Облечённые в дивную художественную форму, эти свойства заявили о невиданном по масштабу даровании и глубине ощущения вселенского бытия. Не удивительно, что мысли и идеи Лермонтова (при жизни успевшего опубликовать лишь роман и книжечку поэтических шедевров) оказались чужды «перелистывающей литературу» публике, а характер творчества был оценён по достоинству лишь самыми проницательными его современниками.
И этому не приходится удивляться. Мысль поэта – провидящая, а потому далеко превосходила духовное и умственное значение своей эпохи. Характер же его, не пасовавший и перед «скипетром» Николая I, отличала нетерпимость к двоедушию и ханжеству. Обилие в обществе именно этих свойств, обусловив горечь музы поэта, нередко вызывала «злость» Лермонтова-воина. Неисчерпаемую духовную энергию Лермонтова подкрепляли особые эмоциональные качества, тотчас принятые обществом в штыки. Несмотря на очевидное для «всех» высокомерие (которое между тем много уступало его реальному превосходству) «выскочки и задиры», поэт не был снобом. В великосветском обществе Лермонтов и впрямь бывал «едок» и «заносчив», но дружбе был предан, в бою весьма храбр, а в бивуачной жизни разделял все тяготы с нижними чинами, в общении с которыми был прост и добр. Сознавая в себе огромные возможности и сущностно пребывая в «материях» иного мира, Лермонтов в меру сил пытался «достать» до понимания вышнего смысла жизни человека. В понимании поэта смысл этот не ограничивался конфессионально рабским преклонением перед Богом, вряд ли нуждающимся в рабах и ещё меньше – в рабской униженности.
Однако николаевская эпоха, «усиленная» стараниями митрополита Филарета, как никакая другая в истории России выпестовала именно такой психотип, который принуждён был пресмыкаться перед обеими властями – и светской, и духовной. И здесь, как оно было уже в Византии, переплетение интересов властей привело к тому, что обе головы были равноудалены как от Бога, так и от народа.
Словно ведая, что не суждено ему было пережить «палкинское» правление, Лермонтов, глубоко разочарованный этим миром, был готов к другому. Будучи ещё совсем юным, он писал: «Душа моя должна прожить в земной неволе / Не долго…» (1831).
Пройдёт ещё несколько лет, и Лермонтов с трагической серьёзностью и вполне определённо заявит: «Давно пора мне мир увидеть новый». Вряд ли нужно, но всё же напомню, что Лермонтов никогда не говорил от своего возраста…
Существуя «рядом» не только со своей эпохой, но и с «временем» как таковым, Лермонтов субстанционально охватывал огромные пласты духовной и культурно-исторической информации. Ощущение тока времени, обострённое провидением, очевидно, в сознании поэта включало в себя суть человеческой истории в её органическом единстве прошлого, настоящего и будущего.
Остро чувствуя абсурдность нависающих над человеком реалий, поэт и философ говорит об этом в стихотворении «И скучно, и грустно» ясно, холодно, просто и по-сверхчеловечески объемлюще. Именно концентрацией надисторического видения можно объяснить пронзительную напряжённость мысли и творчества Лермонтова, по ряду аспектов «выпадающего» из реалий своей эпохи.
И это понятно. Всё, что вмещает в себя большее, рано или поздно разрывает скорлупу не только временного, но и временного, дабы слиться с тем, чему принадлежит по своей сущности. По-видимому, в этом содержится объяснение того, что, пребывая в скоротечном настоящем, поэт сумел создать творения вселенского и, что следует принять к самому серьёзному вниманию, надвременного масштаба! Между тем, наряду с отмеченными в творчестве Лермонтова особенностями мы то и дело встречаемся с прецедентом психологически отторгнутого от людей могучего духа, ищущего себе пристанище в более близком ему мире. Встречаемся слишком часто, чтобы не обратить на этот феномен серьёзного внимания.
Уникальность явления состоит в том, что этим «спасительным» для поэта миром мог быть лишь «мир», духовно и психологически равный ему. Но этого не было и лишь гипотетически могло быть, поскольку, лишь находясь в «среде», Лермонтов жил вне её… Потому независимо от своего физического пребывания (помимо России, если привлечь воображение, это могла быть любая страна) он на голову превосходил свою эпоху.
Масштабность духовного поиска, отчаяния и внутреннее «бегство» Лермонтова из общества делают уместным провести здесь параллель с видением себя в мире, присущем «античному человеку». Античному не вообще и не во всяком качестве, но в ипостаси носителя некой этической целостности – той, которая содержит в себе нацеленную на реализацию духовно полновесную, а значит, исторически масштабную программу. Ибо лишь носители этой многоипостасной информации способны активно участвовать и даже «делать» историю. Рассмотрение этих свойств может высветить до сих пор затенённые места творчества Лермонтова, попутно указывая на некоторые важные этические особенности его как личности.
Крупнейший знаток античности проф. А. Ф. Лосев, исследуя эстетику сверхличного восприятия мира древними римлянами, применительно к своей теме назвал это видение «римским чувством жизни». Схожее отношение к бытию, или «чувство жизни», в полной мере было характерно и для русского поэта.
Связь Лермонтова с античностью, упоминаниями о которой в своих произведениях он, вообще говоря, вовсе не злоупотреблял, может показаться довольно странной.
Однако она есть, потому что русскому поэту присущ внутренний аскетизм, осенённый ясностью мышления и рациональностью, отметивших себя в духе, языке и характере римлян. «…Была ли в ком такая величавость, такая твёрдость, высокость духа, благородство, честь, такая доблесть?..» Я намеренно привожу лишь часть фразы, адресованной отнюдь не Лермонтову, поскольку принадлежит она Цицерону. И говорил римский оратор о своих соплеменниках[55]. А связываю эту фразу с Лермонтовым потому, что мысль выдающегося древнеримского политика и оратора прямо соотносится с характером Лермонтова-поэта и боевого офицера, который, как и у римлян, взаимообусловлен был с языком.
И у Лермонтова – блестящего стилиста – находим мы «величавость» и «непреклонное мужество», по определению филолога О. Вейзе, свойственные латинскому языку.
Сталь римских легионов гремит во многих произведениях русского поэта, участвуя в твёрдом шаге его победоносной музы. Но язык, аккумулируя качества человека и народа, и в этом смысле самодостаточный, есть лишь средство выражения внутреннего состояния его носителей.
В качестве культурной единицы он не является величиной постоянной, поскольку напрямую зависит от множества факторов духовного и социального плана.
«Жить – значит мыслить» (лат. Vivere est cogitare), – отчеканил Цицерон. Мыслить – значит жить, – вторят ему произведения Лермонтова.
Мысль русского поэта, оформленная в языке, охватывает огромные исторические и смысловые пространства и, приобщаясь к бытию древних эпох, ощущает себя властвующей в них. Как и в римском мире, в «мире Лермонтова» являет себя масштаб, величие внутренней парадигмы и ясность, благородство и качество доблести, стремление к справедливости, наличие права на это и значение силы духа в познании истины.
Здесь же отмечу, что подобные свойства могут быть, существовать долго или относительно долго лишь в соответствующем себе окружении.
Если же такового окружения не оказывается, то они способны реализоваться только при наличии в субстанциональной ипостаси (общества, эпохи, государства) внутренней мощи и целостности, которые в форме традиций и закона являются фундаментом для исторически устойчивых монументальных свойств.
В этом контексте проследим взаимосвязи личности с эпохой и её исторической парадигмой. А поскольку мы говорим о Лермонтове, то для прояснения внутренней связи мира русского поэта с миром античной целостности, ясности и неколеблющейся воли вновь углубимся в недра истории.
2
Начну с того, что прежде всего дух масштабного исторического видения способствует развитию всего наиболее важного в отдельной личности, общественном бытии, исторической жизни народа и самого государственного устройства. Когда дух этот иссякает или в силу ряда причин перестаёт быть, тогда происходит закат реалий, явленных в творчестве, жизни конкретного человека, общества, народа и государства. Не стала исключением и Римская империя.
Отмирание взаимосвязей внутреннего плана, наиболее ясно, плотно и образно заявленных в языке, привело римский характер сначала к изоляции в локальной истории, а затем – вместе с носителем его – к устранению из исторической жизни. Можно смело утверждать: смерть латинского языка обусловлена была исчезновением в народе тех качеств, которые дали ему жизнь. Иначе говоря, ослабление вербального и письменного средства общения прямо связано с падением в римлянах свойств, которые были присущи великому народу и выстроили грандиозное государство. Язык попросту не может существовать вне того, что составляет его основу, а именно: вне реалий и свойств, которые олицетворяет субъект языка. Это и есть пример взаимообусловленности бытия народа и языка (Доп. IX). В то же время в недрах республиканского Рима зрели предпосылки Рима имперского, что в числе других факторов определило его недолговечность. Именно в этот период Рим, став жертвой цезаризма (личности во власти), нёс в себе элементы распада[56]. Впоследствии римское патрицианское общество разродилось Нероном и рядом других «чудовищ в пурпурной тоге». Рим, не ведая, что творит, «сшивал» себе белый саван, который сначала покрыл грубых и недолгих во власти «солдатских императоров», а потом всю империю. Таковые реалии определяли «солдатское», исторически формальное пользование латинским языком. Тогдашнее общество уже не соответствовало строгости, суровости, аскетизму, соразмерности и целостности всех частей «языка республики», как и самого государства. Дав ход порокам, римляне ненадолго пережили свои законы, свою культуру, свой язык, и, наконец, – свою империю.
Новая историческая формация, отметив себя рождением Европы, несла в себе парадигму принципиально иной рациональности, не имевшей ничего общего с духом римской античности. Новая эра не только говорила другим языком, но и настаивала на нём! По масштабности видения себя в мире и по ряду этических категорий, уступая античному миру, формирующаяся цивилизация нуждалась лишь в том, что ей соответствовало, оставляя в живых (в буквальном смысле) лишь тех, с кем могла существовать. Так или иначе, европейское варварство (так правильнее) второй половины первого тысячелетия «выдвигало» лишь те социальные требования и политические формы, которые «новый человек» мог осилить в своём историческом бытии. Не видя себя в пантеизме и многобожии предшествующей античности, а значит, неспособный реализовать себя в ней, зародыш «европейского мира» настойчиво создаёт соответствующую себе духовную иерархию. Однако «разница» остаётся и смутно ощущается… Доросши до понимания, «мир» этот в Средние века пытается перевозродиться, что произошло лишь отчасти. Имея установившуюся уже иную шкалу ценностных категорий, он по внутреннему масштабу просто не дотягивал до предшествующей цивилизации. И всё же «мир» этот – пусть и в затянувшемся на столетия «духовном смущении» – сумел явить элементы великого. Конечно, иного плана, других форм и иного качества.
Если согласиться с предложенной тезой, то придётся признать, что крушение античного мира есть крушение Традиции, обломки которой создали предпосылки для утверждения более мелкой и дробной ипостаси, а именно – индивидуальности. В период Великого Переселения Народов и создания новых государств, подавленная, – в XIV–XVI вв. Традиция отчасти была возрождена. Однако, не сумев «вспомнить» древние этические категории и эстетические формы в наилучших их качествах, Традиция исчезла как форма эпического восприятия мира. Правда, время от времени, но не слишком часто, о себе заявляли исключения личностного плана, которые по этой причине принимались «в штыки». Об одном из них и идёт речь в настоящей книге.
Понятно, что судьба одного даже и самого значительного человека несопоставима с исторической жизнью народа и государства. Однако, если принимать во внимание масштаб не ушедших или слагающихся цивилизаций, а внутреннюю составляющую «человека» в его реальных, но не реализованных потенциях, то придётся признать, что «римская этика» в главных своих чертах была присуща Михаилу Лермонтову. Она же как будто выстроила поэту схожую судьбу.
Поскольку и он не мог найти себя в рамках бытия, низвергающего самого себя. И он, как и латинский язык в другом уже народе, был антагонистом высшего общества, ленивого и не любопытного, безразличного к судьбе личности и самой России. Забыв традиции и тем самым отвергнув себя от Отечества, верхние слои русского общества перестали быть достойными исторической жизни своего народа и на определённом этапе предопределили судьбу государства. Именно в этом контексте следует рассматривать причины отверженности Лермонтова от «верхнего» общества. Ибо невозможно отрицать факт, что к тому времени Россия уже второе столетие существовала в иной исторической парадигме. Следовательно, трагическая судьба поэта и страны разнится лишь по масштабу и сферам приложения, но остаётся неизменной в своей сути. Вследствие этого и жизнь, и творчество гения приобрели в буквальном смысле нездешние черты. Поясню это.
Полководец, лишённый армии, перестаёт быть им. И тогда он вынужден соответствовать новым обстоятельствам. Рождённый «ворочать горы» может лишь стенать, будучи прикованным к скалам. Так, Наполеон, «закованный в камни» острова Св. Елены, способен был «воевать» лишь с штатом глупого губернатора этого островка. Однако, сбежав, опять становится прежним Наполеоном. Лермонтов лишён был возможности бежать куда-либо от «всевидящего ока» (мы знаем, какого). Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как уйти, точнее, оставаться в своём мире, в котором не было ни царей, ни жандармов, ни дураков…
Что касается «николаевского мира», то эффективность участия в нём ограничивалась лишь возможностями Лермонтова-офицера (конечно же, никак не сопоставимая с баталиями знаменитого «императора Запада»), то есть зависела от уровня и меры вовлечения поэта в военные действия. Дважды разжалованный и ни разу не награждённый за храбрость и умелое ведение боевых операций, поэт мог реализовать свои потенции лишь в отведённой ему перспективе продвижения, которая была весьма узкой, чтобы не сказать, что её вовсе не было…
Если Наполеон в бытность свою императором создавал «обстоятельства», то Лермонтов, вовсе не ставивший задач «овладения миром» (который к тому же не так уж много стоил в его глазах), мог быть лишь жертвой этих обстоятельств. Сознавая своё личное одиночество, социальную и «общественную» отверженность от своего
Отечества, Лермонтов глубоко переживал невозможность изменить именно обстоятельства. Об этом «состоянии на пределе» живо передают воспоминания издателя журнала «Отечественные записки» А. Краевского, пересказанные П. А. Висковатовым[57].
Вернёмся к проф. Лосеву с тем, чтобы ближе подойти к предложенной теме.
Прослеживая развитие «римского социального духа», но держа в уме характер не только народа, но и человека, – Лосев как будто разделяет нашу позицию: «Если имеется острое чувство собственной изолированной личности, то в условиях последовательного субъективизма всё личное, то есть всё разумное и волевое, отрывается от бытия и противопоставляется ему (выделено мною. – В. С.), а, становясь единственным утверждением сущего, в системе цельного бытия оно оказывается уже не просто покоящимся в своём самодовлении, но властвующим, единственно властвующим (выделено Лосевым. – В. С.), в то время как всё внешнее ему фатально подчиняется»[58]. Иными словами, развитие личностного (вне чего, заметим, невозможно никакое творчество) в человеке неизбежно приводит к трагедии, если личность не делается активным субъектом социальной или политической жизни.
Отмеченное нами внутреннее подобие «римского духа» явлено в мировосприятии и творчестве русского поэта. Оно же, учитывая всеми отмечаемую отвагу Лермонтова, явило себя в воинской ипостаси. (Доп. X) Впрочем, сделаем поправку на специфику эпохи, и здесь и во множестве других случаев не допускающую полной аналогии. Волею судьбы Лермонтов в николаевской России не мог проявить себя как независимая личность, а потому не стал и не мог стать субъектом делания истории.
Некоторые черты «римского характера» Лермонтова, преломляясь через тему, раскрываются в его стихотворении «Умирающий гладиатор» (1836). И не только в содержании, но в выборе сюжета, его особенностях и строе самого произведения.
В сцене, выхваченной из жизни Древнего Рима, Лермонтов противопоставляет Западную Римскую империю Западу без Римской империи. Здесь за смертью гладиатора угадывается гибель некой системы этических ценностей и многократно повторяющейся «казни свободы», показательным местом и даже символом чего служили арены амфитеатров. Некогда вольные, а после поражения ставшие рабами Рима, профессиональные воины (и даже недавние цари!) развлекали победителей смертельными поединками. Придёт час – воздастся и победителям… А пока арена служила кровавым пиром, где люди были уравнены со зверями, поскольку и у тех, и у других не было иного выбора. Стихотворение Лермонтова не только живо и пространственно, но и поразительно кинематографично. Первой и второй частью сопоставляя две цивилизации – погибшую и дышащую на ладан («закатывающуюся», позднее скажет О. Шпенглер), Лермонтов применяет и разные планы. Видение с расстояния двух тысячелетий он стремительно сменяет обзором сцены с «птичьего полёта», после чего мгновенно переключает внимание на сражённого гладиатора, а затем на «временщика и льстеца» – сенатора, наверное, вершившего жизнь и судьбу гладиаторов.
С презрением отождествляя знать с жадной до зрелищ толпой, Лермонтов двумя словами («освистанный актер») как будто переводит древнее действо в «театр и маскерад» своей уже эпохи. Таким образом, читатель – он же и «зритель» – охватывает пространство единого в своей органичной целостности действа, которое при «политическом» сопоставлении его с «европейским миром» принимает масштаб всемирно-исторического. В первых двух строках, глядя на Рим «сверху», поэт лаконичными штрихами передаёт торжество великого города. «Сверху» же и мы различаем стремительно приблизившуюся к нашему взору арену «буйного Рима». Смешанную полифонию из звуков труб, рогов, гидравлоса (водяного органа) и других музыкальных инструментов, обычно сопровождающих состязания вооружённых рабов, в данный момент не разрывает лязг их оружия. Этот бой, за которым, очевидно, последует ряд других, закончен.
Поэт сосредоточивает своё внимание на гладиаторе, который пал. «Раскадровка» панорамного действа достигается в том числе посредством ритмического сочетания стоп. Античная метрика как ничто лучше передаёт их «шаг».
Стопы сатурнийского стиха (структура которого полностью до сих пор не определена, а потому я осмеливаюсь произвести в тексте свою разрядку), плотными «рядами» следуя одна за другой, – передают громыхание не только римского амфитеатра, но и «гудение» самой Столицы Мира, закованной в железные латы и «камни» языческих сооружений:
Ликует буйный Рим… торжественно гремит Ру-ко-пле-сканьями широкая арена:Учёный-педант может возразить: арена не может «греметь», поскольку шум исходит, скорее, от зрителей, находящихся вокруг арены. Но Лермонтов и здесь прав. Ему важно передать какофонию ликующей от временной власти и возбуждённой от вида крови толпы, «душа» которой находится в середине арены.
Именно сочетание трагедии на сцене и ликования вне её создаёт целостную в своём буйстве панораму, которая, захлёстывая поле битвы и фокусируясь в ней, непомерно дерзко, храбро и безбожно воздымается к самому небу…
В этом тоже есть грозное предзнаменование! Но вот широкая панорама резко сужается, представляя нашему вниманию тело распростёртого на песке арены гладиатора:
А он – пронзённый в грудь – безмолвно он лежит, Во прахе и крови скользят его колена… И молит жалости напрасно мутный взор: Надменный временщик и льстец его сенатор Венчают похвалой победу и позор… Что знатным и толпе сражённый гладиатор? Он презрен и забыт… освистанный актер. Последние мгновенья жизни иссякают.Но вот они замедляются и даже как будто растягиваются, превращаясь в некую розовую мечту…
Воображение умирающего переносит его в родные места – в «свободный жизни край», где ценят жизнь, доблесть и славу. Увы, радужные, цветные картины сменяются чёрно-белой «хроникой»… Павший, «как зверь лесной», воин на потеху толпы перестаёт видеть всё это… Наконец смерть венчает чело гладиатора и его мысли, которые сродни молитве:
И кровь его течёт – последние мгновенья Мелькают, – близок час… вот луч воображенья Сверкнул в его душе… пред ним шумит Дунай… И родина цветёт… свободный жизни край; Он видит круг семьи, оставленный для брани, Отца, простёршего немеющие длани, Зовущего к себе опору дряхлых дней… Детей играющих – возлюбленных детей. Все ждут его назад с добычею и славой, Напрасно – жалкий раб, – он пал, как зверь лесной, Бесчувственной толпы минутною забавой… Прости, развратный Рим, – прости, о край родной…В финальной части стихотворения Лермонтов обращается к современному ему Западу:
Не так ли ты, о европейский мир, Когда-то пламенных мечтателей кумир, К могиле клонишься бесславной головою, Измученный в борьбе сомнений и страстей, Без веры, без надежд – игралище детей, Осмеянный ликующей толпою!Здесь Лермонтов говорит о крушении надежд, возлагавшихся на «героическую эпоху» Европы конца XVIII – начала XIX в. Героизм был развенчан. Кровавую демократию сменила реакция, за которой последовал духовный кризис, охвативший едва ли не весь «европейский мир». Вспомним: в том же 1836 г. и независимо от Лермонтова, Альфред де Мюссе в своей «Исповеди» писал о наступившем в странах Запада «отрицании всего небесного и всего земного». Лев Толстой, угадывая в стихотворении Лермонтова ещё и другую ипостась, в 1854 г. пишет в дневнике: «Эта предсмертная мечта о доме удивительно хороша» (выделено мною. – В. С.). Хочу обратить внимание на то, что трагизм умирающего гладиатора в некоторых моментах соотносится со стихотворением «Сон», написанным летом 1841 г., и с приведённым уже на предыдущих страницах психологически пронзительным произведением «Как часто, пёстрою толпою окружён…» (1840). В последнем стихотворении, напомню, мы становимся свидетелями глубокого внутреннего переживания, охватившего Лермонтова на роскошном балу. Контраст пустоты стремительно уносит воображение поэта в покойные душе родные места, где «сад с разрушенной теплицей» осеняет «вечерний луч» его дальних грёз. И здесь «свежий островок» детства Лермонтова «с глазами, полными лазурного огня» перекликается с лучом воображенья и последней мыслью поверженного, но не сломленного гладиатора…
В обоих случаях о себе открыто заявляет внутренний мир как субстанция, которой подчиняется сам поэт и всё личностное в нём.
В провидческом «Сне» Лермонтов видит себя лежащим «в долине Дагестана / С свинцом в груди…» среди уступов скал. Поэт спит, заметим, – «на песке долины» – «мёртвым сном», и ему, как и в «Гладиаторе», написанном пятью годами ранее, «луч воображенья» позволяет увидеть, подчёркиваю, те же родные картины:
И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жён, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне.В этом контексте лермонтовские «жёны» весьма походят на символы, среди которых одна (душа духовного двойника поэта или эфирное тело его самого?) особенно задумчива:
Но в разговор веселый не вступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа её младая Бог знает чем была погружена; И снилась ей долина Дагестана; Знакомый труп лежал в долине той; В его груди дымясь чернела рана, И кровь лилась хладеющей струёй.Отмеченные параллели заявляют о себе весьма остро уже потому, что, как мы знаем (а поэт ещё не знал, но провидел), стихотворение было написано в последнее лето его жизни…
Вернёмся к «римским чертам» в творчестве Лермонтова.
Пожалуй, в не меньшей степени, нежели в «Умирающем гладиаторе», этот характер прослеживается в стихотворении (а может, поэме), которое поэт по каким-то причинам не завершил. Между тем сама прерванность произведения интересна тем, что даёт возможность видеть содержание в оголённой структуре. Как каменные блоки начатых, но не завершённых и оставленных скульптур Древнего Египта, Греции и Рима говорят нам о цельности намеченной идеи ваятеля, о найденном в камне начальном движении большой формы, так и произведение Лермонтова ценно именно общей направленностью поэтической формы и мысли поэта. Лишь только отмеченная «резцом» поэта, она придаёт «лермонтовскому блоку» трёхмерность и величественность, поскольку свидетельствует о монолите или гигантском «сколе» древней эпохи. Именно тогда обозначил себя «блок» учения и стиль жизни, во многом определивший развитие новой эры и форм поиска доступной человеку истины. Многократно поданная в истории и ещё чаще оболганная, она в данном случае озарена христианским вероучением. Дабы не повторяться, сошлюсь на сделанный кем-то из сведущих современников Лермонтова анализ сюжета его стихотворения, который разделяю, с той лишь оговоркой, что незаконченная поэма отвечает духу и натуре великого поэта (Доп. XI). Написанная гекзаметром и без цезур, она приобщает нас к пространству и духу ушедшего времени:
Это случилось в последние годы могучего Рима. Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан беспощадно;[59] Но ежедневно на месте отрубленных ветвей, у древа Церкви христовой юные вновь зеленели побеги. В тайной пещере, над Тибром ревущим, скрывался в то время Праведный старец, в посте и молитве свой век доживая; Бог его в людях своей благодатью прославил. Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных И от страданий душевных. Рано утром, однажды, Горько рыдая, приходит к нему старуха простого Звания, – с нею и муж её, грусти безмолвной исполнен, Просит она воскресить её дочь, внезапно во цвете Девственной жизни умершую… – «Вот уж два дня и две ночи — Так она говорила – мы наших богов неотступно Молим во храмах и жжём ароматы на мраморе хладном, Золото сыплем жрецам их и плачем… но всё бесполезно! Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б Сердце твоё, равнодушное к прелестям мира: как часто Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри, На темные очи её – молодели; юноши страстным Взором её провожали, когда, напевая простую Песню, амфору держа над главой, осторожно тропинкой К Тибру спускалась она за водою; иль, в пляске, Перед домашним порогом, подруг побеждала искусством, Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая. Только в последнее время приметно она изменилась: Игры наскучили ей, и взор отуманился думой, Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь Вечером темным, и ночи без сна проводила. При свете Поздней лампады я видела раз, как она, на коленах, Тихо, усердно и долго молилась… кому?.. неизвестно… Созвали мы стариков и родных для совета; решили… 1841В отмеченных произведениях поражает поистине чудный дар Лермонтова воплощаться в тему, эпоху и в характер людей, её определяющих. Необычайно остро и убедительно явленный в «Песне про купца Калашникова» и стихотворении «Бородино» дар этот особенно ярко и красочно проявляет себя тогда, когда поэт погружается в глубины событийно доисторического, а духовно надисторического бытия. Возможно, потому, что поэт, будучи свободным от «хорошо узнаваемых» и по этой причине «стёртых» событий и образов, мог без помех воссоздавать реальность в её событийной и духовной истинности. Поразительно, что даже самые отдалённые временные отрезки под волшебным пером поэта оживают в образах, а в «пересказе» их уподобляются нетленному документу!
XI. Феномен Лермонтова
«От него в Пятигорске никому проходу не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт! Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовёт, чтобы другим неприятности наносить…» (Доп. XII).
Из воспоминаний современников о Лермонтове1
Такого и подобного рода обличения Поэта, как мы уже говорили в начале повествования, красной нитью проходили, пожалуй, через всё XIX столетие. Поскольку живы были ещё те, кто сплетал кровавое нутро этих «нитей». О том, что при жизни сам Лермонтов не заблуждался относительно своего окружения, свидетельствует горько-безнадёжное хладнокровие, с которым поэт отдавал себе отчёт в «друзьях»:
Мои друзья вчерашние – враги, Враги – мои друзья, Но, да простит мне грех господь благий, Их презираю я… Вы также знаете вражду друзей И дружество врага, Но чем ползущих давите червей?.. Подошвой сапога. 1841И всё же оговорим здесь «летучесть» настроений поэта, явленных в этом жестковатом экспромте. Их временность, даже если они отметили себя в его текстах. Словом, принимая во внимание то, что презрение не возникает беспричинно, следует осознавать меру собственной ответственности при оценке жизни и судьбы человека, отмеченного великим даром. Ещё и потому, что именно гению дан некий «объём» знаний и дел; именно ему «поручено» привнести их в мир. Что касается способов реализации дара, то ниву труда не следует ассоциировать с возделыванием ни на что не годной (особенно в миру) «тяпкой» безмятежной покорности, непрекословной услужливости и дочернего им пораженческого «мировозделывания».
Об этом тоже сказано в древней Книге, раскрывающей диалектику Бытия: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом. … Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; …Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (Еккл. 3:1, 5, 8). Этически равноценные, эти категории, в ином контексте приобретая ложный смысл, могут привести к большому злу, в особенности, если будут задействованы не в своё время. Нынче, казалось бы, не то, ибо давно почили и обличители, и отрицатели дивного гения. Однако и здесь зло показало свою живучесть, так как выжили «идеи» тех, кто не заслуживает памяти. Овладев массами, они стали, как сказано в источнике, «материальной силой» (тут можно было обойтись без кавычек, но оставим как есть). И всё же не будем о них. Вернёмся лучше к главной теме настоящей работы, коей является религиозность поэта.
Лермонтов, да, был православным христианином (выделяю курсивом вторую ипостась, ибо по жизни и творчеству его она всё же была первой). Но, будучи православным по вероисповеданию, он не был ортодоксом в смысле преклонения перед обрядом, в таковом случае не открывающим сакральную истину, а прячущим её. Духовную неоднозначность веры Лермонтова сто лет назад остро подметил С. Шувалов: «религия Лермонтова, как показывает его творчество, остаётся, от начала и до конца, прямым выражением того, что он видел своим духовным зрением, – непосредственным знанием о душе и о Боге»[60]. Потому христианство поэта не является некой единственной и безоговорочной данностью, в которое вмещается его духовное бытие. Как и многие светские по своему социальному статусу незаурядные личности, Лермонтов приобщён был к духовной сущности учения, не всегда последовательно придерживаясь формы его, которую выражает система обрядов, но одухотворяет содержание их. И это естественно, потому что Лермонтов был поэтом, а не монахом. Если бы это было не так, если бы он и душой, и телом денно и нощно следовал катехизису, то, скорее всего, не стал бы поэтом. Ибо, следуя ортодоксальным взглядам и церковным догматам, обязан был изымать из своего творчества (или «ещё лучше» – не писать вовсе) всё, что не имеет прямого отношения к христианству и православию, в частности. Это, к счастью для русской и мировой культуры, и невозможно, поскольку противоречит самой природе творчества, и не нужно, ибо обессмысливает акт творчества в его гражданской (прикладной) ипостаси. Стоя на сугубо ортодоксальных позициях, поэт был бы вынужден замкнуться на непосредственно духовных стихах и псалмах, изымая из своего творчества всё, что его духовник признал бы «не угодным Богу», «диавольским» и тому подобное. Живой (если можно так выразиться) пример тому трагическая судьба великого Гоголя. В случае с Лермонтовым, избежавшим келейной формы православия, в первую очередь под «священный топор» пошли бы (или вовсе не была создана) поэма «Демон», роман «Герой нашего времени» и львиная доля других произведений поэта. И, добавлю, не только Лермонтова. При таком раскладе на эшафоте ортодоксии (увы, именно на эшафоте) должны будут «сложить голову» не менее девяноста процентов произведений мировой культуры, куда входит изобразительное искусство, музыка и т. д. Поэтому правомерен вопрос: не выстилают ли своими «благими намерениями» не по уму и не по вере ретивые духовные инквизиторы дорожку в «геену огненную» в первую очередь самим себе? Стращая дорогой в «ад», не окажутся ли там впереди тех, кого туда усиленно загоняют?
Можно не сомневаться, что «прямое» выяснение духовной лояльности поэта создаст тупик, в котором расшибут себе лбы в первую очередь ортодоксы всех мастей, с чем можно было бы смириться, если б в него не загонялась люди, неповинные в чужой глупости, невежестве и фанатизме. Ответственность по сектантски «ортодоксальной мысли» в том ещё, что на деле она принимает формы вполне здешней партийной идеологии, не раз хоронившей в исторической жизни народов духовно вдохновенные и просто по-человечески чистые начинания. Словом, даже и при самом непредвзятом отношении систематизировать, определять или сводить к какому-то «полезному» знаменателю явление такого масштаба, как Михаил Лермонтов, дело невозможное, ненужное и попросту вредное. Этот вред, пожалуй, уступает лишь идеологизации творчества и мировосприятия поэта: какой бы то ни было – «плохой» или «хорошей» идеологизации, духовного плана или светского. Уже потому, что в своей чрезмерности всякая идеология является ложью.
Если начинать «сверху», то монашеский клобук – как его ни приноравливай – не удержится на голове поэта; так же, как и «одежда чернеца». Они мигом слетят под «громами» и «небесными стрелами» боевой музы Лермонтова. Вспомним хотя бы страстные монологи Мцыри. Демонизация же настроений поэта – а её тоже можно отнести к «идеологизмам», причём, к откровенно антилермонтовским – и вовсе отступает пред ангелами-хранителями и херувимами великого поэта.
Столь же наивна и «милитаризация» образа Лермонтова, чему лишь формально даёт повод его верность присяге (которую не следует путать с воинским уставом) и доблесть на поле брани. Не выдерживает никакой критики и восприятие поэта как «светского повесы» или испорченного «на иностранный манер» (высочайшее мнение Николая I) характера. Это – следствие спущенных сверху фантазий ненавистников поэта, которые, по всей вероятности, к этому типу принадлежали. Менее примитивен, но столь же смешон образ «лихача-гусара», который сам Лермонтов, будучи великолепным наездником, иной раз поддерживал, не иначе как для того, чтобы посмеяться над теми, кто в него поверил. Любивший всякого рода розыгрыши, поэт сам даёт о себе некое «облегчённое» представление. И это подхватывалось современниками поэта.
Некто В. И. Чиляев, вряд ли являвшийся знатоком человеческих душ, писал: «Для людей, хорошо знавших Лермонтова, он был поэтэксцентрик (одно это утверждение ставит под вопрос число «знавших Лермонтова», включая Чиляева. – В. С.), для не знавших же или мало знавших – поэт-барич, аристократ-офицер, крепостник, в смысле понятия: хочу – казню, хочу – милую». Чрезмерности ограниченного восприятия, недопонимания, неприятия или откровенно враждебного отношения к Лермонтову и в самом деле были бы смешны, если б не было грустно от того, что из-за них творчество поэта и сам он представляются непомерно искажёнными.
Беда в том ещё, что такого рода сочинительство, «поднятое на щит» теми, кто и в руках его не держал, стирает грань между дилетантскими опусами и, собственно, исследованиями. Поскольку количество в этом случае переходит в «качество», закавыченное ввиду отсутствия в нём чего-либо путного. Между тем истинно научным изысканиям в творчестве, тем более, отмеченном печатью свыше, как раз чуждо стремление безапелляционно расставлять акценты, особенно, если они основаны на фактах, достоверность которых эфемерна. Наука стремится к истинности в исследуемом объекте, тогда как трактовка его, тем более – «чёткая», если прямо не относится, то граничит со сферой идеологии. Последняя в «буквах» своих дышит «злобой дня», но и гибнет с нею же, на что указывал ещё Вольтер: «Книги на злобу дня умирают вместе со злободневностью». Конечно, хорошо, если «предельная» ясность в чём-то достигнута. Если же её нет, то изыскания должны продолжаться. И вовсе не обязательно преследуя цель доказать, опровергнуть или оправдать что-либо (это вполне допустимо и даже нужно, но лишь в частностях). Оправдания оставим тем, кто в них нуждается. Доказательства и опровержения появятся при исследовании категорий, а не «моментов» творчества Лермонтова. Большое поистине видится на расстоянии, тогда как мелкое можно разглядеть лишь в упор. Интерес к деталям, несомненно, должен быть, но лишь подчиняясь принципу: от главного к второстепенному и опять к главному. В противном случае перед глазами только и будут маячить мелочи и всякого рода вторичности. В этом случае даже египетские пирамиды, глядя на них в упор, будут казаться не иначе как грудой изувеченных камней и битого щебня. Да простится мне ересь цитирования Вольтера, но именно о таких учёных он говорил: «Откапывая ошибки, теряют время, которое, быть может, употребили бы на открытие истин». Завсегда желаемая ясность состоит не в том, чтобы точно назвать или определить прецедент творчества, а в том, чтобы ощутить внутренний строй, смысловую структуру и образность произведения, принадлежит ли оно великому поэту, музыканту или художнику. Уверен, именно такое отношение к делу даст возможность приблизиться к пониманию, очевидно, навсегда величественного внутреннего мира Лермонтова. Схожие методы в изучении творчества позволят приоткрыть завесу, в том числе и здешнего бытия поэта.
На пути к этому вряд ли окажут помощь изолированные факты или даты, поверяемые одной только модной нынче «ссылкой». Ибо тогда многим персонажам исторической жизни придётся отказать в существовании, так же, как творчеству писателей, поэтов и музыкантов, поскольку насчёт многих из них нет достоверных сведений, а то и вовсе никакой информации… К примеру, из наследия Шекспира не сохранилось ни одного автографа – ни единой строчки! Однако это вовсе не ставит под сомнение факт его творчества (кто скрывается под его именем и кем был Шекспир – это другой вопрос). Но, если так, если факт творчества идентифицирован с личностью, то именно об этом единстве и следует говорить, при необходимости прибегая к помощи, в том числе альтернативных методов исследования. Тех, что имеют опору не только во внешних факторах, имея в виду установление фрагментов жизни поэта и творческого процесса (которые при их механическом соединении могут лишь исказить картину), но и на тех, что таятся в неочевидной ипостаси жизни и творчества. Поскольку именно «неочевидность» подчас вернее всего может раскрыть то, что в творчестве реально присутствует.
Для достижения истины в исследовании возможны, нужны и весьма полезны гипотезы, дающие возможность «переместиться» в по многим позициям реальное, но пока ещё недоказанное бытие поэта. К нему относится недосказанное в творчестве, но «реализованное» в замыслах поэта. Эта теза попутно утверждает важность принадлежности исследователя к творчеству, что синонимично осознанности истоков и принципов созидания. Если же филолог, историк или философ ориентирован лишь только на произведение как таковое, то есть проводит анализ вне внутреннего единства всех компонентов творчества (в которое, как отмечалось, входит содержание не обязательно одной эпохи и не одно только «физическое лицо»), то он открывает в произведении лишь то, что доступно ограниченным возможностям сугубо личных знаний и ощущений человека. Хотя, во всех случаях следует принимать во внимание, что принадлежность к определенному психическому типу и присущий нам склад ума (не говоря уже о нашей причастности к неисчислимым болезням эпохи), заставляет нас даже и против собственной воли давать описания, присущие именно нам. А это и есть то, что прямо соответствует нашему субъективному мироощущению и личностному мировоззрению. К этому добавлю, что объяснение прецедента вовсе не равно его оправданию. Да и наличие эрудиции не освобождает человека от самостоятельного мышления. Духовная реальность трансцедентна, и для постижения её необходимо оперировать соответствующими ей (на деле – множественными) формами анализа, которые только и могут помочь проникнуть в духовное поле Лермонтова, в значительной степени сокрытое от массового сознания.
Последнее столь же не удивительно, сколь и не оскорбительно для «нас, нынешних…», повседневно живущих под информационным прессом, тяжело довлеющим над душой, умом и сознанием. Примем во внимание и сложность ряда произведений поэта. И, хотя Белинский справедливо подчёркивал народность поэзии Лермонтова (отмечая «Песню…», критик говорит о «кровном родстве духа поэта с народным духом»), она подчас «не народна» там, где поэт затрагивает духовные глубины. У Лермонтова с Богом «…свои, непостижимые людям отношения… – писал поэт следующего века Владислав Ходасевич. – Лермонтов стоял перед Богом лицом к лицу, гоня людей прочь»[61]. Но не всех людей. Во всяком случае, не народ. Лермонтов «гнал» от себя то общество, которое народ этот предало и которое мнило себя мерилом всего русского. Это был именно тот случай, когда «высшее», будучи малым, безнадёжно пыталось вместить в себя великое.
Итак, истинно значительное творчество не поддастся стараниям одного лишь академического анализа – даже если он олицетворён самыми эрудированными, добросовестными и здравомыслящими учёными. То есть, если они, «заточенные» на идеи и концепции, будут опираться лишь на сугубо академические принципы исследования. Уже потому, что компетентность относится к владению информацией, ответственность, скорее всего, примыкает к чертам характера, а здравое мышление относится к психическому состоянию ума, что само по себе, вообще говоря, немало и весьма похвально. Но постижение сущности великого произведения возможно только при мистическом соучастии в нём, что, «обеспечив» внутреннее соответствие вещи, придаст исследованию наибольшую полноту.
Можно не сомневаться в том, что муза Лермонтова тем более не дастся в руки «литературным Прокрустам» и «Геростратам». Поскольку храмы можно ещё снести или спалить, а рукописи (то бишь, идеи в них), как объяснил нам Михаил Булгаков, не горят. Даже и в «дымах Отечества». Если же какому-либо исследователю, вдруг, откажет духовный или просто здравый смысл, если его сменит «академическое» желание «резать по живому» художественное явление «ножом паталогоанатома», то оно попросту «сбежит в себя». Иначе говоря, «закроется» в свою целостность, потому что оно живое, а не мёртвое! Это произойдёт ещё и потому, что художественные достоинства шедевра с наибольшей силой реализуют заложенный в нём потенциал лишь в органичной связи всех его элементов. Иначе говоря – в нерасчленённом единстве частного и целого, где «частное» есть широчайший набор стилистических средств, рождающих комплекс ассоциаций и образов, мыслей и необходимых переживаний. «Целым» же в каждом отдельном случае является духовное и композиционное единство произведения, по этой причине имеющего надежду и моральное право стать истинно духовной ценностью. Именно в этом качестве оно может стать частью внутренней жизни человека и общества, включая в свою орбиту многие поколения и даже века.
Несмотря на все сложности, возникающие при попытке классифицировать творчество Лермонтова, рискну отметить три ипостаси, которые заявляют о себе наиболее сильно и ярко. Это глубокое духовное проникновение поэта в тему, мистическое средство постижения доступных человеку реалий и в качестве инструмента вскрытия – острая аналитическая мысль. Взятые каждый в отдельности или даже в совокупности, эти качества не назовёшь уникальными, поскольку они присутствуют у немалого числа выдающихся писателей и поэтов. Но дело в том, что у Лермонтова они раскрываются с небывалой мощью. И в отдельности, и вместе!
Лермонтов довольно рано ощутил, а впоследствии постиг сущность человеческой натуры. Но не столько в обиходном её проявлении, не обязательно в бытийном аспекте, не всегда в интеллектуальных качествах и вовсе не в меняющихся контекстах событийной истории. Всё это, объективно существуя, отмечено в творчестве Лермонтова. «Тайна» великого поэта состоит в умении ощутить свойства протоисторического человечества, духовный опыт которого был принципиально иным. Перейдя в историческое время и угаснув в нём, «опыт» этот всё же существует в «небесных письменах», лицезреть которые удостаиваются лишь те, кому дано быть, видеть и слышать.
Уточним некоторые доступные нашему пониманию сведения. В частности, интерес Лермонтова к Св. Писанию.
У нас нет достоверных сведений об изучении поэтом Библии[62]. Но из известных на сегодняшний день источников, а более всего из творчества поэта явствует, что он хорошо знал Св. Писание. И, зная, с самого начала искал связь между внутренним человеком и внешним. И не только в том симбиозе, который даёт Новый Завет («Да даст вам, по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». (Еф. 3:16)). Есть основания утверждать, что духовный интерес Лермонтова к «человеку» был апокрифическим. Иначе говоря, «считываемая» Лермонтовым информация, связанная в единую духовную цепь как из канонических текстов, так и запрещённых, – состояла не из одних только «текстов». По всей видимости, «ангел» поэтики Лермонтова «пел» не только о Боге великом. Интерес Лермонтова, несомненно, распространялся и на «архаическое наследство» человечества. На тот, по Шеллингу, «дремлющий дух», который просыпается полностью лишь в недрах природы человека. Но не всякого, и не только в человеке… Привечая и небесных, и земных жителей, Лермонтов искал шкалу ценностей не только в «каноническом» Боге, но и в духовном пространстве созданного Им мира, в котором только и может произойти адекватное Ему слияние «потоков» высшей духовности. Но, как восторг перед «поэзией природы» вовсе не означает языческого преклонения перед ней, так и вера в Единого Бога отнюдь не тождественна пренебрежению к природе[63]. Более того – противоречит принципам самой веры.
Лев Толстой, поражаясь глубине постижения великого поэта реалий сущего и его стремлению узреть органическую связь внутреннего человека с внешним, отмечал умение Лермонтова «проникать в сущность явлений и давать высшую для своего времени точку миропонимания». А в начале XX столетия Толстой в восхищении скажет о Лермонтове: «Вот в ком было то вечное, сильное искание истины!». Слова Толстого, сказанные в другую литературную эпоху, свидетельствуют: истинно величественны те поиски, значение которых не умаляются с большого расстояния.
Лермонтова и впрямь глубоко волновала степень соотношения идеала сокровенной первочеловеческой души с делами некогда изменившего ей внешнего человека. Личностный опыт поэта был беден, и другим он попросту быть не мог. Но сумма житейских открытий никогда и не служила руководством для тех, кто фактом рождения apriory уже приобщены были к знаниям, которые можно считать кристаллизованным опытом бытия человечества в жизни человека (в одном месте Лермонтов прямо говорит об этом: «придя в эту жизнь, я прожил её мысленно»…). Акцент не на временности и аморфности «здешнего» существования, а на вечный его эквивалент, нашёл в творчестве Лермонтова проницательный критик и талантливый поэт Пётр Перцов: «Для Лермонтова земля, вообще земной отрывок всей человеческой жизни, всего человеческого существования, и был чем-то промежуточным. Мощь личного начала (величайшая в русской литературе) сообщала ему ощущения всей жизни личности: и до, и во время, и после “земли”…»[64].
2
Это, отмеченное Перцовым, «ощущение всей жизни», то есть вне погодового опыта, и есть дар врождённого владения «субъектной истиной», которым наделены лишь достойные её. Об этом впоследствии скажет Даниил Андреев в своей «скандальной» работе «Роза Мира»: «С самых ранних лет – неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, раскалённого воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозность натуры, переключающая даже сомнение из плана философских суждений в план богоборческого бунта, – наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов; высшая степень художественной одарённости при строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров…». Подчёркнутая Андреевым «русская стихийность чувств» поэта в известной мере упорядочивается его исключительной требовательностью к себе, что говорит об уважении Лермонтова к адресату своего творчества, ошибающемуся по жизни, путающемуся среди пороков и страстей, и всё же вдохновлявшему мастеров слова во всякие времена.
«Покажи мне кого-нибудь, кто не был бы игрушкой своих страстей», – говорил шекспировский Гамлет. Не будем с ним спорить, но для Лермонтова пороки человека всё же не были предметом лишь «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». В своей совокупности они составляли для него объект, достойный серьёзнейших «лабораторных» исследований, ибо были следствием изменений души человеческой в ходе её «здешних» эвольвентных изгибов. Неизбывные в истории и глухие к морали, пороки виделись поэту следствием (некой отправной точкой) не пройденного человеком духовного отсчёта… Погружённый в изучение внутреннего человека в его связи с Абсолютом (у Гегеля – Мировой Дух, у Шопенгауэра – Воля, у Фихте – «Я».), Лермонтов являл собой редчайший в истории сверхиндивидуальный интеллект, наделённый собственными познавательными способностями. Это была личность, которой в моменты наивысшего духовного озарения открывалась способность созерцать элементы абсолютной истины. В эти минуты, очевидно, и выстраивалась в его душе та «лествица», по которой исихасты хотели соединиться с царствием небесным. Именно это – выстраданное в миру и закалённое в вышних битвах трансцендентное (или, по С. Франку, – трансрациональное) ощущение источника бытия, Лермонтов «переводил» в образы и поэтические формулы. Эта способность человека познать доступную ему истину, не пересекающуюся с божественной, но смежную с ним, была замечена в древние времена, а в Средние века получила наименование «двойственной истины». (Доп. XIII) Печальные думы, догадки, предведение и предвидения поэта подтвердились ближайшими десятилетиями, в «указанных» Лермонтовым качествах продолжая раскрываться вплоть до настоящего времени. Ясно, что под всем этим была реальная историческая основа.
После Великой французской революции маховики истории заработали быстрее, а духовная жизнь европейского мира пошла трещинами, которые по мере ускорения научно-технического прогресса становились всё шире и глубже. Политические и социальные преобразования, несмотря на их объективную полезность, привели к тому, что в цивилизованной Европе стали возникать духовно выхолощенные «островки». Увеличиваясь в числе, они способствовали возникновению индивидуализма глубоко разочарованных, наиболее талантливые из которых умело вскрывали множащиеся прецеденты парадокса и абсурда. В конце XIX в. таковое положение дел нашло своё подтверждение в сочинениях Фридриха Ницше, восставшего против канонов «правильного», в пределах человеческих несовершенств, социума, а шведский писатель Август Стринберг выразил накопившиеся противоречия в ясной – особенно теперь – формуле: «Я ищу Бога, а нахожу дьявола»…
И не только мятущиеся философы и писатели – «дьявола» нашла для себя вся цивилизация западного поветрия. Набирающий силу и скорость прогресс через создание новейших технологий и модулирование новых политических и общественных отношений определил человеческое бытие в русло дробной многофункциональности. Первыми, естественно, пали нравственные нормы, социальные регуляции и общественные связи. Многомерный прогресс, с одной стороны, изолировал от людей прежние духовные и этические откровения, с другой – распространил своё влияние на многие сферы интеллектуальной и творческой деятельности. Ясно, что Российская империя не могла и не осталась в стороне от всех этих процессов. Однако истинно «чёрный год» настанет для России вскоре пожара I Мировой войны (1914–1918). Раздуваемый в недрах Европы, со времён Великих Географических Открытий алчущей новых колоний, именно в Российской империи он разгорелся с чудовищной силой. Этот – по своим причинам и следствиям сверхисторический пожар дотла выжег из душ людей иллюзии поступательного развития всей европейской цивилизации.
Вспомним не столь уж давние её проявления.
К началу XX в., едва успев разлиновать на карте «цивилизацию» колоний, рабов и сибаритов, «мир» этот утвердил себя на паланкине индустриальной культуры. После Французской революции «европейский мир» отнюдь не успокоился, ибо не исчерпал себя в оных. С середины XX в. наступила следующая стадия «выяснения отношений», подчёркнутая индустриальным прогрессом. Поняв, что все проблемы в человеке, служители «прогресса» решили избавиться «от проблемы». И точно: в шуме приводных ремней индустрии развлечений последнего века не слышатся уже перебранки разноголосых и непоследовательных христианских конфессий. Им на смену пришла империя «нового сознания».
Выраженная в наркотиках, сексе и цифровых социальных сетях, она стирает не только личность, но и сущность человека.
«Когда – то пламенных мечтателей кумир», – европейская цивилизация (к которой в настоящий исторический период совершенно справедливо относится весь западный мир) упорно клонится к могиле бесславной головою, что предвещал Лермонтов ещё в 1836 г. Через сто лет Олдос Хаксли весьма тонко раскроет механизм (именно так – механизм) духовного кризиса послевоенного западного общества. Очевидно, глядя в случившуюся уже историческую жизнь Запада и предощущая будущие духовные и человеческие жертвы, английский писатель в романе «Контрапункт» (1928) выдвигает «опасный», с точки зрения христианских ортодоксов разной масти, тезис: «Заставить людей следовать Христу – это значит заставлять их быть сверхлюдьми. А на практике это приводит к обратному результату: они становятся меньше, чем людьми». Но здесь, несколько меняя приоритеты и делая акцент на сужении духовных перспектив, Хаксли лишь продолжил развитие сюрреалистических идей, которые в кинематографе гениально развил Луис Бунюэль, а в живописи в наиболее законченной своей форме выразил тоже испанец Сальвадор Дали. Собственно, разложение шкалы традиционных ценностей шло полным ходом уже со второй половины XIX в. Пронизывая все сферы деятельности, внутренний развал особенно болезненно отразился на творчестве, всегда служившем для любого общества своего рода «лакмусовой бумажкой» или тестом на психическое здоровье. Став бесстыдно коммерческим, творчество, с одной стороны, обернулось в инструмент ритуальной урбанизации, с другой – в рупор тотального насаждении потребительского стиля жизни. Увязнув в искусстве и формах видеопродукции, «инструмент» этот, впрочем, иногда начинает бунтовать против идеологии потребления. Однако попытки самоочищения обречены на неудачу, поскольку реализуют себя в пределах матрицы, родственной инновационным технологиям. Об этом свидетельствует этически бесформенное «кино», затянувшийся в истории «театр абсурда» и всевозможные инсталляции, по законам абсурдного жанра называемые искусством.
Но вот незадача: то, что у Хаксли вызывало едкую иронию и теккереевский сарказм, казалось вполне благополучным… его современнику Владимиру Набокову[65]. Увлечения «эстетикой» циничного обмана, модернистской игрой между явью и болезненными фантазиями героя, выстраивали «набоковскую реальность», в которой, к примеру, казнь видится равноценным освобождением героя от обморочного «сна». Новые формы и стиль жизни «элитного» общества вполне адекватно отражают надолго ставшие современными реплики голливудских приживалок: «спишь, где попало…». Хотя к «звёздам» Голливуда это, пожалуй, относится в меньшей степени. Почивая отнюдь не где попало и вовсе не с кем попало, все они «засыпали» под «колыбельную» набирающей силу идеологии потребления. Равносильная духовному мору эта идеология аккуратно укладывала «спящих» в быстро стирающееся ложе коммерческой, а значит, бездуховной культуры.
Уже через поколение безоглядное «спаньё» выглядело как шалость взбалмошных детей. Поскольку последние, хоть и ощущали себя «цветами жизни», растущими «везде», но время от времени они всё же возвращались в свои родные пенаты и «палисадники». Очень скоро «полем» для развлечений стал весь цивилизованный мир, психологически и виртуально сжимающийся до пределов донельзя перемятой голливудской ночлежки. Теперь под барабанный «там-там» СМИ, несчётных «Набоковых» (конечно же, лишённых его таланта) и литературных брокеров «дивные миры» Хаксли смотрятся едва ли не респектабельным собранием добропорядочных джентльменов, духовно выхолощенных профессоров и их холодно-любознательных учеников. Именно этот мир – мир TV, кредитных карточек, инфляции и Интернета, населённый людьми «без веры, без надежд» – и впрямь стал «игралищем детей», живущих в виртуальном пространстве и тупеющих от него же. Тут Лермонтов как в воду глядел! Взрослея, но не меняясь в своих «первичных» качествах, в полный голос заявляет о себе поколение «вечно молодых» Недорослей, которых не без оснований нарекли Поколением Ноль. Обречённое на прожигание жизни в Сети, оно, ставя на кон в компьютерных программах своё настоящее, – безжалостно проигрывает человеческое будущее, которое видится всё более туманным, в то время как виртуальная реальность становится более привлекательной, нежели сама жизнь…
От «набоковской реальности» и её нынешнего суррогата вернёмся к Лермонтову.
Хоть и заглядывая далеко вперёд, в частности, в своей знаменитой «Думе», поэт, конечно, не мог провидеть именно такие процессы деформации эволюционной жизни. Возможности изменения мира в деталях и формах Лермонтов не знал и знать не мог, но направление, в котором шло к добру и злу постыдно равнодушное общество, к тому же «без веры, без надежд», он видел ясно и отчётливо. Поэт не создал философских построений и схем, да и не стремился к этому. Он «просто» ведал, во что обернётся «бесплодная наука», в своих задачах изломанная «иссушенным умом» и выхолощенной душой. Низвергнув «мечты поэзии» голым расчётом, потреблением и жаждой наживы, поколения «без веры…» неизбежно шли к духовной пустоте, следствием которой и стала «техногенная цивилизация», в наши уже дни обернувшаяся для человечества социальной и политической бездной. Духовно существуя «вне времени», но пребывая в конкретной эпохе, Лермонтов, озабоченный истинно злобой времени, глядел далеко поверх голов своих современников. Обращаясь к будущим поколениям, поэт расширил проблему до начал и пределов сложившейся «белой» цивилизации. Именно в этом суть пронзительного и грандиозного по охвату бытия его творчества. Художественные по жанру, психологические по проникновению и философские по характеру, произведения Лермонтова раскрывают нам его предощущения и предвидения.
«Инновационное отношение» к реальному миру и в самом деле не могло не нарушить его естественное развитие. Обездушенный, человек взял под контроль саму эволюцию природы, частью которой является. Если отбросить терминологию, модные словеса и стереть «пыль комфорта» вещной цивилизации, включая её «наработки» за последние полторы сотни лет, то станет ясно, что предмет духовной озабоченности Лермонтова, как и язык его творчества, удивительно современны и актуальны. Ибо выражают существо (пока ещё худо-бедно являющего себя) внутреннего мира человека, отражают тот первочеловеческий план, духовный и исторический код которого не меняется и через тысячи лет.
И если подчас поэтическая форма и глубина мышления Лермонтова трудны для понимания, то это проблема не поэта. А тех стёршихся личностей, кто за словами не видит мысли, за образом не различает архетипы и их исторические проекции, кто за героями не видит автора, а самого автора проецирует не на тех героев. Наверное, поэтому мир Лермонтова всё ещё сложен для понимания. Если бы это было не так, то «клад Лермонтова», по словам Блока, не оставался бы потаённым до его и, что ещё более очевидно, – до нашего времени.
Белинский в своё время обозначил вехи, по которым могла или должна была пойти наука о Лермонтове, но это, увы, мало кому оказалось по силам…
В чём же главная сила Лермонтова?
Говоря коротко, мощь Лермонтова явлена в Слове, которое является информационным носителем всех цивилизационных пластов народного бытия, обогащённого смежными или родственными культурами. «Слово несёт в себе ни много ни мало, а именно программу бытия каждого народа в Вечности, код его исторического предназначения на земле», – считает писатель Николай Переяслов, имея в виду место народа в культуре и истории.
Художественное Слово, рождаясь в сердце мастера, находит себя в формах, присущих каждому данному времени. Особенность его состоит в том, что, становясь частью народной жизни, Слово присутствует в душах людей, как приявших, так и отторгнувших его. Число тех и других может быть малым, а может составлять миллионы. Но во всех случаях «читательская численность» – положительная или отрицательная – зависит не только от величины таланта, но в не меньшей степени и от духовного и культурного уровня развития общества.
Отсутствие внутренних движущих сил общества, вовсе не обязательно отражающее себя в физическом благоденствии или нищете последнего, опасно своей скрытой разрушительной силой. Последняя более, нежели внешние бедствия, способна уничтожить ту шкалу или систему ценностей, которая обеспечиваёт народу его историческое существование.
Проблема, однако, в том ещё, что «общество» во всех его ипостасях и при всех социальных преимуществах никогда не обязывало себя развиваться именно в духовном или в нравственном отношении! Это неизбежно накладывает свой отпечаток на все проявления культуры и компоненты цивилизации, прямо формируя язык выражения «себя». Поэтому, свидетельствуя о наличии или слабом присутствии приоритетов внутреннего характера, общество всегда имеет тот язык, которого заслуживает.
А платой за духовную и культурную «разницу» является степень разложения и мера падения народа в его духовно-нравственных и совокупных с ним исторических составляющих.
В этих реалиях гений Слова, вынужденно принимая на себя главные из вышеотмеченных функций, становится перед печальным для него выбором: малоперспективная борьба с рутиной языка («новояза», по Оруэллу, и прочих быстро плодящихся языковых извращений нравственно измельчённого социума) или гибельное для него противостояние самому обществу. Это противостояние трагично для истинного исповедника художественного Слова уже потому, что само общество является как носителем, так и главным виновником общей деградации.
В разных соотношениях и пропорциях эти проблемы стояли и перед Лермонтовым. Невозможность решить их «здесь» усугублялась ненавистью к нему императора, оловянным истуканом стоявшего в центре враждебной Лермонтову «толпы». Находя нелепым тратить силы на борьбу с безличностями, поэт, высмеивая и не щадя худших из них, следовал завету Вольтера: «Что сделалось смешным, не может быть опасным».
Но, справедливо полагая это недостаточным, он куда чаще ставил своим «железным стихом» болезненные и нестираемые клейма на пороках общества.
В этом плане Лермонтов является преемником традиции мировой литературы, социальной задачей и нравственной сутью которой является непримиримая борьба с реальным злом. Именно на это нацеливал поэт свой стих.
Выкованный железной волей, заточенный острым умом и превращённый поэтическим гением в разящий «клинок» стих этот был главным оружием его борьбы – разящим оружием.
И всё же не борьба как таковая и тем более не отдельные персоналии были главным объектом внимания Лермонтова. К тому же, обращённый к пороку, а потому имея социальное звучание, его «железный стих» не задевал тех, кому за отсутствием повода для этого изначально не предназначался.
Однако в силу социального охвата, глубины содержания и нравственной силы знаменитый стих поэта всегда находил, точнее, доставал тех, кто явно того заслуживал. Словом, при очевидности адресата жалобы на Лермонтова со стороны «потерпевших», с моральной точки зрения, не стоят выеденного яйца.
Вернёмся к многообразию внутреннего бытия Лермонтова.
Именно оно находится в основе величия, которое по этой причине до сих пор остаётся тайной за семью печатями.
В детстве ещё ощутив дарованное и угадав своё личное предназначение, Лермонтов исследовал человека не столько как житейскую субстанцию или некую «общественную единицу», но как живое свидетельство божественного в нём (в человеке, самом Лермонтове) и обратной связи в этом свидетельстве. Как принцип духовного действа, это не было новостью ни в богословии, ни в философии. Вспомним хотя бы концепцию средневекового мистика Иоганна Экхарта, согласно которой человек способен познать Всевышнего, поскольку в его душе есть «божественная искорка», частица Божества. Но среди редких провидцев, открывающих в человеке «искры Божественного», Лермонтов-мистик выделяется прямой апелляцией к внутреннему человеку, адресуя потерявшего образ Божий человека к тому, что некогда было ему присуще.
Это объясняет и выводит на другой уровень жёсткие поэтические средства Лермонтова, тяжёлым кистенём бьющих тех, кто пирует во время чумы. Ибо в праведном и благородном гневе-труде он оснащён был исключительно сильным оружием – даром Поэта. Созидательность негодования Лермонтова состоит в том, что он не лишал надежды ближнего своего, а старался воскресить в нём духовное вспоминание о том лучшем, что некогда было в нём.
Этот отвлечённый от непосредственной (или – вещной) жизни интерес поэта роднит его с всесторонним изучением человека Леонардо да Винчи. С той лишь разницей, что интерес Лермонтова к человеку был не столь холодным. Хотя и он, и один из величайших аналитиков в искусстве несколько отстранённо (т. е. как будто с другой – сверх– или надчеловеческой «стороны») исследовали объект своего внимания.
Но, если «научная инженерия» Леонардо ограничивалась психофизическими характеристиками homo sapiens, то Лермонтов-мистик в буквальном смысле вклинивался в святая святых «венца творения» – в его «вечную» и извечно беспокойную духовную ипостась. Именно в этом смысле Лермонтов находился подле человека.
Общество в его глазах было исторически естественной (и столь же естественно меняющейся) средой, в которой каждый индивид, общаясь с себе подобными, представлял собой творение в сущностно изменённой ипостаси, то есть лишённой прежней простоты и целостности.
Надо полагать, пресловутая «смиренность» в работе такого масштаба была бы для Лермонтова плохим подспорьем. Её, как и скромность, можно было бы считать весьма полезным свойством, если бы она подчас не лишала характер человека жизненно важных качеств. Потому куда важнее и достойнее выглядит гармоничный внутренний строй человека, в котором доброта соразмерна воздаянию по заслугам.
3
Насколько реально постичь «мир Лермонтова», и что может этому воспрепятствовать? Первое, о чём нужно сказать – это бедность «внешней» информации, обусловившей пустоты в биографии поэта, и «внутренней», которая и есть, собственно, творчество. Эти «сиамские близнецы» судьбы поэта находятся в числе причин, почему даже и через поколения Лермонтов не воспринимался исследователями в соразмерном с его масштабом значении.
Вначале общество и критика не могли ни поверить, ни принять то, что юноша в считанные годы мог превзойти признанных мастеров Слова. Когда же всё погрязло в неясности, все попросту привыкли к нише, отведённой поэту где-то «сбоку» мировой литературы. По ряду причин, в которые входит зависть и непонятость его творчества, враждебность и неприятие Лермонтова, включая «высокую» опалу и низкое замалчивание, исследователь не располагает документально подтверждёнными событиями и фактами, на основании которых можно создать целостную картину жизни и творчества великого поэта. Сложившиеся пустоты, зияющие и в литературоведении, и в сознании исследователей, не позволяют вывести верные заключения относительно малоизвестных событий или подтвердить условно известные. Воспоминания зачастую случайных или обиженных современников периода невежественного восприятия Лермонтова лишь усугубляют незавидное положение дел. В одних случаях они вносят пристрастие в описание фактов из его жизни, в других – наводят тень на плетень из-за причинённых им (мнимых или действительных) обид. Но во всех случаях они плодят белые пятна в исследовании жизни и творчества поэта.
Но, вероятно, самые тяжёлые утраты связаны с безвозвратной утерей рукописей и даже целых альбомов со стихотворениями Лермонтова, с которыми (или в которых) погибла и великолепная графика поэта. Эти потери даже приблизительно не поддаются оценке, как вследствие бивуачной жизни поэта и его досадной беспечности[66], так и по небрежности друзей, не сумевших сохранить раздаренные им подлинники. К числу наибольших утрат можно отнести посмертные щедроты бабушки поэта. После гибели Лермонтова, Елизавета Арсеньева, так и не понявшая гения своего великого внука, раздаривала («на память о Мишеле») предметы обихода, бесценные письма, и, наверное, рукописи и рисунки поэта. То же относится и к ближайшему другу – троюродному брату поэта А. Шан-Гирею. Он настолько не ценил ранние произведения Лермонтова, что счёл за благо уничтожить их. Это тем более обидно, что в имении Шан-Гиреев (Апалихе) хранились многие рукописи и памятные вещи Лермонтова.
Но время шло, и через поколения опасливого приятия всё ещё «неудобного» гения наконец приходит признание выдающейся роли Лермонтова в культуре России. Недалеко время, когда имя поэта станет благословенным и в остальном мире. И нет нужды печалиться о том, что он может «подвинуть» кого-нибудь с литературного Олимпа. Места там хватает уже потому, что не все, кого «прописали» в нём, принадлежат к элите мировой культуры. Лермонтов, свободно и как будто нехотя достигнув вышних пределов художественного Слова, так же легко достиг вершины человеческой мысли, попутно обойдя признанных «звёзд» мировой литературы.
Возникает вопрос: как, по каким критериям определять «взявших» эти высоты?
Готовых рецептов здесь нет и быть не может. Всякая историческая эпоха рождает или не рождает гениев. Принимает отвечающих её «требованиям» или отвергает их (хотя, и в этом случае отверженные принадлежат своему времени, так как именно оно выдвинуло их). Поэтому мерить, скажем, грациозный гений Бернини величием могучего Микеланджело, а Шекспира – Гомером столь же нелепо, сколь сравнивать чистоту колодцев Древней Греции и шекспировской Англии. Ибо всякое время, выражаясь олицетворённым подобием, создаёт равное себе. Словом, ни к чему эпохе приписывать собственную ограниченность. Если она не вняла своему гению, значит, люди (общество) не доросли до его понимания. Именно поэтому гении, «предложенные» эпохой, не столь уж часто вписываются в государственное (Леонардо да Винчи, Лермонтов) и социальное (Гёльдерлин, Ван Го г) устройство. И факт признания, являющийся исторической частностью, не играет существенной роли, поскольку «предлагает» история, а признают люди.
Здесь заострим внимание на иерархии приятия и отвержения.
Условные настояния эпохи являются звеном в неведомом человеку эволюционном пути Вселенной, в котором человеческое приятие есть частный фактор, удача или вовсе случай. Если так, то эволюция есть «инструмент Бога», а выбор, сделанный человеком, является
«орудием», или по факту – следствием его заблуждений. При таком раскладе смысла истории дела человека относятся к «промыслу» не эволюции, а эвольвенты. Разница между эволюцией и эвольвентой в том, что первая во вселенской ипостаси принадлежит тому, что Д. Андреев называл метаисторией, а вторая относится к событийной истории, к той, которая непосредственно зависит от «человеческого усмотрения» в его социально-политическом и бытовом расчёте. Можно сказать и так: пристрастная и предсказуемая воля человека находит себя в эвольвенте, тогда как «настояния эпохи», будучи частью незримой эволюционной цепи, являются выражением надисторической воли (Бога, Абсолюта, Мирового Духа). Впрочем, и здесь могущество условного Абсолюта «отодвигается», давая возможность человеку, обладающему известной автономией, выразить себя посредством воли. Отсюда важность великого числа «автономных единичек». Рассмотрим их «число».
Бисмарк, кажется, сказал, что нули могут стать числом, только если впереди них стоит цифра. Сумма безличностей, как бы много их ни было, и в самом деле не может составить Личность. Малым в лучшем случае можно измерить большее, но никогда вместить в себя большее. И всё же связь между гением, эпохой (пусть даже и «злодейкой») и «массовым человеком» в ней существует. Поскольку не картонные политические герои, к тому же быстро сходящие со сцены, и не духовные рабы, благополучно уживающиеся с «социальными планктонами», и не дельцы олицетворяют собой общественное лицо, к которому обращается яркая личность. Как ни велик гений, он – всегда и прежде всего – соотносит свой дар с народом, являющимся предметом его истинных забот. Таким образом, органичная связь между гением и «простым человеком» есть.
Какая?
Раз уж я упомянул колодцы, то осмелюсь утверждать, что и умный, и дурак предпочтут пить из чистого источника, а не плевать в него. И у глупого, пожалуй, достанет ума понять это. Живое Слово и есть тот всегда затребованный источник, привлекающий к себе всех, у кого прослеживается тяга к знаниям. Как правило, она наблюдается у людей с здоровой психикой и богатым внутренним миром, именно по этой причине тяготеющих к мудрости и красоте Слова. Отсюда важность сохранения чистоты источника, в который разными путями норовят влиться мутные токи невежественных эпигонов и пустого сочинительства. Это же объясняет принципиальность и жёсткость мастеров Слова – генетических контрагентов памяти народа и мысли человеческой. Известно, что с умными Лермонтов с удовольствием делил беседу (впрочем, не слишком часто), умников высмеивал, а с обывателями разной масти и откровенными глупцами порой был беспощаден. В то же время простых по жизни и не привередливых по характеру людей поэт уважал, относился к ним с вниманием и заботой. Неприхотливость самого Лермонтова была в том, что в военных походах он жил чисто солдатской жизнью (чему есть немало свидетельств), питался с нижними чинами из одного котла и засыпал под звёздами у костра. Вероятно, знание нужд простого человека и уважение к нему и помогло Лермонтову создать один из самых сильных в литературе художественных образов, коим является колоритная фигура штабс-капитана Максим Максимыча в романе «Герой нашего времени». Не случайно живым и психологически убедительным образом русского офицера-«кавказца» восхищались выдающиеся писатели и критики прошлого (от Белинского до Толстого). Восхищаются им и мастера слова наших дней (Доп. XIV).
В отношении автора романа скажем, что время от времени находились-таки люди, которые умели видеть в нём качества, отделяющие его от простых смертных. Как уже говорилось, истинный масштаб русского поэта разглядел Д. Андреев, провидчески отметивший «провал» культуры во времени: «Если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лоно не только российской, но и других метакультур.
Миссия Пушкина хотя и с трудом, и только частично, но всё же укладывается в человеческие понятия; по существу, она ясна. Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры».
Именно эта «загадка» свидетельствует о всемирно-историческом значении миссии русского поэта.
Творчество Михаила Лермонтова определённо говорит о его интересе к человеку как явлению, содержащему в себе элементы Первообраза. Потому поэт не ограничивался одной только несовершенной «проекцией», беспечно выстраивающей мир по своему уже подобию. Лермонтов хотел и ощущал в себе готовность узреть истинные причины «земных» проблем и противоречий, которые, несомненно, крылись в планах Всевышнего – Первоисточника всего сущего. Наблюдая мир в его делах и через «проекцию» прозревая истинные (т. е. – не здешние) катастрофы, Лермонтов стремился, если не разгадать, то по мере сил приблизиться к пониманию их причин. Более того, он, очевидно, испытывал готовность к тому, чтобы постигнуть «место» их. Точно ли так – этого мы никогда не узнаем. Но мы знаем, что и в старые времена духовные отцы о чём-то догадывались… Блаженный Августин, к примеру, «тоже заблуждаясь», выдвигал мысль о единстве человеческой и Божественной истории, текущих в противоположных, но взаимно неразделимых сферах (Доп. XV). Вот и Лермонтов, находясь в одной из сфер, как будто «напоминает» Богу о существовании другой, запущенной донельзя «противоположности». Потому и укоряет Его за чрезмерную «занятость» небом…
Лев Толстой, чрезвычайно высоко ставивший гений Александра Пушкина, всё же отмечал, что у него «нет этой нравственной значительности», присущей Лермонтову. А в беседе с Г. А. Русановым в 1883 г. великий писатель с горечью и даже с какой-то обидой выдавил из себя: «Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу, как власть имеющий. У него нет шуточек… шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, власть имеющего»![67]
По своему внутреннему складу являясь больше наблюдателем, нежели действующим лицом, поэт ощущал в себе необходимость стать свидетелем битв дальних, вышних… Но не только. Неспособный быть их участником, ибо находился «здесь», Лермонтов в своей нестираемой временем ипостаси ощущал силы и как будто изыскивал возможности быть в этих битвах помощником Тому, в Кого глубоко верил. Отсюда психологическое бегство Лермонтова из чуждой ему среды (где, по тонкому замечанию Андреевского, поэт был изгнанником) к миру иному: тому, который он предполагал увидеть и действующим лицом которого хотел быть! Именно это внутреннее миро– (или космо-) созерцание, а не только настроение отражается в значительной части творчества Лермонтова. Об этом он иносказательно говорит во вселенском по своему масштабу, характеру и мировосприятию стихотворении «Выхожу один я на дорогу».
Лишь походя реагируя на внешние раздражители, поэт много и напряжённо работал. Во многом не реализованная, а потому не разгаданная, работа эта никак не предназначалась «зевакам» от литературы. Когда же он оказывался среди них, а это происходило почти всякий раз, когда поэт появлялся «на людях» или выходил «в свет», то разочаровывался не ими даже, а прерванной возможностью глубокой внутренней работы – той, о которой подспудно говорит всё его творчество. Дух поэта, обитая в далях неизъяснимого вдохновения, поистине пребывал над «грешною землёй», которую он пытался «определить» с помощью иного духовного и пространственного измерения. Чрезвычайно важные открытия в этой области определяют глубину и вышнее великолепие творчества Лермонтова – сущностного творчества, а потому неподвластного стирающим память о человеке вихрям времени.
Ощущение реальности Лермонтовым было трагичным. Вопрос в том: что является трагедией? Как и по каким критериям её можно определить?
Как показывает событийная история, не только отражённая, но и явленная в творчестве, в человеке сосредоточено не только и, увы, не столько Божественное. Искры последнего, изредка вспыхивая высокой духовностью и гением созидания, нещадно гасятся теми, кто лишён их вовсе или не способен распознать признаки великого дара. Потому само существование творчества, свидетельствуя о нужности и бытийной востребованности, оттеняет порочность безверной, а значит, разрушительной «части» человеческой природы. Некогда порвав «пуповину», связывающую его с Богом, человек в наивысшем своём значении на протяжении многих столетий безуспешно пытается «приживить» её. И хотя такой человек преуспел в созидании, то «другая» его ипостась в ходе исторических изменений стала массовым человеком. Она-то делами своими далеко уходит от образа и подобия своего Первоисточника. И чем дальше, тем больше. В преодолении этой «разницы», то есть через выявление и возрождение своей истинной, «поистёршейся» во времени сущности (к которой, полагал Лермонтов, можно ещё и должно прийти: этот мотив ярко прослеживается в ряде его произведений) и видел поэт приближение к первочеловеку.
Лермонтов не был пионером на этом поприще, но он был одним из немногих, кто, подобно Данте, вплотную подошёл к «краю» земного пути, за которым через постижение истинно сущего проглядывает иное бытие…
Дуэль Печорина с Грушницким. М. Врубель. 1890—1891
…К вечеру рокового 15 июля 1841 г. небо на удивление быстро покрылось мрачной завесой тяжёлых туч. Небесный свод словно хотел отгородиться от предстоящей дуэли, которая во всём – с начала до конца – была преступлением (Доп. XVI).
В ожидании команды сходиться поэт был совершенно спокоен. Подвергая свою жизнь опасности, он как будто искушал судьбу, в которой и гений и ничтожество порой оказывались совсем рядом, как оно и было сейчас. Оставаясь недвижным, поэт с рассеянной улыбкой смотрел на своего жалкого противника, не питая к нему ни гнева, ни сочувствия. Но это длилось недолго. Условия дуэли, на которых настоял Мартынов, сжали действо в считанные минуты. Живой аналог пустого, тщеславного и никчёмного персонажа знаменитого романа Лермонтова, видимо, решил «переписать» финал произведения. Преисполненный паркетного себялюбия и мстительности несчётных Грушницких, Мартынов, с лёгкой руки поэта прослывший «горцем с большим кинжалом», решил не дать гению ни единого шанса. Лермонтов всё понял… Оставаясь спокойным, он бросил на своего убийцу «такой взгляд презрения, что даже секунданты не могли его выдержать, и потупили очи долу»[68]. Грянул выстрел! В ту же минуту небо обожгла молния, раздались тяжёлые раскаты грома и на землю обрушился страшный ливень. Небеса разверзлись, то ли оплакивая, то ли желая омыть тело Поэта. А может, то был реквием по ещё одному посланцу небес, отвергнутому людьми. В последнюю минуту жизни лицо Лермонтова было исполнено горечи и невыразимой печали, которая к его убийце не имела ни малейшего отношения…
2014 (2010) г.Дополнения к части I
I. В России с конца 1910-х гг. в литературоведении и лингвистике получили признание формальные методы, приведшие к созданию Формальной школы, интересы которой включали в себя проблематику искусства. В школе изучались идеи швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра (1857–1913), поданные в его книге «Курс общей лингвистики» (1916), и польского учёного И. А. Бодуэна де Куртена (1845–1929). В Петербурге (в последующем – Петрограде) школу представлял ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка), в который входили Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, О. М. Брик, Ю. Н. Тынянов и ключевая фигура формалистов Б. М. Эйхенбаум (о нём чуть ниже). В Москве возник МЛК (Московский лингвистический кружок), проводивший в науку те же «формальные» принципы. В этот кружок входили – С. И. Бернштейн, П. Г. Богатырев, Г. О. Винокур, а также Б. И. Ярхо, В. М. Жирмунский и Р. О. Якобсон. Лингвисты новой формации привнесли немало интересного в литературоведение, превратив его в настоящую науку, со своими методами и приемами исследования. Их приемы легли в основу пражской структурной лингвистики, тартуско-московской структурной поэтики и европейского структурализма в целом. Вместе с тем принципиально отмежевавшись от стиля предшествующих изысканий, формалисты Советской России смыслом своей деятельности объявляли спецификацию литературоведения, изучение морфологии художественного текста. Они резко критиковали подход к искусству и литературе как к «системе образов», выдвигая тезис об искусстве как некой сумме приёмов художника. Превратив литературоведение в науку, формалисты были близки к тому, чтобы «забить» её в ремесло. Поскольку рассматривали «литературное произведение так, как будто это автомобиль и его можно разобрать и снова собрать» (Ю. Тынянов), в каждом новом «разборе» создавая свои методы и приемы исследования. Б. В. Томашевский в учебнике по теории литературы, ориентированном на методы Формальной школы, писал о том же: «Каждое произведение сознательно разлагается на его составные части, в построении произведения различаются приемы подобного построения, то есть способы комбинирования словесного материала в словесные единства. Эти приемы являются прямым объектом поэтики». Словом, изучая явления литературы, а не её сущность, формалисты мыслили поэтику как способ изучения, таким образом, средства анализа превращая в цель. Следуя этому, они построили теорию сюжета, изучая новеллу и роман, применяли математические методы, анализировали ритм, синтаксис, звуковые повторы и прочее.
Основатели Формальной школы в России надолго пережили её расцвет. С подачи Л. Троцкого заклеймённая как буржуазная теория, она и нашла себя главным образом в «буржуазном мире». Именно там, реализуя немалые свои потенции, школа преобразовалась в структурализм, в своих разработках вышедший далеко за пределы собственно литературы. На новой почве судьба школы сложилась интереснее её отечественных аналогов (до 1950-х гг. запрещённых) и приобрела не присущие русской литературоведческой школе характеристики. В западной культурной традиции была предпринята попытка сумму гуманитарных концепций поднять до уровня строгой теории.
По мере развития структурализма Леви-Строс называет его «сверхрационализмом» и видит его задачи в том, чтобы объединить строгость и логическую последовательность учёного с метафоричностью и парадоксальностью художника. Леви-Строс всерьёз намеревался «включить чувственное и рациональное, не пожертвовав при этом ни одним из чувственных качеств». Опираясь на лингвистику, апологеты нового гуманитарного знания видят свой идеал в математике, которая, по словам М. Серра, «стала тем языком, который говорит без рта, и тем слепым и активным мышлением, которое видит без взгляда и мыслит без субъекта cogito».
При всей абстрактности и чрезмерной теоретичности, нам – в связи с пристальным вниманием к духу творчества М. Ю. Лермонтова – представляются наиболее любопытными те идеи структуралистов, которые прослеживают внутренний мир человека вне прямой его связи с личностными характеристиками, образовательно-информационным статусом и «злобой времени». В этом плане интересны идеи Леви-Строса, который стремился «выделить фундаментальные и обязательные для всякого духа свойства, каким бы он ни был: древним или современным, примитивным или цивилизованным». В аспекте литературы то же заботило и Ж. Женинаска: «Наша модель должна обосновать анализ любого литературного текста, к какому бы жанру он ни принадлежал: поэма в стихах или в прозе, роман или повесть, драма или комедия».
При всех плюсах западного структурализма, не будем упускать из внимания тамошнюю «почву» учения, которую злые языки называют «обездушенным и заурбанизированным Западом». То есть «Запад», в котором гуманитарное знание, выхолащиваясь в ходе эвольвентных извивов, принимает формы, опровергающие самые начала его в лице мыслящего и творящего субъекта, коим является homo sapiens. Как будто в подтверждение наших опасений Р. Барт ставит задачу добраться до «последней структуры» знания, которая охватывала бы не только литературные тексты, но и любые вообще – прошлые, настоящие и будущие. В такой перспективе структурализм, несомненно, предстает как предельно абстрактное, гипотетическое и в некотором роде обесчеловеченное моделирование.
И в самом деле, исходя из понятия структуры и других установок, структурализм радикально пересматривает проблематику человека, традиционно понимаемого в качестве субъекта познания, мышления, творчества и прочей деятельности. В структуралистских разработках консервативный субъект «теряет свои преимущества», «добровольно уходит в отставку», «выводится из игры» или же объявляется «персоной нон грата». А это и есть то, на что в народе откликаются одним словом: «Приехали!»…
II. «Вражью руку», в частности, подтверждает ряд иных «изысканий».
Дабы не умножать число страниц, остановлюсь лишь на наиболее принципиальных моментах отечественного литературоведения, начиная с первой трети XX в. до начала XXI в. Этот период, помимо толковых, изобилует, мягко говоря, странными сочинениями, к числу которых отнесу ряд опусов «крупнейшего советского литературоведа» Б. М. Эйхенбаума.
Вообще, в русскоязычной беспочвенной «литературе мыслей» того времени хитроумия было много больше, нежели, собственно, самих мыслей. А те, что были, тяготели к плоскости, потому, видимо, что таковых завсегда больше умещается в голове. Печатный кладезь «пролетарской эпохи» упорно навязывал народу опрощённое, «партийное», озарённое кумачёвыми знамёнами, восприятие мира. Эти старания были особенно тщательны, когда дело доходило до не очень подходящей для «красного зарева» русской классики.
Всерьёз вознамерившись «сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и др. с корабля современности», ниспровергатели активно умащивали литературную «палубу» словесной эквилибристикой, по которой их, классиков, легче было «скатить» в пучину морскую. На этой стезе особенно усердствовал неугомонный литератор В. Б. Шкловский, вкупе с его кружковыми единомышленниками. Среди последних первым был верный оруженосец «штурмана корабля» (Шкловского) и в такой же степени преданный «общему делу» Б. Эйхенбаум. Далёкий от понимания «кухни творчества», интернационалист от литературоведения, Эйхенбаум, «ОПОЯЗавшись» кружковым модерном и им же накрепко привязав себя к большевистскому режиму, претендовал на знатока именно в том, в чём не особенно хорошо разбирался. Хотя, может, именно по этой причине он покорён был «ремесленной» стороной поэтики. Во всяком случае, Эйхенбаум стал одним из самых принципиальных приверженцев Формальной школы. Вовсе не разделяя «христоматийную» оценку, данную Эйхенбауму его соратниками, и не вдаваясь в подробности его «школьных заблуждений», без особого удовольствия остановлюсь лишь на его литературных оценках М. Ю. Лермонтова.
Не поняв отроческие и не вняв юношеским стихотворениям Лермонтова, Эйхенбаум пользуется своим излюбленным приёмом – выливает на них ушат нелепостей посредством литератора-переводчика О. И. Сенковского, которому, по словам А. А. Бестужева-Марлинского, «легче было писать по-турецки, чем по-русски». Тем не менее, обедневший шляхтич, поднаторев в русской грамоте с помощью Б.-Марлинского, прибился к русской гавани. Под руководством последнего осилив сборник стихотворений русского поэта (1842), знаток турецкого, арабского и персидского языков приходит в негодование от его содержания. Он не замедлил обвинить издателей в «спекуляции», поскольку труд их, по его мнению, «исторгает из забвения все эти неудавшиеся, непризнанные пробы пера» Лермонтова. Назвав «провинившихся» в издании произведений поэта (среди которых был такой шедевр, как драма «Маскарад») Геростратами, Сенковский знать не знал и ведать не ведал, что в следующем веке найдёт своего приверженца в лице идеологически и эстетически чуждого ему Эйхенбаума. Помимо Сенковского, заручившись поддержкой «суждений Шевырёва» и его единомышленников, «крупнейший литературовед» в дальнейшем выступает солирующей партией. Уже «от себя» Эйхенбаум пишет: «годы 1833–1835 очень бедны творчеством», поэтому «Лермонтов не включил в свой сборник 1840 г. ни одного стихотворения из написанных до 1836 г.».[5] Тут бы нашему текстологу, неформально, а натурально поскребя затылок, переступить через свои литературоведческие привязанности и отметить исключительную требовательность к себе поэта. Но Эйхенбаум не понимает живой связи образа со структурой стиха, а потому не приемлет соучастия души человека в творчестве. Литературному начётчику попросту чужда ответственность перед Словом, которого он не особенно чувствовал, и он проходит мимо этой возможности.
О «Смерти поэта» в «писании от Эйхенбаума» сказано: «Как всегда (?!) у Лермонтова, в этом потоке слов тонут смысловые детали (стиль! – В. С.) – фраза превращается в неразрывную выразительную формулу, в эмоциональный сплав. Стихотворение действует общей силой эмоциональной выразительности, а не смысловыми «образами». Образы и речения сами по себе не представляют собой ничего особенно оригинального или нового», – менторским тоном выговаривает неизвестному в то время поэту известный впоследствии литературовед (с. 107–108).
То же и «Мцыри». Грандиозная по художественной мощи, поэтическому накалу и духовной энергетике Лермонтова, поэма вовсе «не является новым жанром и не открывает нового пути» (как будто задача творчества только в том и состоит, чтобы открывать исключительно «новые пути», – хотя и здесь критик врёт). Поэтому «Мцыри» в глазах Эйхенбаума не столь уж и примечательное «завершение тех опытов эмоционально-монологической поэмы, которые начаты были Лермонтовым ещё в юности…». «Мы видим, – далее пишет Эйхенбаум, почему-то озлившись на гениальность поэта, – что в области поэмы Лермонтов не порывает со своим прошлым, и лишь совершенствует то, что было им набросано еще в 1830 г.» (с. 92). Да и вообще, «Лермонтов не создаёт нового материала, а пользуется готовым», усложняя его «обычными лирическими формами и сентенциями (пуэнтирован)», – пишет свежевальщик литературы о Лермонтове, создателе новых форм в творчестве и технике стихосложения.
А как насчёт лермонтовского «Демона»? Уж здесь-то, казалось, критик не может не воздать должное грандиозной идее и кристально чистым поэтическим формам. Что, как не этот величественный шедевр, с первых строк захватывая дух читателя, ведёт наше воображение по снежным высям Кавказа и мира!
Ничуть не бывало. С поэмой всё обстоит совсем просто. «Демон» в глазах канатоходца от литературоведения есть всего лишь «типичная литературная олеография («калька» с чужих произведений)» Козлова, Подолинского и других поэтов, список которых Эйхенбаум милостиво украшает именами Пушкина и Байрона…
Да быть того не может?!
«Может», – разъясняет нам местечковый сочинитель.
В отличие от Лермонтова, «порвав с прошлым», он пишет: «Как и „Мцыри“, „Демон“ возник из абстрактного чертежа, в котором не было места никакому национальному или историческому материалу…» (с. 96). В самом же «языке „Демона“ нет ни простоты, ни заострённой точности (?!), какой блещут (точностью «блещут». – В. С.) поэмы Пушкина, но есть тот блеск эмоциональной риторики (?!), который должен был возникнуть на развалинах классической эпохи русского стиха (непонятно, о каких «развалинах» идёт речь – от Державина и Жуковского до Пушкина? – В. С.). Лермонтов пишет формулами, которые как будто гипнотизируют его самого, – он уже не ощущает в них семантических оттенков и деталей, они существуют для него как абстрактные речевые образования, как сплавы слов, а не как их „сопряжения“» (с. 97).
«Крупнейший литературовед», так ничего и не разглядев у Лермонтова и мало что поняв в его величественном произведении, явно злится на поэта – сильно злится! Иначе не объяснить поток его «сопряжений» из рыхлых бутафорских словес, которые больше походят на эманации пусто-литературоведческого сознания. Если Тынянов, разбирая литературное произведение, «как автомобиль», всё же пытается собрать его, то Эйхенбаум, «разобрав» художественную вещь на «детали» (это его любимое словечко), вертит их в руках и, не зная, что делать дальше, всерьёз считает, что произведения-то и нет… Правда, отдадим должное критику – он пытается рассуждать.
«Здесь совершенно ясно, – расставляет он в «Демоне» все точки над «i», – что дело не в каком-нибудь „влиянии“ или „конгениальности“, а в самом простом пользовании готовым материалом. Чужой сюжет, с одной стороны, расцвечен традиционной для русской поэмы экзотикой (?!), с другой – осложнён обычными лирическими формулами (?! – сказал бы уж лучше «деталями», но, видно, забыл) и сентенциями (пуэнтирован). На русской почве, вне связи со средневековым эпосом и поэмой в стиле Мильтона, сюжет этот утерял свою пышность, свою богословскую философичность и стал гораздо примитивнее» (с. 94).
И в самом деле: как русская поэтическая форма может существовать вне учительски наставительного и, чего уж там, – без обязательного для России европейского эпоса?! Да никак не может! Это ж, как говорят в народе, козе понятно, не только Эйхенбауму!
Впрочем, иногда Эйхенбаум в своём вымученном анализе (бог с ним, не будем придираться к смыслу и значению последнего слова) нисходит до комплимента гению. Но и здесь, осерчав на Лермонтова – сильно осерчав! – и от этого, видно, поверив в собственную значительность, Эйхенбаум никому не даёт спуску! Ни Чехову, ни Толстому, ни, естественно, Лермонтову. Послюнявив чернильный карандаш, Эйхенбаум обращается к жемчужине мировой литературы – «Тамани». Вспомнив Чехова (который, напомню, как и Толстой, был от неё в великом восторге) и поперхнувшись от того, что вспомнил, он «хвалит» лермонтовскую «Тамань» следующим образом: «Лермонтов показал себя здесь мастером малой формы – недаром в кругу своих товарищей он славился как рассказчик анекдотов» (!?). Далее, вменив в вину «анекдотичность стиля» ещё и Чехову и тем самым опять выпоров себя, подобно незадачливой унтерофицерской вдове, Эйхенбаум безжалостен к себе и в дальнейшем: «Никто, кажется, из русских поэтов не пародировался (?!) так охотно, как Лермонтов, и это совершенно понятно» (?!!).
Что тут можно сказать? Всякий литературоведческий анализ бессмыслен, если он не освящён совестью! В данном случае не знаешь, чему больше удивляться: цинизму, скабрезности, спеси или наглости мыльного пузыря от литературоведения, который, думая, что пишет о Лермонтове, на самом деле говорит о себе… И довольно глупо.
О чём ещё рассказывает Эйхенбаум? И к чему, вообще говоря, наше столь пристальное внимание к «мыслям» незадачливого литературоведа?! Может, в других он слепит нас блистательным анализом, подобно свежевыпавшему снегу в морозное утро? Ничуть не бывало.
«Расправившись» в 1924 г. с Лермонтовым, Эйхенбаум и во всех остальных сочинениях прибегает «к разбору» произведений русских классиков «по Тынянову». С той лишь разницей, что, «разбирая автомобиль», забывает собрать его. Вот ведь как. Как же он это делает? То есть, «разбирая», «забывает»?
Очень просто. Справедливо, но, не очень охотно решив, что не тянет на анализ русских классиков (ну, никак не тянет!), Эйхенбаум вовремя вспоминает изречение древних римлян: «Разделяй и властвуй» (divide et impera). Властвовать Эйхенбауму тоже была не судьба. Это он, худо-бедно, но понимал. Поэтому честолюбивый сочинитель налёг на первую часть римской стратегии. Хитроумие Эйхенбаума состоит в том, что, прибегая к до смешного частому и до неприличия пространному цитированию писателей, он, построив их в «когорты», предоставляет им возможность самим выяснять между собой отношения… Вот оно «Соломоново решение»!
В соответствии с ним (решением – не Соломоном) Эйхенбаум в одном случае устами Толстого и Сенковского ругает Пушкина, с тем, чтобы самого Толстого защипать «до смерти» цитатами из Прудона, де-Местра и Бокля, а на Лескова напускает А. Скабичевского и М. Меньшикова, во всех случаях оставаясь как бы ни при чём. По понятным причинам не в состоянии проникнуть в глубину текста, а потому старательно заполняя пустоты своего «мыслительного пространства» цитированием фрагментов, Эйхенбаум не чувствует силу Слова, существующего, как известно, независимо от исследователя. Потому шедевры мировой классики, даже в приводимых им кусках насыщенные мыслями и образами, подобно могучим жерновам перетирают в пыль его «тонкие» и почти всегда жиденькие посреднические комментарии.[6] И всё же при немалом насилии над здравым смыслом Эйхенбаума можно было бы назвать приличным (в смысле не приличия, а сносности) текстологом, если бы он, предлагая тексты, ещё и знал, зачем это делает. Но не ведал Эйхенбаум, что творил, а потому поневоле (поверим этому) оказался среди создателей литературоведения для себя. Это когда автор для приличия начинает с писателя, а продолжает о себе, как не менее, а может, ещё более важной, драгоценной и эрудированной персоне. Не это ли «течение мысли» породило «литературу» турбулентного забалтывания? Эйхенбаум, безусловно, весьма начитан (шуточное ли дело – всю жизнь сидеть за книгами!), но ведь эрудиция сама по себе мало чего стоит, ибо стеллажи даже и захудалой библиотеки полновеснее любого критика, тем более, если он склонен к уплощённому юмору.
Словом, творчество не только Лермонтова вызывало у Эйхенбаума «хохмическое веселие». Мыльный пузырь от текстологии (поверим, что такая наука всё же существует), календарный юбиляр и, напомню, «крупнейший литературовед» ёрничает везде, где только ему удаётся придумать повод для этого. Что касается заклинаний Эйхенбаума о «новых путях» и «готовом материале», к которым он прибегает всякий раз, когда ему нечего сказать (т. е. довольно часто), то, наверное, не ясно ему было, что процесс творчества есть инстинктивное стремление одарённого человека поведать о том, что открылось только ему и именно ему. А потому всё, что помогает взмыть выше предшествующего опыта, – оправдано. Оправдано результатом! Последний и свидетельствует о том, что гений не занимает чужое, а берёт своё! Если же кто без толку шныряет «вверх-вниз» по следам других, то не столько повторяет, сколько обдирает авторов, что, не имея никакого отношения к Лермонтову, целиком и полностью относится к Эйхенбауму.
Приписывая читателю собственную ограниченность, и тем самым оговаривая его, критик на этом не останавливается. Пытаясь ещё и обдурить «понятливого» читателя, он запросто берёт его под руку, непременно желая заполучить в свои союзники. И это иногда удаётся Эйхенбауму. В том смысле, что он не писал по воде вилами…
Через полста лет известный литературовед В. А. Мануйлов набросал статью «Лермонтов ли Лермонтов?» (1973), в которой ставит ряд никчёмных вопросов, но, очевидно, не желая уподобляться незадачливой «вдове» (Эйхенбауму), не публикует материал. «Дело Мануйлова» продолжил его «наследник» и, как видится, литературный мазохист В. А. Захаров. Откликаясь на «запросы времени» и зная, что такого рода мифы могут оказаться востребованными среди наиболее распущенной и наименее вдумчивой молодёжи (это самая щадящая характеристика его потенциальных читателей-единомышленников), Захаров живо отвечает «запросам времени», стилистически «пуэнтированным» ещё Эйхенбаумом. В 2000 г. он публикует книгу «Загадка последней дуэли. Документальное исследование», а затем «Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова» (2003), отсутствие в которых именно документальной убедительности (в этой работе исследователи насчитали более двадцати грубейших биографических ошибок!) автор возмещает претенциозным названием. И в дальнейшем «биографический пыл» Захарова не охладился. В 2006 году в газете «Северный край» он вновь с жаром и пылом проводит «идею» об «утаённом» происхождении Лермонтова, приправляя её домыслами, перечислять которые не будем, дабы самим не распространять их.
Из сказанного напрашивается вывод: натужные попытки любителей окололитературных опусов относятся к издержкам погружения в поэтическую среду, для них неприглядную, а в духовном существе мало знакомую. Именно в чреве апологетов «древнейшей профессии» и её столь же распутных сутенёров могут рождаться всякого рода «сенсации», суть которых граничит с подлостью и переходит в неё. На всё это можно было бы не обращать внимания, если б оно не навязывало себя, если бы не было рассчитано надолго… Именно так. Поскольку такого рода «издержки» имеют цель профанировать русскую культуру как таковую, частью чего является очернение литературного наследия России и Михаила Юрьевича Лермонтова, в частности.
На фоне опусов такого рода совсем не удивляет больной интерес к убийце поэта (Мартынову) со стороны «изыскателей истины», любящих «клубничку» не меньше Захарова. Но дело даже не в интересе, а в том, что «учёные» придают убийце черты, совершенно не присущие пустому и тщеславному человеку, каковым Мартынов, несомненно, был. Словом, в исполненном благолепия «мартыноведении» видятся те же автопортретные черты, останавливать внимание на которых вредно для читателя и бессмысленно для дела. Факт в том, что они есть, и авторы их при жизни Лермонтова получили бы от него в лучшем для них случае тяжёлую оплеуху. Причём – за дело! Хотя, вряд ли у «произведённых в рыцари» зашевелилось бы после этого человеческое достоинство, которое им, по всей видимости, совершенно не свойственно.
Вне сомнения, в число врагов при жизни поэта вошли бы ещё и другие «учёные». И не обязательно потому, что они принципиально враждебно настроены к Лермонтову (во всяком случае, так не хочется думать). Просто их стиль и отношение к делу изобличает случайность выбора. Тогда как наука о великом поэте должна пополняться исследованиями тех, кому есть, что сказать, кто истинно чувствует и понимает глубину творчества гения. Все остальные оказывают плохую услугу отечественной литературе, читателям, науке и, естественно, наследию поэта.
III. Для наибольшего раскрытия внутренних политических и экономических проблем Византии сделаем экскурс в историческую жизнь империи.
Ещё император Мануил, опасаясь норманского нашествия, заключил с венецианскими купцами в 1148 г. договор, после чего они получили для своего флота важные привилегии. Щедрые торговые льготы вскоре дали венецианцам возможность создать своего рода экономическое государство в государстве, что в известной мере предопределило в 1182 г. кровавое избиение проживающих в столице «латинян». Последние не остались в долгу. В 1204 г. крестоносцы захватили и разграбили Константинополь. Их усилиями империя была разделена на части. В последней трети века Византия символически соединила свои части, но это не улучшило ситуацию, поскольку уже тогда империя была в полном финансовом банкротстве. Ситуацией умело воспользовались экономические соперники и враги венецианцев – генуэзцы. Ловкие дипломаты и умелые флотоводцы заключили с Михаилом Палеологом в 1261 г. весьма выгодный для себя Нимфейский договор. Впоследствии Андроник II (ок. 1260–1332), руководствуясь «экономическими» соображениями, отказался от собственного флота ввиду дороговизны его содержания (!). Упразднившись, флот Византии никогда более не возрождался. К середине XIV в. византийский флот, который некогда мог выставить на море сотни военных кораблей, был в лучшем случае ограничен несколькими десятками единиц.
В начале XIII в. в предместье Константинополя генуэзцы в поисках «спокойного» места испросили императора разрешить им вне города, ниже возвышения Галата, «поставить кучкой немного простых жилищ», – пишет свидетель событий византийский историк Никифор Григора. Обладая «хозяйственной предусмотрительностью», хитростью, а всего больше – коварством в заключении сделок, они «…незаметно поднялись до большой славы и силы». «Хвастаясь и издеваясь изо дня в день над бессилием византийцев, – пишет Григора, – они воздвигали здания и двухэтажные, и трехэтажные; захватив ещё большое место вверх по горе, они строят неприступные башни, господствующие над высотой, а вместе с этим и стены и длинные круговые ограды, заключающие широкое пространство, причем протягивают их одну за другой»[7].
Словом, пока греки уповали на небеса, внимая спорам сторонников и врагов исихии, на их территории в «спокойном месте» внедрилось чуждое империи республиканское устройство, закладывались латинские церкви и монастыри. Видимо, считая, что всё это делается не без вышнего благословения, богобоязненные византийцы, упражняясь в церковных диспутах, не находили времени для решения насущных проблем, коими были продовольственные сбои, увеличение боеспособности войск и возрождение флота. В то время как греки «казались добровольно оглохшими», у генуэзцев «город казался великолепной военной мастерской», – негодует Григора. Итак, пока греки «глохли» – «поток товаров и денег уже не проходил через столичные рынки, свернув на Галату; в торговле воцарилась итальянская монета, население города чаще голодало, чем было сыто, зловещая язва – итальянское гнездо в Пере (так назывался город Галата. – В. С.) – разъедало изнутри расползающееся хозяйство», – пишет крупный историк-медиевист Е. Скржинская.[8]
C 1273 г. контроль над северной частью Константинополя фактически переходит к генуэзскому купечеству, основавшему здесь банки, торговые конторы и склады. Само же «гнездо» становится крупным торговым и экономическим центром. Уж е в XIV в. доход колонистов, в буквальном смысле отгородившихся от Константинополя мощной стеной, превосходили доходы метрополии в 7 раз (семь!). Находившееся под стенами столицы империи «итальянское гнездо», сказочно обогатившись за счёт торгового оборота купцов, судовладельцев и политических проходимцев, откровенно проводило свою политику, несовместимую с интересами Византии. Когда генуэзцы «…желали чего-либо добиться от византийцев, они применяли крайнюю меру: будучи хозяевами моря, они пресекали путь всем торговым судам, которые везли зерно в столицу, как с фракийских берегов на Мраморное море, так и с северного Причерноморья. В городе появлялся страх голода, потому что сразу же наступала «скудость в хлебе и другом необходимом продовольствии», – цитируя Григора, пишет Скржинская.[9] Попытка Иоанна Кантакузина III укоротить экономическую политику генуэзцев, как сказал бы Клаузевиц, «другим способом» закончилась в 1348 г. позорным разгромом в морском сражении, что привело Византию к новым уступкам. Никифор Григора так прокомментировал эти события: «Если бы они (византийцы) по-прежнему обладали флотом, латиняне никогда бы не вели себя так самонадеянно по отношению к ним, и турки никогда бы не заимели глаза на песках побережья (Эгейского) моря». Бойня эта, к слову, красочно описанная Григора и, без сомнения, нашедшая отражение в маринах итальянских живописцев, характеризует не только беспомощность войск, но и малодушие скорых на паникерство малонадёжных защитников Вечного города.
В своих трудах Григора, возможно, пристрастен, когда говорит о бесчестности генуэзских купцов. Однако это никак не отменяет необходимости труда и честного отношения к делу, тем более в контексте несчастного для империи экономического упадка.
IV. Один из духовных предшественников учения, преп. Иоанн Лествичник, обозначая принципы внеличностного, писал: «Странничество – есть молчание глубины… Оно есть отлучение от всего, с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучною с Богом…» «Исихаст, – разъясняет нам епископ Порфирий, – есть монах, успокоившийся от всех сует и забот мирских и не занимающийся ничем, кроме духовного, в своем исихастрионе, т. е. покоище, скромном жилье. Он же безмолвник и молчальник».[10]
Исихасты, в лице выдающегося подвижника учения Григория Паламы, полагали, что спасение души возможно через прижизненное «слияние» с Богом путем индивидуального религиозного подвижничества. В суете оскверненного грехом мира, считали они, более невозможен рост духовного сознания, а потому единственная возможность спасения состоит в подвиге глубокого и невозвратного уединения от мира. В духовном опыте подвижников благочестия заявляет о себе не борьба с отдельными грехами, по слабости человека – бесплодная, а сосредоточение внимания на внутреннем состоянии больной грехами души. Искоренение греха представлялось возможным путем вхождения в тайники души человеческой – источника всех его деяний. Душа человека определялась святыми отцами как «сущность умная, образ и подобие Божие». Но в борьбе за первоподобие сам человек бессилен; только Благодать Божия содействует человеческому спасению. «Человеку не дано и невозможно своими силами искоренить грех. Сопротивляться, бороться, воевать с грехом, бить его – всё это человеку дано. Искоренить же – дело Божие», – наставлял Макарий Египетский.
Невозможно достичь истинного ведения в общении с миром и с людьми, разъясняя учение Макария, просвещает нас архимандрит Киприян: «Не гнушение греховными язвами человечества, но великая любовь к человеку и особенно к грешнику пронизывает всё его учение». Немало места в монашеских настояниях уделяется уму, понимаемому в соответствии со святоотеческим учением.
«Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства», – говорит Исаак Сирин. Ум, чувство и сердце неразрывны. Обретя единство в душе, эти качества – благодатью Божией – раскрывают перед человеком неизъяснимые возможности. Об этом не раз напоминал своим ученикам преп. Макарий: «Бессмертная душа есть некий ценный сосуд. Посмотри, как велики небо и земля, и Бог не удовольствовался ими… Посмотри, каково твое достоинство и благородство, что Господь пришел не ради ангелов, но чтобы воззвать тебя, погибшего и уязвленного, и воздать тебе первую красоту чистого Адама. Ибо человек был владыкой, но сатана омрачил его». Путем «умного делания» и глубокой непрекращающейся молитвы, считали отцы, можно очистить от греха душу.
Здесь важно уяснить, что непрестанная «умная молитва» не понималась буквально. Не только в словах было дело. Молитва понималась как предстояние Господа в сердце, подразумевая «не отходящее от сознания убеждение, что Бог, как везде есть, так и в вас есть…», – писал епископ Феофан, – это «хождение перед Богом и есть непрестанная молитва».[11] Так, опираясь на расположение к Богу в сердце, выстраивался «мостик» между сущностно видоизмененным «совершенным» человеком и родственным ему Творцом. «Между Богом и человеком существует сродство… Нет другой такой близости, как у души с Богом и у Бога с душой», – свидетельствовал преп. Макарий. Усилиями просветленной души, сосредоточенной на Первообразе, происходит устранение даже и зачатков греха в мыслях и делах.
Каким образом?
В соответствии с принципами учения – полное отрешение от материальных помыслов и углубленная мысленная молитва в состоянии физического покоя («исихии») приводит к экстазу, способствующему духовному приближению к Богу. В соответствии с задачами исихии, апологеты учения, направив духовные устремления на постижение Единой Сущности, должны были удалиться «от всей совокупности мира и всего, что напоминает о мире», – пишет проф. И. Соколов. Но одного отстранения себя от мирской жизни недостаточно. Духовное очищение возможно только «посредством сосредоточения и собирания ума в самом себе». «Для достижения такого сосредоточения, – продолжает Соколов, – исихаст должен отвлечься от всякого представления, от всякого понятия и помысла, освободить ум свой от всякого познания, дабы он мог свободно, посредством безусловно независимого полета, легко погрузиться в истинно-мистическую тьму неведения… Самая высшая, проникновенная и совершенная молитва исихастов является непосредственным общением с Богом, во время которого между Богом и молящимся не существуют какие-либо мысли, воззрения, образы настоящего или обдумывания прошедшего. Это и есть высочайшее созерцание – созерцание одного только Бога, совершенное восхищение ума и отрешение от всего чувственного, чистая молитва, в которой нет никакой посторонней мысли или беспокойного на чем-нибудь сосредоточения. Дальше такой молитвы не мыслится ничего более совершенного или высшего; это есть состояние экстаза, мистическое единение с Богом, обожествление (здесь и далее выделено мной. – В. С.). В этом состоянии ум всецело выходит за пределы окружающего чувственного, отлагается от всякой мысли, приобретает совершенную нечувствительность к тому, что в мире, и к внешним впечатлениям, становится глухим и немым. Он не только совершенно отрешается от внешних впечатлений, но и выходит за пределы своей индивидуальности, теряет сознание о себе, как всецело погрузившийся в созерцание Бога; поэтому достигший экстаза не живет личной и индивидуальной жизнью; жизнь его духовная и телесная останавливается, ум пребывает неподвижным и прикованным к объекту созерцания…
Таким образом, основанием и центром исихии служит любовь к Богу от всей души, сердца и помышления и стремление к божественному созерцанию посредством отречения от всего, что в самой малой и отдаленной степени напоминает о мире и что в нём. Это и была «смерть для мира». Желанная цель исихастов достигалась посредством совершенного уединения и молчания, посредством «хранения сердца» и трезвления ума, посредством непрерывного покаяния, непрестанных слез, памятования о Боге и смерти и постоянного повторения «умной» молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Сыне Божий, помоги мне». Следствием такого молитвенного расположения является блаженное смирение».[12]
Напомню, что учение исихии существовало при доминанте «теоретического» богословия, согласно которому, по словам Григория Богослова, «созерцание есть спутник к горнему, а деятельность – восхождение к созерцанию». Однако в патристике описываемого времени не всегда прослеживается ясность в отношении нераздельности «созерцательного» и «деятельного» элементов, которая предполагается в книгах Св. Писания. Отметим это для себя и проследим дальнейшую эволюцию мистиков.
В соответствии с учением неоплатоников, Григорий Нисский богоподобными силами души считал силы созерцательную и рассудительную, которыми, по его мнению, постигается Божество. Только освободившись от всех страстей, учил Нисский, душа беспрепятственно созерцает прекрасное, полным выражением которого является Бог, ибо именно в Нём «конец всех желаний, успокоение всех созерцаний». Афанасий Великий ещё более конкретен. Он без обиняков утверждает: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». Ему вторит св. Ириней: «Каким образом мог человек приблизиться к Богу, если бы Бог не приблизился к человеку», и разъясняет свою мысль: «Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божиим». Но посредством чего слабый человек может приблизиться к Богу?
Исходя из первосозданных свойств человека, считает Ориген, «наш ум до некоторой степени родствен Богу, он служит родственным образом Его, и именно поэтому может знать кое-что о природе Божества, особливо если он чист и отрешён от телесной материи».
Как же нам отрешиться от привязок к материальному бытию и на что опираться в своем духовном развитии?
Для этого, учит св. Мифодий Олимпийский, нужно чётко различать духовную ипостась человека от временной, тленной, ибо образ заключается в душе, а подобие – в возможности нетления.
Здесь, имея в виду «материю», следует отметить, что апологеты исихии не отождествляли грех с тварной природой человека: тело, по их мнению, не враг человека, а сотрудник в его подвигах. Понимая материальную субстанцию неразрывно от творения, они видели в ней помощницу своим устремлениям: «Не хули материю, ибо она не презренна», – учит Иоанн Дамаскин; «материя есть дело Божие и она прекрасна». «Я поклоняюсь материи, через которую совершилось моё спасение. Чту же её не как Бога, но как полную божественного действия и благодати». Таким образом, исихасты не презирали плоть как таковую, но видели в ней лишь «исполнительницу греха». Главной виновницей является душа, о чем открыто говорит Леонтий Византийский, уча о грехе, как о поступке против природы человека: «душа есть первый источник греха; посему она первая и осуждена». Грех, по мнению св. Отцов, разрушил в человеке божественное подобие; человек был побежден демоном и божественный замысел о человеке был ниспровергнут. В омилии (беседе) 34 Фотий посредством изящных образов доносит до нас ту же мысль: «душа начальствует над телом и по естеству правит им, как возница правит лошадьми, а кормчий правит кораблем и военачальник войском. Если бы этот порядок перевернулся и тело вздумало бы восстать против души, подчинять её своим движениям, то оно увлекло бы душу в такую же погибель, в которую сбросившие его кони низвергают возницу, а корабль кормчего и воины военачальника, взявшись сами воевать, окормлять и править».[13] Из чего следует, что отождествление тела с грехом есть осквернение человека как тварной субстанции. «Пекись о своем теле, как о храме Божием, – пишет преп. Исайя Нитрийский, – пекись, как имеющий воскреснуть и дать ответ Богу; бойся Бога, как имеющий дать Ему отчёт во всём, что наделал; как, когда тело твое получит рану, заботишься ты уврачевать её, так попекись, чтобы оно явилось бесстрастным в воскресении».[14] Потому исихасты, пишет архимандрит Киприан, «в теле видят не помеху для воспитания души, а сотрудника духа, его друга, сопряжённого ему в божественном плане о создании человека. Аскетическое обуздание и воспитание тела не есть умерщвление, а только наибольшее приспособление для служения душе и уму».[15] Что касается «работы ума» в этот момент, то она существенно отличается от мышления в общепринятом смысле. О процессе подобного «мышления» отечественный богослов епископ Феофан пишет следующее: «Когда мысль погрузится в беспредельное и выйдет из себя, то исчезает в глубоком изумлении».
Насколько это реально и можно ли «технически» реализовать связь очищенной души с Богом? Св. Григорий Палама делится с нами на этот счет:
«Надо блуждающий во вне по предметам чувственного мира ум вернуть внутрь своего тела, а оттуда направить его к Богу». Положение тела при этом должно быть следующим: голова немного наклонена и взором направлена на грудь или живот человека – это, считает Палама, облегчает молитвенное делание. И тогда, дополняет рассуждения Паламы Никита Стифат, ум достигшего совершенства во внутреннем трезвении и достигает таинственных высот, ибо «ему свойственно пересекать воздух, возноситься выше всего, вращаться в кругу горних чинов небесных, приближаться к Первому Свету и исследовать духом глубины Божия… Он пребывает в общении с высочайшими силами херувимов и серафимов, коим принадлежит слово мудрости и вместе слово разума».[16] Но для этого не достаточно «оставить мышление», воспарив над ним, поскольку следует ещё преодолеть образное чувствование, что самое сложное. По словам Григория Богослова: «Как невозможно обогнать собственную тень, сколько бы не спешил;… так и находящемуся в теле нет никакой возможности быть в общении с умосозерцаемым без посредства чего-либо телесного. Ибо всегда превзойдет что-нибудь наше, сколько бы ни усиливался ум отрешиться от видимого и уединиться в себя».[17]
Как видим, «наше» внутреннее чувствование крепко «держит» ум даже и самых продвинутых аскетов, что естественно для человеческой психики. Как показали последующие исследования аскетики – ум не в состоянии полностью отрешиться от образного мышления (видения) и воспарить к без-образному восприятию чего-либо, ибо в этом случае человек должен превзойти свою природу, что невозможно. «Сами по себе отвлеченные идеи, – пишет проф. Соколов, – могут не иметь чувственных форм; но общечеловеческий опыт свидетельствует, что их реальность становится для нас гораздо яснее и ощутительнее, если нам удастся представить их в чувственных формах. В этом случае, по «закону диффузии» Юма, живость чувственного образа усиливает живость самой идеи и делает её более доступной вере».[18] «И в видениях пророков, и в откровениях святых, и в озарениях обращавшихся к вере, и в молитвенных созерцаниях… образ был её проводником, её воплощением, её выразителем для сознания».[19]
По-видимому, разрешение противоречий «психического» плана кроется в том, что «умное делание» просветлённых монахов находится за пределами возможностей сугубо научного анализа, ибо процесс «выхода» человека «из самого себя» вряд ли можно проследить какими-либо, даже и самыми точными, «инструментариями». Дело в том, что «образ», о котором пишут аскеты и мистики, не тождествен образам, рождающимся в психической деятельности «обычного», то бишь, присно-мирского человека. Ибо в сознании последнего образы являются следствием присущего человеку «заурядного» чувствования, растлевающего, по мнению аскетов, душу и само «сердце» человека. По мысли Исаака Сирина: «жизнь духовная есть деятельность без участия чувств». «Когда живёт сердце, упадают чувства. Восстание чувств есть омертвление сердца», понимаемого мистиками отнюдь не в медицинском плане.
Исходя из вышесказанного, наиболее совершенной – без-умной и без-образной – формой, в которой человек может ощущать свое единение с Богом, есть свет как выражение Совершенного – чистого, святого и животворящего. Это новое состояние – «умное видение» или «ведение» – и можно считать исчезновением человека в Боге. Об этом задолго до открытий египетских и византийских мистиков писал Плотин: «Надо верить, что душа тогда видит Бога, когда её внезапно озаряет свет, ибо этот свет от Него исходит и есть Он Сам. Надо думать, что Он присутствует, когда, подобно другому Богу, войдя в дом пронизывающего Его, Он озаряет Его, ибо дом остаётся мрачным, если Он не придёт его озарить. Так душа не имеет света, когда она лишена Его присутствия; озарённая Им, она имеет то, чего искала». Но, уточняя, предостерегали византийские аскеты, под «видением Бога» и «созерцанием света» нельзя понимать видение самой сущности Божией, коей никто никогда не видел и видеть не может (вскользь замечу, что именно этого не хотели понимать противники Паламы). Таким образом, плоть и душа, находясь в соподчинённом отношении, неразрывно существуют в теле и, соответственно, в субстанциональной личности. В то же время, возносясь душой (отрешённой от всего мирского) к Богу, исихаст озабочен был тем, чтобы не оставить на земле, осквернённой грехом, «слепок» Божий.
Таковы вкратце суть, условия и характер учения исихии, которая, став в Византии узаконенной «истиной для всех», в реально-историческом приложении не нашла своего подобия.
V. К вариативности «смысла» и «разнице» в способах духовного постижения условной «истины» можно добавить методы аналитического мышления, вложенные в уста богословов и духовных мыслителей разных эпох. Отсюда несхожие и подчас кардинально противоположные трактовки спасения души.
К примеру, католический богослов Пьер Абеляр, полагая, что «ни добрые, ни злые не равны между собой, и нельзя уравнивать их заслуги, то есть нельзя считать, что их воздаяние должно быть равным» (Диалог между Философом, Иудеем и Христианином), в подтверждение своей мысли ссылался на ап. Павла: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звёзд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное» (1 Кор. 15:41–44). Церковный писатель Иосиф Волоцкий следует противоположной концепции «спасения» – и при этом тоже апеллирует к ап. Павлу. Русский церковный деятель придерживается идеи равенства награды всем ищущим спасения, несмотря на неодинаковые подвиги и заслуги.
Очевидных противоречий в логике обоих авторов нет, есть противоречия в моральном аспекте, определяющем стиль мышления. В первом случае проглядывается уже тогда «цивилизационно-правовой», то есть просчитанный стиль мышления, впоследствии утверждаемый всем историческим бытием Запада. Исповедовавшие этот «стиль» закономерно обратили спасение души в «духовные» торги при «меняльных лотках» папских провинций. Тогда как в поучениях Иосифа Волоцкого превалирует духовная (восточная) составляющая.
Русский религиозный философ В. Н. Лосский разъясняет возникшую дилемму следующим образом:
«Понятие “заслуги” чуждо преданию Восточной Церкви. Это слово редко встречается в духовной литературе Востока и не имеет того значения, какое имеет на Западе. Объясняется это общей установкой восточного богословия в его понимании благодати и свободы… Благодать не есть награда за заслуги человеческой воли… Речь идёт не о заслугах, а о соработничестве, синергии (от греч. synergуs – вместе действующий. – В. С.) двух воль, божественной и человеческой, о согласии, в котором благодать всё более и более раскрывается…».[20]
VI. Историк русской литературы А. М. Скабичевский в своём биографическом очерке «М. Ю. Лермонтов. Его жизнь и литературная деятельность» пишет о подоплёке ссоры де Баранта с Лермонтовым:
«Причина этого столкновения заключалась в том, что оба молодых человека ухаживали за княгиней Щербатовой (ей посвящена пьеса «На светские цепи»), но Лермонтов был осчастливлен предпочтением. Раздраженный этим де Барант, встретив Лермонтова 16 февраля 1840 года на балу графини Лаваль, обратился к нему с укором за то, что тот будто бы отозвался о нем неодобрительно и колко в присутствии особы, за которой они оба ухаживали. Лермонтов объявил это клеветой и сплетнями. Де Барант выразил недоверие к словам Лермонтова и прибавил, что «если переданное ему справедливо, то Лермонтов поступил дурно».
– Я ни советов, ни выговоров не принимаю и нахожу поведение ваше смешным и дерзким (drфle et impertinent), – отвечал Лермонтов.
– Если бы я был в своем отечестве, – заметил на это де Барант, – то знал бы, как кончить дело!
– Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы, русские, не больше других позволяем оскорблять себя безнаказанно, – возразил Лермонтов. Тогда со стороны де Баранта последовал вызов. Лермонтов тут же на балу просил к себе в секунданты Столыпина. Секундантом де Баранта был поручик гвардии граф Рауль д'Англес, французский подданный. Так как де Барант почитал себя обиженным, то Лермонтов предоставил ему выбор оружия (Несмотря на то, Лермонтов был оскорбленной стороной и, согласно дуэльному кодексу, имел право выбрать оружие, преимущество такого выбора использовал де Барант, представив дело так, будто в его лице была оскорблена Франция. – В. С.). Когда же Столыпин приехал к де Баранту поговорить об условиях, молодой француз объявил, что будет драться на шпагах. Это удивило Столыпина. «Но Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах», – заметил он.
«Как же это офицер не умеет владеть своим оружием?» – возразил де Барант. «Его оружие – сабля, – отвечал Столыпин, – как кавалерийского офицера, и если вы уже того хотите, то Лермонтову следует драться на саблях. У нас в России не привыкли, впрочем, употреблять это оружие на дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело». Де Барант настаивал на своем» (с французской ловкостью уклонившись от сабли Лермонтова, на этот раз Барант ловко «уворачивается» от пули. Модест Корф – однокашник Пушкина по Лицею – так комментировал этот поединок: «Дантес убил Пушкина, и Барант, вероятно, точно так же бы убил Лермонтова, если бы не поскользнулся, нанося решительный удар, который таким образом только оцарапал ему грудь». – В. С.).
Возвращаемся к Скабичевскому:
«Показание Лермонтова, что он стрелял в сторону, дошедши до де Баранта, страшно возмутило последнего: он вовсе не желал считать себя обязанным великодушию противника и заявлял, что, распуская такие слухи, Лермонтов лгал. Извещенный о том Лермонтов тотчас решился попросить к себе де Баранта для личных объяснений и написал письмо графу Браницкому, прося его передать Баранту желание свидеться с ним в помещении арсенальной гауптвахты. Барант согласился, но он не мог открыто явиться к Лермонтову, так как официально считался выбывшим за границу и оставался в Петербурге лишь инкогнито. Свидание поэтому должно было иметь характер секретного.
22 марта в восемь вечера де Барант подъехал к арсенальной гауптвахте верхом на лошади. В карауле тогда стоял прикомандированный к гвардейскому экипажу мичман 28-го экипажа Кригер, дежурным по караулу был капитан-лейтенант гвардейского экипажа Эссен. Ни офицеры, ни нижние чины (как они позднее показывали) не заметили выхода Лермонтова. Вот как сам Лермонтов писал об этом свидании: «В 8 часов вечера я вышел в коридор между офицерскою и солдатскою караульными комнатами, не спрашивая караульного офицера и без конвоя, который ведет и наверх в комиссию. Я спросил его (де Баранта), правда ли, что он не доволен моим показанием? Он отвечал: «Действительно, я не знаю, почему вы говорите, что стреляли на воздух, не целясь». Тогда я ответил, что говорю это по двум причинам: во-первых, потому что это правда, а во-вторых, что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему неприятна, а мне может служить в пользу, но что если он не доволен этим моим объяснением, то когда я буду освобожден, и когда он возвратится, то я тогда буду вторично с ним стреляться, если он того желает. После того де Барант, ответив мне, «что он драться не желает, ибо совершенно удовлетворен моим объяснением», уехал» (И в самом деле, Барант при двух свидетелях отказался от своих претензий. Таким образом, Лермонтов поставил наглеца на место, напрямую не вызывая его на дуэль, а утверждая лишь готовность участвовать в поединке. – В. С.).
Всё выделенное в тексте сделано с умыслом. Этот «грех» я взял на себя из соображения сэкономить читателю время за размышлениями. Расставленные мною не в ущерб сути акценты выявляют малодушие Баранта, которое превосходит лишь спесь и трусость его. Ибо предлагать боевому офицеру оружие, которым тот практически не пользовался, недостойно даже и паркетного дворянина, коим де Барант, очевидно, был.
Лермонтов, напротив, ни словом не обмолвившись о «неувязке», смело принял выбранное противником оружие. Лермонтов, наверное, уважил бы де Баранта даже, если бы тот выбрал не шпагу, а более соответствующую его натуре мотыгу или плеть, которой поэт, конечно же, побрезговал бы.
Однако мелкодушие, по Лермонтову, «салонного Хлестакова» всё же уступало враждебности к поэту начальствующих лиц. Опять обратимся к Скабичевскому:
«Неизвестно, каким образом известие о тайном свидании двух соперников дошло до сведения начальства, но только это удовольствие личного объяснения стоило Лермонтову нового процесса, и его судили теперь за побег (!) из-под ареста обманом и за вторичный вызов на дуэль во время нахождения под арестом.
Военный суд, состоявшийся 5 апреля того же 1840 г., приговорил Лермонтова к лишению чинов и прав состояния. С этою сентенцией дело о Лермонтове шло по инстанциям. Генерал-аудиториат, выслушав доклад аудиториатского департамента по этому делу, составил следующее определение: «Подсудимый Лермонтов за свои поступки на основании законов подлежит лишению чинов и дворянского достоинства, с записанием в рядовые; но, принимая во внимание: а) то, что он, приняв вызов де Баранта, желал тем поддержать честь русского офицера; б) дуэль его не имела вредных последствий; в) выстрелив в сторону, он выказал тем похвальное великодушие и г) усердную его службу, засвидетельствованную начальством, генерал-аудиториат полагает: 1) Лермонтову, вменив в наказание содержание его под арестом с 10 марта, выдержать его еще под арестом в крепости на гауптвахте три месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином; 2) поступки Столыпина и графа Браницкого передать рассмотрению гражданского суда; 3) капитан-лейтенанту гвардейского экипажа дежурному по караулу Эссену за допущение беспорядков на гауптвахте объявить замечание и 4) мичману Кригеру, бывшему также на карауле в арсенальной гауптвахте, в уважение молодых его лет, вменить в наказание содержание его под арестом».
Определение генерал-аудиториата являлось даже мягким сравнительно с требованиями начальствующих лиц. Смягчением приговора поэт был обязан великому князю Михаилу Павловичу, которому особенно понравилось, что молодой офицер вступился перед французом за честь русского воинства. Приговор был подан на Высочайшую конфирмацию.
Прочитав доклад о дуэли Лермонтова, Николай I своею рукою надписал на решении генерал-аудиториата: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк, тем же чином (что при переводе из элитной гвардии означало понижение в чине. – В. С.), поручика же Столыпина и графа Браницкого освободить от надлежащей ответственности, объявить первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. В прочем быть по сему. Николай.
Санкт-Петербург 1840 г. апреля 13 дня».
На обертке написано рукою государя: «Исполнить сего же дня».
VII. Политика русских царей, давно уже озабоченных тем, чтобы не ударить лицом в грязь перед «мнением Европы», порой доходила до смешного.
Так, Павел I освобождает из Петропавловской крепости заклятого врага России Тадеуша Костюшко, посаженного ещё Екатериной II. При этом он выплачивает Костюшко генеральскую пенсию за пять лет – 60 тысяч рублей, карету, соболью шубу и шапку, меховые сапоги, столовое серебро и 12 тысяч рублей на дорогу! Таким образом, Павел, нанеся определённый ущерб государственной казне,[21] одним махом признался в отсутствии преемственности и принципов ведения внешней политики. Зато «отомстил» покойной матушке своей Екатерине II.
В то же время к своим полководцам и к армии в целом император не питал особой жалости. Не был исключением и великий Александр Суворов. Так, не разобравшись в политических интригах пока ещё имперской Европы, в которых России (в случае «дружбы» с ней или «по умолчанию»), как правило, отводилась наиболее рискованная, тяжёлая и ответственная работа, Павел принудил «Мечъ России» служить интересам Италии и Австрии, как чёрт ладана боявшихся революций. В радении о «братьях» переступив через самолюбие, Павел обратился к ввергнутому им в опалу прославленному полководцу: «Римский Император требует Вас в начальники своей армии и вручает Вам судьбу Австрии и Италии. Моё дело на то согласиться, а Ваше – спасать их». При личной встрече с Суворовым Павел не упустил случая дать ему напутствие в стиле римских императоров: «Тебе спасать царей». Непобедимый полководец блистательно – в три месяца – справился с задачей. Но, разбив лучших маршалов Наполеона, Суворов так напугал европейских монархов, что они сочли за благо избавиться от него путём банального предательства. Но, в очередной раз удивив мир, Суворов в том же 1799 г. с победой и честью выходит из ловушки, которую расставил ему австрийский император в непроходимых ущельях швейцарских Альп.
Александр I продолжил монаршью традицию, начатую, вообще говоря, с «английских льгот» Ивана Грозного. В 1809 г. Александр учреждает Великое Княжество Финляндское, а в 1815 – Царство Польское. Этим актом царь фактически возродил польскую государственность, за что, отметим, Польша не испытывала благодарности ни ему, ни его престолонаследникам, ни России вообще. Даровав Польше сейм и Конституцию, царь заплатил полякам полугодовое жалование (!), которое «забыл» им выплатить за верную службу боготворимый ими Наполеон, сообщает польский писатель Мариан Брандыс. Более того, в 1815 г. Александр приглашает Костюшко возглавить (sic!) администрацию Царства Польского, от чего тот отказался после того, как узнал, что Речь Посполитая не будет восстановлена в границах 1772 г. Наполеон, в отличие от русских императоров, более реально оценивал Костюшко как личность и политическую фигуру. Ещё в 1806 г. он писал своему министру Ж. Фуше: «Я не придаю никакого значения Костюшко. Он не пользуется в своей стране тем влиянием, в которое сам верит. Впрочем, всё поведение его убеждает, что он просто дурак…». Этот нелестный вывод в какой-то мере подтверждает то обстоятельство, что у постели умирающего в Швейцарии в 1817 г. Костюшко не было ни одного его соотечественника.
Вернёмся к Александру I.
Не разобравшись с «польским вопросом», царь путается с «финским».
В 1811 г., дабы добиться большего расположения финнов, монарх прибавил к Финляндскому Княжеству земли, вместе с Выборгом входившие в состав Российской империи по Ништадскому миру 1721 г. (напомню, в тот год Россия выиграла войну со Швецией, тем не менее Пётр I обязал себя заплатить Швеции весьма крупную по тем временам сумму два миллиона золотых талеров). Благоволя к полякам не менее, нежели к финнам, Александр планировал присоединить к Польше почти все земли бывшей Речи Посполитой, то есть исконные территории Древней Руси (!), которые она потеряла в результате походов Батыя и последующего ослабления страны в XIV–XVI вв.
Проводимая более полувека недальновидная – никак не в интересах России – политика правительства вызывала недоумение обывателя и приводила в гнев русских патриотов. Фёдор Тютчев 15 мая 1867 г., не скрывая раздражения, писал Ю. Самарину: «Смотрите, с какой безрассудной поспешностью мы хлопочем о примирении держав, которые могут прийти к соглашению лишь для того, чтобы обратиться против нас… Как же называют человека, который потерял сознание своей личности? Его называют кретином. Так вот сей кретин – это наша политика». С откровенностью, присущей частной переписке, Тютчев, зная, откуда ветер дует в международной политике, в письме к И. Аксакову был ещё более категоричен: «Усобица на Западе – вот наш лучший политический союз»…
И в самом деле, государь (пусть он христианин по духу и по убеждениям), как и всякий практически мыслящий государственный деятель, должен владеть политическим смыслом истории. Ему полагается знать, что ведение христианской политики в мире, не живущем по Евангелию (или, в лучшем случае, живущим не по нему одному), гибельно для народа и государства. Феномен практической несовместимости религиозной морали и политической необходимости, в исторической жизни государств никогда и никем не разрешённый, – нашёл своё подтверждение в ведении дел Николаем I и Александром II. Духовная ограниченность, жестокость средств в достижении целей и политическая близорукость первого, не приводя к декларируемым целям, говорит о внутренней дехристианизации, а методы второго свидетельствуют о неадекватности политического мировосприятия. Однако и эти паркетно-отечественные настроения русских императоров давали хорошую фору либеральному крылу русского дворянства и «передовой общественности». Со времён «русского (или, называя вещи своими именами, масонского) Просвещения» отличаясь устойчиво пораженческими настроениями, «общественность» эта едва ли не открыто желала поражения России в Крымской кампании и в последующих балканских войнах. Впрочем, откровенно заблуждалась в отношении внешней политики или имела неоправданные иллюзии на её счёт и верная России часть русского общества.
Так, Ф. Достоевский мечтал «внести примирение в европейские противоречия», дабы «…изречь уже окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону!». Признавая за мыслью великого гуманиста огромное духовно-нравственное значение, следует всё же принять во внимание, что прекраснодушие такого рода за всю историю нигде и никогда не было реализовано. И не только в англосаксонском и германском мире, но и среди славян. Более того – особенно среди славян и между славянами. И менее других в этом сомневался сам Достоевский, утверждавший: никогда у России не было и не будет «таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными». Они никогда не признают бескорыстия России: «такие вещи на свете иначе происходить не могут», – приходил к заключению Достоевский.
И нам придётся признать, что политик не может позволить себе роскошь великодушия. Полководец – да. Поскольку политик, представляющий державу, мыслит глобальными категориями, а полководец – региональной стратегией. Политик, рассматривая стратегические направления развития страны, исходит из исторического существования государства, в то время как полководец является инструментом исполнения стратегических планов. Вследствие этого полководец не может решать то, что превышает его функции. Наполеон I не был исключением. Поскольку политиком и императором он стал тогда, когда следовал духу времени и эволюции истории, что нашло своё выражение в его политических реформах, историческое значение которых, к слову, не поняли, а потому не могли оценить в полной мере его победители. Когда же Наполеон отошёл от «духа истории» (эволюции), когда разменял его на эвольвенту «всемирного» честолюбия, тогда он потерпел сокрушительное поражение.
Отнюдь не русофил, современный английский историк Алан Тэйлор в своей книге «Борьба за господство в Европе», ничтоже сумняшеся, характеризует полувековую политику Российской империи следующим образом: «До 1854 года Россия, быть может, пренебрегала своими национальными интересами ради всеобщих европейских дел».
VIII. И. С. Тургенев оставил в своих воспоминаниях живое и очень психологически ёмкое описание поэта, которое, в «демонической» своей части всё же отвечало представлению о Лермонтове его современников:
«Лермонтова я видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш-ой, и несколько дней спустя на маскараде в Благородном собрании под новый 1840 год. У княгини Ш-ой я, весьма редкий, непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц – белокурая графиня М. П. – рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток – и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш-у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детских, нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное: но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «Глаза его не смеялись, когда он смеялся» и т. д., действительно применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш. он любил как товарища, и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко, он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба.
На бале Дворянского собрания в доме В. В. Энгельгардта на Невском проспекте Лермонтову не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменяла другую, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочерёдно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:
Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки …и т. д.».
IX. Ясно, что распад империи произошёл по причинам, не зависящим от латинского языка. Вместе с тем, язык наиболее точно соответствует изменениям бытия народа в жизни государства, в данном случае Римской империи. В период становления мощной государственности и величия Рима народ-воин формировал язык, “par excellence” (по преимуществу) соответствующий именно этим качествам, наиболее точным выражением чего стал латинский язык. В подтверждение этой концепции привожу анализ филолога и знатока античности проф. Лосева.
Исследуя древнеримскую эстетику, Лосев ссылается на знатока античности Оскара Вейзе: «Вейзе правильно намечает основной характер римского национального духа, приводя слова Муция Сцеволы у Ливия: (II 12, 10): «И делать и претерпевать сильное (facere et patifortia) – свойственно римлянам». «Основные черты римского характера составляют – величавая важность, упорное терпение и настойчивость, твёрдое, непреклонное мужество…».[22] И далее: «Цезарь, по мнению Квинтилиана, «говорил с тем же настроением, с каким воевал». Это и в самом деле был очень энергичный, решительный, мужественный и достойный язык». Утверждая, и «в синтаксисе латинский язык поражает энергией и логической последовательностью», Лосев вновь цитирует О. Вейзе: «Важно и чинно, сильно и мощно, как римский легионер, следуют периоды один за другим; весь их колорит напоминает загорелое лицо римского воина, их величественное речение – его гордую и властную осанку; оба они – язык и воин – победоносно выступили из своего отечества и победили мир».[23] Сам Лосев, говоря о связи характера народа и его языка, не менее убедителен: «… римское мышление во всей античности отличали мощность, строгость и суровость, неопровержимость и торжественность».[24]
«Обращает на себя внимание, – пишет Лосев, – связь с военным делом многих метафор. Так, spoliare (похищать) собственно значит «снимать доспехи с побеждённого врага» (здесь и далее выделено мною. – В. С.); intervallum (промежуток) – собственно «пространство между двумя частоколами», inter vallos; praemium (награда), сначала – «взятие вперёд из военной добычи»; excellere (превосходить) собственно – «перелетание за цель пущенных стрел» и пр. «Продавать с аукциона» по-латыни – sub hasta vendere, то есть «продавать под копьём», от обычая продавать в рабство взятых в плен воинов перед воткнутым в землю копьём; «из мухи сделать слона» – arcem ex cloaca facere, что дословно означает «из клоаки делать крепость»; «упасть духом» – abjicere hastam, scutum, то есть «отбрасывать копьё, щит».
Эти мощные и яркие образы, в которых ощущается не только дух времени, но угадывается сверкание меча, звон боевых доспехов и мелькание дротиков, с расстояния нашего времени видятся особенно ясными, точными и выразительными. И впрямь, трудно представить себе нынешнего «рыночника», подчас промышляющего обманом или грабежём, этаким воином, «продающим под копьём» своё, то есть завоёваненое в открытом бою. Ибо «боевые приобретения» белых и прочих «воротничков» не имеет никакого отношения к доблести как за её отсутствием, так и необходимости в ней. Словом, римская этика внутренне противостоит меркантильности любой эпохи. Наверное, поэтому то немногое, что можно «приспособить» из латинского языка к деятельности нуворишей Нового и Новейшего времени, – это по сей день сохранившая своё значение фраза: arcem ex cloaca facere. Вернёмся к Лосеву.
Из текстов замечательного знатока древности следует, что удовольствие для римлян, язык которых формировался в период суровового аскетизма Республики, – это соблазн (deliciae delectare deliere). А вот «добродетель для римлянина – мужество; то, что прилично мужу (virtus). Позор для него то, что бесславно, безымянно (ignominia). Римская любовь рассудочна: diligre от dis – legеre (выбирать). Вместе с тем Лосев отмечает, что «латинский язык невероятно скуден в словах и выражениях, относящихся к сфере любви. Даже религию он (римлянин. – В. С.) понимал просто как связь (religare) без всяких намёков на внутреннюю жизнь духа». «В то время как для немца человек (Mann, Mеnsch) есть нечто мыслящее, для римлянина – только персть земная (homo родственное с humus). Набожный еврей при встрече говорил: «Мир тебе!», живой и весёлый грек: «Радуйся!», практичный же и здравый римлянин – только «Будь силён!» (vale) и «Будь здоров!» (salve)».[25] Здесь прервём цитирование из Лосева, раскрывшего нам наиболее важные особенности латинского языка, и сделаем некоторые выводы.
Главный из них бросается в глаза: латинский язык не для всех и не на всякие случаи жизни. Это, прежде всего, «язык» доблести, социальной твёрдости и порядка, чести и благородства, жёсткости в проведении законов и беспощадности к тем, кто отвергает их. А поскольку необходимость в этих качествах римляне видели на протяжении веков, то язык принял структуру и форму, так или иначе, ей соответствующую. И существовать такой язык мог лишь до тех пор, пока совокупность «римских» свойств, отвечая бытию граждан Республики, пронизывала жизнь народа и государства. Упразднение любого из этих компонентов, сопутствуя уходу из жизни самого народа, нарушало весь строй языка. Поскольку «язык» живёт до тех пор, пока выражает дух и волю народа. Не являясь абстрактной категорией, дух народа выстраивает по себе Страну и институты государства, которое имеет место быть, если его политическая реальность отражается в каждом гражданине Отечества. Потому Рим стало «трясти» лишь тогда, когда Страна перестала соответствовать своему первоначалу, что с особой очевидностью обозначило себя в эпоху «римских императоров». Исторические события этого периода были лишь политическим оформлением процесса, по окончании которого из Римской империи в буквальном смысле «дух вышел вон». Видимым проявлением этого исхода является отмирание в народе качеств, которые являются средоточием народного духа и которые отражает в себе язык. Иными словами, когда новые реалии перестают соответствовать свойствам, до того питавшим организм страны.
Средние века несли в себе принципиально иную цивилизационную информацию. Она не имела в себе грандиозности античной эпохи, однако в избытке содержала меркантильный дух лавочного типа. Наступивший период Великих географических открытий, наряду с эпохой Возрождения способствуя переходу от Средневековья к Новому времени и подъёму европейских национальных государств, с особой силой выразил именно алчную ипостась европейской цивилизации. Поскольку честь и доблесть, существуя и в этих условиях, в значительной степени служили агрессивной политике, оперирующей «иными средствами».
Сделаем вывод: латинский язык умер потому, что перестала существовать реальность, способствовавшая возникновению и развитию качеств, обеспечивающих историческое бытие народавоина. Новая эра попросту не могла пользоваться языком, за словами и понятиями которого крылся смысл, более не существующий в новых реалиях.
X. Идеи Монтескьё о том, что честь – основа монархии, в то время как страх – признак деспотии, воспринимались в России серьёзно уже потому, что задолго до французского правоведа и философа имели базу в военной элите. Воспитанный в духе русского дворянина, Лермонтов писал в одном из своих писем: «Если начнётся война, клянусь Богом, что я всегда буду впереди». Лермонтов выполнил свою клятву.
Привожу часть свидетельств современников об участии Лермонтова в кавказских войнах.
В своей реляции о бое 11 июля 1840 г. при реке Валерик генерал-лейтенант А. В. Галафеев сообщает:
«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об её успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».
И далее: «Успеху сего дела я обязан распорядительности и мужеству полковых командиров, офицерам Ген. штаба, a также Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову, с коими они переносили мои приказания войскам в пылу сражения в лесистом месте, a потому заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозило всякому внезапною смертью».
Это кровопролитное сражение, в котором чеченцы были разбиты с большими для себя потерями, Лермонтов описал в изумительном стихотворении «Валерик». По версии историка Тенгинского пехотного полка Д. Раковича, описание боя под Валериком в черновике Журнала боевых действий, вероятно, написал сам Лермонтов. Переданное максимально достоверно, оно характерно своим выводом: «Фанатическое исступление отчаянных мюридов не устояло против хладнокровной храбрости русского солдата; числительная сила разбросанной толпы должна была уступить нравственной силе стройных войск…»
Галафеев в наградном списке писал о Лермонтове: «В делах 29-го сентября и 3-го октября обратил на себя особенное внимание отрядного начальника расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему была команда охотников. 10 октября, когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов везде первый подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше похвалы».
«12-го октября на фуражировке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения, (Лермонтов. – В. С.) бросился с горстью людей на превосходящего числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападение на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственною рукою хищников, 15-го октября с командою первым прошел шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично против хищников и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес…».
Столь же лестно отзывается о Лермонтове и князь полковник В. С. Голицын, командовавший кавалерией в отряде генерала П. Х. Граббе, в состав которого для действий против Шамиля вошел и отряд Галафеева с его Лермонтовской командой.
В наградном листе на поручика Лермонтова, приложенном к рапорту от 24 декабря 1840 г., полковник князь Голицын, писал: «Во всю экспедицию в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября (1840) поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии, и командовал отлично во всех отношениях, всегда первый на коне и последний на отдыхе этот храбрый и расторопный офицер неоднократно заслуживал одобрение высшего начальства. 27-го октября он первый открыл отступление хищников из аула Алды и при отбитии у них скота принимал деятельное участие, врываясь с командою в чащу леса и отличаясь в рукопашном бою с защищавшими уже более себя, чем свою собственность, чеченцами; 28-го октября, при переходе через Гойтинский лес, он открыл первый завалы, которыми укрепился неприятель, и, перейдя тинистую речку, вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников, не допуская их собрать своих убитых; по минованию дефиле поручик Лермонтов с командою был отряжен к отряду генерал-лейтенанта Галафеева, с которым следовал и 29-го числа, действуя всюду с отличной храбростью и знанием военного дела; 30-го октября при речке Валерике поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской, из которой малая часть только обязана спасением быстроте лошадей, а остальная уничтожена. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особенного внимания и доставили ему честь быть принятым г. командующим войсками в число офицеров, при его превосходительстве находившихся во все время второй экспедиции в Большой Чечне с 9-го по 20-е число ноября».
Отчаянная храбрость Лермонтова, удивлявшая, по словам сослуживцев, даже старых кавказцев, и столь ценная в кавалеристе «непоседливость» были лучшей порукой в назначении Лермонтова командиром конных охотников отряда Галафеева, где он зарекомендовал себя наилучшим образом. «Его команда, – по словам Мамацева, – как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где ей вздумается, открывая присутствие неприятеля и как снег на голову падая на чеченские аулы». В документах о представлении Лермонтова к награде говорилось, что «конная команда из казаков-охотников, находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля и, выдерживая его натиски, весьма часто обращала в бегство сильные партии».
Таким образом, перед нами предстаёт не просто отважный офицер, но замечательный командир отборной «команды охотников» – спецназа того времени.
Военный историк В. А. Потто, беседуя с генералом К. Х. Мамацевым о баталиях осени 1840 г., включая сражение при реке Валерик, сообщает: «Выйдя из леса и увидев огромный завал, Мамацев с своими орудиями быстро обогнул его с фланга и принялся засыпать гранатами. Возле него не было никакого прикрытия. Оглядевшись, он увидел, однако, Лермонтова, который, заметив опасное положение артиллерии, подоспел к нему с своими охотниками. Но едва начался штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперед, исчез за завалами».
27 октября 1840 «…арьергардный батальон, при котором находились орудия Мамацева, слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из земли вырос со своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев, если б они добрались до орудий. Но этого не случилось. Мамацев подпустил неприятеля почти в упор и ударил картечью. Чеченцы отхлынули, но тотчас собрались вновь, и начался бой, не поддающийся никакому описанию. Чеченцы через груды тел ломились на пушки; пушки, не умолкая, гремели картечью и валили тела на тела. Артиллеристы превзошли в этот день всё, что можно было от них требовать; они уже не банили орудий – для этого у них недоставало времени – и только посылали снаряд за снарядом. Наконец эту страшную канонаду услыхали в отряде, и высланная помощь дала возможность орудиям выйти из леса».
4 ноября в Алдинском лесу произошёл последний бой, в котором активно участвовала артиллерия под началом Мамацева. «Только уже по выходе из леса попалась наконец небольшая площадка, на которой Мамацев поставил четыре орудия и принялся обстреливать дорогу, чтобы облегчить отступление арьергарду. Вся тяжесть боя легла на нашу артиллерию. К счастью, скоро показалась другая колонна, спешившая на помощь к нам с левого берега Сунжи. Раньше всех явился к орудиям Мамацева Лермонтов с своею командой, но помощь его оказалась излишнею: чеченцы прекратили преследование» (из газеты «Кавказ», 1897 г.).
Отчаянность Лермонтова, в «юнкерские времена» явленная в отношении к уставным ограничениям и не раз стоившая ему «отсидки» в гауптвахте, в полной мере раскрылась в боевой обстановке. Современники и боевые товарищи поэта сообщают, что в походе он не обращал никакого внимания на форму: носил то канаусовую красную рубаху, то офицерский сюртук, расстёгнутый, без эполет, с откинутым назад воротником. Переброшенная через плечо черкесская шашка и белая холщовая фуражка довершали его костюм. Однако формальная небрежность к уставной форме с лихвой компенсировалась храбростью Лермонтова.
В двух походах – в Малую и Большую Чечни – Лермонтов был представлен к ордену Св. Станислава 3-й степени за проявленную храбрость в «деле при Валерик». За этот бой генерал А. В. Галафеев представил поручика М. Ю. Лермонтова к ордену Св. Владимира 4-й степени с бантом, за последующие – к обратному переводу в гвардию с тем же чином и со старшинством, а князь Голицын за экспедицию в Чечню – к золотому оружию (золотая сабля с надписью “За храбрость”). Генерал-адъютант П. Х. Граббе предложил к награде опального поэта за его отвагу золотой полусаблей. Однако вышестоящее начальство снизило представление к награде до ордена Св. Станислава 3-й степени. Но и это ходатайство было «высочайше оставлено без последствия». Таким образом, из итогового представления к наградам М. Ю. Лермонтова за 1840 г. Николай вычеркнул своей рукой все настояния Кавказского командования. В то же время генерал Главного штаба П. А. Клейнмихель, очевидно, «на ушко» передал предписание командиру Отдельного Кавказского корпуса генералу от инфантерии Е. А. Головину о запрещении царя отпускать поручика Лермонтова от «фронта» в Тенгинском пехотном полку, т. е. от неотлучной строевой службы, чтобы не давать повода «отличиться».
Это Высочайшее повеление уже не застало Лермонтова в живых.
Двое из однокашников поэта, воевавших на Кавказе, закончили ратный путь в звании генерал-фельдмаршалов, многие дослужились до генеральских погон. Лермонтов же так и ушёл в вечность поручиком Тенгинского пехотного полка.
В этой связи небезынтересно знать мнение генерала К. Х. Мамацева о Лермонтове, если бы он избрал военное поприще. «Константин Христофорович полагает, – говорит В. Потто, – что Лермонтов никогда бы не сделал на этом поприще блистательной карьеры – для этого у него недоставало терпения и выдержки. Он был отчаянно храбр, удивлял своею удалью даже старых кавказских джигитов, но это не было его призванием…». Истинно так. Уже потому, что призвание Лермонтова находилось далеко за пределами армии. Внутренняя свобода поэта была велика и, преломляясь через поэтический гений, не могла вписаться в какую бы то ни было законченную систему, которую, помимо устава, олицетворяла гвардейский или армейский мундир. Отсюда постоянные – «со школьной скамьи» – нарушения поэта воинских циркуляров. Потому и любил он, по воспоминаниям сослуживцев, как ветер гонять по степи на лихом своем карабахском коне.
XI. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МОГУЧЕГО РИМА», стихотв<орный> (в дальнейшем, дабы избежать неудобств, связанных с сокращениями в тексте, осмелюсь раскрывать скобки, не указывая на это. – В. С.) отрывок в гекзаметрах, начало незаконченного стихотворения, возможно, небольшой поэмы, стилизованной под поэтическую обработку легенды из истории раннего христианства. Реализуя этот необычный для своего творчества замысел, Лермонтов совмещает очень различные художественные традиции – христианской агиографии и римской поэтической классики. К христианской агиографии (см. Библейские мотивы) восходят образ праведного старца, наделённого «чудным даром» исцелять «от недугов телесных и от страданий душевных», а также мотив внезапного и необъяснимого для окружающих резкого духовного перелома, вызванного постижением христианского вероучения: «… В последнее время приметно она изменилась; / Игры наскучили ей, и взор отуманился думой… я видела раз, как она, на коленах, / Тихо, усердно и долго молилась, – ком у? – неизвестно!» (ср. с евангельским рассказом об обращении Марии Магдалины). Сюда же относится мотив воскрешения безвременно умершей (умершего), которая отличалась при жизни высокой нравственной чистотой и приверженностью новой религии. В отрывке дана лишь сюжетная экспозиция: «Просит она воскресить её дочь, внезапно во цвете / Девственной жизни умершую», но пересечение этого мотива с темой чудотворящего старца не оставляет сомнения в том, что развитием его должно было стать воскрешение умершей (ср. евангельскую легенду о воскрешении Христом дочери Иаира). Существенной для идейного смысла произведения должна была, вероятно, стать и историческая ситуация, обозначенная в зачине: «Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан беспощадно». Лермонтов допустил здесь неточность: во времена императора Тиберия (14–37 н. э.) гонения на христиан ещё не начались. Но самая тема беспощадности и вместе с тем бессилия тиранической власти в борьбе с нравственными убеждениями не случайна в творчестве Лермонтова. Живописный пейзаж отрывка навеян, очевидно, «Энеидой» Вергилия: к ней восходит и образ «ревущего» Тибра («Энеида», VII, 30–32; VIII, 86), и пещеры над ним (там же, I, 166–168; VIII, 190–194). Обратившись к гекзаметру, с которым прочно ассоциировалась ритмическая структура «высоких» жанров античной поэзии, Лермонтов в то же время ввёл в стихотворение интонацию и фразеологию, свойственную христианской литературе («…у древа церкви христовой», «праведный старец, в посте и молитве свой век доживая» и др.). Не останавливаясь на этом, Лермонтов переплетает авторскую речь, воспроизводящую стилевые формы агиографического повествования, интонациями живой разговорной речи, в которой звучат чисто латинские синтаксические структуры («…Подруг побеждала искусством»), как бы имитируя «буквальный» перевод с латыни. Лермонтов экспериментирует и с самим гекзаметром: вводит интонационно-ритмические перебои (см. стихи 29–32), насыщает стих аллитерациями (например, «В тайной пещере, над Тибром ревущим, скрывался в то время…»).[26]
XII. Приоткрою завесу: эти слова принадлежат современнику поэта – известному сутяге и кляузнику священнику Василию Эрастову, отказавшемуся отпевать Лермонтова «как самоубийцу». Причём, сказаны они были не при жизни поэта, что можно было бы ещё понять, и не сразу после гибели, а в глубокой старости – чуть не через полвека после «вечно печальной дуэли». Надо полагать, «отцу» доставалось от острого языка поэта не меньше других, а может, и больше. Воспоминания священника, говорящие не столько о поэте, сколько о его неприязни Лермонтова, являются опосредованным свидетельством отношения поэта к лакеям синодальной Церкви, а потому имеют прямое отношение к настоящей работе.
Продолжу воспоминания Эрастова: «… Он над каждым смеялся. Приятно, думаете, его насмешки переносить? На всех карикатуры выдумывал. Язвительный был. Вы думаете, все тогда плакали? – Никто не плакал (?!). Все радовались (?!). От насмешек его избавились… Я видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая… Ноги вперёд висели, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал», – лгал пастырь, поскольку из ряда воспоминаний следует, что в Пятигорске смерть поэта на многих произвела ошеломляющее впечатление.
Но дело здесь даже не в отсутствии стыда и совести у пастыря, дожившего до глубоких седин, а в том, что ложь в душе сопровождала Эрастова на протяжении всей его долгой жизни. Возможно, именно донос на старшего по духовному званию был воспринят «московским начальством» как ревностное служение. Сам же «начальник» – митрополит Филарет был приведён к лику святых во времена духовного и политического развала страны (1994), когда церковная власть в России вполне соответствовала светской. Тогда же началось «справедливое» возвращение церковного имущества, некогда принадлежавшего Синоду, результаты чего не замедлили сказаться. По произволу духовной власти был снесён ряд памятников архитектуры; немало древних икон погибло из-за неподобающих в храмах условиях хранения.
Напомню суть проблемы, начавшейся с гибелью Лермонтова.
Священник Скорбященской церкви г. Пятигорска Василий Эрастов, отказавшись участвовать в погребении погибшего поэта, донёс на протоиерея П. Александровского архиепископу Новочеркасскому и Георгиевскому Афанасию. По мнению Эрастова, Лермонтова «как умышленного самоубийцу надлежало палачу в бесчестное место оттащить и там закопать»… Протоиерей Александровский осмелился пропеть над телом поэта «Святый Боже», но Кавказская духовная консистория нашла, что и этого делать не следовало. Таким образом, великий поэт был лишен погребения по православному обряду.
Отец Василий не ограничился доносом и через несколько месяцев затеял тяжбу против отца Павла, совершившего отпевание. В результате этого 15 декабря 1841 г. было начато «Дело по рапорту Пятигорской Скорбященской церкви Василия Эрастова о погребении в той же церкви протоиереем Павлом Александровским тела наповал убитого на дуэли поручика Лермонтова», которое закончено было только через 13 лет. В 1881 г. 15 июля пятигорское общество обратилось к протоиерею Пятигорского собора В. Эрастову с просьбою отслужить 15 июля в городском соборе торжественную панихиду по Лермонтову по случаю 40-летия со дня его смерти. Эрастов отказался и на этот раз. С немалыми трениями панихида по Лермонтову была совершена. Лишь в 1901 г. прошла беспрепятственно.
Теперь о воспоминаниях, опровергающих ложь Эрастова.
Свидетель погребения поэта П. Т. Полеводин писал: «17-го числа в час поединка его хоронили. Всё, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Дамы все были в трауре, гроб до самого кладбища несли штаб– и обер-офицеры и все без исключения шли пешком до кладбища. Сожаления и ропот публики не умолкали ни на минуту. Тут я невольно вспомнил о похоронах Пушкина. Теперь 6-й день после печального события, но ропот не умолкает, явно требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу». Другой очевидец похорон Лермонтова коллежский секретарь Д. Рощановский писал о том, что «в сопровождении многочисленного народа, питавшего уважение к памяти даровитого поэта или к страдальческой смерти его, принятой на дуэли… Таким образом, эта печальная процессия достигла вновь приготовленной могилы…» Эмилия Александровна Шан-Гирей вспоминала: «Гроб несли товарищи; народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это меня поражало: ведь не все же его знали и не все его любили! Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами».
XIII. Теория «двойственной истины» – возникшее в Средние века учение о философском и религиозном знании, как двух аспектах истины или же двух самостоятельных истинах. Учение получило развитие в трудах аверроистов, представителей Шартрской школы, а также в учении Фомы Аквинского. Есть истина философии и есть истина религии, утверждают представители аверроизма. Поскольку философия независима от религии, постольку возможно противоречие между утверждениями философии и религиозными догмами.
Из гносеологических воззрений Гильберта Порретанского вытекало, что любое познание всегда формулируется в понятиях и есть познание единичных конкретных предметов. Поэтому теология как учение о Боге, который трансцендентен миру, невозможна в понятийной форме, ибо понятие соответствует лишь материальной вещи. Поэтому философию и теологию совершенно нельзя смешивать, и противоречие между их истинами невозможно.
Концепция истины Фомы Аквинского стала классической в католическом вероучении. Согласно ей, философия и религия абсолютно различны по методу, но лишь частично – по предмету.
XIV. Придётся напомнить, что для определения шедевров литературы и искусства нет и не может быть какой-то особой, выравненной и точно размеренной шкалы. Это, вообще говоря, хорошо, но может быть плохо, когда общество теряет нравственные критерии, этический отсчёт и, как следствие «общих» потерь, – разучивается мыслить. А совсем плохо или плохо донельзя тогда, когда общество обессмысленно. Тогда отсутствие «шкалы» заявляет о себе наиболее болезненно. Но, и это тоже отметим, общество может этого не почувствовать, ибо болеть может лишь то, что есть…
Впрочем, даже высокий этический уровень, эстетическая ценность, художественная и смысловая убедительность не всегда являются надёжным средством для определения достоинства произведения. Ибо то, что в одних исторических условиях и культурной среде выглядит «убедительно во всех отношениях», смотрится совсем не убедительно в другой исторической данности. Поскольку последняя создаёт свои этические нормы, своё восприятие мира, язык объяснения его и, как в том можно убедиться в наши дни, соответствующие себе моральные цензы. В результате «предыдущие» художественные достоинства – детища иного мировосприятия, стиля поведения и множества факторов временного и общественного характера – существенно корректируются и даже отчуждаются от общества, уступая другим представлениям о тех же самых вещах. Словом, совокупность исторических обстоятельств, формируя культурную среду, а в ней этику и нравы эпохи, определяет стиль произведения, художественные средства, формы и саму необходимость их. Что касается цензов, отмеряющих «вечность» произведения, то, понятно, они отнюдь не тождественны сознаванию их обществом в каждом настоящем.
Истинному творчеству присущи нравственные мерила, но его призвание не обязательно в том, чтобы «переделать» человека, отвадить общество от «дурного» стиля жизни и «вредных привычек» – это задача других социальных механизмов. Смысл творчества в создании того, что не меркнет во времени и не обесценивается при столкновении с «причудами эпохи». Если говорить о средствах, то они состоят в умении в каждом историческом отрезке выразить в произведении диапазон наиболее характерных человеческих свойств. Тех, которые, существуя в меняющем свои формы социуме, остаются неизменными на протяжении длительного периода истории и которые по этой причине этически устойчивы во времени, а не в эпохе. Это условное правило справедливо и одинаково применимо ко всем сферам творческой деятельности человека.
К примеру, знаменитый «Римский портрет» уже два тысячелетия впечатляет нас пластической силой и ёмкой передачей характеров потому, что в нём отражается человеческая сущность. Лица эти достовернее письменных источников отражают характер не только людей, но едва ли не средств, коими императоры и полководцы вершили события и саму историю. Образы древних римлян – от простых граждан до императоров, включая «солдатских» – свидетельствуют о внутренней цельности человека и его силе (не путать с достоинствами), которые, меняясь в формах приложения, не меняются в своих сущностных характеристиках. Именно таковая целостность, будучи своевременной тогда, находит понимание и сейчас, хотя цивилизационная разница эпох трудно сопоставима, и вовсе не обязательно в пользу нынешнего – дробного, духовно разъединённого, политически не стабильного и морально не устойчивого «века». Но, несмотря на нашу «дробность», прежняя целостность находит понимание и сейчас. Очевидно, потому, что в недрах сознания homo sapiens сокрыт некий, не исчезающий в исторической жизни, «код», который едва ли не принуждает человека помнить прежние свои свойства. Правильнее сказать, те из них, которые не подвластны событийной истории и многовековым наслоениям человеческих пороков. Этот «код», в определённых исторических ситуациях являясь модулем или «этическим камертоном» эпохи, выполняет ключевую роль в удержании в человеке некой важной для эволюционного бытия информации.
Казалось, в скульптурных портретах, скажем, сталинской эпохи мы видим такое же внимание к характеру и внешнему убранству человека. И там и здесь находим «те же» подробности, «такие же» морщины, бородавки и прочее. Однако в художественном отношении большая их часть не идёт ни в какое сравнение со своим древним «прототипом». А всё потому, что в те времена и сила и порок принадлежали природной личности, нёсшей в себе этическую Традицию. Тогда как партийные вожди, герои, маршалы и в известной степени авторы произведений являют собой тип людей, принадлежащих политизированной системе. Находясь в её эпицентре и даже став ею, они отчуждены от личности в её исторической ипостаси. Оттого портреты эти – прежде всего и весьма ярко характеризуют власть, согнувшую, подчинившую и деформировавшую личность.
Умение растворить личное (но не личность) во всеобщем приближает к нашему времени эпические творения Гомера и не снижает актуальность тем трагедий Шекспира. Даже и несмотря на то, что смертей в его драмах, да ещё по нынешним меркам, – кот наплакал. Тем не менее, английский драматург велик. Велик потому, что сумел «единичные» чувства и человеческие драмы сделать сродными всякому времени. Оттого чаяния Ромео и Джульетты, равно как мысли и сомнения Гамлета, сейчас не менее современны, нежели в эпоху Шекспира. Это присутствие личного во всеобщем, где человек предстаёт в неизменной своей сущности, утверждает народный эпос и подтверждает личностное творчество. И гений Лермонтова лучшее тому свидетельство.
Если говорить об этических цензах, то нет ничего удивительного, если произведение «вдруг» высоко оценивается в иную историческую эпоху. Факт запоздалой (или повторно высокой) оценки вовсе не означает, что произведение «опередило своё время», «века» и прочее. Просто то, что перестали замечать в свою эпоху, по замысловатой эвольвенте вернулось (и ещё не раз вернётся) к тому, о чём некогда переживал, мыслил и чувствовал истинный, но безвестный, свидетель прошлого. Другое дело – мысли и чувства «надвременного обывателя».
Ввиду массовости своей именно он, толпясь на плацу потребления, неизбывно доминирует в повседневной жизни. Даже и будучи ведомым (это понятно), потребитель вездесущ и силён числом своим. Периодически именно ему льстят политики всех мастей (раньше – цари, а нынче – высшая номенклатура) и особенно бурно «отстаивают его интересы» дельцы. И вовсе не потому, что в «мировом обывателе» сосредоточены некие «народные добродетели», а потому, что в его руках находится, хоть и расщеплённый на множество, но всё же «массовый кошелёк». А раз так, то именно он («кошелёк») по умолчанию является главным действующим лицом истории. Причём «лицом», лишённым личности. По этой причине, утратившее субъектность, а потому не могущее быть смыслом истории, «лицо» это является идеальным средством для перекраивания бытия.
В эпоху великого множества и разнообразия вещей «выросший» до Потребителя, именно «физическое лицо» определяет и указует «всем», что Ему нужно, а что нет. Применительно к теме: «Делай то, до чего Я охоч». В музейных залах именно он с вежливым оскалом на лице (надо же соблюсти приличие) дефилирует мимо немых для него шедевров. Он же, несколько усмирив прогулочный шаг, может задержаться около знаковых, великих имён. Привлечённый роскошью тел, способен будет притормозить перед творениями Рубенса. И не удивительно, если лет этак через сто другая публика (а на самом деле – та же) будет с тем же интересом рассматривать вытащенные из запасников произведения. Можно, наверное, спрогнозировать «общественный интерес» и к полнокровным дамам, коими изобилуют полотна жизнелюбивых голландцев, поскольку питаться к тому времени зритель наш будет, скорее всего, из «худых» тюбиков, из кухни-принтера (разработки «отпечатанной» еды ведутся давно и дали уже «хорошие результаты») или из суррогатов такого же происхождения. О Его Величестве Потребителе можно говорить с усмешкой или с уважением, но во всех случаях он заслуживает специального внимания. Ещё и потому, что он не обязательно является символом порицания. Если бы это было только так, то напрасны были усилия писателей и мыслителей прошлого – от древности до наших дней. Тогда и Лермонтов, если бы видел в человеке лишь «тварь дрожащую», не стал бы писать вовсе. Именно опасения худшего плана побуждают делать здесь акцент на такого рода обывателе.
XV. Богослов и учёный Павел Флоренский посредством математики пришёл к пониманию бесконечного как живого существа, воспринимаемого чувственно. Несколько с другой стороны к проблеме подошёл швейцарский психолог Карл Юнг. В соответствии с его изысканиями душа и сознание связаны с неким общемировым информационным полем, в котором коллективное бессознательное обладает всеобщей сверхличностной природой. Содержание этого бессознательного составляют некие доопытные структуры (архетипы), формирующие творческий материал. Не имеющие прямой связи с традициями и культурой, они изначально связаны с тем, что не охватывается разумом. Изучение континуальности и дискретности (непрерывности и прерывности в процессе развития) существующего и сущего меняет лишь свои формы, поскольку исходная площадка осталась та же.
Учёными разных исторических формаций и уровней знаний была замечена прерывность течения процессов, в ходе которого они, переходя на качественно новую ступень и продолжаясь на ином сверхъестественном уровне, являются иррациональными, а потому необъяснимыми, фактически свидетельствуя о чуде. Изучение «мистики» (как то – искривление пространства и изменение материи в нём) подвигает и современных учёных упорно исследовать зависимость коэффициента изменения пространства от скорости движения объекта. Не менее сложно для понимания «происхождение» времени. Если время появилось, то оно может исчезнуть, что невозможно. Поэтому «время», существуя изначально, «персонифицировано» в Боге.
Что касается уникальных возможностей отдельных (или избранных Богом) личностей, то совокупность наиболее характерных примеров показывает, что человек и в самом деле является приёмщиком и передатчиком некой информации в той мере и в том объёме, которую может вместить его субстанция. Являя наиболее удобную данность для «приёма» содержания и придания (художественной) формы этой информации, вдохновенно-нерукотворное в человеке, очевидно, тем сильнее, чем меньше в нём участвуют субъективно-личностные качества; то есть те, которые настаивают на самих себе, тем самым отчуждая информацию надличностного – глубинного плана. Условная «память человечества» пробивается на индивидах, по тем или иным свойствам (психическим, энергетическим, «полевым» и т. д.) подходящим для принятия условно «вечной» сверхинформации. В зависимости от её сложности, глубины и объёма приёмщики «вечных» знаний обладают незаурядным умом и уникальными способностями, являются гениями, великими или величайшими людьми. «Спущенная» до личного плана и личностно обработанная, такого рода информация делится по качественным характеристикам и направленности, в своём развитии определяя созидание или разрушение. Поэтому «приёмщики», имея духовно-строительную основу и являясь потенциально выдающимися людьми, обладают созидательными свойствами, в то время как другие «заряжены» разрушительными, то есть сводящими «на нет» позитивный потенциал знаний качествами. Замечу, что и те и другие существуют в полном соответствии (чтобы не сказать – в согласии) с диалектикой мироздания. Если не стоять на (в ряде отношений уязвимой) позиции предопределённости, то выбор свой человек делает в соответствии с совокупностью его духовных и психических свойств, которые в каждой индивидульности оттачивают социальные условия и «случайные» (те же социальные, личные и пр.) привнесения.
И можно не сомневаться, что выбор цели и наибольшую энергию в этом направлении придаёт человеку то, что он признаёт для себя наиболее важным и ценным.
Если, к примеру, поэт или художник «ловит» идею, то загорается вдохновением; добрый человек в полном соответствии со своей натурой принимает деятельное участие в чём-то позитивном (в судьбе нуждающегося и пр.). Между тем как делец, видя в чём-то свою выгоду, прилагает все усилия, чтобы добиться её любыми способами. Таким образом, энергия, проявляя себя в наиболее сильных склонностях человека (в нашем случае – творческой личности), – есть величина постоянная, но неравноценная, неравнокачественная и неравнополезная.
И всё же изыскания разношерстных и разномастных психоаналитиков вряд ли способны дать понимание природы творчества, тайна которого непостижима, ибо сакральна, то есть выходит за пределы логических и научно-философских построений. Опыт тех, кто работает в сфере творчества, говорит о том, что вдохновение попросту не вмещается в рамки клинического исследования.
Поскольку вышнее озарение, проявляя себя неожиданно, зависит от факторов внутреннего и внешнего плана, включающих в себя в том числе местный политический или культурный «климат». Словом, озарение вовсе не обязательно посещает человека в праздничном «духовном антураже», «с улыбкой на устах» и прочее, но чаще – в процессе каждодневного изнурительного труда и подчас на грани нервного истощения (Лютер, Кьеркегор, Ван Го г, Врубель). Принципиально не завися от сферы и специфики приложения, творчество разнится лишь в формах и средствах проявления. Потому поэзия, изобразительное искусство, музыка и архитектура одинаково подпадают как под её «законы», так и «беззаконье».
В частности, широта и глубина одарённости Лермонтова даёт основание полагать её следствием духовно трёхмерного, пространственного восприятия мира. Проявляясь объёмно и величественно, дарования Лермонтова открывали возможности и давали ему – более, нежели кому-либо! – моральное право на широкомасштабный охват человеческого и ощущение вселенского бытия.
XVI. Дуэль могла не состояться, причём, если можно так выразиться, дважды.
В мае злополучного «сорок первого» Лермонтов и Столыпин ехали в свой полк. На этом пути оба приятеля встретились с направляющимся в Пятигорск П. И. Магденко. В разговоре с ними Магденко, в тот вечер случайно оказавшийся в роли «Чёрного человека», своими рассказами об удовольствиях Пятигорска спровоцировал Лермонтова отклониться от маршрута. В своих воспоминаниях Магденко говорит об этой встрече:
«Солнце уже закатилось, когда я приехал в город или, вернее, только в крепость Георгиевскую. …Вошедший смотритель на приказание Лермонтова запрягать лошадей отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтерофицер. Я с своей стороны тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, утверждая что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки заночевать. Принесли, что у кого было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут…
На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен); поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему? – быстро спросил
Лермонтов. – Там комендант старый Ильяшенков, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии сорока верст, по тогдашнему – один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им – в другую.
Столыпин сидел, задумавшись. «Ну, что, – спросил я его, – решаетесь, капитан?» – «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. Вон, – говорил он, указывая на стол, – наша подорожная, а там инструкция – посмотрите». Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том сожалею.
Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном:
«Столыпин, едем в Пятигорск! – С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: – Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадёт кверху орлом – едем в отряд; если решеткой – едем в Пятигорск. Согласен?».
Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск, в Пятигорск! позвать людей, нам уже запрягли!». Промокшая до костей, компания прибыла-таки в Пятигорск, говорит рассказчик.
Второе нарушение Лермонтова оказалось последним.
Он собирался уже уезжать из Пятигорска и 12 июля 1841 г. (за день до вызова) предъявил в Пятигорское комендантское управление свою подорожную к выезду в свой полк в Темир-Хан-Шуру. Этому помешали события последних дней, которые показали, что и безличность в лице Мартынова может стать «исторической фигурой».
Отставной майор Мартынов в то время находился в Пятигорске. Его военная карьера не удалась и он, по сути, бездельничал, навязывая своё присутствие недавним сослуживцам и знакомым.
По общему мнению, будучи недалёким и даже глупым человеком, он по прихоти своей скудной фантазии во всём старался походить на «чеченца». В этих целях он рядился в бешмет и черкеску, на которой по обеим сторонам груди были нашитые газырницы – карманы с мелкими отделениями, в которые вкладывали газыри – деревянные трубочки для патронов. Черкеску он, «по-чеченски», подпоясывал узким поясом, на котором висел огромный кинжал. Убранство новоявленного «горца» довершала шапка из овчины, скроенная папахой.
С. Н. Филиппов в статье «Лермонтов на Кавказских водах» (журнал «Русская мысль», декабрь 1890 г.), описывает Мартынова как очевидец, подтверждая острую наблюдательность насмешливого поэта: «Тогда у нас на водах он был первым франтом. Каждый день носил переменные черкески из самого дорогого сукна и всё разных цветов: белая, черная, серая и к ним шелковые архалуки такие же или ещё синие. Папаха самого лучшего каракуля, черная или белая. И всегда всё это было разное – сегодня не надевал того, что носил вчера. К такому костюму он привешивал на серебряном поясе длинный чеченский кинжал без всяких украшений, опускавшийся ниже колен, а рукава черкески засучивал выше локтя. Это настолько казалось оригинальным, что обращало на себя общее внимание: точно он готовился каждую минуту схватиться с кем-нибудь… Мартынов пользовался большим вниманием женского пола. Про Лермонтова я этого не скажу. Его скорее боялись, т. е. его острого языка, насмешек, каламбуров…». Легко видеть, что Мартынов, появляясь на людях каждый раз в новом убранстве, – и в самом деле являл собой потешное зрелище. Но это было не только смешно.
Напомню, Россия в то время находилась в состоянии войны с горскими племенами. И ходить отставному майору в одежде врага было, мягко говоря, предосудительно. Понятия честь русского офицера и честь мундира в русской армии были нераздельны. Хотя само собой понималось, что первенство принадлежит здесь всё же не мундиру, а человеку. Воинская честь – это состояние духа, закреплённое присягой, а мундир лишь видимое оформление этого состояния. Мундир может быть отставлен в гардероб или висеть на спинке кресла – это не убавит чести его обладателя, ибо первично состояние духа. Выход в отставку не отменяет вышеуказанных соотношений: мундир просто не декларирует это состояние. Ибо, сняв его, человек не перестаёт быть носителем воинского духа, теперь уже в гражданской его ипостаси, особенно, если отставной офицер остаётся в «прифронтовой полосе». Однако понимание этих вещей, по всей видимости, было недосягаемо для Мартынова. Он «смело» дефилировал в своём наряде по улицам города и даже был принят в домах местной русской знати. Причём – безнаказанно (!), что тоже вызывает удивление. Военное начальство вполне могло и должно было выслать из города незадачливого отставника. Уже одно только шутовское предпочтение русского мундира «мундиру» врага говорит о психологическом предательстве Мартынова, демонстративно облачавшегося в некудышный образ противника. Представим себе, что советский аналог Мартынова появился бы в форме офицера Вермахта в регионе боёв, скажем, в 1942 г.
Его по законам военного времени тотчас расстреляли бы. Однако Мартынов ходил – и всё это сходило ему с рук. «Протест» местного общества проявлялся лишь в том, что обитатели «домов» беззлобно посмеивались над «опасным чеченцем». Не таково было отношение к клоунаде Мартынова со стороны Лермонтова. Активный участник боевых действий против местных племён, он не мог остаться безучастным к психологически и морально предательскому поведению «майора». Потому, «стращая» дам, Лермонтов не упускал случая называть Мартынова «горцем» – на всякий лад, всегда с изюминкой и никогда со злостью, поскольку предмет насмешек не стоил серьёзного к себе отношения.
Завязка трагедии произошла вечером 13 июля 1841 г. в доме генерала Верзилина.
В зале просторного дома Верзилиных на диване сидели и оживленно беседовали Лермонтов, дочь хозяйки Эмилия Александровна и Лев Сергеевич Пушкин – младший брат великого поэта. Князь С. Трубецкой играл на фортепиано в углу большого зала. Около фортепиано стояли и разговаривали Надежда Петровна Верзилина и Мартынов в своем «устрашающем» наряде. Лермонтов, повернувшись к собеседнице, сказал ей в шутку, чтобы она была осторожна с этим опасным «горцем с большим кинжалом», который может убить.
Надо же было случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово «кинжал» раздалось по всей зале. «Горец с большим кинжалом», давно уже вошедший в свою роль, не замедлил «взорваться», заявив, что он долго терпел оскорбления (опять же: оскорбления чего?) господина Лермонтова и терпеть их больше не намерен, после чего в тот же вечер последовал вызов.
Нельзя не заметить, что не только наряды Мартынова, но и обида его была смешна. Уж коли ты гордишься своей черкеской и кинжалом, то замечания на этот счёт воспринимай, как похвалу себе. Однако Мартынов, хоть и глуп был, но не на столько, чтобы не понимать всю надуманность своей «униформы». Его тщеславие не могло вынести насмешки над тем, чего изменить он был не в состоянии. Подлость же «горца с большим кинжалом» явила себя в условиях поединка и его проведении.
Лермонтов был бесстрашный человек и прекрасный стрелок: он с десяти шагов загонял из пистолета пулю в пулю. Сослуживцы Лермонтова и сам Мартынов знали об этом. Знал последний и то, что поэт не будет стрелять в него. Дуэль, даже и при бескровном её исходе, была самоубийственной для Лермонтова. Он знал, что все его мечты об отставке и литературной деятельности окончательно рухнут: Николай I, ненавидевший поэта, найдёт возможность поставить крест на «строптивце». Всё это позволило Мартынову «смело» настаивать на самых жестоких условиях дуэли: стреляться до 3-х раз (!) при барьерах в 15 шагов (10,5 метра). Таковые условия ставились только при тягчайшем оскорблении, чего в данном случае не было. Васильчикову можно верить, когда он писал: «Мы… были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут… ужинать». Лермонтов, надо полагать, тоже не принимал всерьез предстоящую дуэль. Наверное, по этой причине на месте поединка, впротиву правил, не оказалось врача и обязательных для дуэли средств транспортировки в случае ранения одного или обоих участников. Несуразицу не проясняют письменные свидетельства участников трагедии уже потому, что Мартынов и секунданты по взаимной договорённости стремились по возможности снизить наказание за дуэль, запрещённую законом.
Ещё одна деталь. Когда перед дуэлью началась буря, то Мартынов, стремясь поскорее закончить «дело», настоял на немедленном проведении дуэли. То есть в нарушение правил, не дожидаясь секундантов поэта, которыми были его друзья Столыпин, Трубецкой и, может быть, Дорохов. Ввиду непогоды они на какие-то минуты не успели подъехать к месту до начала дуэли. Столыпин и Трубецкой никак не думали, что поединок начнётся при набирающей силу грозе, явно проливном дожде, и уж тем более до их приезда. Но Мартынов торопил Лермонтова, и тот принял дуэль лишь при двух – и то, не своих – секундантах. Поскольку Лермонтов заранее отказался от своего выстрела, то, по сути, это был не поединок, а убийство.
Боевой товарищ Лермонтова Руфин Дорохов – отчаянный дуэлянт, знавший все правила дуэли, – с негодованием отозвался на случившееся: «Это была не дуэль, а убийство».
Подытоживая случившееся, Дорохов назвал Мартынова «презренным орудием» убийства поэта!
Замечание Дорохова стоит многих справок, ибо один из самых опытных русских офицеров, принимавших участие в кавказских войнах, был человек исключительной храбрости, по замечанию очевидца: «…даже на Кавказе среди отчаянно храбрых людей поражавший своей холодной, решительной смелостью». По определению А. В. Дружинина, Дорохов был «из породы удальцов», воспетых Денисом Давыдовым. Отличаясь на поле боя непоколебимым мужеством, Дорохов ценил в Лермонтове такие же качества.
Р. Дорохов в письме к М. Ю. Юзефовичу от 18 ноября 1840 г. писал о Лермонтове: «Славный малый – честная, прямая душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то чёрное предчувствие мне говорило, что он будет убит… Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр…».
Будучи намного старше Лермонтова, Дорохов имел скромный чин унтер-офицера, так как за участие в дуэлях и несдержанный характер не раз лишался офицерских погон. Казалось, и с Лермонтовым у него не сложатся отношения, так как и Дорохов поначалу увидел в поэте лишь заносчивого юношу. Однажды, при выяснении отношений между ними дело едва не дошло до поединка, но жизнь под чеченскими пулями быстро сблизила их.
Наиболее правдоподобным представляется описание дуэли и отношение к ней, которое дал современник поэта А. Я. Булгаков (хоть и «сплетник», но всё же сенатор):
«Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что всё это была одна только шутка, а что ежели М<артынова> это обижает, он готов просить у него прощение не токмо тут, но везде, где он только захочет!.. «Стреляй! Стреляй!» – был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая кончить глупую эту ссору дружелюбно. Не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце. Удар был так силён и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух! Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный, храбрый офицер, Мартынов поступил как убийца. Он посажен в острог, а секунданты на гаубтвахту. Одно обстоятельство еще более умножает вину Мартынова. Убив Лермонтова и страшась ожидавшей его судьбы, он хотел бежать… бежать и куда же? К чеченцам, нашим неприятелям. Он был пойман на дороге и отдан военному начальству. Армия закавказская оплакивает потерю храброго своего офицера, а Россия одного из лучших своих поэтов». В письме к А. И. Тургеневу А. Я. Булгаков передал слова князя В. С. Голицына о Лермонтове: «Россия лишилась прекрасного поэта и лучшего офицера. Весь Пятигорск был в сокрушении, да и вся армия жалеет об нём».
Примечательно упоминание А. Я. Булгакова о бегстве Мартынова к неприятелю. Оно не находит подтверждения в других источниках, однако свидетельства дипломата, сенатора и московского почт-директора, по долгу службы обязанного быть хорошо информированным, по всей видимости, имеют под собой основания. Мартынов, не отличавшийся ни умом, ни верностью отечеству, с перепугу и впрямь мог «сигануть» куда-нибудь в горы – «к своим».
Примечания к части I
1. П. Я. Чаадаев. Философические письма. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том. 1. – М.: Наука. 1991. С. 320–441.
2. А. Фрер. Беседы с Майолем. С. 42.
3. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20. С. 369.
4. К тому времени Римская империя трещала по всем швам: столетняя эпоха «солдатских императоров» (193–284) была сплошной чередой убийств и самоубийств. Эдикт Каракаллы (212 г.) открыл римское гражданство для свободнорождённых; впоследствии оно стало достоянием вольноотпущенников, затем варваров, рабов, евреев и пр. Римское общество становилось этнически полигамным. Достигнув статуса мегаполиса, Рим перестал быть «столицей мира». С III века его население начало резко уменьшаться, приняв масштабы катастрофы «римского мира».
5. Всемирная история. Изд. А. А. Каспари. С.-Петербург, 1902. Т. I. С. 378–379.
6. Там же. С. 379.
7. Так, древние христианские писатели с негодованием рассказывали о том, что римский полководец Стилихон (дело было в конце IV в.) воспользовался праздником для нападения на христиан-готов. Хотя – отдадим должное «кощунству» полководца – вестготы были отброшены, Италия освобождена, а Стилихон с императором торжественно вступили в Рим.
8. Эвольвента – некая плоская кривая, в своей развёртке могущая перейти в любую из множества разнонаправленных плоскостей, включая противоположную заданной. Термин, в проблематике истории, философии и культуры, предложен мною (См. Российские вести. М-ва. 2/4/ 1993. В. И. Сиротин. «Россия в лохмотьях эволюции»).
9. Диалектическую связь духовного и материального подтверждает мудрость многих народов. Помимо видоизменённой в тексте пословицы: «Богу молись, а к берегу греби», напомню ещё и другие: «На Бога надейся, а сам не плошай», «Бог-то Бог, да сам не будь плох», «Молись всегда так, как будто всё зависит только от Бога, а делай всё так, как будто всё зависит только от тебя», «Бог помогает тем, кто помогает себе», «На смирного Бог беду шлет, а бойкий сам наскочит», «На Бога надейся, но привязывай своего верблюда».
10. Напомню судьбу одной из самых крупных в античном мире Александрийской библиотеки, спорившей по богатству собраний с знаменитыми библиотеками Родоса и Пергама.
Неоднократно страдавшая от пожаров, в частности, при взятии Александрии легионами Юлия Цезаря в 48–47 гг. до н. э. и при подавлении бунта царицы Пальмиры Зиновии войсками римского императора Аврелиана в 273 г., библиотека была уничтожена христианами в 391 г. Победив в гражданской войне язычников, христиане в 391–392 гг. разрушили Малую «дочернюю» библиотеку после выхода эдикта императора Феодосия I Великого о запрете языческих культов. Под предводительством патриарха Феофила «ревнители благочестия», создав боевые отряды из зилотов, разгромили языческий храм Серапейон, в котором проводились служения богу Серапису. Вместе с храмом было уничтожено множество бесценных древних рукописей как «носителей языческой ереси».
Среди них находились манускрипты величайшего учёного Древнего Египта, посмертно возведённого в боги под именем Тот (изображался в виде птицы ибис), в римской версии Герме с Трисмегист (Триждывеличайший).
Уцелевшие остатки рукописей погибли, видимо, в VII–VIII вв., после завоевания Египта арабами. Известно предание, гласящее, будто в 646 г. халиф Омар ибн Хаттаб дал повеление полководцу Амру сжечь Александрийскую библиотеку, сказав при этом: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. И в том и в другом случае их надо сжечь». Что и было сделано.
11. Книга Коперника «De Revolutionibus Orbium Coelestium», опровергающая Гелиоцентрическую систему мира, была исключена из римского Индекса запрещённых книг лишь в 1835 г. Джордано Бруно повезло ещё меньше. Все его произведения были занесены в 1603 г. в католический Индекс и были в нём до его последнего издания 1948 г. Глава римско-католической церкви Иоанн-Павел также отказался рассмотреть вопрос о его реабилитации, считая действия инквизиторов оправданными.
12. Подписание греками унии с Римом (1437) привело к духовному разрыву с Константинополем. Впоследствии Иван IV (Грозный), выражая общенародную точку зрения на не сохранившее свою чистоту греческое православие, обозначил существо дела во время своего спора с иезуитом Посевином: «Греки нам не Евангелие. У нас не греческая, а русская вера».
13. А. Ф. Лосев. Эллинистически-римская эстетика I–II вв. н. э. Изд. МГУ, 1979. С. 338.
14. Альфред де Мюссе. Исповедь сына века. М. 2000. С. 16–17.
15. Языков Д. Вольтер в русской литературе. 1879.
16. Так, историк и филолог Н. Герасимов всё сводил именно к «образам»: «Весь мир населён был его воображением существами, из которых одни были олицетворением добра, другие – зла. Как первые возбуждали в нём полную и сильную любовь, так вторые – такую же полную и безусловную ненависть» (О. П. Герасимов. Журнал «Вопросы философии и психологии». М. 1890. № 3. С. 1—44).
17. И. Л. Андроников. Исследования и находки. М. 1964. С. 179.
18. О. П. Герасимов. Там же. С. 22.
19. Если быть точным, то Николай I стал полковником, шефом лейб-гвардии Конного полка 7 ноября 1796 г.
20. Зайончковский П. А. Биографический очерк. Дневник Д. А. Милютина 1873–1875. М. 1947. Т. I. С. 20.
21. Васьковский Е. В. Организация адвокатуры. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие под ред. П. А. Лупинской. М. Новый Юрист, 1997, с. 128.
22. Имеется в виду рапорт в октябре 1827 г. о тайном переходе двух евреев через реку Прут в нарушение карантина, за что полагалась смертная казнь (Русская старина. 1883, декабрь).
23. Историк В. Ключевский писал, что при Николае I крестьяне являлись не собственностью помещика, а, прежде всего, подданными государства, которое защищает их права, указывая на то, что личность крестьянина перестала быть частной собственностью землевладельца, поскольку их связывали между собой отношения к помещичьей земле, с которой нельзя согнать крестьян (Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXXV).
По мнению академика С. Струмилина, именно в царствование Николая I в России произошёл промышленный переворот, аналогичный тому, что начался в Англии во второй половине XVIII в. (Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960, с. 443, 445). При Николае I впервые в истории России началось интенсивное строительство шоссейных дорог с твердым покрытием: были построены трассы Москва – Петербург, Москва – Иркутск, Москва – Варшава.
Для борьбы с коррупцией впервые при Николае I были введены регулярные ревизии на всех уровнях. Суды над чиновниками при нём стали обычным явлением. Однако критики царя расценили инициированную им борьбу с коррупцией как усиление самой коррупции… Сам Николай I критически относился к успехам в этой области, говоря, что в его окружении не воруют только он сам и наследник (Завьялова Л. Орлов К. Великий князь Константин Константинович и великие князья Константиновичи. СПб. 2009).
К этому добавлю ещё, что Николай I погасил все долги семьи Александра Пушкина (127 тысяч рублей), оставшиеся после гибели поэта.
24. Герцен А. И. Собр. соч. в 8 т. М. 1975. Т. 3. С. 425–426.
К «реестру Герцена» только первой половины века следует добавить имена: А. И. Одоевского, отправленного на каторгу, а затем на Кавказ, где он и умер; В. К. Кюхельбекер умер после 20-летней, а В. Ф. Раевский после 30-летней тюрьмы и ссылки; Ф. М. Достоевский пережил смертный приговор, а после его замены отбыл шесть лет каторги и солдатчины; Т. Г. Шевченко «отслужил» 10 лет.
«Николаевские заветы» распространились и на вторую половину столетия. Армейские прутья и «гражданская» каторга по-прежнему служили правительству лекарством от неказённого устного и письменного мышления: Н. Г. Чернышевский 21 год провел в тюрьме, на каторге и в ссылке; М. Л. Михайлов погиб на каторге; 13 лет каторги и ссылки отбыл П. Ф. Якубович; 15 лет сибирской ссылки – П. А. Грабовский. В тюрьмах и ссылке подолгу томились Д. И. Писарев, В. Г. Короленко, К. М. Станюкович, А. И. Эртель, Н. В. Шелгунов, В. В. Берви-Флеровский, Г. А. Мачтет, Н. Е. Петропавловский-Каронин. Г. З. Елисеев состоял под надзором полиции 14 лет, И. Г. Чавчавадзе – 16, Глеб Успенский – 20, Короленко – 40 лет.
25. Младший из Адлербергов – Александр Владимирович за отличие, оказанное при поражении партии чеченцев у реки Валерик, награждён был 30 декабря 1850 г. золотой полусаблей с надписью: «За храбрость». Примерно в эти же годы пока ещё не известный военный деятель К. П. Кауфман за взятие чеченских аулов получил Анну 2-й степени с императорской короной, Владимира 3-й степени с мечами, золотую саблю с надписью: «За храбрость».
На Лермонтова, как мы знаем, царские награды и почести не распространялись. За битву при Валерик ему было отказано в ордене Св. Владимира четвертой степени с бантом и несколько позднее – в награде золотою саблей.
26. М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. в 2 т. М. 1988. Т. I. С. 666.
27. Азраил – ангел смерти (на арабском ﻉﺯﺭﺍﺉﻱﻝ). Мусульмане его называют Абу Йариа (ﺃﺏﻭ ﺝﺍﺭﻱﺓ), а персы – Mордад (ﻡﻭﺭﺩﺍﺩ). Его миссия – встречать души мертвых и направлять их для Божьего Суда, а также спасать те, которые были несправедливо посланы в Ад. В момент смерти человека рядом с ним находятся Азраил и другие ангелы, которые опекают умершего, помогая ему освоиться в новой реальности. Задача Азраила – помочь умершему добраться до Неба. Буквальный перевод с иврита Азраил означает «Бог помогает ему». Вокруг этого ангела сложилось множество легенд, имя его вдохновляет поэтов и художников. В исламских старинных источниках ангел смерти описан с обожанием и благоговением. Евреи, напротив, представляют его воплощением всякого зла, не всегда связывая его со смертью. В тех религиях, где присутствует Азраил (христианство, ислам, иудаизм, сикхизм), существуют разные интерпретации облика этого ангела. В одной из матриц у него четыре лика и четыре тысячи крыльев, тело его складывается из глаз и языков, общее число которых равно количеству людей, населяющих Землю. В мусульманской мифологии он входит в четверку старших ангелов: Джибраил, Микал, Исрафал. Азраил будет последним, «который умрет», постоянно записывая и стирая в большой книге имена людей от рождения и смерти. Азраил находится в разных местах, но обычно он пребывает на «третьем небе», являясь одним из стражей последнего круга ада. Предотвращая выход демонов, он охраняет двери Ада.
28. Землетрясение в Португалии случилось утром 1755 г. 1 ноября в католический День Всех Святых. Это было одно из самых разрушительных и катастрофических землетрясений в истории! Оно привело в ужас общественность XVIII в. Современные геологи оценивают Лиссабонское землетрясение в 9,5 балла по шкале Рихтера. Из населения численностью 275 000 погибло около 90 000. Еще 10 000 человек погибло в Средиземноморье и Марокко. Землетрясение разрушило главные церкви Лиссабона, в том числе Собор Санта Мария и базилики Сан Паулу, Санта Катарина, Сан Винсенте ди Фора и Мизерикордиа. Погибла библиотека в 70 000 томов и сотни ценнейших произведений искусства, в том числе работы Тициана, Рубенса и Коррежио. Для набожных умов XVIII в. подобная манифестация божьего гнева была совершенно непостижима. Огромное число жертв лиссабонского землетрясения заставило многих усомниться в существовании Бога, допустившего трагедию. Святейшая Инквизиция не преминула воспользоваться случаем. Её эмиссары сразу же начали производить «зачистку» города. Подозреваемых в ереси обвиняли в постигшем страну бедствии, а затем вешали.
29. С. Н. Дурылин. Михаил Юрьевич Лермонтов. М. 1944 г. С. 51–52.
30. А. Грибоедов закончил комедию «Горе от ума» в 1824 г. Роман в стихах «Евгений Онегин» А. Пушкина был окончен в 1831 г. и вышел в свет в 1833 г. Однако действие романа охватывает события с 1819 по 1825 г. То есть период русской жизни, который не имел ещё «отметин», кои начали появляться после смены престола и трагических событий декабря 1825 г.
31. Усилению Московского царства много способствовал перенос в XIV в. в Москву из Владимиро-Суздальского княжества митрополичьей кафедры. В целях усиления авторитета Москвы Иван Калита и митрополит Пётр основали в следующем столетии Успенский собор, ставший центром выстраиваемого Кремля.
32. Современный поэт Г. Я. Горбовский очень существенно сказал об этом: «Религия большинства поэтов – одиночество… И вырваться из одиночества можно, только идя к Богу».
33. Лермонтов допускает здесь оплошность с «гривой», которой у львицы, естественно, быть не может. Однако неточность эта формального плана, ибо снимается силой образа и содержанием повествования. Лермонтову важно было передать сильный и яркий образ «бешено прыгающего» по камням Терека. Само слово «львица», своим ритмичным чередованием согласных и гласных не только создаёт образ пружинистого бега, но, как оно и происходит в реальности, – припадания зверя к земле, таящего в себе внезапность и стремительность броска.
34. Тем не менее, из этой «тезы» не стоит делать далеко идущие догадки и предположения. Дмитрий Аркадьевич Столыпин свидетельствует о том, что Лермонтов не собирался «переделать Демона – этого тирана тьмы и злобы, зиждителя соблазна и греха, в кающегося грешника» (Мартьянов. Т. 3. С. 89).
35. Heinrich Heine, «Hat sie sich denn nie geäußert». Buch der Lieder (1827)
XXXIII
Sie liebten sich beide, doch keiner Wollt’ es dem andern gestehn; Sie sahen sich an so feindlich, Und wollten vor Liebe vergehn. Sie trennten sich endlich und sah’n sich Nur noch zuweilen im Traum; Sie waren lдngst gestorben, Und wußten es selber kaum Генрих Гейне.Из цикла «Возвращение домой», сб. «Книга песен» (1827).
XXXIII
Они любили друг друга, Но встреч избегали всегда. Они истомились любовью, Но их разделяла вражда. Они разошлись, и во сне лишь Им видеться было дано. И сами они не знали, Что умерли оба давно. Перевод В. Левика.36. Котляревский Н. А. «М. Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения». Москва. 1891. С. 198.
37. Шувалов С. В. Религия Лермонтова. 1914. С. 135–164.
38. Примем во внимание, что у Пушкина и Лермонтова историческое осмысление предшествовало художественному.
Так, «История пугачёвского бунта» была написана тремя годами раньше «Капитанской дочки»; «Песне про купца Калашникова» Лермонтова предшествовал «Вадим». С той оговоркой, что и то и другое Лермонтов подвергал более глубокому духовному осмыслению.
39. Степень воздействия Церковного Раскола на мировоззрение и творчество писателей пушкинской эпохи совершенно не изучена и ещё только ждёт своего исследователя.
40. Лермонтов М. Ю., М. 1990. Сочинения. Т. 2. С. 297, 319, 337.
41. С 1763 по 1774 г. обер-прокурорами Синода были масоны высоких степеней И. И. Мелиссимо и Л. Л. Чебышев. С масонством, однако, не всё так просто.
Его исследователь Т. А. Бакунина-Осоргина, полагая, что духовный фактор играл в русском масонстве очень важную роль, вместе с тем пишет: «Обращает на себя внимание участие в масонстве лиц, с обликом которых не вяжутся представления о духовных исканиях. Таковы, например, шеф жандармов Бенкендорф и министр полиции Балашов. И даже участие М. М. Сперанского, чьи интересы лежали совершенно в иной плоскости, в масонской работе кажется весьма странным». Журнал «Русская старина» в 1883 г. публикует «Записки» Я. И. Де-Санглена, в которых автор, никогда не принадлежавший к масонам, сетует: «Слова: иллюминат, франк-масон обратились, как будто, в брань; но в корне своем ложи не иное что, как школа духовного развития и возвышения человека. О злоупотреблениях я молчу: где их нет?». Следует признать, что благодаря масонам стало предосудительным жестоко обращаться с крестьянами. Общество, признав необходимость просвещения, стало больше вникать в вопросы государственного устройства, общественного блага и пр. Напомню, что в масонах состояли А. Суворов, поэт М. М. Херасков, историк П. А. Татищев, Н. Н. Новиков и его сподвижник И. Г. Шварц и многие другие деятели науки и культуры. Какое-то время в масонах состоял А. Пушкин, да и – в молодости поклонник Робеспьера – сам Н. Карамзин. Наиболее здравое отношение к масонству как политическому и социальному феномену дал генерал А. Е. Ермолов в письме генералу А. А. Закревскому: «Много раз старались меня вовлечь в общество масонов, я не опровергаю, чтобы не было оно весьма почтенно, но рассуждаю как простой человек, что общество, имеющее цель полезную, не имеет необходимости быть тайным».
42. Ещё в период правления Александра I, в мае 1820 г. выходит закон, запрещающий старообрядцев-беспоповцев избирать на общественные должности. Впоследствии многократно подтверждённый этот закон был «усилен» новыми добавлениями. Особенно сильно права старообрядцев ущемляли законы, запрещающие с 1846 г. допускать в городское гражданство, приобретать в наследство или в аренду недвижимость и землю (1847 г.), вступать в купеческие гильдии (1847 г.). В условиях экономического расцвета старообрядцев, что было характерно для первой половины XIX в., эти законы в особенно трудные условия поставили наиболее зажиточных из них. Положение осложнялось тем, что ещё с января 1834 г. старообрядцам было запрещено вести метрические книги, в результате чего дети старообрядцев попадали в категорию незаконнорожденных и не могли быть записаны на фамилию отца, порождая дополнительные проблемы с передачей наследства. Староверы были лишены права поступать в высшие учебные заведения, занимать в армии и гражданской жизни ответственные посты и т. д.
43. Напомню, что в древности не употребляли никаких знаков препинания. В том не было необходимости, поскольку общение между людьми имело иной характер, нежели в позднейшие времена. Когда язык был живым, а священные тексты томились в узком кругу духовных каст, правильному чтению помогали предание, навык и устное общение.
Сам словарь древних языков был несоизмеримо уже, нежели современные формально и урбанистически развитые языки. В то же время древние слова, во многом завися от первобытных условий жизни, а потому отмечавшие лишь жизненно важное, отражали самое существенное в тяжелейшей борьбе за существование. Строй предложений, будучи куда более лаконичным и простым по лексике, носил более ёмкий смысл, соотносимый со спецификой культурно-общественной среды, её духовными и социальными требованиями. Возможно, по схожим причинам древний ветхозаветный текст не имел делений на главы и стихи. Деления на главы христианского происхождения сделаны лишь в XIII в. Принятое ныне деление было введено Кентерберийским епископом Стефаном Лангтоном (умер в 1228 г.). В 1214 г. он разделил на главы текст латинской Вульгаты, и это деление было перенесено в еврейский и греческий тексты.
44. «Русский архив», 1900. I. С. 395.
45. В близком к поэту окружении говорили, что после первого осмотра доктор сказал: «Если б не моя семья, жена да шестеро детей, я бы им показал, кто на самом деле сумасшедший».
46. М. Штирнер. «Единственный и его собственность». Харьков. Изд. «Основа». 1994. С. 156.
47. И. С. Тургенев, наблюдая ход франко-прусской войны 1870 г., имея в виду историко-философские рассуждения Толстого в «Войне и мире» (1869), писал: «Не во гнев будет сказано графу Л. Н. Толстому, который уверяет, что во время войны адъютант что-то лепечет генералу, генерал что-то мямлит солдатам – и сражение как-то и где-то проигрывается или выигрывается, а план Мольтке проводится в исполнение с истинно математической точностью, как план какого-нибудь шахматного игрока…». Как известно, Франция в этой войне была разгромлена.
48. В один из самых критических для страны периодов премьер-министр России П. А. Столыпин, обосновывая необходимость военно-полевых судов, – 13 мая 1907 г. решительно заявил в Думе второго созыва: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества».
49. А. Воронцов. «Тайна третьего элемента». «Наш современник». № 2. 2001 г.
50. К началу XVIII в. едва ли не весь епископат Русской церкви, пришедший к церковному управлению после реформ Никона, был прокатолическим или склонялся к протестантизму (Феофан Прокопович), что свидетельствует о немалой погрешности в самом начале «никоновской кривой». Епископат обновлённой Русской церкви, по сути, отказавшийся от святоотеческих истоков, смотрел на Запад как на образец церковно-государственных отношений, придерживаясь идеологии цезарепапизма. Поэтому ликвидация института патриаршества Петром Великим и духовно, и исторически была оправдана. Но и до того принципиальность никониан «в вере» была весьма относительной, о чём свидетельствует избранный в конце XVII в. патриарх Иоаким. «В ревности Христовой» послав немецкого поэта и мистика Квирина Кульмана на костёр, а «латинизатора» Сильвестра Медведева на плаху, он отвечал на упрёки в непоследовательности его «служебной» деятельности: «Не знаю ни «старой» веры, ни «новой», но как велят начальники, так и творю…».
51. Иерусалима (примечание М. Лермонтова). Согласно толкованию отцов Церкви, Салим – это древнее название Иерусалима. В древних папирусах XIV египетской династии он именовался Рушалаим.
52. С падением Иерусалима враждебная деятельность иудейства против христиан ослабела; но она не прекращалась до окончательного разрушения Иерусалима при Адриане в 135 г. Впрочем, гонения на Церковь со стороны иудеев сменились страшными гонениями от язычников в Римской империи. Эти гонения продолжались два с половиной века.
53. Иванов Г. «Распад атома». Париж. 1938.
54. «Влияние Пушкина, как поэта, на общество было ничтожно. – писал Н. В. Гоголь. – Общество взглянуло на него только вначале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было Байрона; когда же пришёл он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось»[27]. В связи с этой оценкой напомню мнение близкого друга А. Пушкина, талантливого поэта и весьма образованного человека князя П. А. Вяземского. В старости уже рассуждая на тему русских гениев, Вяземский пришёл к выводу, что таковых было всего трое – Петр I, Ломоносов и Суворов, Пушкин же – «высокое, оригинальное дарование», не более. Таковое мнение, очевидно, присущее высшим слоям русского общества, косвенно свидетельствует о том, что даже в конце XIX в. значение Александра Пушкина в русской литературе было до странности заниженным. О Лермонтове и говорить нечего…
55. Целиком слова Цицерона выглядят так: «Поистине во всём, что даётся людям от природы, а не от науки, с нами не идут в сравнение ни греки и никакой народ; была ли в ком такая величавость, такая твёрдость, высокость духа, благородство, честь, такая доблесть во всём, какая была у наших предков?» (А. Ф. Лосев. С. 28.).
56. Хронологические рамки существования Римской империи охватывают период времени, начиная с правления первого императора Октавиана Августа, до раздела империи на Западную и Восточную (или до падения Западной Римской империи), то есть с 27 г. до н. э. по 395 г.
57. «Как-то вечером, – рассказывал А. А. Краевский, – Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений. Мы расстались в самом весёлом и мирном настроении. На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он, в буквальном смысле слова, катался по нём в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. «Что с тобою?» – спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки – любил школьничать! …Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвёт и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: «Да скажи ты, ради бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!» Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты! мне велят выехать в сорок восемь часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку». (П. А. Висковатов. 1891 г. С. соч. Т. 6. С. 312).
58. А. Ф. Лосев. Там же. С. 12–13.
59. Здесь Лермонтов неточен как во времени гонений христиан, так и в отношении заката Римской империи, который наступил значительно позднее.
В течение всего первого века Рим не обращает особого внимания на распространение христианства. Если христиане подвергались гонениям, то – из-за личного неприятия их со стороны императоров, а не согласно законам. Первые гонения начались при Нероне (54–68 г.) в 65 г. и продолжались до 68 г. В этот период пострадали в Риме апостолы Пётр и Павел: Пётр был распят на кресте вниз головой, а Павел усечён мечом.
Вряд ли Лермонтов мог ошибиться на несколько сот лет. Думается, всё гораздо проще. В самом начале своего повествования поэт обозначает главное, коим являются «последние годы» (Рима), обагрённые жестокими гонениями на христиан, и второстепенное – правление, олицетворённое императором. Возможно, император Тиберий потому прочно «засел» в памяти Лермонтова, что именно в его правление был распят Христос, к чему сам император не имел прямого отношения (в те времена это событие, не имея общественного резонанса, практически, прошло незаметно). По всей видимости, в то время как поэт набрасывал стихотворение, в его памяти произошло смещение созвучных имён, в результате чего главный персонаж отодвинул менее важную историческую фигуру, которая в данном случае как раз и была виновницей беспощадных гонений христиан.
Исходя из этих посылок можно предположить, что поэт просто «оговорился», имея в виду Галерия – зятя Диоклетиана. Если так, то, всё, включая рифму стиха, становится на свои места.
Кесарь Галерий ненавидел христиан, но, первое время будучи кесарем, он мог ограничиваться только частичными преследованиями христиан.
В 303 г. Галерий настоятельно требовал издания общего закона, целью которого было полное истребление христиан: «Nomen christianorum deleto» (лат. – «Да погибнет имя христианское»). Диоклетиан подчинился влиянию кесаря. Что касается Тиберия, то сохранившиеся источники и в самом деле описывают императора как мрачного и нелюдимого человека, а время его правления – смутным и страшным. Потому, плебс, узнав о смерти императора, кричал: «Тиберия в Тибр!». В рядах римского нобилитета, сообщает Тацит, выходец из богатого всаднического рода, отношение к Тиберию также было весьма негативным. Однако у того же Тацита Тиберий – в период его жизни до прихода к власти – описан как весьма достойный и примерный муж, выдающийся полководец (Тацит. Анналы. VI.50, VI.51). Ошибка Лермонтова, видимо, связана с тем, что он наметил лишь абрис будущего произведения, даже и в этой стадии незаконченного. Возможно, случившаяся и, наверное, скоро обнаруженная, ошибка эта стала причиной того, что Лермонтов отложил стихотворение до лучших времён. Весной 1841 г. поэт, скорее всего, не был готов к работе с материалами.
60. Шувалов С. В. Там же.
61. Ходасевич В. Ф. Собр. соч. в 4 т. М. 1996. Т. 1. С. 446.
62. Об интересе поэта к религиозным вопросам свидетельствует кн. В. Ф. Одоевский, который на эти темы вёл с ним продолжительные беседы, но содержание этих бесед нам неизвестно.
63. Придётся заметить, что экологические проблемы, став следствием дерзостного (прежде всего «европейского») ума человека, вызвали наибольшие проблемы главным образом в христианских государствах. В буквальном смысле вооружившись протестантской версией христианства, «европейский мир», поднаторев в науке и технологиях, не особенно щадил «по-язычески» красочную природу. В ходе эвольвенты буржуазных революций и технического прогресса приобретя «инновационное сознание», человек создал политические и социальные взаимосвязи, в которых слово «мир» в любом контексте можно смело брать в кавычки.
64. Торжественный венок. М. 1999. С. 205.
65. Интересно мнение княгини Зинаиды Шаховской. Она считала, что проза Набокова – это, в сущности, литературная энтомология: «Замечая всех и вся, он был готов это приколоть, как бабочку своих коллекций: не только шаблонное, пошлое, уродливое, но также и прекрасное – хотя замечалось, что нелепое давало ему большее наслаждение».
66. Поэтесса Ростопчина писала в 1858 г. гостившему в то время в России Александру Дюма о том, что Лермонтов в 1837 г., «по мере того как он оканчивал, пересмотрев и исправив, тетрадку своих стихотворений, он отсылал её своим друзьям в Петербург. Эти отправки причиною того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений». Потому что «курьеры, отправленные из Тифлиса, бывают часто атакованы чеченцами или кабардинцами … и чтобы спасти себя, они бросают доверенные им пакеты, и таким образом пропали две-три тетради Лермонтова» (Е. П. Ростопчина. Записки о Лермонтове. В кн.: Е. Сушкова. Записки. С. 349).
П. К. Шугаев в статье «Из колыбели замечательных людей» (“Живописное обозрение” 1898 г., R 25. С. 502) пишет о своих злоключениях при поиске раритетов Лермонтова, часть из которых он обнаружил у некой владелицы: «Рисунки и этюды Михаила Юрьевича (оказались. – В. С.) частью изорваны и уничтожены её сыном, когда он был ещё ребёнком, частью разобраны знакомыми, имена которых она припомнить не могла, так что от всей этой громадной коллекции у неё остался не изорванным её сыном один лишь портрет поэта, и то лишь благодаря тому обстоятельству, что он писан не на бумаге, а на полотне и притом масляными красками и, кроме того, заключён в багетную рамку за стеклом». Были и бумаги, «которых у неё было много, она большую часть продала без разбора калачнику – три пуда весом по 40 коп. за пуд … и они употреблены им для завертывания калачей и кренделей».
Надо полагать, «пуды» эти вовсе не заключали в себе одни только рукописи и рисунки поэта, но среди оставшегося «хлама» внимательный исследователь обнаружил подлинники произведений М. Лермонтова. В найденной тетради, сообщает Шугаев, «сохранились поэма «Боярин Орша», «Демон», «Завещание», «Бородино», «Прости», «Раскаяние», «Пленный рыцарь», «Парус» с множеством поправок и вставок, с пометками; внизу почти под каждой пьесой значился год их произведения».
Судьба графики поэта оказалась столь же незавидной, чему виной отчасти был сам Лермонтов, видимо, не осознававший значительность своего таланта рисовальщика. По окончании учебы в школе юнкеров он банально забыл в казарменной тумбочке альбом со своими рисунками, в числе которых было немало графических шедевров. К счастью, однокашник поэта юнкер Н. Н. Манвелов, наследовавший койку Лермонтова, нашёл альбом и сохранил его для потомков. В настоящее время он известен как «Юнкерская тетрадь».
67. Г. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24–25 августа 1883 г.). «Толстовский ежегодник. 1912 г.». Изд-во Толстовского общества в Петербурге и Толстовского общества в Москве. 1912. С. 69.
68. Один из секундантов князь А. И. Васильчиков, вспоминая финальную часть дуэли, писал: «Я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него». Через мгновения всё изменилось. «Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в него Мартынова, – пишет со слов Васильчикова Висковатов, – вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он, всё не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета». Из этого следует, что поэт смотрел в лицо смерти совершенно спокойно, но с презрением к её орудию.
Приходится признать, что, отказавшись от своего выстрела при жестоких условиях стреляться до 3-х раз, Лермонтов, искушая судьбу, предоставил свою жизнь воле рока или случая.
Часть II Изгнанное бытие, или «царство дивное» Михаила Лермонтова
«Разум открывает то, что душа уже знает».
Леонид Леонов«Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет».
Блез ПаскальI
Всякий раз, когда на память приходит поэзия Лермонтова, невольно думаешь о его трагической судьбе, прерванной роковым выстрелом. Лишив жизни одного из самых выдающихся дарований в истории Отечества, жутким эхом пронёсся он над сонной Россией… «И никого это не поразило, – даже не содрогнулось ветреное племя», – писал Н. В. Гоголь.
«Вечно печальная дуэль!» – с болью и горечью скажет Василий Розанов не только от своего времени, но и от бытия, в котором незаметно проходят счастливые дни, огненно полыхают окаянные годы и долго волочатся неприкаянные десятилетия…
Эта, наряду со смертью Александра Пушкина, «вечная» для России «печаль», завьюжив тогдашние пути и развилки русского общества, облекла их белым саваном и обеднила всю последующую историю страны. И становится не по себе… Становится страшно от оскалов времени и безвременных смертей гениев, до сих пор тяжёлой цепью опоясывающих Россию!
Масштаб трагедии, в то время осознанный лишь единицами, на фоне происходящего в наши дни становился всё яснее. Но и не зависимо от понимания случившегося, гибель Лермонтова тяжело отразилась на культуре России. Не могла не отозваться! Поскольку новые художественные формы, стили и творческие откровения создают гении, но принадлежат они эволюционному витку всего народа, в культурном теле которого в определённый исторический период создаётся необходимость в появлении личностей такого масштаба. Имеет здесь место и обратная связь. Если народ и эпоха теряют своего выразителя, то, не представленные в своих основополагающих этических и культурных качествах, они ущемляются и в духовном бытии, и в исторической перспективе. Это и есть «месть» эволюционной «кривой», извивам которой претит всякая дискретность. Когда же «гребень» эволюционного витка сбивается, а сам он, не получив развития, волею обстоятельств и вовсе «ломается», тогда создаётся некий вакуум в развитии культуры – всей культуры и всего народа.
Необходимость появления выдающихся гениев, вне всякого сомненья, была обусловлена новой ролью России, судьбу которой выстраивал XVIII в., – победоносный не только в военном, но и в культурно-историческом отношении. Нужно было лишь крепче утвердиться на плечах гигантов ушедшего столетия, наиболее мощными из которых были Михайло Ломоносов и Гавриил Державин.
О том, что Россия в то время испытывала подъём духовного, социального и культурного развития, в наибольшей степени свидетельствует творчество преемника Державина – Александра Пушкина и наследника самого Пушкина – Михаила Лермонтова. Именно им суждено было сыграть роль, достойную масштаба России и её места в мире. Но, следуя недоступным человеку планам, судьба распорядилась по-иному. И если Пушкин успел сделать многое из того, что мог и хотел, то Лермонтов сделал много меньше, нежели хотел и мог. О нём и пойдёт речь.
Михаил Лермонтов легко и свободно вписал своё имя в историю русской и мировой словесности. С присущей гению мощью прокладывая новые вехи в отечественной литературе, он так же естественно вошёл в мировую культуру. Это поразительное по быстроте восхождение Лермонтова на вершину поэтического Олимпа произошло, по сути, в считанные годы!
Феномен Лермонтова тем более удивителен, что новейшая русская словесность, если иметь в виду её светскую и гражданскую ипостась, умещается в довольно короткий исторический период. Подумать только: старший современник Лермонтова – Александр Пушкин застал Гавриила Державина, который вместе с Денисом Фонвизиным был «птенцом» великого Михайло Ломоносова, одного из главных подвижников науки и культуры в «гнезде Петровом»! А баснописец Иван Крылов, как литератор развив бурную деятельность при Фонвизине и Державине, пережил самого Лермонтова…
Теснота судеб русских писателей особенно впечатляет, если знаешь, что никто из них (даже, пожалуй, что и Крылов) отнюдь не был долгожителем. При колоссальном напряжении Петра I и его соратников Русь стала Великой Россией – на страх врагам и на радость друзьям, которых, между тем, в ряде случаев нужно было ещё уметь определить… Но время брало своё, расставляя всех по своим местам.
Стук Петровского топора и гром пушек прославленных русских полководцев определили пафос созидания на всём протяжении XVIII в. У Пушкина внутренние связи с ушедшим столетием прослеживаются в неизбывной готовности приумножать лавры Отечества, а внешние – в «державинской» патетике, случающихся в его творчестве (впрочем, всегда уместных) архаизмах.
Лёгкое перо Пушкина, вдохновлённое его весёлым интересом к мифам, даёт множество реминисценций и даже прямых цитат из греческих и римских мифов. И не мудрено. Со времён итальянского Ренессанса мифы Греции и Рима возведены были в просвещённой Европе, а затем и в России в непогрешимый культ. С тех пор изобразительное искусство и, в особенности, поэзия были преисполнены сюжетами из древних сказаний. Не знать языческую мифологию в христианской Европе было признаком если не варварства, то, во всяком случае, считалось признаком дурного тона, безвкусия и дремучей необразованности[1][28].
Словом, просвещённая Европа не мыслила себя без сонма языческих богов – Титанов, Олимпийцев, божеств водной и воздушной стихии, богов смерти и подземного мира, муз, героев и прочее. И не только в поэзии. Пожалуй, лишь Фридрих Клопшток – немец до мозга костей, мужественно отказался в своей лирике от греческих богов. Не угодивших ему античных небожителей он хладнокровно заменяет близкими его духу скандинавскими и немецкими богами – грозными асами, ванами и валькириями из загадочной страны Асгард (к чести немецкого писателя следует сказать, что, не в пример подавляющему большинству своих русских коллег, он никогда не стеснялся своей мифологии).
Между тем, у Лермонтова архаизмов нет вовсе, как нет – за редчайшим исключением – и «латинствующей» мифологии. К восторженному «поклонению» древнегреческим богам и мифам европейских и вслед за ними русских поэтов Лермонтов относился с откровенной иронией. В то же время, отражая чаяния нового времени, поэт будущее провидел через поразительную в своей вневременности «личную» сопричастность к прошлому. Тонко чувствуя нужды своей эпохи, определяя злобу дня сегодняшнего и провидя «злобу» будущего, он оттачивал инструмент человеческого общения, коим был язык.
Чистоте и свежести языка Лермонтова удивлялись уже его современники. «Никто ещё не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою», – говорил Н. Гоголь. Стало быть, и он сам! Но такой прозы не было бы, если б за Лермонтовым не стояли великие предшественники, среди которых наиболее ярким был А. Пушкин. Однако Лермонтов не ограничивался одним только литературным пространством. Без особого напряжения проникая в сокрытые от всех пласты исторической памяти, мысль поэта, обогащённая мировосприятием русской народной жизни, уже в самом начале своего поприща вырвалась из тенет умозрений и умонастроений элиты общества, как в русской, так и в европейской его ипостаси.
Оказавшись в плену идеологов Просвещения и выйдя на колею материалистического видения мира, «европейское человечество» обрекло себя на поиск истины сбитыми ценностными измерителями, прибегая при этом к ложным средствам. Тому свидетельство течение всего XIX столетия, в своих социальных и политических изломах заданного «свободами» Великой французской революции. Именно материалистическая гносеология «ветреников» Запада породила бураны и смерчи европейских революций, в политической беспринципности и меркантильной расчётливости которых терялась освободительная борьба греков, болгар и ряда других, не очень счастливых в истории народов. Столь же горестной была судьба тех, кто умел прозревать историческое бытие своего народа и кто был сопричастен его духовной и политической жизни. Увы, истинные величины, чаще других подвергаясь жестокостям и несуразностям времени, первыми попадают под окованные человеческими пороками тяжёлые и неразворотливые колёса истории. Уж не потому ли, что им, как наиболее ответственным за духовное обережение человека, приходится нести тяжкое бремя его грехов?! Ибо устроение жизни здесь – забота не аскетов, схимников и пустынников, занятых сторонним поиском «лествицы спасения», а тружеников повседневного здешнего бытия. Важность его нельзя приуменьшать, поскольку при всей своей скоротечности каждая «повседневность» венчает собой длинную череду столетий. Сама же историческая жизнь не состоит из одних лишь свершившихся событий и, в отличие от письменной истории, не носит лоскутный характер. История, подобно виртуозному музыканту, порой играет мимо написанных для неё «нот», отчего иные «мелодии» её, «сыгранные» выдающимися деятелями, не всегда слышатся современниками, не раздаются эхом во времени, а потому не часто угадываются и потомками… Но при всей «неслышности» надсобытийной реальности (впереди мы рассмотрим это более подробно) всякое социальное устроение есть инструмент истории, который выковывает бытие и заостряет дух времени.
Как же соотносится со всем этим жизнь и творчество Лермонтова, как известно, не отличавшегося ни смирением перед злом, ни ангельским характером?
Попытаемся расслышать то, о чём говорит сам поэт.
Наделённый удивительным даром творчества, Лермонтов в нём только и оставался самим собой. Но и этот же, поистине небесный дар, обрекая поэта на людскую зависть и лишения судьбы, нёс ему «вечное странничество». Когда мысль Лермонтова парила в «торжественных и чудных» пространствах, вдохновение влекло его к звёздам, ставшим водителями земной и в то же время столь далекой от земли Музы. От их мерцающих огней могучий дух поэта взмывал ещё дальше, достигая лика Всевышнего. И не от избытка дерзости роняет Лермонтов слова: «и в небесах я вижу Бога», а просто сообщает нам то, что видел своими внутренними очами.
Но что может заставить нас поверить в духовное сверхзрение Лермонтова?
Прежде всего архетип, или – прообраз души человеческой.
Субстанциональная сопричастность человека своему Образу, очевидно, содержит в себе некий «духовный код», который некогда в значительной мере определял внутренние приоритеты «венца творения», или, беря шире, – обществ, существовавших до или вне событийной истории. Духовный диапазон такого «человека», не в пример куцым (примем это на веру) способностям его «исторических внуков», был несоизмеримо глубже и шире, сознание – чище, а возможности реализации дарования много выше. Во всяком случае, духовная субстанция людей, не затронутых предметной реальностью и не испорченных её следствиями, была свободна от многих морально-нравственных деформаций и пороков, присущих позднейшим цивилизациям. Именно в их ходе развитие личностного мировосприятия вытеснило видение мира в его непреходящих сущностях, в результате чего «события» подменили собой одухотворённое содержание человеческого бытия. В новых (теперь уже – исторических) условиях духовное зрение, пропадая в своих первоначальных свойствах, начало заявлять о себе в прецедентах «случайных» воодушевлений, которые своей систематической повторяемостью в ходе исторического развития преобразовались в этические категории. Заявляя о величии человека, ставшего мерой всех вещей (и уже в «колыбели истории» распоряжавшегося богами в соответствии со своими культурными прихотями), эти категории, созревая в сознании, воплощались в эпические творения рук человеческих.
Развитие этики через формирование эстетических категорий в свою очередь благоприятствовало созданию и формированию культурной среды. Но возвеличенные человеческими мерками и «униженные» в Божественной ипостаси великие «творения рук» потеряли главное – то, что невидимо соединяло человека с Тем, кто сотворил его по своему Образу и Подобию. И самым важным из всего, что напоминает нам об этой истинно великой связи, является творчество – следствие особого состояния души. Высшая же форма творчества есть вдохновение, которое можно определить как субъективно внезапное «вспоминание» некогда присущих человеку, но впоследствии упущенных высших духовных достоинств, облечённых в эстетическую форму. Именно эта связь человека со своим Творцом, закреплённая свободой воли, не способна потеряться даже и в дебрях «событийной истории». Хотя бы потому, что факт «утери» однозначно свидетельствовал бы о ложности духовной первоосновы и изначально нравственных посылов, а значит, и самого смысла человеческого существования, что невозможно, поскольку человек тогда есть не что иное, как бездуховное, морально беспамятное и даже дикое животное.
В нашем случае незримые, но зрящие очи души поэта, в пароксизме восторга и вдохновения освобождаясь от пут суетного бытия, способны были читать заветы Предвечного. Лермонтов осознавал это. Его могучий дух и сознание как будто принадлежали некому «вогнутому» пространству-времени, в котором будущее, совмещаясь с прошлым, транспонировалось в настоящее. Томимый духовной жаждой, а значит, желанием придать форму открывшемуся только ему бытию, поэт как только мог искал уединения от шума толпы людской. И лишь там, где бескрайние горизонты соприкасались с вечностью, Лермонтов, «внемля Богу», ощущал подлинную свободу. Потому и любил он бродить по горам, что, безлюдные, были они для него некой пустынью, в которой он не чувствовал своего одиночества. Когда же спускался к людям – печаль вновь глубоко овладевала его душой. Не это ли возвращение в несвободу подметил один из сослуживцев Лермонтова в последнее лето его жизни?!
«Припоминаю, шёл я как-то в гору по улице совсем тогда ещё глухой, которая вела к Железноводску, – отмечал в своих воспоминаниях А. Чарыков, – а он в то же время спускался по противоположной стороне с толстой суковатой палкой, сюртук на нём был уже не с белым, а с красным воротником. Лицо его показалось мне чрезвычайно мрачным…». И другим оно не могло быть – Лермонтов знал, откуда шёл и куда спускался…
В устах даже и самых одарённых поэтов «общение» с Богом и звёздами, не покидая пределов листа, как правило, так и остается на бумаге, ограничиваясь масштабом души самоупоённых мечтателей. Вот даже и горделиво-торжественная песнь Фёдора Ивановича Тютчева: «По высям творенья, как Бог, я шагал, / И мир предо мной неподвижно лежал», – не вызывает особого доверия, поскольку бодрой ритмикой рождает ассоциации с некой «космо-оздоровительной» прогулкой.
«Шагая в высях» на кончике пера, «массой» своей гений Тютчева всё же находился на земле. Потому и возникают почти «дорожные» ассоциации от его строк, что, полные экспрессии и духовного задора, они исходят «тутошним» энтузиазмом. Значителен был Тютчев во многом, но не в этом. Как ни старался великий мастер Слова «пройтись» над звёздами, а те всё равно недосягаемо горят над его изумительным творчеством. В то время как муза Лермонтова нераздельна с твореньем и лучами небесных жителей.
В чём же его значительность?
Величие души и творчества поэта не в направленности к «космическим далям», «прогулки» по которым уже через поколение станут «обычным делом» и для посредственных поэтов, а в пребывании там… Оттого, наблюдая звезды, поэт мог слышать их «говор». В этом есть тайна Лермонтова, в этом была беда его – в этом же состояло его счастье! Дух поэта не только «витал» над землей, но находился в «сферах», как внутренне соединённый с ними. Потому поэтическое слово Лермонтова приобретает смысл неотделимый от сущности его, как и от объекта «тайного» видения. Уступая по росту многим своим современникам, челом своим Лермонтов был ближе к небу, нежели самые высокие из них. Очевидно, поэтому он видел дальше и яснее других.
Одним из первых это распознал Вас. Розанов. В 1891 г. к 60-летию кончины Лермонтова он писал: «То, что у всякого поэта показалось бы неестественным, преувеличенным или смешной претенциозностью, например, это братанье со звездами: «Когда бегущая комета / Улыбкой ласковой привета / Любила поменяться с ним», – у Лермонтова не имеет неестественности, и это составляет самую удивительную его особенность. Кто бы ни говорил так, мы отбросили бы его с презрением. «Бери звезды у начальства, но не трогай небесных». Между тем Лермонтов не только трогает небесные звезды, но имеет очевидное право это сделать, и мы у него, только у него одного, не осмеливаемся оспорить этого права. Тут уж начинается наша какая-то слабость перед ним, его очевидно особенная и исключительная, таинственная сила. …Звездное и царственное – этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, «лешее начало» – этого нельзя у него оспорить. Тут он знал больше нас, тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт его биографии и личности»[2].
Конфуций, наставляя умевших слышать, говорил: «Человек меряется не с ног до головы, а с головы до неба». Лермонтов мог не знать изречения великого мудреца Поднебесной, а потому «мерил» человека с ног до неба. Поэту близки были не только вышние, но и здешние мечтания, в которых он лишь поначалу отдавал дань величинам «с пасмурным челом».
Предваряя идеи Н. Гоголя и Ф. Достоевского, поэт и мыслитель умел видеть значительное в малом, а подчас и вовсе в ничтожном. Потому, по жизни никогда не принижая «маленького человека», автор «Героя нашего времени», наделённый несомненным великодушием, делится с нами мыслями, которые по своей глубине впору библейским старцам: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдения ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».
Под быстрым пером поэта мысль приобретает рельефность, форма – ясность и точность, а образы – чрезвычайную художественную убедительность и пластическую осязательность. Всё это в неразрывном единстве своём властно заявляет о существовании в мире поэзии истинно лермонтовского – «звёздного» существования. Но не только. Мятеж и борение духа подчас сменяют лирические настроения, в свою очередь, уступая место глубоким размышлениям о судьбах Родины и человеческом бытии, с тем, чтобы, взмывая ввысь, окликнуть самого Бога.
Таков был диапазон души «сына неба» (Вел. Хлебников), обладавшего вещим слышанием. Но именно потому, что Лермонтову ведомы были сокровища духа человеческого, не мог он и не хотел смирять себя пред злом и ничтожеством душ мелких, как не смирялся и перед злом сильных мира сего.
Трактовка в таких «тонах» сущности поэта может показаться чрезмерно завышенной, а видение его творческого потенциала чем-то выходящим за пределы реальности – потусторонним и мистическим. И это так, если исходить лишь из преходящих эмоций и исчезающих в них эпитетов. Но оборачивается явью, когда вникаешь в сокровения «подстрочных» дум и образов Лермонтова. Причём не только в законченных произведениях, но и вскользь намеченных черновых записях и мыслях отрока.
И я счёт своих лет потерял И крылья забвенья ловлю: Как я сердце унесть бы им дал! Как бы вечность им бросил мою! 1832«Это можно бы принять за шутку, если бы это сказал кто-нибудь другой, – писал Д. С. Мережковский. – Но Лермонтов никогда не шутит в признании о себе самом. …Так же просто, как другие люди говорят: моя жизнь, Лермонтов говорит: моя вечность».
Мережковский специально не заостряет внимания на некоторой угловатости поэтической формы. Видимо, потому, что распознал главное: незрелая форма всё же вмещала в себя гигантскую нишу духовной и творческой памяти Лермонтова.
Писатель и религиозный философ, поняв, – оценил направленность мощных импульсов души и сознания поэта. Содержа в себе гигантские потенции, «лермонтовская направленность» и впрямь вылилась в совершенное единство содержания и формы. Именно ощущение целостности духовной жизни Лермонтова способно приобщить «умеющих слышать» к тайне, прячущейся за очертаниями «букв» его музы. Ибо во всём, чего касается поэт, рассеяно ощущение и сознавание им сущностей тварного мира. Как будто воочию лицезрея образы первоподобного мира, и создавал Лермонтов свой мир, наполненный иными образами; «мир», одинаково далекий как от современников, так и неведомых ему будущих поколений.
Здесь сделаем маленькое отступление.
Детские годы Лермонтова прошли в потрясавших его сознание конфликтах между самыми близкими ему людьми. Начавшиеся с неполных трёх лет – со смертью матери, они не завершились со смертью отца, последовавшей в ту пору, когда Лермонтову минуло шестнадцать лет. Застыв в своей незавершенности, «ужасная судьба отца и сына» навсегда кристаллизовалась в душе поэта руинами человеческих отношений, которые не состоялись… Уже в ранние годы Миша Лермонтов являл удивительную настойчивость в достижении цели, непреклонность в лидерстве, непоколебимую волю и обострённое чувство человеческого достоинства. Потому не раз в борьбе со «злом» в пределах усадьбы мальчик, сбегая от чопорных гувернёров, бросался на защиту несправедливо, как он считал, наказываемой прислуги. К унижению и поруганию других скоро добавились по-светски изощрённые оскорбления чистоты и искренности его самого. Начальный опыт жизни поэта подорвал не только любовь к ближнему, но даже и доверие к нему. В корне изменив внутреннюю «расстановку сил», опыт этот нашёл отражение в первых же пробах его пера. «Младая ветвь на пне сухом», Лермонтов проходил жестокую школу борений тогда, когда ранимое сознание воспринимает человеческие противоречия прямее и жёстче, нежели в любом другом возрасте. Получив «ключ» для постижения большего, нежели обычные человеческие взаимосвязи, дар Лермонтова принимал форму и приобретал значение, выходившее далеко за пределы как личных трагедий, так и семейных драм.
Но всё это было «потом». А пока даже тяжёлые семейные перипетии не могли отбить у отрока любознательность и огромную тягу к знаниям. Ощущая в себе гений, который, верил юный поэт, «веки пролетит», Лермонтов провидел и испытания… Духовная жажда обусловила сильный интерес поэта к культуре и истории России. Свободно владея английским, немецким и французским языками, Лермонтов легко и с интересом «пробивал окно» в европейскую культуру. Между тем пятнадцатилетним мальчиком он сожалеет, что не слыхал в детстве русских народных сказок: «В них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». На фоне тяги к огромным пластам человеческой культуры интересы сверстников казались ему ничтожными и смешными, а рутина человеческих отношений, к которым у Лермонтова были завышенные требования, вызывала его раздражение. Всё это обусловило трудности общения поэта с окружающими его людьми. Но даже и без личных «придирок» Лермонтов подле себя не слишком часто наблюдал верность дружбе, простые доверительные отношения, куда чаще сталкиваясь с расчётливостью и обманом. Потому на всю жизнь запомнил он, что когда-то, «давным-давно», в его детской душе родилось сильное чувство к ровеснице.
II
Наделенный громадной силой воображения, отрок подсознательно воспринимает борьбу в качестве некой «модели» всего человеческого устройства, что не было большой ошибкой, но «сведения» о чём крайне не желательно было получать именно в те годы. Эти открытия, не уравновешенные позитивной информацией в те же лета, в дальнейшем подтверждались не только личным опытом, но и всем социально-политическим бытием любимого Лермонтовым Отечества. Но, дав направление мысли, определив первые мотивы и формы мировосприятия, политическая жизнь России пока ещё не нашла своего отражения в поэзии Лермонтова. Между тем, обострённое ощущение противоречий бытия и глубина психологического проникновения в жизнь общества открывали в нём прирождённого драматурга. В эту пору Лермонтов пишет трагедию «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти», 1830) и во многом родственную ей драму «Странный человек» (1831). Поглощённый раскрывающимися перед ним «тайниками» собственного мира и, конечно, не без участия толпы «людей, то злых, то благосклонных», «сын страданья», минуя переходный возраст, сразу вошёл в оголённую суть человеческих отношений.
Для полноты картины замечу, что столичная аристократия в культурном отношении существенно превосходила периферийное боярство. Последнее, находясь в удалении от столиц и культурных центров, от скуки ублажало себя псовыми охотами, на скорую руку созданными и на свой лад пышными театрами из случайных актёров из крепостных, порой весьма одарённых, или «уходило в музыку» из крепостных же. А когда надоедало и это, то скучающее барство развлекалось роскошными балами или чудило всякого рода экстравагантностями. Во всяком случае, периферийное дворянство не отличалось ни высокой образованностью, ни широтой кругозора, ни ощущением полезности этих свойств. И если столичные дворяне, пожалуй, что уступали провинциалам в мелком чудачестве, то много превосходили их размахом дворцовых празднеств и карнавалов. За пустое времяпровождение, нерациональную трату государственных и личных средств и тем, и другим немало доставалось от острого сатирического пера русских писателей. «Периферийные европейцы» особенно боялись увидеть себя в комедиях умнейшего и весьма проницательного Дениса Ивановича Фонвизина.
В своём «Рассуждении о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления» (1782–1783) Фонвизин, назидая «просвещённого и добродетельного монарха», видел смысл его служения в «ограждении общей безопасности посредством законов непреложных», а подданных царя увещевал следовать этим законам без рабского подобострастья. Однако русское дворянство ещё в период энергичного правления Петра Великого, очевидно, «устало» от государственной и всякой другой деятельности. Потому, говоря словами теперь уже А. Н. Радищева, лишь «изредка из уст раболепия слышалося журчание негодования».
Раболепие и в самом деле могло только «журчать». «Знатные только по имени, – писал французский посланник де ла Шетарди о русских придворных середины XVIII в., – в действительности они рабы, и так свыклись с рабством, что большая часть из них не чувствует своего положения». Казалось, можно не принимать близко к сердцу мнение маркиза, по факту, бывшего в Европе «слугой всех господ», ибо Россию маркиз панически боялся, а потому не особенно служил ей, хотя успел получить из рук императрицы Елизаветы орден св. Андрея Первозванного «за его помощь в трудное время» (ещё бы! – участвовать на её стороне в дворцовом перевороте!). Однако будем честны: мнение «европейского слуги» перекликается с сетованиями на этот счёт истинных сынов Отечества, каковых среди придворных, впрочем, было не так уж много. Те из дворян, кто не сумели стать камергерами, остались при дворе камердинерами. Часть их оказалась в числе простых слуг, а иные преобразились даже в шутов… Первых было мало, вторые всю жизнь прозябали в мелочностях дворцовой жизни, а последние в качестве царских или княжеских шутов порой оставались таковыми до гробовой доски. И для «вечно вторых» и для последних незавидная судьба стало самой жизнью. Оно и не мудрено: живёшь ведь тем, что сам выбрал или чему подчинился и заботами о чём повседневно маешься.
Убогие интересы поместных дворян, высокопоставленных или просто слуг, которые, по Грибоедову, «сужденья черпают из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма», примем к серьёзному вниманию. Ибо «сужденья» эти, вне деятельности на благо Отечества прирастая инертностью и преображаясь в косность, перерождались в самодурство или, свидетельствуя о вырождении дворянства, находили себя в нескончаемой мелочной войне друг с другом. Всё это к началу XIX в. породило активное противодействие со стороны тех, кто свои сужденья черпали не из «забытых газет», а из реальной жизни. Это были умные и образованные дворяне, знавшие нужды Отечества, обладающие чувством чести и собственного достоинства.
В первой трети нового века свежие идеи, своей смелостью и отчётливостью смертельно напугав постаревших и поглупевших Фамусовых николаевского режима, заявили о себе особенно жёстко. Поскольку «времена поменялись» – они поспешили смыть свои румяна, а поистёршиеся от долгой носки шутовские колпаки столь же спешно спрятали в комод. Новые времена и в самом деле рождали новых героев, но оживляли и старые типы.
Наступившее после победной войны и декабрьского восстания затишье выявило немало «бойцов» иного плана. Н. В. Гоголь с блистательной иронией описал межоколичные войны Иванов Ивановичей с такими же пустыми и бездеятельными Иванами Никифоровичами. Покидая «поле брани» лишь для того, чтобы «перекусить» или, не торопясь, насладиться вдоволь домашними блюдами, жившие вне истории и не помнящие родства «Иваны» находили успокоение лишь рядом со своими всё терпящими жёнами. Не зная войн между собой, «домашние чепчики» умиротворённо и покорно до скончания века коротали время за вязанием чулок и варкой варенья… Однако низшим слоям русского общества было не до чулок, а до варенья и подавно далеко было. Через сто лет после Шетарди Лермонтов говорил Ю. Самарину о современном состоянии России: «Хуже всего не то, что некоторое количество людей страдает терпеливо, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого»! Но эта формула придёт к Лермонтову несколько позднее.
Наличие в Лермонтове выдающихся достоинств, а более всего сознавание их в себе в период формирования личности, серьёзно усложняло ему жизнь. Может, потому, что, наблюдая истинно яркую личность и не испытывая к ней за это особой признательности, человек «среды» поневоле открывает в себе истинные причины взаимной неучтивости – скрытой, но весьма распространённой среди подобных ему. Хотя везде и во всякие времена потребитель жизни склонен реагировать лишь на ту часть ума незаурядной личности, которую способен был воспринять. Вот и в нашем случае «среда» распознавала лишь соответствующую своему уровню малую или вовсе ничтожную часть ума Лермонтова, ко всему прочему ещё и перевранного. В этой «вилке», очевидно, и кроются проблемы тех, кто на свою беду пытался по своему аршину мерить не подобное себе. Наверное, такого рода «неловкие особенности» человеческой натуры, создавая холодность в отношениях, и обусловливают неискренность повседневной вежливости, которая особенно тщательно полировалась в буднях светского этикета.
И ничего тут не поделаешь: черты ума и характера – это видимые (всякому по его мере) проявления состояния души. И если в обществе высокие достоинства подчас не получают признания и высокой оценки потому, что они просто есть, то в личных отношениях они не пользуются признательностью потому, что принадлежат не вам. Таковое отношение вряд ли корректно объяснять ущербностью коллективной или личной нравственности и ещё меньше – эгоизмом или неискренностью. Поскольку эти качества ввиду их широкой распространённости, давно перестали быть пороком. Что касается отсутствия искренности то и это не многое объясняет: искренность лицемера может быть и натуральной, в особенности, если ты застанешь её тогда, когда притворство может быть воспринято чрезмерной наглостью. Всё дело, очевидно, в корнях общественной среды, многими поколениями формирующейся в доступных всем и каждому пределах нравственности, границы которой как раз определяли не самую достойную часть общества. К примеру, подлец всегда склонен думать, что остальные столь же подлы, если не хуже его; просто они умело скрывают свои качества. Подтверждение тому есть у многих мыслителей, среди которых бросаются в глаза максимы древнего китайского стратега Сунь-цзы. Знавший толк в человеческих слабостях, древний воин считал: «Люди именно потому стремятся стать добродетельными, что человек по своей природе зол». Трудно сказать, насколько Лермонтов разделял эту позицию, но уже в отроческих его произведениях со всей очевидностью проглядывается жёсткая и нелицеприятная оценка человеческих свойств. Может, поэтому выразительные глаза Лермонтова, когда он отрывался от своих дум и ненароком переключал внимание на оказавшегося перед ним собеседника, то конфузили, а подчас здорово пугали невольного свидетеля своего внутреннего состояния.
Судя по драматическим настроениям, пронизывающим первые произведения Лермонтова, его окружение не особенно злоупотребляло стремлением к добродетели. Личные разочарования поэта, подкреплённые невесёлыми размышлениями, порождали безотрадные настроения и находили отражение в столь же сильных переживаниях его героев, лишённых веры, надежд, далёких от эйфории. Таковая связь вполне объяснима: если трагическое восприятие мира с большей или меньшей вероятностью свойственно ранимой душе, то безудержный оптимизм, скорее всего, принадлежит поверхностному уму. По всей вероятности, жизненные обстоятельства, принимая активное участие в формировании характера, придают его обладателю тот «единственный» тип, который сопутствует ему всю оставшуюся жизнь. Не менее очевидно и то, что незаурядный и, тем более, потенциально великий человек находит возможность подчинять себе даже и неблагоприятные обстоятельства. Вот и Лермонтов, на дух не переносивший николаевский режим, превративший «петербургскую Россию» в плац для парадных маршировок, – даже в школе прапорщиков находил возможности для серьёзных размышлений, задумывал произведения. И впрямь, если в отроческие годы диапазон дарований Лермонтова подобен был струнам, на которых звучали неясные ещё по своей структуре всечеловеческие мелодии, то после «двух страшных лет» пребывания в юнкерском училище муза поэта стала приобретать эпическое звучание. В нём слышались уже не только борьба страстей и лязг «бранного» оружия, но заявляли о себе умиротворяющие мелодии вселенского масштаба. Этот период юности поэта позволяет вывести недетскую борьбу Лермонтова как за пределы возраста, так и личного опыта, понуждая искать объяснение в поле сущности его.
Сознанию Лермонтова дано было воспроизводить в себе сущее, которое являет себя в качествах, не зависящих от политических устройств и социальных систем. Проецируясь в реалии, оно в уме поэта реализовывалось в некой безличностной, но объективно живой информации, которая в качестве символов внеисторической жизни правит земным бытием. Насыщенные вселенской целостностью, символы эти содержат в себе «знаки», распознаваемые лишь её «вочеловеченными сколками» или «единицами вечности»… В нашем случае творческое сознание Лермонтова, способного ведать, но не вмешиваться в предопределённое, было отражением сокровений духа страдающего в едином лице субъективного и всечеловеческого. Соразмерное его духовным возможностям, это всечеловеческое в одном было нравственным правом принятия на себя бремени вселенской ответственности, под чем надо понимать не отвлечённый «космос» и не преходящие реалии, а конкретное личностное (субъектное) включение в историческое бытие. Всё, познанное умом поэта, поверенное душой и усиленное игрой могучих образов, глубоко войдя в сознание и вытеснив из него легко забывающиеся мимолётные радости, закреплялось внутренним «лермонтовским» бытием. То есть, множась в воображении и воспроизводясь в сознании, но всегда отталкиваясь от реальности, глубоко осознанное им неизбежно принимало масштаб, соответствующий сущности поэта. На скрещении этих «двух реальностей», очевидно, и возникали противоречия, характеризующие полярное отношение между внутренней работой и «внешней». Но это заявило о себе несколько позднее.
В первые же лета привычные душе младенца родительские отношения заменила не терпящая прекословия узурпаторская любовь Елизаветы Арсеньевой – бабушки поэта. «Нет ничего хуже, как пристрастная любовь, – признавалась она в одном из писем 1836 г., – но я себя извиняю: он один свет очей моих, всё моё блаженство в нём»[3]. Однополярность подобных чувств, в числе других факторов приводя к дисгармонии в развитии любой личности, не могла не нарушить становление целостного характера, в особенности когда любовь была неподдельная, а диктат затрагивал становление натур глубоких, серьёзных, истинно значительных. Очевидно, «вышняя канцелярия», определяя судьбу избранных, руководствуется своими соображениями: Бог, даруя человеку талант, наказывает его родственниками. Отнюдь не желая придавать «семейному фактору» решающее значение в судьбе великих людей, замечу, что в данном случае именно «в семье» (и на протяжении лет!) формировался характер, в структуре которого доминировали «силовые» его проявления, а именно – мощь и воля. И это во много раз было усилено тем, что поэт по самой природе своей в избытке обладал этими качествами. Так, в результате подобных не очень счастливых совпадений «единицы» мировой истории, отмеченные печатью гения, подобного «лермонтовскому», поневоле привносят в мир разночтения его.
«Сильный ветер задувает свечу, но раздувает жаровню», – гласит мудрость действия. И если иные «свечи» легко гасли даже и на «сквозняках» жизни, то в случае с Лермонтовым ледяной ветер глубокого одиночества раздувал «жаровню» его души, обратив её в горн, объятый пламенем страданий. Но то был ещё огнь, поверяющий истинное золото! Словом, в жизнь вступал характер, калёный огнём и выкованный железной волей. Грани его на поверхности были жёсткими, а «изломы» ранящими, что особенно остро ощущали на себе натуры, менее, нежели Лермонтов, искушённые в борьбе.
Между тем и в жизни, и в «грёзах» своих Лермонтов не придавал большого значения личности как таковой, в том числе и своей. Даже когда поэт был «озабочен собою», его мысль вырывается за пределы телесного «Я». И хотя начало поэтического поприща Лермонтова весьма часто изобилует личными местоимениями, это происходило не из-за концентрации внимания буквально на самом себе. Поэт использует «местоимения» в качестве почвы для отталкивания от «материального» в себе – от своего тленного «Я». Особенность такого психологического хода была обусловлена тем, что затаённый, как «спящий пруд», и острый, как меч, ум Лермонтова лишён был многих иллюзий относительно человека в его личностной ипостаси. Исторический архетип человека, выпестованный преходящими событиями, оказался оторванным от «матрицы» венца творенья в его первоначальной ипостаси. Потому, априори зная о несовершенствах человека и общества, не на борьбу с людьми направлял Лермонтов остриё своего сверхличностного гнева; не на тщетную борьбу со следствиями первогреха, а на самый грех. Этим Лермонтов отличался от могучих и «хмурых» деятелей событийной истории.
Преисполненные верой в правоту политических «дел» и наделённые для этого выдающимися данными, условные вершители истории следовали своим планам, по этой причине обделённым духовной и внутренней соразмерностью, изначально необходимой для человекоустроения и обустройства общества. Эти великие люди – «люди дела» – рознились от пророков и учителей, способных изменить мир (что, впрочем, вовсе не означает усовершенствовать его). В случае с Лермонтовым создалась духовно и психологически экстремальная ситуация. Отмеченный могучим умом и редким даром провидения, а потому не имея иллюзий и не питаясь заблуждениями ушедших времён, равно как надеждами и пристрастиями своей эпохи, Лермонтов всё же был ратником здешней жизни. В этом состояла духовная дилемма поэта, ведущая его к экзистенциальному выбору. Вместе с тем здесь явила себя таинственная целостность субъекта и объекта, ввиду заведомых противоречий не доступная ни рационалистическому осмыслению, ни разрешению… Это было именно то противопоставление Личности и реальности, в которой Личность не может оказаться победителем…
Наделённый непреклонной волей, неподвластный «здесь» никому (как скоро выяснится – ни стоящей у трона «толпе», ни даже царю), Лермонтов более чем кто-либо из его современников способен был к независимому решению, сильному поступку и великому делу. Но, ощущая в себе «бессмертный дух» и силы невероятные, он предчувствует, но ещё не видит им применения… Знает свой гений, но ещё только прозревает поприще, на котором раскроет его. Провидит начертанное, но не ведает ещё «своего часа». Полный энергии и веры в себя, поэт грезит о великих деяниях, а могучий дух его жаждет борьбы! В воображении Лермонтова возникают черты мятущегося в морской стихии челна и, отозвавшись на зов музы, он доверяет бумаге свои чувства, надежды и чаяния:
Белеет парус одинокий В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далёкой? Что кинул он в краю родном?.. Играют волны, ветер свищет, И мачта гнётся и скрыпит… Увы! он счастия не ищет И не от счастия бежит! Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой… А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой! «Парус». 1832Что является движущей силой и лейтмотивом произведения? В нём в совершенной поэтической форме Лермонтов со всей очевидностью заявляет миру о своём присутствии. Стоя «на берегу» и всматриваясь в «туман моря», он пытается разглядеть «очертания» своей неотвратимой и неординарной судьбы, увидеть род деятельности, в которой обязан проявить себя. Тяжесть ответственности, предчувствие тягот великой борьбы и страх перед будущим пока ещё удерживают его здесь. Поэт знает, что гигантские волны несут в себе не только мощь и лазурную красоту моря, но и поднятую со дна грязь… Но выбор сделан! Противоречивые чувства обуревают душу поэта, тем не менее, он готов уйти в страну далёкую. Мысленно он уже «там». Едва белеющий «парус» – это Лермонтов, оторвавшийся уже от «берега», но ещё не приставший к заветной и загадочной, но не ясной ещё пока ему «стране».
Что же нужно сделать для духовного её распознавания? Какие жертвы следует принести?
Гипотетический ответ на внутренние смятения Лермонтова приходит с неожиданной – «далёкой» – стороны. «Нужно забить до смерти надежду земную, лишь тогда спасёшься в надежде истинной», – считал Сёрен Кьеркегор, столь же чуждый миру и в не меньшей мере «гонимый миром странник», которого вёл по жизни свой «парус».
Отталкиваясь от догмата о первородном грехе, датский теолог и философ определяет человеческую жизнь как отчаяние. Но «отчаяние» впавшего в грех человека он одновременно рассматривает как единственную возможность прорыва к Богу. При этом Кьеркегор помнит о том, что человеческая природа изначально порочна, и для того, чтобы «войти» в непреложное (не изменить, а лишь осознать «структуру» непреодолимого), человек должен познать самого себя. Но не как личность, а как сущность «всей» человеческой природы. Эту борьбу за отстаивание («вспоминание») божественного в человеке Кьеркегор определяет как «мужественное отчаяние». Но, базируясь на человеческой основе, оно возникает вследствие желания человека оставаться самим собой (отсюда все последующие нестыковки). То есть стремлением, не порывая с «здешним» историческим существованием, добиться непрерывности духовного «я». Таковое желание есть результат нравственных усилий человека, стоящего (по Кьеркегору) на духовно-этической позиции. «Я» для такого человека – уже не совокупность случайных «эстетических ценников», а результат свободного формирования своей личности. Однако такого рода самонадеянность человека, возомнившего, что только его собственных человеческих сил достаточно для воплощения «я», неизбежно приводит к трагическим следствиям – к отчаянию из-за неспособности преодолеть конечную по своим возможностям человеческую природу, не позволяющую ему «возвыситься до Бога». Религиозное осознавание трагедии, считает Кьеркегор, приводит человека к «абсолютному отчаянию», в недрах которого возникает осознание богооставленности мира и собственного одиночества перед Богом. Именно здесь Кьеркегор приходит к «ереси», которую ему до сих пор не могут простить богословы разных мастей и исповеданий, а именно: истинная вера не является результатом усвоения религиозной традиции; она есть результат абсолютно свободного и ответственного выбора в ситуации абсолютного одиночества.
Запомним эти экзистенции, нацеленные на индивидуальную свободу и личную ответственность. Явленные пронзительным творчеством Лермонтова, раскрытые духовной мыслью Кьеркегора и «подтверждённые» произведениями Достоевского, они, так никем и не разрешённые, тяжело ранили целую эпоху!
Ж. П. Сартр
«Мятежный» поэт не мог знать дум «датского еретика» уже потому, что тот сформулировал их в своих трактатах несколько позднее. Тем не менее их обоих глубоко волновало место человека в этом мире; его «вечное» «Я» в реалиях преходящего времени, но в «пределах» вечной и безусловной реальности (впоследствии французский философ Ж. П. Сартр выведет формулу, соответствующую реалиям духовно и политически униженной Европы XX столетия: человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет, при этом неся ответственность за свой выбор). Экзестенциальный прорыв в беспредельное и манит, и мучает Лермонтова. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: Я! При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи», – пишет он В. Лопухиной. Однако Лермонтову страшна не смерть как таковая – подобного рода «страх» был ему мало присущ. Так же мало заботит его и личное «я»: «Боюсь не смерти я. О нет! / Боюсь исчезнуть совершенно», – пишет он в 1830 году. Истинно страшило Лермонтова то, что, не сумев или не успев обрести известную только ему готовность к смерти, он может «исчезнуть» в формах вышнего бытия! Так как свобода, понимаемая нравственно, превращается в ответственность.
Сёрен Кьеркегор
Творчество Лермонтова даёт основания полагать, что «готовность» эта виделась ему вовсе не обязательно в расхожем оформлении (как то: «предстать чистым <что невозможно> пред очами Господа»), а в деятельной ипостаси, тернии которой только и могли стать для него индивидуальной лествицей к Абсолюту. Здесь Лермонтов расходится с Кьеркегором, «рекомендовавшим» «забить до смерти надежду земную». «И всё боюсь, что не успею я / Свершить чего-то! – жажда бытия / Во мне сильней страданий роковых…», – заявляет Лермонтов в пику увещеваниям датчанина. Но при столь сильной «жажде бытия» и позывах к деятельности в нём поэт был не просто одинок, – его одиночество «звенело» среди людей какой-то нечеловеческой пустотой. В стихотворении «Одиночество» (1830) поэт признаётся:
Один я здесь, как царь воздушный, Страданья в сердце стеснены, И вижу, как судьбе послушно, Года уходят будто сны…Весьма любопытно, что поэт в шестнадцать лет сетует на потерянные «года». Подобного рода сетования встретятся и в будущих произведениях поэта. Это понуждает нас считать, что он давно (!) ощущал свою готовность к великому, конечно же, делу. Ощутимый только им «груз лет» и обязанностей давит поэта. И вновь повторим: одиночество Лермонтова страшно не самим фактом, а тем, что оно выношено «в годах» и духовно, и «физически». Эту непогодовую тяжесть усугубляет то, что юноша (почти подросток) не видит никого, кто мог быть – в идеале и в деле – соратником его. Об этом в том же году он прямо говорит в «Стансах»:
Я к одиночеству привык, Я б не умел ужиться с другом; Я б с ним препровождённый миг Почёл потерянным досугом…Это Лермонтовское «я», преисполненное внутренней свободы, непоколебимой воли и понимания ответственности, а не «поэтического» бахвальства, которым испокон веков грешат многие яркие дарования, оставляет душу поэта наедине с трагической судьбой, которую он ещё не ведал, но уже предчувствовал… Именно ввиду этого нескончаемого и безмолвного одиночества Лермонтов, рождённый здесь, «но не здешний душой», по своим духовным исканиям и умонастроениям был чрезвычайно близок к неведомой «стране» датского теолога.
Но, возвращаясь к стихотворению «Парус», приходится принимать во внимание и говорить о том, что ни на каких «берегах» и ни в каких «странах» реальность не открывается отваге в её «чистом» виде. Как то давно уже понял поэт, куда чаще стихию истинных бурь в ней заменяют по-своему искренние житейские дрязги в «лохани» семейного круга, замкнутого «пунктиром» родственников и неверных друзей, дружба которых часто кончалась там, где начинались их корыстные интересы. Банальный эгоизм, сужая нравственный выбор «ближних и друзей», располагал их ко лжи и коварству, которые, гранича со злом, переходят в него, плодя и приумножая массу других пороков. Посягая на святое, эгоизм и корысть завсегда понуждали слабых и мелкодушных пренебрегать моралью во имя призрачного успеха и «блестящих» перспектив. Именно в этих условиях искренность, уступая пристрастности, в корне меняла своё содержание и оборачивалась лицемерием. И тогда зависть к уму и дарованиям других сменяла ненависть, – одна из немногих отрад в первую очередь слабых, глупых и бездарных. У Лермонтова была «смелость многое высказывать без подкрашенного лицемерия и пощады. Люди слабые, задетые, никогда не прощают такой искренности», – со знанием дела писал Герцен о Лермонтове в статье «О развитии революционных идей в России» (1851) [4].
Время шло, и «дни», в которых «Всё было мне наставник или друг, / Всё верило младенческим летам», безвозвратно уходили в прошлое. Оставались реалии, «в пыли» которых было «счастливо» немало современников Лермонтова. Это и вызывало его глубокое презрение. Оттого белый «парус» Лермонтова надолго оставался для него «кьеркегоровой молитвой», в то время единственно способной увести его душу от реальности, вовсе не призрачные черты которой заявляли о себе повсюду. В Европе экзистенции Кьеркегора ещё только витали в умах, но там им суждено уже было «выйти на улицу», наэлектризовать и возбудить легковерные толпы. Обретя в сознании людей уличную свободу и став площадными, «экзистенции» трансформировались в череду революционных брожений, через поколение приведших европейский мир к духовному разложению и политическому смятению… И об этом скажет Лермонтов! Энергия неизъяснимого всеобщего раздражения уподобила «закатывающийся» мир «Летучему голландцу» – «Пьяному кораблю», на который тоже «водрузился» было смертельно раненный болезнями эпохи и падением Франции Артюр Рембо…
III
Впрочем реальность, не призрачная и во все времена никого не щадившая, скоро настояла на себе и в жизни Лермонтова. Как показывает жизнь, на апельсиновой корке способны поскользнуться не только простые, но и великие смертные. В случае с Лермонтовым этой «коркой» стала злополучная Школа гвардейских юнкеров. Хотя, будем точны, до этой «корки» была ещё одна – незаконченная учёба в Московском университете, за короткий период которой поэт успел крепко «насолить» как студентам, так и профессорам… (Доп. I)[29]
Для Елизаветы Арсеньевой отказ внука от университета отнюдь не стал трагедией. Ибо, плотью и кровью принадлежа своему кругу, бабушка поэта застала и «прусскую плоть» екатерининского времени. Потому её мировоззрение легко умещалось в плотном промежутке между Грибоедовскими полковниками Скалозубами и штатскими Фамусовыми, понятно, что с прицелом на двор главного «Скалозуба России» – Николая I. Словом, Елизавете Арсеньевой угодно было, «приготовить (внука. – В. С.) на службу его императорского величества и сохранить должную честь свойственную званию дворянина», – писала она в завещании в 1817 г. Служба, как оказалось, и послужила незримым звеном, намертво сковавшим поэта с его трагической судьбой. И даже одарённость художника, не иначе как данная поэту в качестве посоха на тернистом пути творчества, не уберегла избранника муз. Импульсивно «шагнув», Лермонтов поначалу не ощутил даже, что поскользнулся… А потому, полный творческой энергии, продолжал двигаться по пути, который лишь по прошествии времени осознал как свою Голгофу. Вершиной её стали дикие скалы Кавказа, к которым русский Прометей был намертво приколочен «гвоздями» циркуляров безжалостного николаевского режима. С ролью «орла» с «37 года» охотно и по своей воле справлялся его величество «Скалозуб №I». Он же нагнал на Лермонтова стаи стервятников. Именно с этого времени они особенно активно начали кружить над головой великого поэта.
Но что могло быть, обопрись Лермонтов не на гвардейскую саблю, а на столь же малонадежную в этой жизни «клюку» художника?
Увы, легче предположить то, чего, скорее всего, не было бы… А не было бы, по всей видимости, гениальной поэмы «Мцыри» и длинного ряда «кавказских» поэтических шедевров. Зато неуёмная творческая энергия Лермонтова приняла бы иное, не менее благодатное русло. Твердая рука юноши, «поставленная» профессорами Российской Академии художеств, несомненно, обогатила бы отечественное искусство, на ниве которого Лермонтов, скорее всего, «ни пяди» не уступил бы признанным корифеям русского искусства. Ибо даже то немногое из графического и живописного наследия поэта, что чудом сохранилось до нашего времени, свидетельствует об огромных потенциях Лермонтова-живописца и в особенности рисовальщика. Если же говорить о поприще писателя, то Лермонтов, не вытянутый во фрунт армейскими циркулярами и не зажатый тисками бивуачной жизни, вне всякого сомнения, оставил бы длинный ряд блистательных произведений. Универсальный гений его, прозревая реалии тварного мира, приобрёл бы иную форму, открыв миру доселе неведомые возможности человека. Ибо поистине магический дар Лермонтова подобен был «волшебной лозе», умеющей находить чистые источники в недрах сущего, заставляя даже и «ущелья» повседневной жизни биться неиссякаемым фонтаном психологически проникновенного творчества.
Да, это была бы иная судьба… Впрочем, и при этом раскладе «клюка художника», скорее всего, не выдержала бы темперамент Лермонтова, а реакция высшего общества на «росчерк клюки» ренегата лишь усложнила бы его жизнь. В русском обществе уже имелись прецеденты такого рода. Когда граф Ф. П. Толстой в первые годы XIX в. решил посвятить себя живописи и скульптуре, то это, с одной стороны, вызвало скепсис профессоров-«плебеев», не принявших всерьёз его решение, с другой – произвело громкий скандал в высшем петербургском обществе.
В те времена в профессии художника усматривалось нечто вульгарное, недостойное дворянина. Социальный статус «маляров» и «каменных дел» мастеров был невысок, а в глазах «благородного сословия» и вовсе виделся предосудительным. Лишь выходцы из беднейших дворян, как то: В. К. Шебуев, Е. П. Чемесов и великий скульптор И. П. Мартос – могли избрать поприще художника без риска подорвать своё «имя». Эту тезу подтверждает судьба большинства русских художников.
Выдающийся портретист А. П. Антропов был сыном солдата; Г. И. Угрюмов – купца-жестянщика; А. И. Акимов родился в семье наборщика сенатской типографии. В детстве осиротевший А. П. Лосенко «происходил» из церковных певчих, а О. А. Кипренский был незаконным сыном помещика, «приписанный» к семье крепостного. Выдающиеся живописцы и впоследствии знаменитые профессора Академии художеств И. П. Аргунов и «вольнорождённый» Ф. С. Рокотов и вовсе были из крепостных, как и никогда не бывший профессором (тоже бывший крепостной) В. А. Тропинин.
О сверходарённом живописце Михаиле Шибанове не только не осталось никаких сведений, но даже не сохранилось его отчество… О личности и уме Шибанова можно судить лишь по глубине психологического проникновения живописца в образы портретируемых. О происхождении Андрея Иванова (отца знаменитого Александра Иванова) вообще ничего не известно, как и об одном из самых выдающихся рисовальщиков начала XIX столетия А. Е. Егорове (его подобрали в калмыцкой степи солдаты во время боевого похода). Гениальный скульптор М. И. Козловский был сыном трубача галерного флота.
Подобного рода «белыми пятнами происхождения» пестрят биографии многих «простых» русских художников. Нелишне будет напомнить и то, что Императорская Академия художеств, изначально далёкая от русской жизни, ко второй четверти XIX в. став некой «вещью в себе», во многом тормозила развитие отечественного искусства. Потому, перешагни Лермонтов порог этого «незаконнорожденного детища» Болонской Академии, то вряд ли долго пребывал бы в состоянии эйфории. С какой стороны ни подойди, для стези художника ему нужно было иметь другую бабушку, да и самому быть немножко другим. Словом, статус студента Академии художеств в «семейном кругу» даже не рассматривался.
Но, размышляя о Лермонтове, верно ли прибегать к сослагательному наклонению, и, «не удовлетворяясь» значительностью сделанного им, продлевать творческую судьбу до могущего быть, но, увы, не совершённого?! Да и можно ли, пользуясь тем же «наклонением», распознать «план» внутреннего устроения поэта?! Как увидеть отмеченное лишь в тайниках нереализованного бытия, и – нужно ли?!..
Уверен – и нужно, и необходимо. Но при этом следует знать, что «лермонтовское» бытие таится в краях, малоизведанных и не поддающихся «материям» одного только «предметного анализа». Потому неверно рассматривать творчество Лермонтова-поэта через некое увеличительное стекло. Тогда каждая «буква» будет видеться большой и «выпуклой», только и всего. И «микроскоп» не поможет – фактура бумаги и типографской краски никому не нужна. Слова и даже поэтические образы указывают лишь «направление», в котором прячется душа и живая мысль поэта. Не стеснённая размером слов, она свободна у Лермонтова, «… как игра детей, / Как арфы звук в молчании ночей». Как линия и штрих в «плетениях» рисунка иной раз теряются, становясь тоном, так и слова посредством поэтических «хитросплетений» таланта становятся высочайшей поэзией, самое существо и смысл которой состоит в свидетельстве о чаяниях необыкновенной души. Сама же творимость, кроясь где-то в глубинах духа поэта, способна послужить нитью Ариадны лишь наиболее чутким послушникам Слова. Лишь им могут открыться сокровения творчества великого поэта. Для прочих исследователей шедевры Лермонтова, видимые лишь в «буквах» сюжета и содержания, в лучшем случае останутся лишь полезным препровождением времени.
Между тем, обширная гениальность Лермонтова была лишь неким условием для реализации его, внутренней, – так и не явленной в событийной истории – программы. Постижение её невозможно вне приобщения к тайнам творчества, которые, реализуясь личностью, не отчуждаемы от сущности поэта. Проблема в другом: возможно ли войти в этот – не созданный поэтом – мир?! И что может остановить на пороге познания его?..
Прежде всего, немалая ответственность при вхождении в «мир Лермонтова», в котором сам он был лишь гостем. «Миры иные», очевидно, являются непременным свойством всякой выдающейся личности, вошедшей в пределы духовных реалий. Именно они угадываются в позднем творчестве Ф. М. Достоевского, а до того «намечены» были им в письмах. Так, озабоченный постижением мира и жизни человеческой, Достоевский в столь же юные годы писал своему брату: «… поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философа»! Как известно, судьба подарила Достоевскому больше времени для «разгадки Бога» и человека. Уж е в зрелые годы и, возможно, не без «помощи» Лермонтова, Достоевский писал об этом: «Многое на земле от нас сокрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных» («Братья Карамазовы». Т. 14. С. 290). Не зря, при всём своём «несогласии» с Лермонтовым, Достоевский тянулся к его духовным прозрениям. И это не должно удивлять: «Человек растёт по мере того, как растут его цели», – навсегда справедливо заметил Фридрих Шиллер. Скрытое внутреннее родство смятений Достоевского и «бунта» Лермонтова приоткрывает Вячеслав Иванов: «Сам Христос проповедовал своё учение только как идеал, сам предрёк, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ибо это закон природы»[5].
Мы уже говорили, что сущность Лермонтова пребывала в качественно иных духовных пространствах, в которых само понятие «времени» условно, поскольку «единицы» его обозначают себя в неизвестных нам измерениях. Но если биологический возраст Лермонтова явно не соответствовал «возрасту» его духовно-сущностного бытия, которое было несоизмеримо «старше» первого, то нет необходимости делить творчество поэта (к тому же сжатого в несколько лет) на какие-либо временные периоды. Однако, принимая во внимание, что «событийная жизнь» жёстко вклинивалась в судьбу Лермонтова, полагаю целесообразным поделить творчество поэта на неравные временные периоды. В соответствии с этим, если «доказарменный период» был полон предощущений великого будущего, а до «37-го» был ощущением в себе могучего дара и веры в свою миссию, то 1837 г. ознаменовал период глубокого осознавания Лермонтовым содержания своей миссии. Именно с этого времени началось восхождение великого поэта на свою Голгофу, которую, учитывая печальную судьбу многих других гениев России, можно назвать «русской Голгофой»… По мере погружения в творчество Лермонтова ощущаешь, что в нём заложено было невероятное по масштабу, фантастически трудное по исполнению, но гипотетически возможное преодоление пороков «послеадамового» бытия. Именно они, «дотянув» до эпохи Лермонтова, эвольвентно приняли неочевидные по форме, трудноуловимые по характеру и обманчивые по содержанию проявления, дурманящая ядовитость которых с незапамятных времен отравляла умы даже и самых выдающихся людей. К распознаванию форм Добра и Зла, затянувшихся в истории от Ветхого до Нового времени, и обратил свой гений Михаил Лермонтов. И на это он имел право более, нежели кто-либо, потому что истинно значительное можно поверять лишь соразмерным ему! Напряжённая внутренняя жизнь поэта, а в ней громадный диапазон духовно-пространственных исканий, позволяет думать, что миссия Лермонтова выходила далеко за пределы непосредственно литературного творчества, в которое он вошёл как власть имеющий. Не ограничивалась она и «исправлением» конкретно-общестенного (гражданского) бытия (это невозможно было уже потому, что в Петербургской России народ в своём подавляющем числе не был задействован в общественной и ещё меньше в государственной жизни). Осознание этого и вылилось некогда в «турецких жалобах» поэта. Таковое положение дел в известной мере определяло внутреннюю тоску Лермонтова, являвшую себя то в поисках одиночества, то в шумных играх, то во внешнем раздражении. В совокупности всё это говорит о факте многообъёмной и напряжённой внутренней работы поэта. Как гигант при активном движении способен ненароком задеть кого-либо и даже причинить ему увечье, так и Лермонтов порой нехотя задевал тех, кого не хотел тронуть, или кто не успел «посторониться» перед движениями его могучей натуры. Нет сомнений в том, что вспышки раздражения, имея внешний характер, далеко не всегда соответствовали внутреннему состоянию поэта. Последнее «подключалось», когда иного выхода просто не было. К примеру, когда высший свет, известный «подлостью прославленных отцов», а в «сыновьях» погубивший Пушкина, на смертном одре поэта вереницами карет спешил принести свои соболезнования «пострадавшему» от факта нелегальной дуэли Дантесу. Презрение по отношению к обладателям «золочёных верениц» никогда уже не покидало Лермонтова. Однако наряду с негодованием в его душе вызревало и сосредоточивалось эпическое по масштабу поставленных задач внутреннее «спокойствие». В. Белинский писал об этом: «Уж е кипучая натура его начала устаиваться… орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомлённом суетою жизни, создания зрелые»[6]. Лермонтов и вправду стал пристальнее вглядываться в противоречия истории (как русской, так и зарубежной), изучая роль людей в ней. Это глубокое осмысление места человека в бытии, подчёркнутое давним желанием и решимостью действовать, предполагало прямое участие в нём Лермонтова. Поэт изменил бы своему предназначению, если б ограничился одним лишь «словесным» участием в жизни общества.
В. Белинский
Вместе с тем, глядя поверх голов и «карет», не тихие радости нёс Лермонтов жадной «толпе», стоящей у трона и на его иерархических ступенях. Не сладость велеречивых словес готовил чиновно-продажному миру – «миру в петличках», в уничижении расшаркивающемуся пред всяким жестом Европы, – но бич воли и мысли, оправленных «железным стихом». Не покорность судьбе шёл возвестить поэт «сыновьям», смирившимся с «ошибками отцов» и с собственной духовной неволей, которую усугубляет равнодушие к злу падших и внутренне порабощённых душ, но жёсткое вразумление. Сознавая миссию Поэта и Гражданина, не мир нёс гений Лермонтова лицемерам, предавшим исконное бытие России, но меч (Доп. II).
Здесь возникает немало вопросов, из которых отмечу лишь два: какова природа величия, и в чём кроется феномен, назовём его, «лермонтовской реальности»?
За спорами о тонких материях мы как-то забыли или не успели рассмотреть «догмат» Божьего дара-наказания. Казалось, лучше бы опустить эти каверзные, а, с богословской точки зрения, ещё и «опасные вопросы». Но как это сделать, не уронив себя при этом? Отмахнуться? Дескать, «чужая душа – потемки», «на рогоже сидя, о соболях не рассуждают»? Ведь, коли возьмёшься рассуждать, то и судить придётся, а от суждения до осуждения – один шаг… Если же осудишь кого или чего-либо, то в гордыню «запишут». А где гордыня, там – упаси Боже! – в себя ещё, грешного, поверишь, от чего рукой подать до «геенны огненной»… И всё же, задвинув подальше «рубище» непротивного Злу «смирения», мирно живущего с духовными доходягами и «рогожинами» нашего времени, отважусь дать своё понимание проблемы.
В последние годы творческая мысль Лермонтова достигает невероятных высот; в этом единодушно сходятся все исследователи. Однако рассмотрение одного только «последнего» периода будет заходить в тупик, поскольку и он был лишь началом могучего взлета. Истинное же и наиболее полное содержание творчества Лермонтова приходится на несвершившееся будущее поэта.
Значит ли это, что, не ведая несделанного, нам не суждено раскрыть «белые пятна» состоявшегося творчества Лермонтова?!
Нет, не значит. Кое-что из несостоявшегося, полагаю, можно «вернуть», проведя своего рода реконструкцию «лермонтовской» мысли-формы, существующей не только в конкретном времени, и не только в нём… Ибо поэт – не только «то», что он пишет, но главным образом то, что он есть! И если это «есть» совпадает с тем, что он пишет, тогда это истинная поэзия, величие которой зависит от многих факторов как личного, так и надличностного характера. Но и это же «есть» имеет свою внутреннюю программу, напрямую не связанную со степенью её реализации. Она просто есть в качестве архетипа или генетической памяти выдающихся личностей.
В эти обстоятельства включается фактор неизменяемой в своих параметрах вечности, в которой каждое мгновение принадлежит и прошлому, и будущему. Да и в непостижимом человеку плане сущностные явления вряд ли происходят точно в то время, в какое они событийно обозначают себя. В зависимости от многих факторов отражение их в творчестве может быть «горящим» (как «угль, пылающий огнём» – у Пушкина, или гневным: «Но есть и Божий суд!» – у Лермонтова), а может быть тихим и спокойным. Последнее имеет место в тех случаях, когда творчество не подвергается социальным реагентам, а проистекает из «частиц» вышней гармонии, которая принадлежит истинному, безначальному, бесконечному и бесконфликтному Бытию («Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» – у Лермонтова, «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» – у Пушкина). Здесь вдохновение каждый раз по-своему выстраивает прецеденты наивысшей – духовной реальности, а внутреннее состояние Гения приводит к своеобразному балансу сущности его с невыразимой и вневременной «вечностью», одинаково принадлежащей и «той», и «этой» реальности. Гений по своей социальной и физической поверхности может не отличаться от простых смертных, преобразуясь «в себя» лишь в минуты наивысшего вдохновения. Наряду с этим, он психологически относится к обоим «полюсам», «расстояние» между которыми и есть Вечность.
А. Пушкин
Вдохновение Гения витает над бытием и небытием, над добром и злом, единовременно принадлежа и жизни, и смерти. Ибо и бытие, и творчество такого человека пребывает в измерениях, не имеющих ни формы, ни «гласа», и не поддающихся классическому анализу. Именно в этом «молчащем» Абсолюте, очевидно, и происходит произвольное движение всех явлений. Как прошедшее оставляет некую матрицу в настоящем, так и будущее, минуя каждое настоящее, проводит свои невидимые проекции в прошлое. Поэтому духовные сущности, имеющие дар отрешения от конкретного (сиюминутного) времени, способны видеть сущее и участвовать в не произошедшем ещё «будущем», в контексте вечности являющемся неким свершившимся уже фактом.
Всё это не только имеет отношение к Михаилу Лермонтову, но именно к нему относится! Поскольку в моменты наивысшего вдохновения, преображаясь и отстраняясь от всего личностного, он становился собой истинным, что надо понимать как пробуждение в нём духовной сущности. Именно в эти минуты в творчестве Лермонтова о себе заявляет присутствие Бога, а само оно поднимается на высоту, в которой Поэт становился орудием Провидения.
До нас дошли воспоминания приятеля Лермонтова – поэта и мемуариста А. Н. Муравьёва, могущие пролить луч света на результат глубокой внутренней работы Поэта: «Мне случилось однажды в Царском Селе уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашёл и застал за письменным столом с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» – спросил я. «Сядьте и слушайте», – сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочёл мне, от начала до конца, всю великолепную поэму «Мцыри», которая только что вылилась из-под вдохновенного его пера… Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильное впечатление».
Исповедь Мцыри. Л. Пастернак. 1891
Лермонтов никогда бы не смог написать свой шедевр, если бы в процессе творчества внутренне не принадлежал вновь созданной или воспроизведённой им реальности. В эти минуты духовный мир поэта, реализуя себя в Слове, вписывается в некое пространство, которое реально существует. И то, что «пространство» это не проверишь «на ощупь» классическим анализом, говорит о невещественности его информационного поля. Вместе с тем, оно реально. Потому что, в некой замысловатой траектории «сталкиваясь» с «дугой» творчества Лермонтова, оно являет себя в образах непостижимой художественной силы и убедительности. И если, к примеру, говорить о «Мцыри» или «Герое нашего времени» как о законченных произведениях, то лишь по причине выдающихся художественных достоинств, красочности языка и по факту их публикации. Тогда как многократно переписываемая Лермонтовым поэма «Демон», будучи произведением планетарного масштаба, является классическим примером продолженности художественного пространства во времени, уходящем в вечность.
Но правомерна ли подобная постановка вопроса? Научна ли она?! И как тогда «прочесть» ненаписанное?!
Начнём с того, что правомерность любого фундаментального вопроса определяется важностью его разрешения. Возможность же и глубина решения напрямую зависят от духовного развития и ряда других достоинств исследователя. Ибо истина существует не «сама по себе», но как часть неизменной по правоте данности, «ядро» которой можно ощутить, лишь внутренне соответствуя ей. Трудность постижения истины состоит в том, что её не всегда можно (а в эзотерической её сути не обязательно должно) мерить практикой следования ей людьми и уж, конечно, поверять чем-нибудь «точно выверенным». Что же до «научности», то, полагаю, можно согрешить против «науки», если это поможет прояснить сокровения лермонтовского феномена. Что касается «дерзости», то почему бы не дерзнуть понять то, что поэт сам пытается донести до нас, и что, отмеченное вневременной значимостью, есть самая сущность творчества Лермонтова?!
Для уяснения неожиданного ракурса темы обратимся к тому, что я называю незавершённой траекторией творчества. Рассмотрим её в качестве концепции.
Всякая траектория содержит в себе энергию и элементы всех своих частей. И прерванность её не отменяет этого положения. Это значит, что пройденный сегмент траектории содержит в себе энергию и элементы нереализованной её части. Схожая «механика» наблюдается в творчестве.
В начале «полёта» оно содержит в себе потенциал, выстраивающий траекторию, которая в недрах своей воспроизводящей силы содержит некие монады, наделённые памятью (Лейбниц называет их «душами», в которых в потенциале свёрнута целая Вселенная.) и структурно связанные с полной траекторией. Внутри её «частицы души», несущие в себе образ Вселенной, создают неосознаваемые личностью «коды», которые, взаимодействуя, кристаллизуют в себе элементы потенциальных произведений. Эти процессы единовременно принадлежат настоящему, прошлому и будущему, ибо являются элементами «вечности», что делает несущественными факторы, связанные как с событийной жизнью, так и с субъектами её. Такого рода информация кристаллизована в некое целое, которое не способны разрушить никакие обстоятельства, ибо она не принадлежит личности.
Если так, если прерванная траектория творчества содержит в себе конечную часть, то и незавершённое творчество Гения, мощно заявив о себе глубиной и историчностью содержания, незримо указывает на непрерывную во времени качественную преемственность своей воспроизводящей силы. Неявленная фактически, она содержит в себе все «знаки» незавершённой «дуги» творчества, отмеченного в надличностной «монаде Поэта». А поскольку в человеческой истории сила эта способна реализовать себя лишь через личность, значит, личность в качестве вестника надисторической жизни содержит в себе всю полноту информации. Парадигма великого творчества (здесь – Лермонтова), будучи заданной, а потому не обязательно зависящей от степени её реализации, содержит свои «опознавательные знаки» в свершённом (!) творчестве, ибо воспроизводящая сила его не делится на «части» (отдельные произведения). Эта же парадигма оставляет свои «метины» в психике и бытии Личности, каким бы коротким оно ни было, тем самым свидетельствуя и о «части» творчества её, которая не успела заявить о себе…
По всей вероятности, здесь вступает в силу инерция некой внутренней информатики, инерция, присущая Личностям, едино живущим в историческом времени и вне его. Накопление данных, как и духовное развитие этих «лиц», происходит в теле некой сущности, которая заявляет о себе не только в текущей жизни, но и в формах неявленного бытия и внесобытйной истории. Ибо жизнь вочеловеченных сущностей – и внутренняя, и внешняя – принадлежит формам вне– или надисторического времени. Им, наделённым всеисторическим охватом и вневременным видением, дано ощущение истинной – духовной реальности. Оттого великие гении (которых можно назвать «Единицами Истории»), посредством могучей энергии воспроизводя «забытую» первочеловеческую основу в состоявшемся творчестве, в той или иной форме содержат её элементы и в невидимой проекции… несбывшегося. Таким образом, о себе заявляет феномен встречи явного с неявным… Причём, это относится как к условному времени, так и к безусловным событиям. Эта же первооснова определяет всевременность (неразрывность) траектории мыслей и образов человека-творца – ту траекторию, которая, даже и прерванная, реально существует. Существует потому, что, являясь «частью» времени и пространства, в реализованной своей ипостаси содержит силу и энергию, не только задающую общую дальность «полёта», но и закодированное окончание его. Именно понимание живой связи несостоявшегося и свершившегося может дать ключ к раскрытию тайн в реализованном творчестве!
IV
Несостоявшаяся часть полной «дуги творчества», заданная началом её, прослеживается всей «лермонтовской реальностью». Особенность её в невероятной стремительности, обусловливающей опережение вдохновенной мысли поэта. И если в несвершившемся творчестве «находится» невыразившая себя энергия и невысказанная информация, то в реализованном содержится некая данность, и внутренне, и содержательно связанная с несостоявшимся. Из чего следует, что номинальность творчества Лермонтова, свидетельствуя о себе в сделанном, таинственно связана с незавершённым и с не свершившимся ещё. Потому, даже и прерванное, творческое бытие (как частица вечности, «всеисторической единицы», «вне– или надисторической Личности») содержит в себе некую полноту, способную быть раскрытой при посильном ощущении несвершённого. В какой-то мере это относится ко всем творцам (поэтам) «прерванной дуги», но более всего – к Лермонтову. Обладавший колоссальной творческой силой, реализующей себя «трёхмерно», но более всего «по вертикали», именно он более всех является поэтом духовной мощи и пророческого возвещения!
Совершённое и несовершённое в творчестве Лермонтова является неким сообщающимся сосудом, где настоящее таит в себе нечто, могущее стать ясным лишь посредством «мистического сообщения» с несвершившимся (лермонтовским же) «будущим»… Идеи и мысли поэта, с ещё большей мощью обещая выразить себя в будущем, уникальны тем, что с самого начала заявляют не только в «настоящем», имея в виду реализованное бытие Лермонтова, но содержатся и в несбывшемся его творчестве, понимая под ним несостоявшееся и нереализованное поэтом «будущее»… Лермонтов глядел «на будущность с боязнью», испытывая «страх» перед ним, как знающий или предчувствующий его тайны. На прошлое же (исторически печальное) он глядел «с тоской», очевидно, потому, что, неинформативно содержа его в своей сущности, бессилен был изменить его. Отсюда и «тоска»… Когда же печаль виделась ему «светлою», поэт писал: «… Сладость есть / Во всём, что не сбылось, есть красоты / В таких картинах; только перенесть / Их на бумагу трудно…» («1831-го января 11 дня»).
Рождаясь на земной юдоли, идеи Лермонтова, не очень задерживаясь, как-то «сами собой» взмывают в небесные выси, достигая обители Всевышнего. Отсюда лёгкость «общения» поэта со звездами и непосредственность ощущения нераскрытого ещё никем мира. Это определяет важность постижения как совершённого, так и несовершённого Лермонтовым при жизни, одинаково принадлежащих бытию, в котором он пребывал сущностно. Это же указывает на необходимость сосредоточить посильное внимание на том, что не было сделано (и чему не суждено было случиться), но объективно существует в иной информативной ипостаси.
И опять приходишь к тому, что «окончательный» ответ на проблемы несостоявшегося творчества поэта кроются в сделанном уже. Это подтверждают духовные запросы и гражданские чаяния поэта, прямо обращённые в несостоявшееся будущее. Слишком многое даровано было Лермонтову, чтобы быть раскрытым в считанные годы. Духовная и творческая формация поэта принадлежали иному качественному и временному измерению, в котором прошлое, настоящее и будущее, слитые воедино, принадлежат единому целому. В этом мистическом единстве есть тайна мира поэта, здесь же кроется её разгадка! Ибо «целое» содержит информацию о себе в каждой своей «части», даже если она отторгнута от него. Многообразие художественных форм, а более всего феноменальное наитие (и, воистину, от мира иного «всеведение») поэта порождает множество неясностей, о которых, собственно, и идет речь. Это даёт основание полагать, что ответы на многие аспекты нереализованного «будущего» в той или иной форме таятся в сделанном уже, которое в свою очередь станет более понятным, если вернуться к нему после… «продолженного» будущего. Сделанное и условно завершённое Лермонтовым потому до сих пор во многом не ясно, что рассматривается вне связи с «инерцией» неразрешённой творчеством «направленностью» духа и стремительностью ума поэта. И оттого, что всё несостоявшееся воспринимается учёным миром как несуществующее, мы то и дело натыкаемся на загадки и в состоявшемся (во времени) творчестве Лермонтова… Именно так, и по этой причине.
В соответствии с данной тезой понимание сделанного поэтом и (рискну поставить в кавычки) «известного науке» будет неполным без прояснения несвершившегося, опять приводя к мысли о том, что для правильного понимания настоящего Лермонтова необходимо проследить… незавершённую траекторию его творчества. Именно осознавание «несовершённого», но, повторюсь, реально содержащегося в его произведениях, может помочь ощущению размета мысли и глубины созданного Лермонтовым. Посему только ощущение связи нереализованного (но реального в ином измерении) будущего с «отметившим себя» настоящим может стать серьёзным подспорьем для заполнения белых пятен творчества и нераздельной от него жизни поэта.
Здесь необходимо оговорить, что (назовём его условным) «будущее», присущее сознанию Лермонтова и закодированное в его творчестве, базируется на предощущениях глобального масштаба, «узкой» концентрированной частью которых являются рассекающие время пророчества поэта (отсюда их пронзительность!). В этом состоит «разница» обоих феноменов. И первый нельзя путать со вторым не потому только, что он имеет иную природу, но и потому, что дар предощущения, как таковой, несёт иную функцию. Всё это заслуживает отдельного пристального изучения, что ввиду масштабности темы не может входить в задачу настоящей работы. Отметим только, что предощущения и пророчества Лермонтова (к которым следует добавить имеющий схожую природу жёсткий до беспощадности анализ) нередко переплетаются между собой так же, как бытие и творчество поэта, являя диалектическую целостность в её неразрывности. И в самом деле: разве несостоявшееся (для Лермонтова) грядущее не предвосхищено им в «Умирающем гладиаторе» (1836) и широкомасштабной «Думе» (1838)? Разве оно не реализовало себя в известном нам «прошедшем»?! Провидя оскал европейских революций – детищ множества честолюбий и безверного материалистического сознания, в котором материальный мир может воспроизводить лишь самого себя, – Лермонтов провозгласил закат Европы задолго до Освальда Шпенглера. Не заблуждался поэт и относительно своего Отечества. Предвещая вселенский пожар от «русского бунта», Лермонтов различает опасно тлеющие угли в перегоревшей «золе» своего поколения. И отнюдь не случайно в «Песне про удалого купца Калашникова» (1838) – эпической по духовному охвату, моральной чистоте и по-староверчески нравственной дисциплине – поэт отсылает нас к временам царя Ивана IV!
Органичная связь «лермонтовского» настоящего с будущим особенно настаивает на себе в «Думе» поэта. По форме – стихотворение, по структуре и содержанию – энциклопедия русской жизни, а по характеру – эпическое произведение, она являет собой образец психологически тонкого и беспощадного анализа настоящего и провидения будущего.
Поначалу, как будто холодно констатируя положение дел, Лермонтов разворачивает перед нами панораму будущего в настоящем. Именно так. Глядя далеко поверх голов своих соплеменников и не различая их поимённо, поэт обращается к своему поколению, но не от его имени. И не потому, что превосходил современников (хотя это и очевидно) или был чужд их пустым забавам (мы знаем, поэт не жаловал «героев» своего времени и нередко пародировал их в жизни). А потому, что, зная истоки человеческих тягот, Лермонтов умел провидеть будущее в его этической и культурной ипостаси. В этом контексте он воспринимал текущее поколение рядовой жертвой в длинном ряду других – и в отдалённом будущем потерянных для Отечества поколений… Без особых надежд Лермонтов в жёсткой по историческому содержанию и смыслу ритмике обращается к своему времени, в котором не делит своих современников на правых и виноватых. Применительно к тогдашней России, и правый в сей час или в сей день подготовлял неправду завтрашнего дня, так как события в жизни общества и страны есть отдельные звенья цепи, которая в протяжённости своей выстраивает реальную историю. В России «ржавость» этой цепи обусловливала внутренняя и внешняя политика правительства, непродуманность которой превосходила лишь экономическая беспечность всех звеньев общества, включающего как благородные, так и «неблагородные» его слои. Во внутренней жизни страны это проявилось в отторжении народа (с Петра) не только от его собственного исторического бытия, но даже и от того, которое случилось… Причём перешедший из прошлого века социальный разлад потряс все слои русского общества. Об этом ясно свидетельствует поэт князь П. Вяземский, в 1828 г. писавший, как видно, не только от себя: «У нас ничего общего с правительством быть не может. У меня нет более ни песен для его славы, ни слёз для его несчастий»)! Во внешней жизни это отторжение выразилось в малоосмысленной геополитической программе правительства России, обозначившей себя на рубеже XVIII–XIX вв. Непродуктивная политически, опасная в плане обережения духовных традиций России, а потому психологически чуждая русскому народу, она была неперспективна в своей территориальной «широте». Приведя к глубокому политическому кризису уже к середине XIX столетия, «программа» эта создала язвы на теле России, не заживающие на протяжении всей последующей её истории [7].
Неизбежность грядущего и неисправимость настоящего, лишая иллюзий, глубоко ранили душу Лермонтова – поэта и гражданина, отчаянно любившего свою Родину. Отсюда горечь раскалённой в страдании и проникновенной, кованой «железным» анализом думы Лермонтова. Словно опровергая Рене Декарта, не верившего в самоценность сознания (Доп. III), Лермонтов, беспощадно препарируя бытие своего поколения, переводит в «материю» само время:
Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее – иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом, И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом.Развернув пространство безнадёжного пути, в котором царит палящий зной настоящего, смыкающегося с будущим, поэт, исторически убедительно и психологически проникновенно раскрывая тему, беспощаден к своей духовно неприкаянной эпохе:
К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно-малодушны, И перед властию – презренные рабы. Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец осиротелый, И час их красоты – его паденья час! Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тая завистливо от ближних и друзей Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслажденья, Но юных сил мы тем не сберегли; Из каждой радости, бояся пресыщенья, Мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не шевелят; Мы жадно бережём в груди остаток чувства – Зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови.Так оно и было. Подавляющее число соплеменников поэта, не видя дальше руководящего перста начальства, не ощущая себя в эпохе, не зная прошлого и не особенно интересуясь им, тем более не могло осознавать неразрывную историческую связь настоящего с будущим.
И несмотря на то, что по ходу публикации брошюрных томов «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества» (писал А. Пушкин одному из своих друзей), чтение не особенно продвинуло русское общество.
Ибо «воз» исторических ошибок и упущений, которые помимо дворцовой и служилой бюрократии усугублял синодский конформизм, был и поныне там. К тому же как до публикации «Истории», так и после неё политическая и общественная жизнь России пребывала под коростой чиновного мелкодушия и инертности, в которых свивало свои гнёзда невежество.
И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный, ребяческий разврат; И к гробу мы спешим без счастья и без славы, Глядя насмешливо назад. Толпой угрюмою и скоро позабытой Над миром мы пройдём без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда. И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом.Белинский, поразившись глубине и универсальной мощи произведения Лермонтова, пришёл в безудержный восторг и в лице поэта бросил вызов самой античности: «Если сатиры Ювенала дышат такою же бурей чувств, то Ювенал действительно великий поэт!».
В романе «Герой нашего времени» Лермонтов вновь возвращается к этой теме. Его думы пронизывает та же боль и не меньшая горечь. И в этом произведении слышится тревога о будущем Отечества. И здесь он бьёт в набат, гул которого должен был выйти за пределы России:
«Мы не способны более к великим жертвам для блага человечества, ни даже для собственного счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, не имея ни надежды, ни даже того неопределённого, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми, с судьбою…». Зная, что на краеугольных камнях прошлого балансирует настоящее и выстраивается будущее, Лермонтов пристально вглядывался в «тьму» неведомого. Но для того, чтобы различить черты исторически несвершившегося ещё, необходимо высветить настоящее. В этих целях поэт прибегает к сильным эпитетам и антитезам. Местоимением «мы» Лермонтов противопоставляет власти своё поколение, «добру» – «зло», «борьбе» – «рабство», «любви» – «злобу» и «ненависть», «славе» – «насмешку», «сладости» – «горечь». Апелляция поэта к участникам исторического действа – «отцам» и «детям», «векам» и «гению начатого труда», расширяя исторический диапазон и усиливая масштаб скорби, подчёркивает величие и монументальность здешней печали. Не слишком рассчитывая на людей, но обращаясь к глобальному «этическому пространству» через состоявшийся разрыв духовности и нравственности, Лермонтов в своём произведении создаёт тот исторический ракурс, который только и способен выявить уходящие далеко в будущее болезни «его» эпохи. Всё глубже увязая в пороках – и этим скоро «обозлив» и без того беспощадное перо С.-Щедрина – российское бытие приближалось к трагической развязке начала следующего века. События второй половины XIX столетия «в лоб» подтверждают то, что сумма поражений в каждом настоящем оборачивается для народа и страны тяжёлыми бедами в будущем…
Остановимся отдельно на особенностях смысловых связок произведения Лермонтова.
«Грядущее» в «Думе» поэта – это исполненное драматизма протяжённое будущее. Начиная стихотворение словами: «Печально я гляжу на наше поколенье! / Его грядущее…», поэт, сразу обозначая тему, разрывает связку слов «поколение-грядущее». Местоимение третьего лица «его» здесь выполняет функцию тектонического звена – некой паузы, которая нацеливает в будущее. В результате главная идея, делаясь рельефной, в смысловом контексте стихотворения приобретает большее значение, нежели прямое указание – «грядущее поколение», «время» или «эпоха», которые в таковом сочетании мельчат. Это тот случай, когда контекст выстраивает смысл. И когда он явен, тогда даже мелкая «единичка» – «день» может нести в себе большее значение, поскольку приобретает большую нагрузку. Именно так это слово звучит в пушкинском «Евгении Онегине»: «Что день грядущий нам готовит?..»[8]. Потому что «день» у А. Пушкина несёт в себе множественный смысл: это может быть и судьба, и смерть, и, в конечном итоге, – Судный День. Вот и Лермонтов, обозначив своё поколение, сразу же «отходит» от него, связывая смысл с будущим.
Но тут не только время важно. «Грядущее» у Лермонтова подразумевает качественную особенность развёрнутых во времени дел и множественность безделья. Обращённое лишь к одному поколению, это слово звучит чрезмерно сильно (почему, собственно, будущее столь беспечного и неприкаянного поколения должно «грядеть»?!). Во избежание узкого прочтения Лермонтов не удовлетворяется архаизмами и торжественной поступью стиха, но создаёт речитатив, отвечающий его величественно напевному ритму. Именно эта поэтическая форма придаёт Грядущему эпическое звучание, поскольку принадлежит современности поэта в её исторической протяжённости. Здесь совершенно очевидно, что, обращаясь к своему поколению, Лермонтов имел в виду сумму его исторических наслоений. Другими словами, своё поколение великий поэт видел не только в его культурно-исторической конкретике, но как исторический модуль – символ перетекающего (в вечности) времени, эпохи. И здесь можно говорить о некой траектории смысла – длинной исторической «дуге», начавшейся отнюдь не при жизни поэта…
Преимущество современного прочтения произведений Лермонтова состоит в том, что многое из неявленного в его время, но предвещаемого поэтом будущего, – в наши дни стало прошлым. Чтобы убедиться в этом, необходимо внимательно вчитаться в поистине вещие слова гения, сосредоточенного на своём времени, но устремлённого в пространство не случившегося ещё.
Сплава всех слоёв русского общества (исключительно важного и возможного после 1812 г.) в народ не произошло!
Забытый и в который уже раз преданный народ, с конца XVII столетия лишённый «старого» духовного наставничества, с начала следующего века лишаем был ещё культурной опеки. Что касается его социальных прав, то на фоне закрепощённого русского дворянства об этом и говорить не приходится. В то же время само дворянство – онемеченное, а затем офранцуженное – не уставая презирать «мужика», по-прежнему и говорило, и думало не на родном языке. И через полвека после Лермонтова – и через двести лет (!) после Дениса Фонвизина, давшего в своих сатирах жёсткую трёпку «нашим французам», – последние не только не перевелись, но устоялись в своём духовном чужестранстве, которое скоро «украсило» декоративное германофильство и, тогда ещё «вежливое», любопытство к набирающим силу США. «Мысль плодовитая» не была взращена и «брошена векам» (именно в таком масштабе видел Лермонтов необходимость преобразований России и Европы), потому что семена её упали на каменистую почву безнародности и бездуховности верхних слоёв российского общества и чудом выживающего в отечественном безвременье простого люда. Именно «бремя» безверия, атеистических «сомнений», политических страстей и несомненного материализма способствовало разрушению исконного русского уклада. Вместе с тем развал внутренних связей страны выявил недостаточность духовного и социального противодействия псевдорусским реформам со стороны самого народа, что возможно было лишь при исторически взаимосвязанном развитии всех слоёв русского общества. Оттого не начатый, а потому не состоявшийся «труд» по возрождению отечественной жизни в её настоящих и эволюционно наследуемых исторических вариациях уже в ближайшие поколения привёл к упадку: вырождению в материализм и бесовщину, раскрытую Достоевским. Таковой ход событий следует признать неизбежным: деформация души народа закономерно ведёт к его духовному вырождению, ставя под сомнение историческое бытие самого Отечества…
Вдумаемся: разве ближайшие десятилетия после гибели Лермонтова не подтвердили его видение судьбы русского народа, оторванного от духовных основ и исторической жизни страны?! Если «при Лермонтове» николаевский режим отказывался вести диалог с обществом, то уже в 1860–1870 гг. «передовое общество» в лице образованных и агрессивно настроенных нигилистов отказывается вести диалог с «царской властью», выражением которой было правительство, его учреждения и, конечно же, толпящиеся у трона царские сановники. Великий Раскол, некогда размозживший духовный уклад народа и саму сердцевину страны, и через два столетия продолжал напоминать о себе в дочерних духовному распаду неурядицах и набиравших силу политических брожениях. Последние усугубляла застарелая социальная неустроенность народа и множащееся недоверие к всякой власти. В полифонии разлада российской жизни второй половины XIX в. ясно слышалось разночинное отрицание всего уклада русской жизни, крайним выражением чего была террористическая деятельность социалистов, бомбометателей из нигилистов и прочей революционной публики. Так о себе заявил период распада сущности народной, в котором предметом отрицания становились религия, родина, семья.
Беспрерывное и беспримерно интенсивное выхолащивание отеческих святынь закономерно вело нацию к духовному истощению, что происходило не без активного участия переблудившей всевозможными умозрениями интеллигенции. Надолго застряв в суемудрии «иссушённого ума», последняя «кипела деятельностью» жёлтой прессы, принципиально настроенной против любых отечественных инициатив правительства.
Всё это вызывало бурное негодование патриотов России, одним из которых был поэт и дипломат Ф. Тютчев. Но инициатива была упущена как раз в эпоху Александра и Николая «первых», свидетельством чему были пронзительные идеи и мысли Чаадаева, печальные думы самого Лермонтова и гражданский гнев Тютчева. Вотще, «печатная мысль» нигилистов и либералов полнилась раздражёнными литераторами «из фармацевтов». Выйдя из захудалых местечек и осев большей частью в столицах, «мысль» эта сыграла роль приводных ремней будущей революции.
Общими усилиями под могильным дыханием «холода тайного» распускались пышные и по-кладбищенски яркие цветы обезбоженности и «серебряного» презрения к семейным устоям. В скончании века и начале следующего полным ходом шло преображение всех слоёв общества в поколение имярек, «не помнящего родства» и, как показали последующие десятилетия, напрочь забывшего основы религиозной морали.
Что касается высших слоёв общества, то духовное и физическое растление закономерно породило неоязыческие сатурналии и «дионисийский» разгул, ознаменовавший цепь «чувственных» самоубийств.
«Сын земли с глазами неба», по определению Вел. Хлебникова, истинно смотрел далеко вперёд. Строки же самого Хлебникова: «И на путь меж звёзд морозных полечу я не с молитвой – с окровавленною бритвой», были «красной» реальностью того, что задолго до него провидел Михаил Лермонтов.
Безумства духовных и политических сатиров, в числе прочих безумств обозначив «чёрные годы» России, привели к её падению «в семнадцатом» и, опалив миллионы людей в гражданских войнах, обездушили последующие поколения! Потерявши Бога в душе, лишившись царя «в голове», а затем и в государстве и вследствие этого оказавшись обессиленными, ручными, легковерными и беспамятными, потерянные поколения стали лёгкой жертвой лукавых вождей и их сатрапов.
«Разруха в голове» [9], через соблазны «коммунизма» ведя к деформации мышления, не могла не привести к осквернению Русского Слова, явленного языком Пушкина, Тургенева и самого Лермонтова. Начавшись до «великой революции», всё это продолжилось в грядущих поколениях. И сейчас – в постсоветское время – разрушение языка и культуры переходит в новую стадию…
V
Вернёмся к предвещанию поэта, началу указанных процессов и их продолжению. Разве оказавшиеся у руля на «корабле современности» не превратили его «палубу» в лобное место, Кремль – в средоточие идеологической и прочей лжи, а Красные площади России – в места политических оргий и атеистического шабаша?! Разве, лишь чуть переиначив слова Максимилиана Волошина, «мы» не прогалдели, не проболтали, не пропили и не замызгали на грязных площадях саму страну?! Что, как не иссушение истоков старой веры, предрешив недоверие к синодскому православию, но обусловив социальную инертность и равнодушие к «отеческим гробам», привело к слабости духа и драматичному ослаблению веры народа в самого себя. Может, фейерверочный и по-своему светлый энтузиазм «советской эпохи» и был оборотной стороной темени и пустоты, которая надолго впустила в душу народа прохладу «тайного холода»?
Разве «случайность» страстей, всевозможных патологий и криминальной ненависти не стала печальной реальностью сегодняшнего дня, а «разруха в голове», приводя к развалу внутренней жизни и мусору в повседневной, не служит символом трагически беспросветной жизни России во многих уже поколениях?! Разве не этот мусор олицетворён в политической бездарности имущих власть и бестолковости стремящихся к ней? Разве воровство «деловой элиты» страны и социально-бытовая грубость не способных к делу, жестокость и хамство разномастных «бесов» нашего отечества так уж разнится с характерами «мелких бесов» сологубовской эпохи?! А «бесплодная наука», ведомая «иссушённым умом», разве не стала смертельным оружием для всего человечества (не только России)?! И будем честны: разве «мечты поэзии» и «создания искусства» «шевелят» наш ум «восторгом сладостным»?!
Увы! Мечты сменил «трезвый», но близорукий и, по факту, исторически слепой расчёт.
Уже в «лермонтовском» веке появились глашатаи «новой истины», мерилом которой служит не познание реальности и основанной на нём ориентации деятельности, а выбор средств, необходимых для достижения цели. В качестве истины апологеты практической философии признают лишь то, что лучше всего позволяет приспособиться к жизни. «Апостолы» и строители очередного «храма истины», то бишь рынка, и стали в нём первыми жрецами. Изощрённо объясняя и оправдывая прагматические – в ущерб всему остальному – устремления человека и обосновывая их объективную целесообразность[10], апологеты утилитаризма и «коммерческой совести» заложили идеологические основы для развития последующего – глобального уже рынка. Новорождённое «глобальное дитя» с матерной психикой и занозами в мозгу, унифицируя бытие и упрощая мышление, давно уже склонное к бездумию, приступило к обращению человека (тут Аристотель будто в воду глядел) в «социальное животное». Обо всех этих метаморфозах наиболее убедительно свидетельствуют «тонкие сферы».
И в самом деле, вдохновенную поэзию и литературу в целом сменило претенциозное, псевдоинтеллектуальное, суррогатное чтиво. Сейчас – в «нулевую» эпоху в России выпестовано поколение «ноль», или назовём его «по батьке» – «Digital generation». Опустошённое и по определению, и по факту, оно тем не менее весьма амбициозно. Может, поэтому стёб, глумление, ёрничество и пьяное ликование «на празднике чужом» стали неотъемлемой частью не только «художественного» творчества, но и самой жизни. Борьбу стилей и творческих концепций, за отсутствием оных, сменили тусовочные препирания, в результате чего псевдоборьба, исключающая всякую моральную и личную ответственность, превратилась в балаган веселящейся толпы. Не удивительно, что на этом фоне пародия на стили и тексты классиков русской и мировой словесности, питая «мысль» тусовочных критиков, претендует на течение в литературе. Между тем, отсутствие вдохновения, претенциозная заумь и пустая игра с ранее созданными текстами говорит об оглуплении самих «интеллектуалов». Не в состоянии эпически осмыслить современную эпоху, лишённые чести, совести, ума и профессионализма классиков, а главное – их таланта, видящие себя «Борхесами» вытеснили из литературы духовную ипостась. Именно поэтому «игра в бисер» стала своего рода хоругвью «нулевых писателей». А ведь именно совесть и духовные искания были в первую очередь характерны для русской литературы. Увы, заполнив прилавки и заполонив ленивые умы, бессовестность легко покоряет одно поколение за другим. И это естественно: изменение сознания человека, постепенно превращающегося в биологический овощ, неизбежно влечёт к смене мотиваций. В результате пребывание в трансе, некогда весьма редкое и не желательное, в духовно незатейливом и умственно притуплённом существовании стало обыкновенным, привычным, приемлемым и даже необходимым. А ведь это и есть поколения «без счастья и без славы» (Доп. IV), которые, заслужив «презрительный стих» поэта, наряду с этим вызывали у него боль, сожаление и печаль. И подтверждение этому мы находим во многих сферах человеческой деятельности.
Искусство, во всякое время не свободное от политической и социальной конюнктуры, ко второй части XIX в. исчерпало почти свой природный потенциал и по ходу отмирания стилей, разложения этических категорий, эстетических модулей и моральных цензов подошло к сентиментально-мещанским, изначально мертвым грёзам прерафаэлитов и торжеству академических школ. Запнувшись на интересе барбизонцев к явлениям природы и едва не «проскочив» находки импрессионизма, творчество в лице зависимых авторов пасует перед «нуждами времени» с тем, чтобы через поколение найти себя в абстракциях. «Мечты поэзии, создания искусства», не особенно шевеля ум «восторгом сладостным» и не слишком долго задерживаясь на стилях, – уверенно обретали формы, соответствующие психическому состоянию общества. Находя отклик лишь в изломанной душе, они не имели точек соприкосновения с природной реальностью и что хуже – не нуждались в ней! Духовная инфляция вкупе с абстрагированным восприятием надстроенных реалий привела к тому, что раритеты прошлого не столько живут и не столько ценятся обществом, сколько оцениваются им. Не мудрено, что явления культуры, в качестве феномена творчества на протяжении поколений сосуществуя с тенденциями к унификации, эстетически «стираются» о немереные числом бездарные компиляции.
В земной суете утеряв духовный смысл, творчество, олицетворённое сутенёрами от искусства, приняло на себя жалкую функцию обслуживания денежной «элиты». Не по воле художников, но не без их согласия сделавшись компилятивным и донельзя коммерческим, искусство облачается, а лучше сказать – «инсталлируется» в лакейский фартук и шутовской колпак. Внутреннюю и внешнюю свободу сменила наглость экипированного шута, после глобальной смены ценностей позволяющая возглашателям шутовского карнавала изгаляться над истиной, юродствовать без смысла и, копируя достижения прошлого, без зазрения совести перевирать их. Обретя формальную смелость, искусство превратилось в хохму, призванную не только ублажать непритязательный вкус, но, прогнувшись перед низкими запросами потребителя, – внушать покупателю якобы почётную роль соучастника «творческого процесса». В разгуле лживого и лукавого рынка наиболее ловкие из «творцов», оспаривая «пальму первенства» друг у друга, потеряв стыд, грезят лишь о том, чтобы войти в число высокооплачиваемых паяцев. Итог бесстыдного заигрывания с душой человека закономерен: не имея поддержки в обществе, искусство и Слово умирают, мумифицируясь в хохмачей из художников и литераторов.
Вектор мысли, заданный Лермонтовым, включает многое из того, что имеет не буквальное, а сущностное значение. Отталкиваясь от настоящего, поэт не ставил перед собой цель развенчивать будущее по всем статьям, пунктам и категориям.
И без дополнительных пояснений очевидно, что направление или смена интересов общества обусловлены изменением ряда аспектов цивилизационной парадигмы.
Поэт не мог знать, во что выльется, к примеру, эволюция музыкальных стилей, но, будучи весьма одарённым музыкантом, мог провидеть, что «вихри» популярной в его эпоху музыки и танцев впоследствии найдут своё продолжение в большей экстенсивности их развлекательных особенностей. Собственно, чем бравурнее музыкальный текст, тем большее признание он находит в лёгких ногах каждого поколения, тем предсказуемее его популярность и тем очевиднее прослеживаются проекции его развития.
Так оно и получилось. Развиваясь главным образом в «облегчённых стилях», музыка стала популярной, но лишь после того, как дошлые менеджеры рынка посредством музыкальных «апостолов», идолов и «звёзд» эстрады изменили само восприятие мелодии, сделав ставку на оглушающий (и оглупляющий) звук, навязчивые ритмы и двигательные функции человека. И это тотчас же нашло отклик в массах, как находит всё, что легче, что помогает «отключиться» и перестать думать, приноравливая новоиспечённых апологетов глобальной унификации к состоянию устойчивого духовного безмыслия и социальной пассивности. Итак, вследствие тотального давления «на психику», старясь в бездействии, поколения отученных мыслить «перед властию презренных рабов» закономерно и неизбежно превращаются в «до времени созревшие» и воспроизводящие лишь себе подобных «тощие плоды» духовно зачумленного и оглуплённого homo sapiens.
Могут возразить, что «ничего точно такого в стихотворениях Лермонтова нет!».
На это отвечу: да, «точно такого» в «Думе» и в других произведениях поэта и в самом деле нет. Но Лермонтов и не претендовал на оракула, непререкаемо и в законченной форме обозначающего события. Потому не раскрывает смысл в точнёхоньких словах, которые всё равно не вместились бы в обиходные смыслы и стёртые значения будущего века. Ибо, если б делал это, не был бы гением. Но Лермонтов – гений, поэтому думы его о стране предстают перед нами неким утёсом, видимой частью которого было тогдашнее общество, а невидимая – «подземная» – содержит в себе историческую перспективу российского бытия и участия его в мире.
Необходимо сказать, что у поэта был весьма умный предшественник – Пётр Чаадаев, сумевший через характер народа дать глубокий аналитический обзор прошлого и настоящего страны. Лермонтов, может, потому и не проводит в «Думе» анализ в стиле «ретро», что за него это психологически точно сделал Чаадаев. Говоря об ошибках отцов и позднем их уме (в этом замечании явно прочитывается его старший современник), поэт, лишь констатируя прошедшее, подразумевает лакуну несостоявшегося исторического пути России. Но, сожалея об этом, ибо нарушена была внутренняя целостность народа, определявшая духовный и исторический путь страны до Великого Раскола, поэт устремляет свой взор в будущее.
Есть у обоих мыслителей в диалоге со временем и смежная платформа.
Чаадаев, анализируя российское бытие по схеме: «настоящее – прошлое», подразумевает тяготы будущего, в то время как лермонтовская связка: «настоящее – будущее» предполагает прошлое «по Чаадаеву».
Словом, «настоящее» у обоих мыслителей является некой субстанцией, которая не только связывает прошлое России с её исторической перспективой, но и преломляет через себя духовно-исторические ингредиенты прошлого. При всём этом, отталкиваясь от настоящего, оба мыслителя призывают нас извлечь уроки из исторического опыта.
Далее, когда Чаадаев говорит «мы» («Мы живём в каком-то равнодушии ко всему… Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали… Мы растём, но не созреваем; движемся вперёд, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведёт к цели…» и т. д.), то никому не приходит (надеюсь) в голову, что мыслитель говорит от себя только или от своего окружения (последнее как раз наименее вероятно). Такое же значение имеет «мы» у Лермонтова. Когда поэт говорит: «Богаты мы… ошибками отцов и поздним их умом», он имеет в виду тех из своего поколения, кто способен был извлечь из прошлого уроки (т. е. был достаточно умён для этого), дабы не повторять их в будущем.
Лермонтов многократно употребляет местоимение «мы» [11], по всей видимости, для создания «тотального» давления на умы соотечественников. Говоря «мы», Лермонтов «хватает за шиворот» своё нерадивое поколение, дабы «развернуть» его в направлении исторических бед, кои неминуемы для «тощих плодов» – сирот в собственном Отечестве…
Но поэт далеко не уверен в благоразумии и доблести своего поколения, ибо богатыри, по его убеждению, остались в прошлом. Очевидно, разгаданное Лермонтовым будущее России и вызывало его глубокую печаль! То же заботило и Александра Пушкина.
Пётр Яковлевич Чаадаев
В письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. Пушкин говорит: «… Наша общественная жизнь – грустная вещь»; в ней царит «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине», «циничное презрение к человеческой мысли и достоинству»[12]. Правда, Лермонтов не разделял иллюзий своего великого предшественника, полагавшего, что в России «правительство всегда … впереди на поприще образованности и просвещения» и что «народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно»[13]. Однако он вполне солидарен с оценкой интересов образованного общества, которые очень изящно и просто обрисовал Пушкин: «Мы все учились понемногу, / Чему-нибудь и как-нибудь». Тем более, что о «полупросвещении» (сводной сестре невежества) своих соотечественников Пушкин пишет ясно и без обиняков: «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему…»[14].
Возвращаясь к лермонтовской «Думе», заметим, что слог великого произведения исключительно лаконичен, насыщен пронзительной мыслью и предельно концентрирован, тем самым поневоле вызывая в памяти библейские тексты. Видимо, потому, что никакой «буквальный смысл» не способен передать «вечное» течение человеческих грехов и огрехов в мутных потоках истории, подчас не отмеченной видимыми событиями.
Итак, с некоторым отличием от Чаадаева взор Лермонтова принципиально устремлён был в будущее России. Это особенно очевидно прослеживается на фоне его творчества. В пророческом по своей сущности произведении Лермонтов весьма точно указал направление духовного, морального и социального развала страны, живущей не историографией поколений, а внутренней связью жизни народа и общества. Значение истинно великого Художника и масштабность его творений состоит именно в том, что он умеет выразить в них характер своей эпохи и придать ей глубокое культурно-историческое содержание. В том, что он способен мощно и убедительно облечь своё произведение в форму, подчёркивающую содержание настоящего и суть будущего. Потому слова поэта полны тем смыслом, за которым узнаются не меркнущие в поколениях образы и символы. Очень конкретные по историческому значению и величественные по замыслу, они содержат в себе существо как бывшего (случившегося), так и не свершившегося ещё, которое, незримыми нитями связывая прошлое с будущим, во множестве своих элементов отмечено в каждом настоящем.
Лермонтов не был первым, кто пытался поделиться с людьми известным только ему, как не был и последним в ряду тех, кому предстояло наткнуться на стену полного непонимания. О неисчезающей в бытии (замечу – любой страны!) «стене» свидетельствует повторяемость поразительно схожих трагических ошибок и печальных упущений. О наличии воистину общей исторической проблемы говорит множащееся число потерянных поколений.
Не потому ли это происходит, что «организм народа», реализуя себя в истории именно в неразличимой по своим индивидуальным показателям массе, в своей эволюционной жизни и в социальных перипетиях не в состоянии реагировать на достоинства личности?
Не оттого ли это имеет место, что «историческая масса» не способна принимать в расчёт духовную силу отдельного человека, если только он сам не заставит обратить на себя внимание «понятными всем» насильственными методами?! Словом, вновь – и в который уже раз! – всё повторяется и «нет ничего нового под луною»…
Вот и в «Думе», Лермонтов, не делая открытий в плане человеческих несовершенств, казалось, не добавляет своих истин к числу существующих уже. Но дело ведь не в количестве истин, а в том, чтобы сознавать имеющиеся. И если они не осознаны и не поняты, то это не вина автора, а беда человека, продолжающего жить в коконе первородного греха. Словом, совокупность достоинств произведения Лермонтова заключает в себе квинтэссенцию развития общества, как и встарь, существующего в эвольвентном искривлении духовной и исторической жизни.
Заключительные строки великой думы поэта актуальны и для наших дней, ибо и нынешнее поколение, глядя с насмешкою «назад» и огульно презирая «ошибки отцов», может в них найти себе «приговор» Лермонтова. Потому что, как и «отцы», – оно малоспособно разобраться в наслоениях лживых идеологий и идеологизированной лжи. «Строгий суд» сыновей над «промотавшими» Отечество и оскорбившими его святыни «отцами» не обязательно будет справедлив уже потому, что эвольвента многовекторной лжи способна увести далеко от истины даже и самых искушённых искателей её… Да и чем судить? С опорой на что? Ведь «иссушённый наукою» ум становится бесплодным ещё и потому, что в нём в первую очередь «усыхают» духовные и нравственные критерии.
В сознании нескольких поколений образовалась уже «темнота», которую сгущает – в разных странах по-своему – экономический хаос, бытовой, медийный и прочий беспредел. От него не в состоянии отвлечь ни копеечные популисты, ни прикормленные властями «властители дум» и политические шуты. Зато к роковой черте безвременья способны приблизить быстро плодящиеся и модные, как оно бывает во всякие смутные времена, знахари от экономики, астрологи и прочие мастаки присосаться к государственному корыту.
Безысходность, пронизывающая мегаисторическую думу Лермонтова, увы, подтверждает в России развитие событий «последнего времени». Именно сейчас русский народ не без помощи властей и сомнительного «духовного окормления», далёкого как от реальной жизни, так и от настоящего дела, забывает о своих достоинствах и закисает в своих несовершенствах. Существуя в своём Отечестве под «двумя головами», но без царя ни в одной из них, он «перелицевался» из внутреннего эмигранта в социального и политического бомжа.
Случайно такое не происходит. И опять к нам на помощь приходит отечественная мысль.
Если Ф. Достоевский, обеспокоенный растущим числом «бесов», наставлял умеющих слышать: «Жить и не меняться – это безнравственно», то Л. Толстой был не менее категоричен: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться… А спокойствие – душевная подлость»!
И всё же можно согласиться с тем, что в произведении Лермонтова и впрямь нет ничего из того, о чём здесь идёт речь. Но для кого именно?
Маятниковая повторяемость в истории принципиально неотличимых друг от друга трагических заблуждений понуждает нас прийти к выводу, что нет – для «угрюмых толп», не умеющих или разучившихся думать, которых эпоха не запомнит, а история точно позабудет! Нет — для безвольных потребителей, которые за отсутствием истинных героев времени бездумно и доверчиво следуют за слепыми поводырями, самозваными и пустыми лидерами. Нет — для «просто слепых», покорно идущих на ласкающий звук и ласковые приманки лукавых зазывал.
Именно этой пёстрой публике с ущербным мышлением и убогой исторической памятью менее всего ясно, что, глядя на своё поколение, Лермонтов проводит проекцию в историческую перспективу и, «возвращаясь» к своему времени, предвещает пустоту и темень грядущего, в своём зародыше содержащиеся в каждом настоящем! Именно историческая важность темы задаёт масштабность предвещаний поэта.
Поскольку «над миром» может пройти лишь то, что достойно исторической жизни, что может «бросить векам» идеи, способные прорастать в эволюционном бытии. Что, как не это имел в виду поэт, говоря о «мысли плодовитой»?!
Полагаю, сказанного достаточно, чтобы не усомниться в том, что Лермонтов творил не только (или не столько) для своего, сколько для будущих поколений!
А раз так, то, лишь начиная со своих современников, поэт обращался к потомкам в масштабе не только России, но и всего «европейского мира» (прямым свидетельством тому является написанное двумя годами ранее стихотворение «Умирающий гладиатор», к которому мы вернёмся).
Итак, нет никакого сомнения в том, что, предощущая судьбу духовно обессиленных наследников русской культуры, Лермонтов расширяет «рамки обзора» до начал и пределов всей «белой цивилизации». Глубина сверхличностного проникновения поэта в недра человеческого бытия свидетельствует о том, что его духовная субстанция способна была ощутить изначальные причины тех человеческих пороков, которые с незапамятных времён приводят в отчаяние наиболее проницательных мыслителей. Это и было то отчаяние, которое в своих вариациях в те же годы приводило к безутешному пессимизму других знатоков душ человеческих – Петра Чаадаева, Сёрена Кьеркегора и (впрочем, не хватавшего звёзд с небес) «русского иезуита» В. С. Печёрина. Это же отчаяние дало мощный импульс для глубокого психологического проникновения в действительность Ф. Достоевскому, Л. Толстому и провозвестнику «философии жизни» Ф. Ницше. Тем не менее, именно в грандиозной по масштабу, охвату бытия и пронзительности мысли «Думе» Лермонтова сконцентрирована грозная в своём трагизме мысль, раскрыты предощущения поэта и пророчества его. Верность их открылась уже тем современникам поэта, которых застала старость.
Но ещё более очевидной «правда Лермонтова» стала для последующих поколений. Об этом – молча уже… – свидетельствует утратившая надежды и пережившая безверие генерация рубежа XIX–XX вв., дети которой после двух кровопролитных войн безнадёжно запутались в тенетах «предметной реальности», не без оснований названной Анри Бергсоном «мёртвым миром». Предвещания самого Лермонтова, разбросанные во многих его произведениях, подчас выглядят менее конкретно, чем пророчества, но потому только, что они охватывают большие пласты реальности, в которой пророчества являются её концентрированной частью.
Уже в ранние годы поэту дано было разгадать трагическое постоянство ошибок и запоздалого ума каждого, говоря словами Пушкина, «младого, незнакомого племени», к ошибкам отцов добавляющего собственные пороки, заблуждения и промахи. Потому предвидения поэта остаются важными для каждого, увы, не ведающего о том поколения. Впрочем, то, что «неверующие Фомы» не способны будут внять каким-либо предостережениям, тоже входило в предощущения
Лермонтова. Как то показали последующие события, рождённым пройти «над миром» «без шума и следа» не суждено было ни разгадать сокрытый язык ушедших эпох, ни понять содержание своего времени, ни провидеть грядущее, а лишь расхлёбывать его тяготы (Доп. V).
Казалось, если кто-то не способен оценить гениальность ума, то не стоит особенно сожалеть о таком пустяшном недоразумении. Дело, однако, в том, что уникальность мышления (мысль-форма) Лермонтова состоит не только в умении провидеть, но и в несомненной пользе его предостережений. Именно в этом состоит цивилизационная и историческая ценность произведений поэта. Но, сознавая свою мощь, Лермонтов ещё больше осознавал невозможность предупредить не свершившееся ещё… Отсюда обречённость и печальная сосредоточенность его мысли, сила тяжёлой поступи и, обусловленная «тайной» ответственностью, торжественная размеренность истинно великого произведения. В своей «Думе» Лермонтов предвосхищает целостность того, что «в частях» впоследствии исследовал Карл Юнг, утверждавший: всё, что даёт нам прошлое, адаптируется к возможностям и требованиям будущего. Замечание выдающегося психоаналитика прибавит в цене, если учесть, что каждое настоящее, на глазах современников становясь прошлым, в то же время устремлено к будущему. Сила творчества Лермонтова не только и даже не столько в глубоком анализе и «пояснениях», но, как уже отмечалось, в потенциально строительной «функции», гипотетически способной позитивно видоизменить культурное бытие России.
Итак, творчески мыслящий исследователь, то есть не заражённый кабинетным, дробно-аналитическим думанием, не должен пасовать перед тем, чтобы «продлить» «линию творчества» Лермонтова до могущего быть, но, увы, несостоявшегося. Именно способность слиться с внутренней «траекторией» лермонтовского бытия поможет понять значение и осознать истинную ценность одного из самых дерзких и загадочных гениев мировой культуры. Только через понимание значительности и ощущение элементов сверхреального в нём, то есть существующего отнюдь не только во временных рамках исторически преходящего «настоящего», можно прийти к ощущению внутренней истины поэта. Лишь не охладив в себе стремление к ней и не убоясь переоткрыть «известное», можно распознать нетленные во времени «знаки» творческого бытия Михаила Лермонтова. В противном случае многое по-прежнему останется непонятным и непонятым. Непонятным для видящих лишь «букву» поэзии Лермонтова или «дилетантизм» его художеств и непонятым для тех, кто не в состоянии ощутить мощно заявившую о себе в конкретном времени мысль поэта, выходящую за пределы событийной истории. Словом, рассматривая лишь субстанционально имеющееся (созданное Лермонтовым) вне связи с инерцией и общей направленностью невероятного по своей стремительности искромётного лермонтовского творчества, даже и самые добросовестные исследователи будут то и дело натыкаться на сотканную из «алогизмов» стену неясностей. Поскольку «Холодной буквой трудно объяснить / Боренье дум…» – писал сам поэт.
Но как и возможно ли распознать творчество Лермонтова в его изначальной целостности по его «части»? И потом, если «опереться» на несостоявшееся бытие Лермонтова, то где и в чём искать помощь для разгадки сокровений и дум поэта, отнюдь не лежащих на поверхности даже и в сделанном… – условно говоря «реализованном» творчестве?
Убеждён – в отроческих произведениях Михаила Лермонтова!
VI
В проявившемся в детстве «величии без опыта» в Лермонтове заявила о себе самая сущность его гения, никогда не выражающая себя ясно, но всегда говорящая о главном! Эта сущность включает (потому как содержит в своих «скрижалях») всю жизнь Лермонтова – и прожитую и непрожитую. В ней же «прописана» была трагическая судьба поэта («жившего», по его признанию, «в прекрасном <то есть – не явном. – В. С.> мире – но один»), как и обозначена квинтэссенция его творчества. Сущность эта, будучи продолжением внеличного опыта и не привязанная к конкретной жизни, выражает надличное видение человеческого бытия. Это объясняет то, что основные провидения, темы, мотивы и начала главных произведений были заданы Лермонтовым в ранние годы (где-то между 1828–1831 гг.). То есть тогда, когда на сущность его не посягало «взрослое сознание» и нередко притупляющий духовное зрение житейский опыт. Именно к венчанному чистотой «нереальному» бытию апеллировал Лермонтов на протяжении всей своей жизни. Именно ему придавал он огромное значение. Детская душа была лишь единственно возможной формой, в которую могла облечься эта истинно неземная сущность. То был тот сосуд, в который мог быть «влит» великий дар Поэта.
«Хранится пламень неземной / Со дней младенчества во мне», – с восторженной смелостью писал Лермонтов, осознавая значение своих первоощущений. Эти «младенческие дни» несли в себе всевременное звучание: «долго, долго ум хранит первоначальны впечатленья». Этот-то ум, сроднившийся с сущностью поэта и провидевший невыразимое словом, не давал Лермонтову покоя. «Но пылкий, но суровый ум меня грызет от колыбели», – опять признаётся он в благоговейном отношении… не к детству – нет! – к «пламени неземному» своих младенческих лет. Именно «ум», нераздельный с горением души, и искал чудесного, отражая вышние «впечатленья» в могучем творчестве.
«Детская» муза поэта являла собой некий тоннель, по которому гений Лермонтова без помех устремлялся к своему венчанному «будущему», долженствующему состояться, но бытийно не реализованному… Эта же муза, «устами младенца» обозначив феерическую красоту образов и философскую глубину мысли, была своего рода «программой», обусловившей смысл всего, в том числе и «позднего», творчества поэта. Не ограниченный, а значит, и не ущемлённый сознанием (отражающим главным образом «эту» жизнь), «лепет гения» возносил мысль Лермонтова в сферы, неведомые даже и его великим собратьям по перу. Однако цена этому была немалая… «И как я мучусь, знает лишь Творец», – признаётся Лермонтов в 1831 году, а в последний год жизни, в муках же, констатирует в своём «Пророке» заветы Предвечного.
О глубокой духовной вовлечённости в поиск истины свидетельствует внутренняя чистота поэта, мощь и пронзительность его творчества, преодолевающая пространство и само время. «Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть», – говорил Д. С. Мережковский. Именно «качество» и глубина страданий внутреннего плана дают основания полагать, что душе Лермонтова свойственно было видение сущего, корнями времён уходящего в глубину духовного прошлого человека. Случающиеся повторы в этих «временах», по всей видимости, и давали возможность Лермонтову провидеть элементы «повторяющегося будущего», тем самым обусловливая дар пророчества.
Но на каких основаниях?
Поэт отвечает на этот вопрос:
…много было взору моему Доступно и понятно потом у, Что узами земными я не связан И вечностью и знанием наказан.И здесь заявляет о себе не только родственность «вечности» с «знанием», но и живое взаимодействие причины и следствия – дара, как ощущения истины, и наказания за «привилегию» знания… Эта глубокая взаимосвязь прошлого, вечного и настоящего принуждает искать истоки тайн мира Лермонтова в далёком, если вообще можно так сказать о нём, детстве поэта. «Моя душа, я помню, с детских лет / Чудесного искала…», – писал он, едва выйдя из нежных лет. Именно тогда и раскрылось в Лермонтове видение и ведение того, о чём впоследствии он писал более отчётливо.
Весьма примечательно, что чудесный мир, открывшийся Мише Лермонтову в детские годы, первоначально запечатлен был им в красках – в цветном воске и в радужных цветах поразительных акварелей поэта. В одной из них (датированной 1824 г.) мы различаем фантастический «городской» пейзаж, открывающийся нам со стороны огромной затенённой «арки», через которую, словно по тоннелю, данному в сильной перспективе, внимание зрителя «улетает» в неведомые лучезарные пространства, бесконечность которых передана прозрачными нежно-золотистыми цветами. Тогда же юный Лермонтов пишет любопытную акварель (почему-то названную «Пейзаж со всадниками», которых, между тем, едва можно различить), где помимо «мистического» видения бросается в глаза незаурядное дарование и хорошие навыки в работе с тоном и цветом. В расположенном на островке сказочном городке с («по-детски») причудливой архитектурой – к небу устремляются шпили «рыцарских» башен. Вот именно – к небу. Дав очень низкий горизонт, ребенок не граду, а небу уделяет главное внимание. Умелая организация необъятных пространств позволила ему через панораму скученного «городка», причём вовсе не ущемляя красот «земного вида», сосредоточить свой интерес на небесных пространствах. Занимая значительно большую часть листа, небо истинно царит над «грешною» землей, «посредником» для которой служит не иначе как переданное нежными цветами пушисто-белое облако – единственное, расположенное в самом центре «небесной» акварели [15].
Уж не этому ли переживанию (видению, а может – ведению?!) детской души, глубоко запавшему в сознание ребенка и почти тогда же запечатленному в красках, предшествовало сновидение, золотым сиянием вписанное в душу его и чернилами в тетрадь в 1830 г.?! «Я помню один сон, когда я был ещё восьми лет, он сильно потряс мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу куда-то; и помню облако, которое, небольшое, как оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу: это так живо передо мною, как будто вижу». В том же году он с чувством пишет, скорее всего, о «том же» времени: «Как я рвался на волю к облакам!», а несколько ранее и вовсе «желая» занять «место» звезд («Небо и звезды», 1829).
Но, если в этих акварелях Лермонтова прослеживается нежная впечатлительность, то чуть позже он населяет свой мир «материальностью», заметной в кавказской сцене, изображающей всадника, скачущего через ручей, и в особенности в акварели «Отряд древних воинов». Обе маленькие композиции, выполненные в 1826–1827 гг., написаны сочными плотными цветами с явным пониманием декоративности и ощущением гармонии цветовых отношений. Между тем, помимо художественных качеств, они некоторой жёсткостью тона и цвета свидетельствуют ещё о пробивающем себе путь властностном характере мальчика, точно знающего, где чему быть и чего он хочет. Само же письмо «Воинов» необычной характерностью своей говорит не только о богатой фантазии ребенка, но и о глубокой проникновенности его сознания в мир грёз – в то время бывших для него истинной реальностью.
В дальнейшем мировосприятие юного Лермонтова с наибольшей интенсивностью выражает себя в Слове (а именно – с 1828 г., когда он, по собственным словам, «начал марать стихи»). Будучи пока ещё «бессознательным», то есть не связанным с реалиями быта, оно, имея прежнюю направленность и обозначая ту же реальность, теряет былые «радуги красок»… «Переход» поэта из одной реальности в другую был весьма болезненным. Юный Лермонтов, душою всецело и навсегда оставаясь в прежних реалиях, обогащает своё сознание трагическим опытом и знаниями «этого» мира:
В уме своём я создал мир иной И образов иных существованье; Я цепью их связал между собой, Я дал им вид, но не дал им названья; Вдруг зимних бурь раздался грозный вой, — И рушилось неверное созданье!..Здесь каждое слово, каждый слог отдаёт тяжёлой поступью. Задерживая внимание, каждый шаг уверенно настаивает на себе. Стихотворение заведомо не монолитно и не читается, как можно было ожидать, «на одном дыхании». Выверенное не отроческим умом, оно делится ритмическими паузами, словно гвоздями вбивающими тайный смысл в судьбу поэта. Короткий, но исключительно содержательный «отрывок души» Лермонтова не несёт в себе цельность и не выстраивает мелодическую гамму, ибо задача его не в этом. Стих «четырнадцатилетнего Данта», уже тогда провидевшего судьбы «обоих миров», больше напоминает эпитафию по ним же…
Лермонтов, однако, не погибает под «обломками» своего «неверного созданья», хотя иллюзии его стремительно убывают. «Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете», – делится он с кем-то («Монолог», 1829) и с поразительным для отрока проникновением уточняет «детали» света, «Где носит всё печать проклятья, / Где полны ядом все объятья, / Где счастья без обмана нет»; того света, который по прошествии нескольких лет погубит Пушкина.
Наделённый от природы колоссальным умом и недюжинной энергией, поэт знает себе цену. Его могучая энергия требует выхода. Осознавая своё призвание, Лермонтов ощущает в себе силы невероятные и, готовый к подвигу, заявляет: «Мне нужно действовать, я каждый день / Бессмертным сделать бы желал, как тень / Великого героя…». А годом раньше – в 1830 г. пишет как о чём-то само собой разумеющемся: «Мой дух бессмертен силой / Мой гений веки пролетит». И «подтверждает» это в 1831 году: «Я чувствую – судьба не умертвит / Во мне возросший деятельный гений»!
И это не бравада, не отроческое самообольщение – это отважный вызов судьбе, грозные знамения которой поэт ощущал уже тогда. Эти строки свидетельствуют о том, что в мир пришла самость, осознающая свою силу и видящая себя не только в бытийной истории. Но для современников смысл «слов», как и «печали» поэта, был тёмен. «Мои слова печальны: знаю / Но смысла их вам не понять», – говорит Лермонтов «толпе». Ибо «смысл их» был и предвестием, и опытом осознавания себя перед смертным боем с призрачным тогда ещё, но грозным в своей мощи Недругом…
Последующее «сознательное» бытие поэта (условно говоря, между 1832–1837 гг.), помимо духовного, политического и творческого обогащения, было главным образом заботой о придании формы поразительным идеям и мыслям, поэтическим и изобразительным находкам. Внутреннее содержание творчества Лермонтова, в «светский» период развития могучего таланта – и таясь от него, и «полоняя» мир, а потому выглядя не всегда убедительно, – всё же не переставало мощно свидетельствовать о себе. «Я рожден, чтоб целый мир был зритель / Торжества иль гибели моей», – говорит Лермонтов на пороге взросления. «Схватки» с «миром» часто малодушного и куда чаще лицемерного общества придают музе Лермонтова драматизм, звучащий в устах Арбенина: «Любил я часто, чаще ненавидел, / И более всего страдал» («Маскарад», 1836).
Не замыкаясь в реалиях своего отечества, поэт с отроческих лет с вниманием наблюдает происходящее за рубежом. Лермонтов провидит революции, поскольку угадывает их конечную цель – уничтожение национальных элит и разрушение монархий, в иерархии которых они находят поле своей деятельности. Со времён Великой революции (1789) лихорадило не только Францию, но и всю остальную Европу, о чем Лермонтов не только был в курсе, но и на что реагировал своим пронзительным творчеством. Даже и не имея продолжения в истории или не оставив в ней своего следа, события (в предвидении их) находили своё бессмертие во вдохновенных строках поэта.
Самое время вернуться к стихотворению «Умирающий гладиатор» (1836). Здесь Лермонтов посредством исторически узнаваемых символов даёт глубокую этическую, философскую и политически верную оценку современной ему и будущей Европе. Не ошибаясь относительно сущности состоявшихся и не состоявшихся ещё при его жизни событий, Лермонтов видел внеэволюционную, а значит, исторически насильственную их связь. Насильственную, потому что европейские революции (ограничимся временным диапазоном от Великой французской до неизвестной Лермонтову «сентябрьской» революции 1870 г.) лишь эксплуатировали давнюю мечту человечества жить в соответствии с «равенством по природе». А историческую связь поэт находил в том, что сама возможность революций (не говоря о факте их) свидетельствует о вызревании до готовности неких, повторяющихся в своём существе, а потому внутренне единых процессов, из которых выстраивается цепь событийной истории. Отметим ещё, что Французская революция, начав «дело» разрушения монархий и элитных слоёв общества, открыла собой и череду «освободительных» войн, национально-освободительная ипостась которых неоднозначна, а потому не всегда убедительна. Знаменательно, что исторически в это же время, а именно: во второй половине XIX в., изрядное внутреннее истощение Европы заявило о себе в дробности «бунтующей» философии, культуре и искусстве, породив, в частности, в живописи заведомо «умирающее» течение прерафаэлитов. В своей совокупности цивилизационная эвольвента к концу века привела европейские державы к колониальному кризису и сопутствующему культурной «кривой» политическому разложению.
Предостерегая безверную Европу, суть этих процессов Лермонтов видел уже в тридцатых годах. Задолго до Н. Я. Данилевского (и, понятно, – системы сменяющих друг друга высоких культур Освальда Шпенглера), давшего науке теорию «культурно-исторических типов», поэт не только называет Европу «европейским миром», но, прозревая время, предрекает погрязшему «в гордой роскоши», «миру» духовное опустение. И если упадок европейской самости ознаменовал себя вековой цепью из пяти французских революций, приведших к созданию непримиримых военных блоков и I Мировой войне, то духовное разложение теперь уже «западного мира» наиболее интенсивно заявило о себе (правда, уступив в этом пальму первенства США) после II Мировой. Таким образом, одно Безверие уступило ещё большему. Видимо, отсюда давний «интерес» духовно увядающей Европы к в то время относительно здоровой России. Лермонтов завершает своё провидение «мира Европы» следующими строками:
Не так ли ты, о европейский мир, Когда-то пламенных мечтателей кумир, К могиле клонишься бесславной головою, Измученный в борьбе сомнений и страстей, Без веры, без надежд – игралище детей Осмеянный ликующей толпою! И пред кончиною ты взоры обратил С глубоким вздохом сожаленья На юность светлую, исполненную сил, Которую давно для язвы пресыщенья, Для гордой роскоши беспечно ты забыл: Стараясь заглушить и песни старины И рыцарских времён волшебные преданья — Насмешливых льстецов несбыточные сны.Не очень спокойно было и в России. После провала движения декабристов (1825) наступило некоторое затишье, прерванное народными бунтами 1830 г. Глядя на то, как теряет свою (куда как дисциплинированную) голову Европа, Лермонтов с ещё большим беспокойством наблюдал «кураж» российского бытия. Ибо знал падкость народа на то, что Пушкин называл «невозможными переворотами». Но, конечно же, не локальные мятежи крестьян, которые, опять прибегнем к словам Пушкина, – были не что иное, как «… заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования», глубоко печалили душу поэта.
Зная слепую привязанность «прогрессивных слоев» русского общества прежде всего к галантерейным ценностям Европы (помимо которых последняя, будем честны, создала много чего более существенного), Лермонтов не мог не знать, во что может вылиться в России ложное знание при доверчивости ко лжи. «Лучшие люди разглядывали, что прежние пути развития вряд ли возможны, новых не знали. Серое, осеннее небо заволокло душу», – писал А. И. Герцен в «Былом и думах».
В столицах надолго воцарилась душная атмосфера официозности и казённого патриотизма.
Но даже и в этой ипостаси «патриотизм» гоголевских чиновников давал фору беспочвенным русским либералам – неискоренимой «пятой колонне» в любом Отечестве. Это подтверждают дела во Франции, с конца XVIII в. обошедшей всех в Европе не только в своей неугасимой революционности.
Живший в эпоху «французских смут» Пьер Беранже, перекликаясь с Лермонтовым в отношении к опостылевшей ему (в данном случае – революционной) реальности, красиво декларировал уход от трагических несуразностей своего времени:
Господа! Если к правде святой Мир дороги найти не сумеет, — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой!Однако «европейское человечество» и не помышляло спать. Не вняв сентенции Беранже, оно «бодрствовало» во Франции более, нежели где-либо.
Итак, не выходя за хронологические рамки «начального творчества», с немалым основанием можно утверждать, что проникновенные открытия «детства» русского поэта, уходя в неосуществившееся будущее, создают некий «мост», на котором и нашло себе пристанище трагическое творчество Лермонтова; «мост», проходя по которому, он не строил себе дома… Уж не об этом ли пути говорит нам сам поэт в стихотворении «Когда надежде недоступный…»:
Пойдёшь ли ты через пустыню Иль город пышный и большой, Не обожай ничью святыню, Нигде приют себе не строй. 1835Краткое бытие Лермонтова изначально пронизано было вечностью, «вместившейся» в несколько лет тленного существования («Душа моя должна прожить в земной неволе не долго…», предощущает поэт). И в этой «вечной» жизни Лермонтова нет «начала» и «конца», а есть продолженность её. Оттого, лишь «став» на «начало» пути поэта, можно выйти на понимание состоявшегося (по времени) творчества, придя к ощущению и несвершившегося… Лишь по этой «зависшей дуге» можно «вернуться» к истинному пониманию зрелого творчества Лермонтова, знаки которого присутствуют уже в самых юных его годах. В эти же годы, отмеченные печальным предвидением («Я предузнал мой жребий, мой конец, / И грусти ранняя на мне печаль», 1831), поэт как будто пытается постичь и даже войти в неведомые никому и не ощутимые никем «ветхие» пространство и время.
Титаническая работа над «Демоном», идею которого он обозначил не позднее 1829 г., и была главной лабораторией поэта, где сущность его пыталась объединить в себе глубь «бессознательного» с формой «сознательного». Непонимание этого привело к известным спекуляциям, на чём остановлюсь несколько подробнее.
Вражды с «небом», тем более «гордой», у поэта никогда не было. Будучи глубоким диалектиком, Лермонтов, условно говоря, «ставит под вопрос» совершенность создания (человека), который всей своей деятельностью (с самого начала!) развенчивает в себе «венец Творения»… Избрав путь воина и при этом оставаясь на позиции мучающегося «вечными вопросами» исследователя (а значит, «имеющего право» допускать даже и недопустимое), Лермонтов-мыслитель, констатируя предмет анализа, прозревает суть всей темы. Но при этом он оставляет открытым поиск коренных причин первого во времени противостояния Провидевшему всё… А раз так, то – и «зло», и «отрицание» у лермонтовского Демона содержат в себе иную наполненность. Пафос их в неприятии утвердившегося в исторической жизни порядка вещей!
Если же принять во внимание, что «порядок» этот, с адамовых времен преодолевая в человеке созидательные свойства, только в ушедшем столетии «дал человеку» две жесточайшие Мировые войны, а самый мир (сейчас уже) поставлен на грань, за которой может последовать тотальное небытие, – то придётся согласиться, что лермонтовский Демон есть некая сущность, страдающая в поисках выхода из некогда сотворенного тупика… Отверженный Богом, он, властвуя над «ничтожною землей», не испытывает наслажденья в сеянии зла. Более того, признавая «вечной правды торжество», Демон не только «отрекается от старой мести» и «гордых дум», но (через творение Его) ищет примирения «с небом».
По ходу развития поэтического повествования становится ясно, что Лермонтов не «шёл на поводу» у Демона, а, скажем так, умозрительно рассматривал возможность «возвращения» его в лоно Того, кого Падший Ангел отверг…
Но Лермонтов-творец бессилен перед диалектикой заданного. Потому Демон, страдающий бессмысленной (и повторяющейся в своей бессмысленности) жестокостью исторического бытия, «расшибается» о «камни» вселенской диалектики своего создателя, в данном случае Лермонтова… Мечты «духа изгнанья» были «безумны» изначально, ибо нельзя проникнуться добротой и любовью, оставаясь Демоном – надменным и гордым. А потому всё закономерно приходит к своему трагическому финалу:
И проклял Демон побеждённый Мечты безумные свои, И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упований и любви!Осмелюсь утверждать, что сама фрагментарность человеческого бытия обусловила незаконченность великой поэмы. «Вмешавшись» в продолжающуюся борьбу Бога и Дьявола, Лермонтов оказался на поле битвы, в которой человек не может быть действующим лицом… Ибо не людям – даже и самым великим! – вклиниваться в реальность, жалкой копией которой является бытие. В этом заключается драма Лермонтова, в этом же состоит трагическое развитие всей человеческой истории, к которой осмелился приблизиться не знавший страха гений поэта.
VII
Провидя, а может, и зная свой «довременный конец», Лермонтов ждёт его, по его собственным словам, «без страха». Однако страх иногда находит на поэта. В незаконченной поэме «Сказка для детей» (1839–1840) Лермонтов делает удивительное признание о яви, между тем, увиденной поэтом, как будто, в «диком бреду»:
Но я не так всегда воображал Врага святых и чистых побуждений, Мой юный ум, бывало, возмущал Могучий образ. Меж иных видений, Как царь, немой и гордый он сиял Такой волшебно-сладкой красотою, Что было страшно… И душа тоскою Сжималася – и этот дикий бред Преследовал мой разум много лет…«Это слишком субъективно, слишком биографично, – комментирует отрывок Вас. Розанов, и добавляет: – Это – было, а не выдумано. “Быль” эту своей биографии Лермонтов выразил в “Демоне”, сюжет которого подвергал нескольким переработкам…»
На фоне нескончаемой, внесобытийной и надисторической жизни дела земных величин и впрямь видятся не более, как тенями настоящих участников тварного мира, истинных постановщиков драматического действа вселенского масштаба.
Среди множества инициаторов здешней воли немало личностей, по праву оставивших своё имя в истории. Но и самые великие из них не были свободны от малодушия, мелких страстей и крупных несовершенств. К примеру, Наполеон, уже при жизни вознесённый над всем и вся в этом мире, в этом же качестве бежал из Египта, оставив на верную гибель армию и преданного ему генерала Клебера. Сорокавековые пирамиды стали свидетелями того, как раскалённое солнце, беспощадная пустыня и железные клювы грифов добивали остатки французской армии…
Пожалуй, единственное, что прославило Наполеона в Египте, это его знаменитый и, по факту, гуманный приказ по армии при её паническом отступлении: «Ослов и ученых – в середину!». Эта ёмкая фраза, нелицеприятно оценивающая преданных науке учёных, дела которых, наверное, всё же уступали пользе для армии выносливых, трудолюбивых и безропотных ослов, только и осталась от всех дел Наполеона в Египте. Но ни эти «дела», ни явные просчёты во многих других (будем честны – великих) военных кампаниях, ни побег из России, а до того моральное поражение в Испании, никогда и никем не были воспеты.
Бегство Наполеона из Египта «на осле», роль которого по числу ног сыграла французская эскадра из четырёх кораблей, не прибавило великому честолюбцу ни чести, ни достоинства, ни славы. Положенное знающими людьми «под сукно» истории, бегство это было замолчено ими же… С лёгкой руки поэтов, историков и прихвостней от науки, Бонапарт остался в памяти потомков облачённым в пурпур победителя со сценически «пасмурным челом», языческими утехами и мифологизированным величием.
Что касается Лермонтова, то не всем наблюдателям истории и культуры был ясен масштаб личности русского поэта. К примеру, Вл. Соловьёв в статье «Лермонтов» (1901), укладывая творчество Лермонтова и его самого в «прокрустово ложе» личного мировосприятия, оправдывал свою точку зрения тем, что поэт черпал жизненный опыт лишь из своего круга.
«Не ищите у Лермонтова той прямой открытости всему задушевному, которая так чарует в поэзии Пушкина, – пишет Соловьёв. – Пушкин, когда и о себе говорит, то, как будто о другом; Лермонтов, когда и о другом говорит, то чувствуется, что его мысль и из бесконечной дали стремится вернуться к себе, в глубине занята собою, обращается на себя». К концентрации Лермонтова на себе мы ещё вернёмся, а сейчас продолжим цитирование, отнюдь не по-христиански обидчивого и сверх всякой меры судящего религиозного философа.
Говоря о «стихотворных произведениях, внушенных этим демоном нечистоты» (?!), философ утверждает: «Во-первых, их слишком много («нечистых» произведений! – В. С.), во-вторых, они слишком длинны: самое невозможное из них (sic!) есть большая (хотя и неоконченная) поэма («Демон». – В. С.), писанная автором уже совершеннолетним (?!), и, в-третьих, и главное – характер этих писаний (?!) производит какое-то удручающее впечатление полным отсутствием той лёгкой игривости (?!) и грации, какими отличаются, например, подлинные произведения Пушкина в этой области». Умиляясь тем, что «Пушкина … вдохновлял какой-то игривый бесенок, какой-то шутник-гном», Соловьёв всерьёз убеждён, что «… пером Лермонтова водил настоящий демон нечистоты». Примечательно, что, не постеснявшись напомнить возраст поэта и обвинив его «в этой области» (т. е. поэзии) во множестве прегрешений, Соловьёв тут же признаётся: «я совершенно не могу подтвердить здесь своё суждение цитатами…», – после чего «подтверждает» своё суждение о поэте нелепо-случайным примером, не имеющим никакого отношения ни к Пушкину, ни к Лермонтову, ни к поэзии вообще (см.: В. Соловьёв. «Лермонтов». 1899).
Не буду слишком уж придираться к столь же длинной, сколь путаной и тяжеловесной фразе Соловьёва, и по мысли, и по стилю изложения не делающей ему чести. Отмечу лишь субъективность оценок и умозаключений философа, которые он, судя по всему, черпал в собственных духовных блужданиях.
Очевидно отсюда странная для мыслителя ограниченность критериев этического и морального плана. Честно признавшись, что не находит в творчестве Лермонтова пушкинской «лёгкой игривости», Соловьёв сознаётся в том, что именно «игривость и грацию» (уж приходится хватать религиозного философа за язык) он считает достоинством литературы. Отказывая произведениям Лермонтова ещё и в подлинности (понятно, что – в художественной подлинности – именно это следует из контекста оценки Соловьёва), он тем самым вызывает сомнение как в понимании посылов творчества Лермонтова, так и поэзии. На всякий случай напомню, что поколение Соловьёва, как и он сам, дружно ушло в дебри манерной декоративности, греша духовной размытостью и пустой многозначностью символов. Восхищаясь «игривым бесёнком», который наилучшим образом представляет поэзию Пушкина, Соловьёв, перекрестившись, приходит в ужас от «настоящей демонической нечистоты» Лермонтова. Но отдадим должное критику. Хоть и называя трусливого убийцу поэта «бравым майором», он всё же отмечает благородство Лермонтова на дуэли. Хотя, нащупав внутреннее борение поэта, религиозный философ судит его душу, говоря: «по существу это был безумный вызов высшим силам». А раз так, то он видит основания, хоть и фигурально, послать Лермонтова в «преисподнюю, где пляшут красные черти». Понимая, что дал лишку, а может, сам испугавшись «пляски», философ видит в разыгравшейся трагедии «черты фаталистического эксперимента» Лермонтова. Так, ни разу не погрешив остроумием, Соловьёв как-то совсем уж бледно довершает свою мысль: «который (т. е. вызов) во всяком случае не мог иметь хорошего исхода». Не довольствуясь приговором духу и всему творчеству поэта, Соловьёв, со странной для религиозного философа нетерпимостью к вышнему дару, не прощает Лермонтову его гениальности. Так и не разгадав ни направленности мыслей поэта, ни существа его поэзии, ни сущности Лермонтова, Соловьёв, возопив против гения, подобно пушкинской бабке остался у своего разбитого корыта…
Однако морализация творчества – беда не только Соловьёва, но и тех «отшельников» с претензией на духовное учительство, которые, денно и нощно «отчуждая себя от мира», никак не приближаются ни к святости, ни к духовному, ни к какому бы то ни было творчеству. Отнявши взоры от молитвословов, они не способны испытывать радость от роскоши природы («роскошно блестящей и шумной весны примиренному сердцу не жаль», – бравирует Соловьёв странной духовностью и сомнительными поэтическими достоинствами своего стиха), а «примиренчество» их отдаёт сухим, мёртвым шелестом глубокой осени. Оттого и мораль критиков – «не жалеющих», потому как не знающих ни свежести, ни красок мира, – отдаёт умиротворённо-отвлечённой, смиренно-сухой «осенней» обезличенностью. Всё это отягощено болезнями «ушедшей в себя» души и «тела», не слишком часто бывающего на свежем воздухе. А мировосприятие «скитников» от поэзии, подобно тяжеловесной музе Соловьёва, которая «словно тяжёлое старое горе, смолкшее в прощальном уборе». И перевешивают её лишь духовные и этические заблуждения[16].
Впрочем, скороспелые оценки свойственны были не только Соловьёву. И Достоевский, отдавая должное величию Лермонтова, как-то скажет о нём: «Не дозрел до простоты». И Достоевский, смирив свой дух, но и в этом состоянии не сумев превозмочь противоречий эпохи, «вспугнутой» гением поэта, в Лермонтове прошёл мимо того, к чему сам пробивался через горе и страдания. Между тем великий человек потому велик и тем отличается от других, что судит не только по своему опыту, ограниченному окружением, но прозревая весь срез бытия. И приходит он в мир не для того, чтобы обслуживать его (на то есть политики и высокопоставленные лакеи), а для того, чтобы в посильной мере врачевать поддающихся лечению, тем самым являясь свидетельством высшего проявления человеческого долга. Идеи не в меньшей степени, нежели «дела», являются реальностью, ибо непосредственно воздействуют на бытие. Лермонтову ни оправдание, ни, тем более, прощение не нужно по той причине, которая навела Франсуа Шатобриана на мысль: «Величественна не та душа, что прощает, но та, что в прощении не нуждается»!
В нелицеприятном очищении зёрен от плевел и видел поэт свою миссию – в этом была «истина Лермонтова». Способный к прозреванию сущего, он ясно видел и находил Божественное в нём. Потому находил, что в поэте было глубоко осознанное стремление и потребность к внутреннему единению с Вседержителем. Тем не менее, «христианство, как религия смирения и отречения от самого себя, было чуждо гордой и мятежной натуре поэта. – верно подметил на заре прошлого века исследователь творчества Лермонтова С. Шувалов. – Не принимал он и внешней, обрядовой религиозности, если она не была проникнута искренним религиозным чувством»[17]. Всё преходящее и тленное и в самом деле могло иметь значение для Лермонтова-аналитика лишь как «измеритель» духовного и этического контраста. В стремлении обрести духовную полноту и внутреннюю цельность (что, по сути, означало уменьшение доминанты личностного в себе), очевидно, и выходил Лермонтов в ночь на кремнистый путь, отражающий блеск звёзд. Изумляясь серебру небес, поэт обращает к нему свою душу, и из уст его исходит чудная молитва. Истинно неземная лёгкость её свободно обращается в поэтическую форму, в которой эпическое содержание, становясь мелодией, одинаково принадлежит и земле, и «небу»:
В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть: Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучьи слов живых, И дышит непонятная, Святая прелесть в них. С души как бремя скатится, Сомненья далеко - И верится, и плачется, И так легко, легко… «Молитва», 1839В поисках наибольшей убедительности поэт нередко прибегает к символике. К тому, что находится «за пределами» бытия и в то же время органично принадлежит ему.
Эти «знаки», разбросанные по жизни, поэт не только видит, но и глубоко восприемлет. Потому и «камешек», кем-то шутки ради вложенный в руку незлобивого нищего, в чутких устах Лермонтова приобретает символ, охватывающий пороки и несовершенства всечеловеческого масштаба.
С 1838 по 1840 г. Лермонтов в Петербурге. Он восстанавливает светские связи, посещает литературные салоны семьи Карамзиных и В. Одоевского, где общается с немногими истинными друзьями, бывает на балах и приемах у придворной аристократии: Валуевых, Репниных, Смирновой-Россет.
Ничего нового в обществе последних он для себя не находит. Высший свет становится ему «более чем несносным», потому что «нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там» (из письма к М. А. Лопухиной, к. 1838).
Но Лермонтов и не живёт в этом мире – давно. В своём же в этот период он создаёт целые россыпи поэтических жемчужин; пишет роман «Герой нашего времени». Небольшая по объёму, книга эта, воистину, томов премногих тяжелей.
В длинном ряду шедевров в ней изумляет философской наполненностью, величественностью и красотой образов одно из самых музыкальных творений Лермонтова – стихотворение «Тучи» (1840), которое он написал буквально на глазах своих друзей. Волей императора, угодливо явленной графом А. Х. Бенкендорфом, изгнанный из столицы на Кавказ (Доп. VI), поэт обращается к небесным странникам, в свете нескончаемого эфира переливающимся лазурным жемчугом:
Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные… Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.Намертво прикованный к военной службе присягой и уставом, опальный поэт не без труда выкраивает минуты для творчества.
Наделённый удивительным даром видеть главное в исторической жизни, поэт умел художественно убедительно изображать прошлое («Бородино», «Песня про царя…»), как и жить в характерах (Максим Максимыч, Ундина, Янко в «Герое нашего времени»), на изучение которых у него просто не было времени. Магией таланта Лермонтову приходилось не иначе как реконструировать материал (делая это исключительно достоверно), бестелесно существующий в элементах неведомой реальности. Отсюда тяга поэта к нездешней свободе, которая ощущается в поэтическом откровении «Выхожу один я на дорогу» (1841). Давно провидя, а теперь уже и зная близящийся финал, Лермонтов, обращаясь к небу и лицезрея в нём Всеведающего, как будто испрашивает у него позволения выйти в последний, дальний и неведомый человеку путь:
Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом… Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чём? Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть! Но не тем холодным сном могилы… Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Тёмный дуб склонялся и шумел.Отчего же так устал Лермонтов? И устал ли?
Поэт даёт нам ответ в другом поэтическом шедевре, пожалуй, самом пронзительном из всех творений поэта. Написанный в то же злосчастное лето «Пророк» ведёт нас тропами, по которым с библейских времён одиноко бредёт освящённый вышним видением и ведением дух человеческий. Но и эти же тропы, запылённые злобой, трусостью и отчаянием малодушных, в людском бытии обращаются в каменистые дороги. С их обочин одичавшие от духовного невежества и малодушия подбирают камни, запуская их вслед знающим истину. Так, условное прошлое опять – в который уже раз! – заявляет о себе в безусловном настоящем:
С тех пор как Вечный Судия Мне дал всеведенье пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья… Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром Божьей пищи; Завет Предвечного храня, Мне тварь покорна там земная; И звёзды слушают меня, Лучами радостно играя. Когда же через шумный град Я пробираюсь торопливо, То старцы детям говорят С улыбкою самолюбивой: Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами: Глупец, хотел уверить нас, Что Бог гласит его устами! Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм и худ, и бледен, Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его! 1841Не буду проводить здесь эффектные аналогии с библейскими пророками уже потому, что идеи Лермонтова навсегда современны, самодостаточны и не особенно нуждаются в усилении какими-либо эффектами. Отмечу только, что с библейских времён к теме Пророка обращались многие великие поэты и писатели, стремясь «прочитать» её в тех невидимых постороннему глазу знаках, которые оставил во вселенной Всезнающий. Не остались равнодушными к этой теме и русские поэты. Испытывая более тяжёлую десницу державы, нежели их западные коллеги, они не были свободны в смысле своей жизни – творчестве.
VIII
Александр Пушкин, уязвлённый ролью в обществе, какая была отведена в России поэту и ему в том числе, – отсюда личное: «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился…» («Пророк», 1826) – в своём произведении напоминает о высоком назначении поэта. Желая усилить «высокую ноту», Пушкин прибегает к торжественной интонации и мелодическому строю стихотворения, поддерживая его ритмом повествования. Озабоченный настоящим, но и стремясь придать теме величие вневременности, он включает в ткань стиха ряд архаизмов: «влачился», «перстами», «зениц», «отверзлись», «внял», «гад морских», «жало мудрыя», «десницы», «угль», «виждь и внемли». Однако, отстаивая величие поэта, Пушкин не только возвышает миссию Пророка, но считает возможным выполнить её, указывая надёжные, казалось бы, для этого средства, ибо даны они были ему Серафимом:
Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, — И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. Лермонтов не столь оптимистичен.Мельком упомянув о всеведении, которое даровал ему «Вечный Судия», он начинает с того, чем Пушкин заканчивает своё произведение («Восстань, пророк, и виждь, и внемли / Исполнись волею моей…» и т. д.). Провозглашение «любви и правды» обречено на непонимание. Слишком долго люди жили вне их. Потому забыли всё, кроме слов, ставших пустыми и в молитве… Обращаясь к поколениям, взращённым в шуме городов и отравленным суетностью, Лермонтов отмечает историческую преемственность зла. И в «ту (древнюю) пору», и в условное «наше время» в глазах людей читается та же злоба и те же пороки – вечные двигатели людских усобиц, противостояний и тотальных войн. Лермонтов, прибегая к гиперболе, в своём стихотворении делает акцент на порочных свойствах человека и общества потому, что ничего не меняется…
В этом аспекте более показателен, нежели Пушкинский «Пророк», его же «Пир во время чумы» (1830). Здесь перед нами предстаёт общество, видящее и чуму поводом для празднества. Даже жуткий стук колёс телеги, наполненной трупами, не вносит сумятицу среди
«званых на пир»… Здесь – на пиру не том – на островке «жизни», которая хуже смерти, собравшиеся поют гимн Чуме… В её чёрной тени водит свою страшную телегу негр и незримо присутствует «демон … весь чёрный, белоглазый…». В этой же «тени» замирает в духе Председатель пира. Предав память о матери и саму жизнь, обезумев от дыхания смерти, – он с остервенением возглашает:
Зажжём огни, нальём бокалы, Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы.«Песнь» погибели человеческой пытается прервать Священник:
Безбожный пир, безбожные безумцы! Вы пиршеством и песнями разврата Ругаетесь над мрачной тишиной, Повсюду смертию распространённой!Но его укоры и обличения бесполезны. И он уходит. Председатель отпускает Священника «с миром», но, обуреваемый демонами, бросает ему в спину: «проклят будь, кто за тобой пойдёт!». Это проклятье стопорит робких, жалких и мелкодушных, на все времена ставя жирную точку на нравственном возрождении духовных трусов!
Прослеживая истоки падения человека, два великих поэта видят трагедию бытия в неумении слышать истинное. Оглушённые окриками властвующих и ослеплённые собственным безумием, – «Многие» (по тексту Пушкина) продолжают быть в оковах соблазна и нерешительности.
Между тем «цепи» эти достаточно длинны, чтобы не мешать идти к рабству без веры, без надежд…
На этом не меняющемся во времени историческом фоне всякое слово правды оборачивается для носителей её изгнанием или гибелью. И «дети», и в ещё большей степени поднаторевшие в зложелании «взрослые» во все времена забрасывали каменьями тех, на кого указывало им властное тщеславие «старцев» – сытых сплётчиков лжи, сыновей и внуков таких же отцов и дедов…
Однако для такового положения дел всегда были и есть причины духовного и «физического» плана.
Раздвоение индивидуальной и универсальной воли произошло уже. Давно! С тех пор человечество пошло по пути, фактически, самоотрицания. В том смысле, что перестало признавать лучших среди самих себя. Если не преодоление, то уяснение хаоса, возникающего при смешении духовных и нравственных критериев, ведущих к противоречиям между «своим» и «чужим», «личным» и «всеобщим», издавна заботило лучшие умы человечества. Сначала в этом дознании звёзды показывали на Вифлием, затем «все пути вели» в духовно остепенившийся Рим, а после падения его – в Византию. «Третий Рим» только начал было раскрывать себя в сложившейся цивилизации, как был переориентирован на магистральный для Европы путь цезарепапизма, в лоне которой «русский цезарепапизм» был представлен своей «папской областью», коей была Патриаршья (синодская) «область». Опыт Боговдохновения, в котором христианство отметило себя не менее жестоко и воинственно, нежели другие мировые религии, покамест оказался не очень благополучным. Ибо ни в одном из «устроенных» обществ не дал исторически стабильного и социально позитивного результата. Исторически беспокойное христианство, опираясь на Св. Писание и сложившиеся в раннее Средневековье догматы, принципиально дистанцировалось от устроения «царства» на земле, на практике не выходя из противоречий именно «царствующего» порядка.
Но все эти издержки духовного плана, проводя проекции в политическое и социальное бытие, не снимают жизнеопределяющий интерес человека к понятию о Боге, познанию всеблагости Его, как и «причастности» к мировому Злу. Именно неизбывность последнего во все времена привлекала к себе самое пристальное внимание духовных мыслителей и осмелившихся приблизиться к «опасной» теме философов.
Проблема отношения зла к Богу может иметь дуалистическое разрешение, в котором зло понимается как самостоятельное начало и имманентное (внутренне присущее) Ему; в последнем случае виновником зла является сам Бог.
Здесь возникает дилемма, в своей основе имеющая свободу воли.
Истинная свобода может быть только в Боге, который «передоверил» своему лучшему творению лишь малую часть её, в коей может реализовать себя человек. Лермонтовский Пророк – это воплощение высшей человеческой духовности, которая, владея отведённой ей «частичкой», лицезрит остальную – истинную «часть» свободы, не принадлежащей ни ему, ни человеку вообще. Именно несопоставимый с обычными возможностями диапазон «обзора» определяет суть противостояния между «людьми» и Пророком (читай – Лермонтовым в его духовной ипостаси). Если первые не могут принять бесконечно далёкое от них, то последний не может жить тем, чем живут «города» и «счастливые в пыли» люди. Но Лермонтов менее всего озабочен своими трудностями.
Ему важно высветить основы зла, которые ведут людей к конфликтам между собой и «сообща» – с самим Богом. Пророк бежит в «молчание» пустынь, которое не может оскорбить «шум толпы людской», очевидно, не только и не столько с целью банального самосохранения (хотя тема духовной защиты, пересекаясь с социальной, проглядывается в тексте, а потому имеет право на существование), но и для того, чтобы вновь обрести внутреннюю гармонию. Ибо и Пророк – человек.
И в пустынях есть пыль, но это другая «пыль», поскольку она образует наземные просторы, горизонт которых сходится с небом. Не случайно немецкий философ Пауль Тиллих считал, что Бог – это не небо над нами, а глубина бытия. Именно здесь – среди «земных тварей» – бессловесных и безличных, а потому безгрешных, Пророк обретает временное спокойствие, подчёркиваемое приятием и пониманием зверей. «Временное» потому, что цена пророчествам, как и самим пророкам, – грош, если они, зарываясь от людей в дупла и пещеры, навсегда сбегают из «града». Лермонтовский Пророк, вне сомнения, видит себя среди людей. По причине нерасторжимой связи мысли, души, веры и дел он, неся в себе выстраданные в аскезе и молитвах благие вести, время от времени возвращается к людям. Но наученный горьким опытом Пророк лишь «пробирается через шумный град», ибо знает, что найдёт среди людей те же проклятья, ту же злобу и вымученную во взаимных раздорах ненависть. Так и получается: «старцы»-градоначальники, меряющие всё своим, обвиняют Пророка в гордости и тщеславии, то есть в том, что присуще именно им и «детям» их: и те и другие не в состоянии разглядеть в ближнем своём высшее по отношению к ним… В неразрешимости отмеченных противоречий состоит трагедия Пророка, но ещё больше – общества!
Вследствие обета посвящения себя людям Пророк закономерно остаётся «наг и беден», но людская «материя» никогда и не прельщала его. Обращая свой взор к звёздам, он находит в них понимание: именно их радостные лучи ведут его путями ведения. Но это не пути тех, для кого свеча горит ярче звёзд потому, что освещает камни под ногами…
Финал произведения пессимистичен, потому что ничего иного в людской истории не было и, полагает Лермонтов, быть не может.
Почему?
С одной стороны, корень зла не может быть в личности Бога; с другой – Зло сильно, ибо со всей очевидностью продолжает доминировать здесь. Следовательно, истинная реальность – не только Всеведающего, но и Всеблагого – состоит в самообнаружении, что невозможно вне пытливого ума человека, но и нереально с опорой только на него [18]. Надо полагать, некий «идеальный человек», не прельщаясь дармовой и, по факту, сомнительной «манной небесной», должен быть внутренне готов для восприятия и «считывания» этой реальности, которую отнюдь не транспонируют истины, взятые в отрыве от здешнего бытия. Последнее является своего рода слепком «вселенской лаборатории», в которой каждому представлена возможность выйти за пределы личной ущербности и личностной ограниченности. Очевидно, полагаясь на Всеблагого, человек обязан сам прилагать немалые усилия духовного и нравственного порядка, без чего самые благостные помыслы и «вышние упования» оказываются и пустыми, и тщетными. Божественное в человеке может обнаружиться лишь в преодолении своей противоположности, которая становится тем очевиднее, чем дальше он отстоит от своего Первоисточника. Вопрос лишь в истинности познания Его. На пути к этому по всей видимости важно преодоление, а подчас и отречение от того временного, что мешает очиститься человеческой воле, в этом случае могущей быть сопричастной универсальной воле. Словом, для обретения внутренней гармонии (о победе над злом у Лермонтова нигде не идёт речь) необходимо, прежде всего, преодолеть в себе тёмное начало стихийной природы, которое усугубляют эгоистические пристрастия к «вещному» или, вспомним Бергсона, – «мёртвому миру». В стремлении поделиться с людьми своим ведением состоит миссия Пророка, в этом же видит свою задачу и автор великого произведения. Глубина его есть ясное свидетельство того, что гениальный дар есть врождённая способность говорить с Богом, а пророчество есть содержание этого общения!
Вернёмся непосредственно к Лермонтову и конкретно – к его миссии, не реализованной по причинам, о которых поэт поведал нам в своём предвещании. Мы уже говорили о том, что для понимания прерванного судьбою творчества Лермонтова нужно, отталкиваясь от «прошлого», попытаться распознать несостоявшееся будущее его. В этих целях не будем заламывать шею, а вновь приблизимся к «колыбели» дивного гения, которую до сих пор скрывает от постороннего глаза «синяя скатерть», усыпанная серебряными «звездами» его творчества. Именно за их несказанной – истинно небесной роскошью прячутся таинства «Млечного Пути» необыкновенного человека, наделённого, как сказал поэт, «глазами неба».
В отрочестве Лермонтов не умеет ещё сделать личный выбор, а потому, «уйдя от всех», создает «в уме своём» то «царство дивное», в котором до конца жизни предназначено было властвовать его поэтическому гению. «…Силой мысли в краткий час / Я жил века и жизнию иной / И о земле позабывал», – пишет он «1831-го июня 11 дня». Однако, создав лучший, но «неверный», а потому уязвимый аналог бытия, юный гений жил в реалиях, не только чуждых, но противодействующих его «царству», что неизбежно должно было обернуться войной «двух миров».
Но Лермонтов и не принимал всерьёз суету стирающихся во времени войн. Уже тогда в горниле своего таланта он умел отливать «золото» не меркнущих в столетиях произведений. Впрочем, когда не было иного выбора, кроме «тропы войны», – поэт прибегал к «железному» стиху, коим разил наповал.
За год до гибели поэта на новогоднем балу Дворянского собрания его видит И. Тургенев. Лермонтову «не давали покоя, – вспоминал Тургенев, – беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочерёдно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества». По всей видимости, и впрямь зародившись здесь – на балу, идеи и впечатления поэта скоро получат известную нам законченную форму:
Как часто, пёстрою толпою окружён, Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, При шуме музыки и пляски, При диком шёпоте затверженных речей, Мелькают образы холодные людей, Приличьем стянутые маски, Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки, — Наружно погружась в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту, Погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне Забыться, – памятью к недавней старине Лечу я вольной, вольной птицей; И вижу я себя ребёнком; и кругом Родные всё места: высокий барский дом И сад с разрушенной теплицей; Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд, А за прудом село дымится – и встают Вдали туманы над полями. В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты Глядит вечерний луч, и жёлтые листы Шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою: Я думаю об ней, я плачу и люблю, Люблю мечты моей созданье С глазами, полными лазурного огня, С улыбкой розовой, как молодого дня За речкой первое сиянье. Так царства дивного всесильный господин — Я долгие часы просиживал один, И память их жива поныне Под бурей тягостных сомнений и страстей, Как свежий островок безвредно средь морей Цветёт на влажной их пустыне.Сотворённый Лермонтовым «мир иной» (или, правильнее сказать, – мир, которому поэт был внутренне сопричастен) являлся своеобразной лествицей, уходящей далеко в небеса, по которой дух его, соскальзывая и падая, упорно стремился к общению с иными «жителями». А потому – не в «сад с разрушенной теплицей» и не в живописные «аллеи» уходил от людей поэт, а в великую мечту-царство. Связанное цепью лучезарных образов, именно оно некогда пыталось противостоять грозному вою «зимних бурь». «Аллеи тёмные», будучи частью безмерного и безскорбного царства, служили поэту в качестве узнаваемых символов, в ряду которых «высокий барский дом» смотрелся лишь горенкой вечности…
Так уж получилось, что именно в суете, шуме и блеске бала Лермонтова озаряет «детское» ощущение мира, чистота которого вновь уносит его от «мира печали и слёз». Находясь «в объятии» этой мечты, поэт «ласкает в душе» создание своего вневременного и не по-младенчески мудрого «детства».
Именно это сущее (под воздействием чар лермонтовского гения ассоциативно угадывается даже нечто большее – сотканный из небесных «красок» неземной лик) – царство-мечту «с глазами, полными лазурного огня» пуще зеницы ока берёг поэт, как самую дорогую свою святыню. На это создание безличной, а потому младенчески чистой души гения, освещая, мог глядеть лишь «вечерний луч», ибо шёл он от царства схожего. Однако при неизменно лживом в полифонии лицемеров «диком шёпоте затверженных речей» пробуждение было неизбежно. «Шум толпы людской» вторгается в гармоничный мир поэта, посягая на его «царство», лазоревое от соседства с синью небес, – и Лермонтов вновь сознаёт себя «на земле». И вновь видит он перед собой те же, лгущие и себе, и миру великосветские «маски».
Собственно, дело не только в «масках» и «диких речах». Ощущая себя на пиру во время чумы и сознавая своё бессилие перед (олицетворённым «балом») человеческим безличием, поэт негодует на историческую нескончаемость «пляски масок», способных скакать и на шабаше, и на духовном пепелище, и на руинах Отечества… Именно здесь кроются истоки «беспощадности» поэта к тем, кто предавал и продолжал предавать в себе образ Божий. Именно по этой причине его душа исходит криком, а «лазурные огни», ещё несколько мгновений назад бывшие мечтой, готовятся быть раскалёнными духовным огнём «молниями».
Кружась, опять и опять подлетают к нему лёгкие пары… И вновь и вновь поэт читает в очах веселящегося безличия те же «страницы» порока. Лермонтов не подаётся бальному вихрю, который лишь усиливает в нём состояние одиночества. Всё глубже уходя в себя, он вновь видит близкие его душе картины. Но привычный было «шум толпы людской» внезапно и как-то по-особенному напоминает о себе, и, презирая его, как наваждение, поэт в безмерном отчаянии бросает в лицемерное общество заворонённый в придворной толпе «железный стих»:
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, И шум толпы людской спугнёт мечту мою, На праздник незванную гостью, О, как мне хочется смутить весёлость их И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью!.. «1-е января», 1840Но могут возникнуть вопросы: каково «истинное происхождение» и откуда «на самом деле» исходит такого рода жёсткость? Только ли от несовершенств обывателя всех мастей, озабоченного главным образом утехами и воспроизведением себе подобных?!
Нет, не только. Поэта приводило в негодование всевечное неумение «мира» извлекать опыт. Очевидно, из века в век бесполезно проходящее время приводило в отчаяние многие выдающиеся умы. Вот и одряхлевший Вольтер (как мы знаем, приложивший руку к революционному брожению и привнёсший немало яда в головы своих «просветившихся» последователей) устало бросает: «Мы оставим этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его»…
Что же Лермонтов?
IX
По мере взросления теряя прежние иллюзии, он тщетно ищет замену своему созданию. Пытаясь укрыться от всех, спешно обращает дивную свою «скатерть» в некий «занавес». Но это не спасает. «Мир печали и слез» неумолимо проводит в душе поэта глубокую борозду. Мужая, он не стремится ни к «реконструкции», ни к «модернизации», ни, тем более, – к созданию аналога детскому миру (хотя бережно хранит в своей душе его лазурные образы).
В поисках ответов на непрестанно мучившие его «проклятые вопросы» Лермонтов устремляет было своё внимание к гражданской и общественной жизни, но скоро и там не находит ничего обнадёживающего. О его разочаровании в «проводимых (в России) реформах» свидетельствуют, в частности, признания сосланного на Кавказ декабриста М. Назимова.
Встретившись там с Лермонтовым, которого искренне почитал и, казалось, понимал, Назимов и через многие годы недоумевал, вспоминая «легкомысленное» отношение поэта к политическим чаяниям и надеждам передового, как полагал Назимов, общества. В пересказе П. А. Висковатова, записавшего воспоминания Назимова о Лермонтове, читаем: «Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критических, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нём удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделывался шуткой и сарказмом».
Что тут сказать… – даже будучи умным, много старше и опытнее Лермонтова в «политических делах», его благородный друг не понимал, что скрывается за ширмой «некоторых распоряжений правительства», как и поверхностность идей «лучших умов Европы»[19].
В связи с этим – не первым и не последним непониманием Лермонтова – ещё раз отмечу: неверно объяснять и мерить духовные странствия гения одним лишь окружением его, как и его возрастом, имеющим отношение разве что к свидетельству о рождении. Мироощущение Лермонтова, в «метрике» творчества раскрывающее идеи и мысли, не могло возникнуть в годы, неповинные в столь «взрослой» информации. Изгнанная нерадивым бытием душа поэта, «витая над грешною землей» задолго до появления своего избранника, была много старше его. Именно в незримых пространствах поэт «жил века и жизнию иной». И вовсе не случайной видится мысль Лермонтова, обронённая как будто ненароком: «…я вступил в эту жизнь, как бы пережив её мысленно»!.. Потому вечны идеи и прозрения поэта, а глубина их и по сей день смущает самые дерзкие, самонадеянные и высокомерные умы. Формы идей и мысли гения, конечно же, по мере взросления менялись, но содержание и сущность их (не нуждаясь в возрасте) были неизменны, как неизменен был мир, в котором оказался поэт. Но, если идеи эти Лермонтов принял не по своему хотению, то ответственность за них взял сам и совершенно сознательно! Оттого для верной оценки многообразного творчества Лермонтова следует исходить из тех пронзающих время мотивов, которые заявили о себе в самые юные годы поэта.
Именно в них в наиболее «чистом виде» отметила себя и судьба его. Потому и возвращался Лермонтов к своему загадочному для «толпы» первоначалу на протяжении своей жизни. Оттого и озарялся лик его священным гневом всякий раз, когда тяжеловесное материальное и жалкое в своих «внутренних» потугах безверное бытие рушило «неверное созданье» души и грёз, а пороки круглоголового общества оказывались живучее и «ярче» искр Божьих.
Но таковая – «железная» – реакция Лермонтова на этот мир явила себя несколько позднее. В отрочестве поэта гибель «мира иного», не ослабив в нём мощь духа, а лишь трагически видоизменившись, обернулась некой «инерцией», наложившей тяжелый отпечаток на всё его творчество. За «гибелью» в душе «высшего из миров» уже тогда проглядывалась судьба реально существующего, коим был сам Лермонтов, намертво слитый со своим миром. Жизнь вне «царства дивного» мало что значила для него. Однако «Царству» его не суждено было осуществиться в этом мире; жизнь же самого Лермонтова не могла быть слишком долгой – не такова была воля государя императора с холодными и немигающими очами. И не только его. За музой поэта, начавшей свой лазурный полёт, с такими же очами следили «многие лица», в том числе и весьма титулованные. Пугавшая власть придержащих мощь лермонтовской натуры никак не вмещалась в николаевскую эпоху и, что более существенно, – не вписывалась в «злобный вой» продолжавшегося Безвременья России… «Я знал: удар судьбы меня не обойдет», – писал поэт и провидец после вьюжного для России «37-го» года.
В последнее четырёхлетие жизни Лермонтова ностальгия по «утерянному миру» становилась всё горше. Именно в это время в сознании его обостряется никем не замеченная борьба обоих «миров» – потребительского и жалкого, но повседневно заявляющего о себе, и «того», некогда подававшего ему большие надежды и в «неверной» модели которого поэт так неосторожно, «по-детски», с вдохновенным очарованием странствовал… Эти «давние» открытия «далеких странствий» и предопределили трагедию жизни Лермонтова. «Зимние бури» и «грозный вой» реального мира продолжали сотрясать тот Главный и, как «встарь» виделось поэту, – совершенный «по устройству» внутренний мир, которому Лермонтов по-рыцарски оставался верен всю жизнь. Но «вой» был лишь прелюдией к разыгрывавшейся трагедии. Апогей её таился не во внешних обстоятельствах, коим поэт никогда не придавал серьёзного значения, а в том, что, сравнивая с землёй «царство дивное» и колебля веру поэта в возможность возрождения человека, реалии бытия ставили под сомнение веру как таковую. Отнюдь не укрепляя дух поэта, никак не соотносились с его внутренним миром… Если, как сущность, Лермонтов способен был устоять в борьбе со Злом, то, как Личность, он лишен был реальных точек опоры.
И опять утверждаешься в том, что только посильное «воссоздание» («в уме») рухнувшего в юности поэта идеального мира его души, «возраст» которого исчисляется вечностью, способно приблизить нас к пониманию сущности творчества Лермонтова. Ибо, неразрывное с внутренним бытием поэта, оно принадлежит не только его эпохе, но является содержанием, «проигрывающим» всю человеческую историю.
Конечно, детские мечтания, взятые сами по себе, не являются феноменом. У каждого нормального человека в эти годы было своё маленькое «царство дивное», обусловленное главным образом миром сказок, где, надо думать, не последнее место занимала «скатерть-самобранка», «золотой» под подушкой и прочие диковины. Однако, по прошествии лет, когда «чудеса» бесследно исчезают, само воспоминание о воображаемом мире вызывает улыбку, оставляя лишь грусть и сожаление о несбыточности в жизни сказочных грёз. Иное у Лермонтова.
Феномен «потерянного царства» был трагедией для него прежде всего ввиду утраченности духовных реалий здесь – в этом мире! Поэт скорбел отнюдь не о невинных сказках, былях и небылях, а о том, что некогда было реальностью… Лермонтову, не иначе как умевшему прозревать закодированное в памяти человека Царство Эдема, тяжело было видеть уродливые искажения именно того Царства. И становится ясно, что истоки неверно приписываемого поэту «богоборчества» кроются в ложно понятом бунте его. Неверно уже потому, что «бунт» против дисгармонии здешнего мира свидетельствует о глубоком религиозном сознании Лермонтова. Неявный, но истинный мир не ограничивался в его уме лишь видимыми проявлениями, потому что не был ими… Не эта ли неискажённая, «неявная» духовно-сущностная реальность отражена словами Первого Христианина: «Царство Божие внутри вас есть»?!
Как бы то ни было, в жизни Лермонтова намертво завязались в узел реалии и «того», и этого мира. А потому, в попытке распутать «мёртвый узел» обоих «миров», необходимо настойчиво прослеживать неразрывную их связь в творчестве Лермонтова. Отсюда важность ощущения направленности духа Лермонтова, без чего всё «настоящее» (т. е. реально сделанное) будет представляться в искажённом, а то и вовсе ложном виде. Вне этого любая попытка приблизиться к дивному миру поэта неизбежно потеряет остроту и уведёт в сторону от его истинного содержания. Тогда как уяснение лермонтовской «мысли-образа» поможет не только видению реального бытия поэта, но и осознанию исторической жизни самой России, истинное содержание которой рассредоточено не в расхожих учебниках и исторических исследованиях, а в цепи бытийных структур каждого данного времени. Ибо каждая современность, всегда находясь на стыке прошлого и будущего, содержит в себе ключ к неведомому будущему. Лермонтов был далёк от поэзии замкнутой, ничем, кроме «стиха», не занятой. Он чувствовал глубинную взаимосвязь всего сущего, лишь внешней частью которого были политические события, войны, бытийные и экономические перепады.
Здесь нельзя обойти пророческое видение Лермонтовым социально-политического бытия России, давшего глубокую трещину в середине XIX в., павшего в начале следующего и легко сбиваемого с панталыку вплоть до настоящего времени. Духовное и политическое предвещание Лермонтова, частью которого является вписанная в судьбу Отечества жизнь самого поэта, содержит в себе некий «код» бытия России – и великой, и жалкой в одно и то же время. И если величие России меряется доблестью её воинов и одарённостью гениев, а в нашем случае силой отечественного начала творчества Лермонтова, то жалкость её соизмерима с печальными судьбами многих из них, среди которых ярко выделяется трагическая судьба великого поэта.
Уже первые «политические» произведения Лермонтова говорят о том, что он ясно видел, как революции, пока ещё обходя в этом неразворотливую Россию, ставят европейский мир с ног на голову.
Эти безрадостные настроения, не минуя краткий университетский период, увенчиваются роковым поступлением в «университет» прапорщиков. Надо думать, в этот период замирает становление личности Лермонтова, но заявляет о себе целостная сущность его. Окончание казённого заведения ускорило этот процесс.
Произведенный в офицеры лейб-гвардии Гусарского полка поэт уже через месяц пишет М. А. Лопухиной: «моё будущее, с виду блестящее, пусто и пошло…». «Блеск» пошлости светских гостиных, «тайными иглами» язвивших благородный лик Пушкина, Лермонтов отражает в психологически пронзительной драме «Маскарад» (1836). И совершенно предсказуемо путь ей на сцену преграждает (причем – трижды!) сиятельный граф А. Х. Бенкендорф. Как и всякий высокопоставленный жандарм николаевской эпохи – начиная с самого императора, он считал себя знатоком литературы. В данном случае «знаток» по жандармской традиции ведал ещё и драматической цензурой. Однако свершается истинная трагедия. Судьба снимает в 1837 г. «терновый венец» с Александра Пушкина и переносит его на сумрачное чело Лермонтова. После гибели великого барда возмужав в одночасье, Лермонтов облачает свою мощь в железные латы и резко противопоставляет себя этому, теперь уже окончательно враждебному ему, «миру». Миру, где, по словам А. Герцена, «мысль преследовалась, как дурное намерение, и независимое слово – как оскорбление общественной нравственности». Отстранившись от «мира» не по своей воле, но без сожаления, поэт мечтает скрыться «за стеной Кавказа» и от «пашей» России:
Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за спиной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза[20], От их всеслышащих ушей. 1841Здесь – на Кавказе – за лязгом скоро наскучивших ему «земных» боёв, Лермонтов готовит себя к настоящим битвам. Отдалённый от столичной суеты и «коварного шепота» придворной челяди поэт, обращая свой взор к лазурным небесам и повторяя только ему ведомую молитву, лицезрящей душой своей «видит» (по смыслу – угадывает) в них Всевышнего. Эту божественную явь поэт ощущал всегда – и когда глядел на «чету белеющих берёз» с безбрежными разливами рек, и когда наслаждался кругом преданных друзей, и когда уставал от шума земного, и даже тогда, когда – как в этот раз – был ограждён от него[21]. Ибо стены казённого учреждения, без труда превращённого в арестантскую, не могли служить преградой в ощущении поэтом дивной природы и тайн мироздания. Об этом свидетельствует один из самых удивительных шедевров мировой поэзии «Когда волнуется желтеющая нива» (1837).
Симбиоз духовного и земного в этом «полуздешнем» произведении – живой пример того, что жизненные обстоятельства, даже и самые суровые, не властвовали над духом Лермонтова. Тело поэта могло быть взято под арест, но дух его был свободен и не подвластен мирским путам.
Именно тогда приходили на помощь – и в этих обстоятельствах оказывались наиболее ценными – «царство» и лазоревые мечты поэта, обострялось чувство здешней и истинной реальности. Именно эти «видения», посещая Лермонтова, превращали его вдохновенные минуты в бессмертные явления творчества. Именно здесь – и так кстати – вспоминались «случаи», когда поэт «румяным вечером иль утра в час златой» пробирался по сырым пролескам и свежему лесу, где роса холодными брызгами пробуждала его мысль, погрузившуюся было «в какой-то смутный сон».
Надо полагать, в импровизированном каземате эти «воспоминания» были и яснее, и чище, и наиболее убедительными, ибо писаны были в неволе. Именно в эти мгновения Лермонтову, не нуждавшемуся в лицезрении «натуры», доступно было «лепетанье» ручья и язык целомудренной и вечно живой природы:
Когда волнуется желтеющая нива И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладостной зелёного листка; Когда росой обрызганный душистой, Румяным вечером иль в утра час златой, Из-под куста мне ландыш серебристый Приветливо кивает головой; Когда студёный ключ играет по оврагу И, погружая мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он, — Тогда смиряется в душе моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, — И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога…Однако в человеческом мире, давно оторванном от своего истинного лона, беспробудно царствовал «сон разума» и властвовали безбожные отношения. Всё активнее разрывая связи со своим Создателем, они выстраивали в мире иную реальность, где не находилось уже места благодати «слов живых». Поэт знал, что в борьбе со Злом он, как и всякий «землянин», обречён на поражение. Но Лермонтов был бесстрашным воином, а потому, не склоняя очи долу, устами «Демона» в великой скорби роняет слова, гулким эхом отдавшиеся и в настоящем, и в будущем времени: «Он занят небом, не землей!»… И то было не гордое противостояние Богу «духа» Лермонтова, а проявление тяжелейшего безличностного отчаяния, пытающегося ощутить противовесный «рычаг», способный предупредить душу человеческую от дальнейшего разложения. Великие усилия, однако, требуют великих жертв. Поэт, мужественно решившись на первые, увы, недооценивает последние. Впрочем, лишь поначалу…
Ощущая в себе «всеведенье», считывающее строки добра и зла среди страниц человеческих, Лермонтов всё яснее видит «текст» их не только в душах и характерах людей, но и в самом установленном порядке вещей, против чего, «вслед за Демоном», и восстаёт – один, как прежде… Восстаёт, ибо доблесть, свойственная поэту, не могла примириться с низостью только что предавших «последние мгновенья» жизни великого поэта, тех «наперсников разврата», у которых, по А. Грибоедову, «на лбу написано: театр и маскерад». Но, отвергнув всякие компромиссы с собственной совестью и не часто встречая её в других, Лермонтов оказывается и в оппозиции к презираемой им «жадной толпе», и в изоляции от неё же. А потому, как оно всегда и оказывалось в таких случаях, «шумный град» мира сего обернулся для него, как и для всякого умевшего и осмелившегося «читать вслух» души людей, в выжженную пустыню. «Чтение душ» не прощалось никем и никогда! Сам же озлоблённый люд в старании заглушить в себе бесполезные укоры совести и заполнить духовную немоту грохотом «музыки и пляски», убивая время и потребляя жизнь, в слепоте своей уподоблял её пиршеству, не слишком заботясь тем, что происходит оно в чумное время. Всякий, мешающий этому пиру, немедленно изгонялся зачумленными или забрасывался каменьями. Но, не будучи первым, кто потерпел крах в оповещении духа человеческого, не был поэт и последним… Так, изгнанный из общества, в котором и не хотел быть, Лермонтов в одиночку вышел на «поле битвы», где, чуть оступившись, легко мог оказаться в стане врага…
Увы, «очарованные странники», будучи жителями невещного града, с горечью бредя по пустырям этого, не умели противостоять вою «зимних бурь», отчего и рушились их «неверные созданья». Вот и Лермонтов не мог быть, а потому не стал исключением. Ввиду «недостроенности» этого мира и ощущаем мы в его творчестве некую недосказанность, «договорить» которую, впрочем, не был в состоянии ни один человек, даже если он родился с великой душой поэта. И эта невысказанная полностью «правда поэта» труднообъяснима не только ввиду ранней гибели его, но (и в первую очередь) в связи с «фактом» глубины разрыва, которым пошло всё тогдашнее бытие… Не вполне ясный в исторических последствиях самому Лермонтову, этот «разрыв», если иметь в виду «белую» цивилизацию германо-романского типа, тем более сокрыт был от его современников. Ознакомившись с «европейским миром» в отроческий и студенческий период, поэт не столько осознал, сколько глубоко ощутил структурную ветхость его. По прошествии времени «закат Европы» представлялся Лермонтову более отчетливо. Но, прозрев его, поэт не находил предпосылок для «восхода» какого-либо иного «мира». Относительно своего Отечества, в котором закон видел он низвергнутым, а «пищей многих», провидел поэт, «будет смерть и кровь», – Лермонтов так же не имел иллюзий. В этом убеждала его сама повседневность. Псевдорусскому бытию суждено было породить тех, кто разовьёт это «псевдо» до логического конца, доведя его формы в России до абсурдного антирусского существования. Зная заданную «траекторию», видя развитие и пытаясь разгадать продолжение её, Лермонтов, вглядываясь в темень грядущего, провидел голод и разорение России, в которой «среди печальных сёл» будет господствовать «чума от смрадных, мёртвых тел».
Вслушаемся в «Предсказание» поэта:
Настанет год, России чёрный год, Когда царей корона упадёт; Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь; Когда детей, когда невинных жён Низвергнутый не пощадит закон; Когда чума от смрадных, мёртвых тел Начнёт бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный край терзать; И зарево окрасит волны рек: В тот день явится мощный человек…[22] 1830Но то – видение будущего. «Сейчас» же, лишь начав проходить земную жизнь, Лермонтов из «царства дивного» очутился в отнюдь не «призрачном лесу» (Данте), с его «лешими» в голубых мундирах и немигающими стеклянными глазами начальствующих над ними. Образно говоря, не слишком протяжённый «мост» жизни поэта, на котором ему не суждено было «построить дома», – с первых же шагов являл гримасы неразрешимых противоречий, мучавших сознание всех, отмеченных печатью не сего мира, будь то мятущийся гений Микеланджело, разрывавший своё сознание Гойя, тщетно искавший гармонию в мире Гёте или дивный Гельдердин, будто олицетворивший собой красоту души Лермонтова. Но русский поэт, наверное, более, нежели кто-либо из его предшественников, сумел углубиться в противоречия, имеющие начало в ветхом бытии (в преодолении которых не способен был выжить ни один человек), поскольку уровень, форма, глубина проблем и методы разрешения их были у Лермонтова во многом иными.
С отрочества ещё он видел свою миссию в борьбе с пронзавшим жизнь человека «мировым злом», а не с конкретными или случайными носителями его. И не потому только, что, постигнув людей, не заблуждался на их счёт, а потому, что глубоко ощущал невольность злых дел.
Это и снимало личностное отношение Лермонтова к недругам своим, у которых, когда ошибался, просил прощения, и которых, если ошибались они, легко прощал сам. Не так, однако, было со стороны «ближних» поэта, способных ещё простить мелкую обиду, но никогда – уличение в соглашательстве со злом. Вероятно, в этом таились плевела конфликтов поэта с «серым» обществом, за «обыкновенностью» которого проглядывалось позорно-малодушное отступление от духовной жизни и сдача нравственных позиций.
Итак, не на поступках и не на личностях заострял Лермонтов своё внимание, безличностно взирая на человеческие связи, а на мироотношениях, обессмысливающих и обесценивающих саму жизнь. Впрочем, даже и наличие врагов вовсе не означало ещё, что они были таковыми в глазах Лермонтова. Потому и к Мартынову, в котором поэт видел не более как «мирового» глупца, и к паркетному щеголю де Баранту (которых как противников – не в пример гневливому Пушкину – не хотел убивать) у Лермонтова не было личной неприязни. Не было её у него (за исключением первого порыва) даже к Дантесу, убившему славу русской культуры – Александра Пушкина. Но всё это может показаться лишь нашими догадками, что говорит «обо всём этом» сам Лермонтов?
X
Как мы знаем, с мальчишеских лет Лермонтов видит себя в центре исторической жизни России и «всей» Европы. Из его поэтических откровений ясно следует, что только это «место» единственно могло быть подходящей ареной его деятельности, зрителем которой, ни много ни мало, должен стать «весь мир». И то не были слова одного из тех, подающих надежды, по Пушкину, – «архивных юношей», которые, «начав» завоевание мира, по прошествии времени узнав себе истинную цену, стараются не проговариваться о ней… Ютясь у подножия «мира» и вертясь под ногами у властителей, эти «наполеоны», как правило, годятся лишь для толчеи за «хлебные места» под тускнеющим с годами солнцем. Не был подобен Лермонтов и тем незаурядным молодым людям (как князь А. М. Горчаков или весьма талантливый и умный поэт князь П. А. Вяземский), которые всерьёз воспринимали существующий механизм общества, стремясь быть элитой его не только по происхождению, но и по заслугам. С самого начала, даже и тогда, когда Лермонтов имел ещё иллюзии относительно света (отчего и согласился поступить в «блестящую» военную школу), это общество находилось у него на подозрении. Потому, едва ступив на тропу, ведущую к придворному «Олимпу», он внимательно изучает всех, оказавшихся рядом с ним, для чего изображает из себя типичного для своего круга шалопая и, попутно, «ставит под сомнение» Декарта. И в самом деле, если признать существующими лишь тех, кто мыслит, то, как быть с теми, кто так ненавязчив в своём существовании?! Нельзя же, в самом деле, ставить под сомнение наличие столь значительной части общества…
«Этот человек постоянно шутил и подтрунивал… – не признавая в окружающем его обществе ничего достойного его внимания», – вспоминал современник, определив поведение поэта как «ложно понятый байронизм» – и через годы не поняв, что это было не что иное, как маска, за которой скрывался мощный ум аналитика. У него была «непонятная страсть казаться хуже, чем он был», – несколько под другим углом пишет в своих воспоминаниях Е. А. Сушкова. Однако «страсть» эта, как и «интрижки» Лермонтова («я теперь не пишу романов – я их делаю», – после «школы» хвалился поэт), станет понятной, если знать, что последние служили ему в качестве инструмента, с помощью которого Лермонтов препарировал безнадёжное, как ему представлялось, общество. Общество, которое не терпел, но знать которое как прирождённый мыслитель считал себя обязанным. Для успеха «предприятия» Лермонтову нужно было лишь выглядеть частью постылой ему реальности, которая в масках своих не особенно верила своей «копии». Иначе говоря, не изучив «толпу», которой поэт казался «и холоден и горд; и даже злым…», не постигнув её движущих сил, вне чрева её, где только и могло «встретиться … священное с порочным», – Лермонтов не смог бы хладнокровно «копаться» в «сиятельных трупах», одним из которых, к слову, казалась ему сама Сушкова. Помимо этого поэту важно было проверить себя в «деле»: «не знаю, как это происходит, но каждый день придаёт новый оттенок моему характеру!», – там же пишет он верному другу своему А. М. Верещагиной.
Всё говорит о том, что при окружавшем его «шуме музыки и пляски» поэт оставался внутренне сосредоточенным и «с холодным вниманьем» пытливого ученого исследовал механизмы увязнувших в политической индифферентности, близорукости и всегдашней спеси офранцуженного дворянского и чиновного сословия. Лермонтову потребовалось не так много времени для того, чтобы постичь пустоту света – «завистливого и душного», хотя для «железного стиха» он не был ещё готов. Понадобилась смерть Пушкина, чтобы Лермонтов воочию убедился в смердящей сущности придворной клики, пренебрёгшей своим Отечеством – этих «надменных потомков», известных «подлостью прославленных отцов», обернувшихся во дворянство и в беспутстве прожигающих свою и чужие жизни. Нередко, не знавшие родного языка, обычно не интересовавшиеся историей своей родины и почти всегда с презрением относившиеся к собственному народу, они в значительном большинстве своём лишь пудрились европейской образованностью. Подчас и в самом деле происходя из «подлого сословия» и оставаясь в таковом качестве даже и став «благородными», они были чужды истинно русской аристократии и образованным слоям общества. Исходя лощёной признательностью «к европам» в первую очередь за «бал и маскерад», и, за вихрями бальных танцев и театральных представлений не удосужившись разглядеть истинные достоинства европейской культуры (театральный бинокль для этого явно не годился), толком не знали они и того, чему поклонялись. Поразительно, что «благородное невежество» это, став непреходящим, не менялось в России на протяжении многих десятилетий (а в лице беспочвенной интеллигенции осталось неизменным до сих пор)! «Наш либерал, – писал Достоевский об этой категории людей, – это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». Именно этих «сапожников» презирал и Тютчев. Однако наспех просвещённое «туземное дворянство», должностной люд и лакействующие Молчалины не понимали тогда (как не понимают и сейчас), что отношение развитого Запада к России было и остаётся (в первую очередь, именно из-за них…) откровенно презрительным, исключающим какие бы то ни было равноправные отношения. А тогда – в мае 1867 г. – Тютчев писал о «русских господах» с недоумением и всегдашним презрением:
Напрасный труд – нет, их не вразумишь, — Чем либеральней, тем они пошлее, Цивилизация – для них фетиш, Но недоступна им её идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В её глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы.Именно эта «царская дворня», плохо понимавшая родной язык, с петровского времени изрядно постаревшая и поглупевшая, – и вызывала глубокое презрение Лермонтова за тридцать лет до горьких сетований Тютчева (бывшего, к слову, старше его на 11 лет). И если Державин, «в гроб сходя, благословил» Пушкина, то смерть последнего послужила своего рода благословением на борьбу со Злом воина ещё более жёсткого, волевого и бескомпромиссного. Человека, обладающего пронзительным умом, железной волей, редкой доблестью и бесстрашием. Теперь только, ощутив «иглы» зла, пронзившие сердце его великого соотечественника, Лермонтов, окончательно прозрев, воочию увидел и глубоко осознал свою миссию. И не устрашился её! Вдохновенный стих его, ведомый призванием, с этого времени подобен «колоколу на башне вечевой», «гул» которого, раздаваясь тем сильнее, чем дальше уходит от своей эпохи, охватывает духовное пространство, по своей глубине и шири невиданное собратьям Лермонтова по перу. Начиная со знаменитого стихотворения «Смерть поэта», едва ли не всё, что пишет Лермонтов, принадлежит к шедеврам мировой литературы! Но устремлённое «к небу» вдохновение, по своему масштабу, глубине и художественным достоинствам, пожалуй, не имеющее аналога ни в русской, ни в европейской поэзии Нового времени, порождает не только восторг и удивление, но, при внимательном чтении, изумление…
Ф. Тютчев
Духовное преодоление сего времени и вовлечение в пространственные формы, как будто находившиеся в ведении и власти Лермонтова, пронизывает всё его творчество. Свидетельствуя не только о наличии, но и о силе художественной правды, оно тяготеет к первообразу, который неотделим от Вышней творящей силы. Лермонтов не был в этом отношении первооткрывателем. Более того, наверное, вовсе не был озабочен такого рода открытиями. Однако, отражая в Слове то, что ведал, – он делал это с большой силой и убедительностью (Доп. VII).
Мощная духовная и творческая энергия поэта, направленная «по вертикали», влекла его душу и сознание в отчаянную спираль, берущую начало в «догреховных временах» и теряющуюся в неведомой никому из смертных стихии вечности. Ясно, что вселенские взаимосвязи менее всего были доступны «здешнему человеку», чья жизнь переполнена «вещной реальностью», а интересы не выходили за пределы круга утилитарных ценностей. Тем не менее, при всей своей тяге к горнему и нетленному, муза Лермонтова, посещая «миры иные», всегда помнила о «земле», но опять же не в банальной её ипостаси. «Земля» служила неким подножием лиры Лермонтова, печальные звуки которой, устремляясь к лазурным далям, возвращались к земной юдоли с её радостями и горестями повседневной жизни. Оставаясь наедине с самим собой – но всегда в контексте своей эпохи – поэт был предельно глубоко и трагически искренен. И тогда, не находя спасительной молитвы, душа его, сгущаясь в ночь, распинала саму себя. Тогда-то и возникают беспощадные и к самому себе, и к так и не реализовавшему себя «человечеству» строки, не опровергнутые бытием до сих пор:
И скучно, и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды… Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. А годы проходят – всё лучшие годы! Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда, А вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: И радость, и муки, и всё там ничтожно… Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг Исчезнет при слове рассудка: И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, Такая пустая и глупая шутка… 1840Итак, трагическое мировосприятие красной нитью проходит через всё творчество поэта. Но только ли оно?! Ведь не один же Лермонтов относился к этому миру со скепсисом, недоверием и даже как будто с презрением. А раз так, то что принципиально отличает творчество Лермонтова – Поэта и Гражданина – от его выдающихся собратий по перу? Как можно заключить из предыдущих глав: в творчестве Лермонтова прослеживается специфическое ощущение времени, которое, преломляясь через несобытийную историю, особенно остро заявляет о себе в духовной ипостаси. Очевидно, отсюда исходит ощущение поэтом глубинных взаимосвязей событий в нескончаемом пространстве бытия, в котором судьбы народов и отдельных людей, говоря его словами, есть лишь «игралище детей». Живя в конкретной эпохе и, несомненно, отвечая её чаяниям, поэт внутренне принадлежал не только ей…
Это обусловлено тем, что Лермонтов прозревал ограниченность и тщету стремлений в мире, зашоренном потребительским отношением ко всему нерукотворному. Ибо, как только невещное переставало устраивать «толпу», или, когда «правды чистые ученья» выходили за пределы обывательских или «общественных интересов», тогда чиновные и даже венценосные «старцы» безжалостно расправлялись с носителями небесных даров и знаний – пророками и «странными людьми». Но именно при таковом положении дел общество обращается в «пустыри» и «пустыни», в которых единицы избранных без видимой пользы растрачивают «жар души» вышнего происхождения. В этом особенность мировосприятия и поэтики Лермонтова. Именно эта сущность в наиболее сильных и очевидных формах явила себя в Слове Лермонтова.
Ко всему добавлю, что суть духовного и творческого бытия поэта не покоится на плодах одной только гениальности, как и не «покоится» вообще. Стремительная мысль-образ Лермонтова, едва отметив себя в «видимом» творчестве, тотчас превышает уровень сотворённого, в формах и образах уносясь за пределы «отмеченного». В этом процессе рамки времени как бы отводятся. Видя дальше, Лермонтов видит и глубже. Принадлежа настоящему, его стремительная мысль рвётся к будущему, которое манит его непознанностью. В этом магическом действе всё создаваемое поэтом единовременно относится к настоящему, прошлому и будущему, которое он не ведает, но предощущает и в которое влечёт его гений («Ветка Палестины», «И скучно и грустно»). Динамика развития затаённой мыслиформы Лермонтова, устремляясь к отдалённо грядущему, относится и к непосредственно будущему времени. Апеллируя к нему в сей час, оно открывает «дверь» поэту в некое нереализованное никем поэтическое пространство! И он имел на это право. По силе духа и глубине прозрения не имея себе равных «здесь», Лермонтов напрямую обращается к субстанционально соответствующему себе. Тому, ипостасно равному ему, кто, наделив поэта сверхъестественным даром и глубиной ума, «изобрёл» и «мученья» его…
Как бы не соглашаясь с отпущенным ему сроком, но считаясь с этим («и всё боюсь, что не успею я / Свершить чего-то!», – пишет он в «далёком» 1831 г.), поэт торопится. Словно стремясь остановить время и «нагнать» собственную мысль, Лермонтов тщательно и глубоко работает над формой своих произведений и характером своих героев, о чём свидетельствуют – один сильнее другого – варианты монументальной по размаху и глубине поэмы «Демон». В «Мцыри» это прослеживается с первой строки до последней! Это же «нетерпение» Лермонтова заметно в ряде его рисунков – исключительных по умению передать не только скорость и движение, но перетекание мгновений важных для него «частиц» времени. Динамика лермонтовского творчества, смело разметывающего «по вселенной» характеры и образы (при этом никак не нарушая целостности произведений), поистине, удивительна! Но, говоря о возможностях постижения музы Лермонтова, отмечу ещё раз: читая лишь «текст» её, самые мудрые из мудрейших обречены плестись в хвосте мыслей и образов поэта. Осмыслению динамики «лермонтовского настоящего» (т. е. бытийно существовавшего и творчески состоявшегося), на мой взгляд, должно предшествовать ощущение устремлений души поэта, после чего только и возможно – предугадав или предощутив несостоявшиеся временные и событийные пространства – воспроизвести истинные образы Лермонтова, потаённо существующие во всём многообразии его творчества.
Однако сложность задачи, решение которой способно приоткрыть завесу в мир, быть может, самого великого поэта Нового времени, состоит в чрезвычайной трудности постижения «лермонтовского» пространства и времени. Поэтический гений Пушкина, Байрона и Гёте идёт как бы вровень с созерцаемой ими жизнью. И это не нарушает даже глубокое проникновение ими в диалектику «затхлого мира», поскольку тот подвергался их «земным» мерилам. А потому «тайны» творчества этих гениев в силу известной непосредственности видения – угадываемы или, во всяком случае, просчитываются.
Если великий Гёте, «передоверив себя» Фаусту, со всей очевидностью отчуждается от своего героя и вполне комфортно чувствует себя в кабинетном кресле в пределах (в те годы политически не очевидно существующей) Германии; если беспокойный Байрон, отождествив себя с мифической свободой, вряд ли знал, что с ней делать (иначе, в качестве греческого повстанца, не заказал бы себе вычурный «боевой» меч и головной убор, напоминающий и фригийский колпак, и римский шлем одновременно), а несравненный гений Пушкина воздавал фимиам «пророку» архаически торжественно, но коленопреклоненно (как бы «снизу» и «со стороны»), то пронзительно-мощное сознание Лермонтова, с одинаковой силой прозревая настоящее и прошлое, было занято другим. Находясь в реалиях «сего времени» (включая борения его), оно направлено было ввысь, устремляясь в зримую поэтом даль «вечности» – облачению Бога… Гений Лермонтова, проникая в сущее, на уровне подсознания устремлён был к постижению таинств не только настоящего, прошлого и будущего, но и несвершённого или несвершившегося ещё, – того, что отнюдь не определяется одними лишь временными или событийными факторами. И возможность этого видится в силу того, что, неведомое, не имея узнаваемых форм, тождественно было вдохновенной «лермонтовской реальности», как и высочайшему бытию его творчества (всё же не реализованного во времени в заданной целостности и полноте).
Всё это определяет (возвращаясь к обозначенной идее) сложность понимания бытийно неслучившегося, но отмеченного в «лучшем эфире» и остававшегося живой частью души и лиры Лермонтова. Истинное будущее, определяя тревожность звучания его, в глазах поэта имело реалии не тождественные повседневным, потому что относились они к гармонии, не способной реализоваться в этом мире. Отсюда тяга поэта к забытию. Но не «холодным сном могилы», – разъясняет нам Лермонтов, – «я б желал забыться и заснуть». «Сын земли с глазами неба» (Вел. Хлебников) «хотел» уйти из «мира печали» для того, чтобы обрести некогда утерянную человеком свободу, не присущую этому, искажённому, странному, вещному и по делам своим никчёмному миру, в котором затаптываются «искры Божии», ипостасно принадлежащие миру иному. Тому Царству, которое кроется внутри каждого, кто не потерял в себе Образ Божий. Поэт мечтал о той свободе, в состоянии которой только и возможно обрести вневременной – вышний покой, для чего, выходя на кремнистый путь, глубже вглядывается в синий ковер звёздного неба, ища общения с Всевышним, к которому шёл в полном одиночестве…
В последние годы, находясь в состоянии особо напряженной внутренней работы, Лермонтов скрывал её за внешним весельем и легкомыслием, что вовсе не исключало его искреннюю радость общения с истинными друзьями. Вот и Белинский (именно потому, что в то время не принадлежал к ним) после первой встречи с Лермонтовым в 1837 г. с недоумением писал: «Сомневаться в том, что Лермонтов умён, было бы довольно странно; но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светской пустотою». В своих воспоминаниях писатель И. И. Панаев подтверждает это: «Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение». Поэт и в самом деле «любил повеселиться, посмеяться, поострить, затевать кавалькады, распоряжался на пикниках, дирижировал танцами и сам много танцевал», – вспоминала жившая в Пятигорске падчерица генерала Верзилина Э. А. Клингербер (Э. Шан-Гирей) о развлечениях в доме генерала. Впрочем, от наблюдательных дамских глаз не ускользнуло более существенное: когда же «бывало, её сестра (Верзилиной. – В. С.) заиграет на пианино, он подсядет к ней, и сидит неподвижно час, другой. Зато как разойдется да пустится играть в кошки-мышки, так, бывало, нет удержу… Характера он бывал неровного, капризного, то услужлив и любезен, то рассеян и невнимателен…»[23].
Надо полагать, игры в кошки-мышки, пикники и остроты всё же не составляли главных увлечений автора великих произведений, что, конечно же, давно «раскусил» Белинский. Но где об этом было знать тем, кто, развлекаясь всерьёз и не понимая «странностей» и «капризов» поэта, столь же серьёзно воспринимал его шалости. Но, как в том можно убедиться из тех же воспоминаний, будучи человеком искренним, Лермонтов не особенно таил себя, поскольку вдруг и, конечно, совершенно неожиданно для друзей оставался в обществе один. Потому трижды прав был И. Андроников, когда писал в своих «Исследованиях»: «Как предсмертное одиночество Пушкина стало особенно ясным после того, как мы прочли письма его друзей, так и эти беспристрастные мемуары (имея ввиду «записки» благожелательно относившейся к Лермонтову, но вряд ли понимавшей его В. И. Анненковой) больше говорят о глубокой пропасти, отделявшей Лермонтова от этого общества, и его обречённости, чем открытая злоба его врагов»[24].
Тем не менее, не «пропасть» между поэтом и придворной аристократией была причиной глубокого внутреннего одиночества поэта. Лермонтов оставался бы в таковом качестве в любом обществе и в любое историческое время, поскольку «история» как раз и учит тому, что уроков её никто не усваивает. Поэтому всегда были, есть и будут «одинокие» поэты (мыслители, музыканты, художники), число и способность которых выразить «знаки времени» зависит от специфических особенностей эпохи. Однако Лермонтов не был бы человеком, если бы муза его так или иначе не «проговаривалась» бы о сокровенном, даже когда писал он «по другому поводу», как будто «о другом» или «вовсе постороннем». Скажу больше – произведения Лермонтова дают нам своеобразный код к распознаванию не только «отвлечённых образов», но и тех редких людей (а потому куда чаще – гипотетических персоналий), которые были подобны ему. И если «много званых, но мало избранных» было на пиру том (Лк. 14:24); в нашем случае – «на пиру» родства душ по-Лермонтовски, то потому ещё, что не каждому избранному довелось дойти до «стола»… Этих избранников, относясь к ним непосредственно, очевидно, и имел в виду поэт, когда писал:
Творец из лучшего эфира Создал живые струны их, Они не созданы для мира, И мир был создан не для них!..И всё же, не только в «спрятанных» в текстах откровениях и даже не в «главных» произведениях поэта, т. е., содержащих в себе зачатки будущих – ещё более великих творений, следует искать зёрна «истин Лермонтова». Вскользь намеченные записи, черновики и письма Лермонтова также заслуживают пристального внимания. Ибо, как форма тёсаных камней строящегося храма соподчинена идее архитектора, так и каждый «скол» образов поэта несёт в себе целостную информацию о «граде» его души, а потому может быть ключом к его произведениям. Творчество гениального юноши подобно храму, в котором лишь «внутренними очами» можно различить устремлённое ввысь мощное сознание его, из которого рождались «стены», крепимые «контрфорсами» могучих идей. Ибо поэт не дорисовывает «пунктиры» невидимого и мифического, а лицезрит «силуэты» имеющегося и внутренне состоявшегося, следуя заявленной уже и ничем не могущей быть остановленной инерции сделанного!
Но не слишком ли абстрактно всё это выходит?
Ничуть. Во всяком случае, не более абстрактно, нежели имеющая место реализация никем не распознанных до сих пор потоков сознания и форм мышления.
XI
Итак, творчество «настоящего Лермонтова» может быть ощутимо лишь при внимательнейшем прослеживании всего полёта его музы, ощущения целостности всех проявлений творчества, в поисках ответов на «проклятые вопросы» времени апеллирующего к истинно Знающему. Я же, ничтоже сумняшеся, осмелюсь предположить, что несостоявшееся «будущее» Лермонтова не обусловлено одной лишь ранней гибелью его, как и «фактом» не созданных произведений. Проживи Лермонтов втрое дольше – он и тогда находился бы в плену своего, никогда не могущего быть реализованным, «будущего». Оно не может быть явлено ещё и потому, что является «частью» мира вечного и неподсудного, подчиняющего себе любой возраст и заставляющего самых великих старцев, подошедших к порогу Вечности, плакать слезами младенцев!
Лермонтову, как никому другому, глубоко присуще было ощущение вечности, свойственное русскому человеку вообще. Это свойство «внутреннего человека» с младых ногтей пронизывает его творчество. Видимо, отсюда – от сознавания личной ответственности всечеловеческого масштаба в ряде произведений «раннего» Лермонтова ощущается «тяжесть «неба»; чувствуется не только мощь, но и великая усталость, свойственная не человеческому возрасту. Эта «усталость» и была, по всей видимости, тяжеленной ношей, которую Провидение взваливало на плечи гигантов, и от «веса» которой подламывались ноги даже и у самых могучих из них. Эту особенность души посильно раскрывал в своих произведениях Ф. Достоевский, видевший её залогом «всемирной отзывчивости» русского народа. Феномен этот имеет древние истоки.
Эпическое бытие разноязыких Атлантов, связывающее Землю и Небо, красной нитью проходит в эпосах всех народов мира. Есть оно и у Лермонтова, наделённого истинно вселенским самообладанием и вневременным видением: «Но я без страха жду довременный конец / Давно пора мне мир увидеть новый»… Очевидно, «мир» истинной в своей чистоте («новой») реальности – и был источником той «старинной мечты», которую поэт остро ощутил во младенчестве и с которой не хотел расставаться до конца дней своих. В него-то и «хотел» войти Лермонтов, даже и не будучи приглашённым… В период же земного скитальчества, «царство дивное», освящённое лазурью, было смыслом и жизни, и творчества поэта.
Обладая пронзительным умом и невероятной одарённостью, а потому изначально, то есть с юных лет не принимая на веру «этот» мир, Лермонтов всей душой стремится ощутить тот, «другой». Смею надеяться, мы убедились в том, что методы постижения им как «иного», так и тварного мира, не совпадают, а порой даже противоречат принятым или апробированным нормам анализа. Ибо ничто, «принятое в науке», не способно охватить невещное, изначально находящееся вне её территории. Неприятие или слабое ощущение этой разницы может внести немалую путаницу в изучение творчества Лермонтова. Примем к сведению и то, что жил он не для биографов и творил не для трактатов. Наверное, поэтому в наследии Лермонтова то и дело натыкаешься на «странности», разрешить которые невозможно посредством рафинированной логики, равно как и при помощи «хорошо поставленного» и ещё лучше зарекомендовавшего себя «трактатного» здравого смысла, бойко расставляющего точки над «i» во всяком творчестве.
К счастью, наследие Лермонтова время от времени побуждает неравнодушные к истине умы понять таинства его грандиозного творчества «иными средствами». И, слава богу, что пафос некоторых исследований отличается от «умеренности и аккуратности» тех, кто, в числе Репетиловых и Молчалиных от литературы, способен заболтать поиск истины любого гения.
Впрочем, внутренний мир Лермонтова, даже и «аккуратно втиснутый» в «ложе», отполированное «пемзой» расхожих критериев, неизменно выскальзывает в пространство дивного мира, в котором только и способно существовать его величественное бытие.
То го, может, и не желая, Лермонтов создаёт естественную преграду для тех, кто мыслит не выше уровня, начертанного идеологическим «скипетром», как и для пересидевших за «букварями» штатных или учёных обывателей.
Во всякие времена публика эта, привыкшая смотреть на всё с высоты должностной ступени и судить с неё же, способна разглядеть лишь то, что не выходит за пределы низких горизонтов. Однако «табуреточное мировосприятие», увенчанное «учёным» или того хуже – «издательским колпаком», отнюдь не возвышает чело их обладателей. Ибо «колпаки» лишь торчат вверх, в то время как дух и сознание причастных к истинному творчеству в минуты вдохновения устремлены к небу. Разница существенна. Однако именно ссутулившиеся за «наукою бесплодной» должностные интеллектуалы, удачливые «денщики» и поденщики от окололитературы не устают подсовывать потрёпанную «прокрустову раскладушку» тем, кто в неё и не вмещается. Неискоренимые «избранники» кабинетов и «жрецы» пыльных стеллажей, ловкие в усвоении жизненно-служебных пространств, за отсутствием ума и таланта видят своё призвание главным образом в том, чтобы «остановить всё, что движется». «Не развязывая старых узлов и не завязывая новых», они испокон веков «чёрной» бездарностью своей пытаются смыть праведность истинного творчества.
Впрочем, так ли это?! Может, «в пыли» сидящие (или, как говорил поэт: «счастливые в пыли») и от пыли поблекшие не столь уж и заметны?! Может, опасность «седалищного мировосприятия» (позволю себе отвлечься от непосредственно литературного анализа в сторону «социоведения», толпоублажения и прочего лжеведения), всё же как-то облагороженного «учёными колпаками», орденами и роскошными мантиями, преувеличена?!
Отнюдь! Прогибаясь пред «игольными ушками» «дворцов и палат» со времён, когда «чёрт поселился в типографской краске», сутулые интеллектуалы протискиваются в бутафорские царствия бумажных владык вовсе не для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Горбясь под бдящими взорами властей и издателей, возомнивших себя политиками, «рыцари пера» и «игольных ушек» уводят внимание поколений от нужд времени, «по пути» подрабатывая на предоставленных им должностях палачами и могильщиками талантов. Этот-то пыльный народец, свято блюдя рынок чтива, завсегда оказывается в голове запоздалых чествований, погребальных церемоний и посмертных славословий «невольникам чести».
Именно их фарисейские уста отравляют жизнь тем, кто сделал немало, но ещё больше мог; кто много хотел, но сказал лишь чуть, а более всего тем, кому не дали сказать вовсе. Этот поседевший за фуршетами, запылившийся и посеревший в чиновных гостиных «цвет мысли», поспевая везде, умудряется заполонять своим «юбилейным присутствием» торжественно украшенные «колонные», бесколонные и прочие залы.
Только что не плетя венки из самих себя, «голые короли» беспрепятственно играют роль «элиты общества» и, оставаясь голью, травят жизнь и творчество тех, кто, в состоянии оказать честь любому народу, – мог, может и долженствует быть славой своего. Именно этот плодовитый народец, сея сор и плодя подобное себе, приводит общественную жизнь к пыльной серости. Именно «перед властию презренные рабы», развеянные по должностям, намертво прилипают к номенклатуре по рождению, «по вере» и происхождению, с которой их роднит та же серость. И происходит всё это из века в век! В России, очевидно, потому, что в поблёкшем сознании и омертвелых душах чиновного племени со времен первых Табелей о рангах стали размываться понятия о чести, доблести и достоинстве, в особенности, если эти свойства принадлежат другим. Так в обществе угнездилось неприятие и последующая жестокая травля всякой личной значимости.
В сложившемся сознании «петербургской России», даже и в своей лучшей части сформированной чужими заветами, ничего другого и не могло быть. А потому не удивительно, что придворная челядь, предав гордость Отечества – великого национального поэта Александра Пушкина в дни угасания его, – занималась тем же и впоследствии. Причём это касалось всех сфер, важнейших в деятельности народа и бытии страны. К примеру, всякая инициатива правительства России, как только «передовое общество» распознавало, что направлена она была на укрепление духовных ценностей народа, усиление внешнеполитических и внутринациональных интересов, немедленно принималась в штыки не только в кулуарах русских сановников, но и в самых высоких инстанциях. Это не раз приводило в негодование Тютчева и преданных России людей. Чуждые стране и народу лощёные «образованцы», мстящие всякой неординарности уже потому, что она есть, отличаются особой – подлой плодовитостью, удушающей истинные дарования.
Говоря о Лермонтове, именно от серости «светлых голов» и берут начало затянувшиеся во времени, прилипшие к его имени упреки в желании выделиться. Исходя от «мыслящих тростников» (или, не усложняя, – просто тростников), главные обвинения Лермонтова направлены на «гордыню» его, язвительность и, конечно же, на «невыносимое высокомерие».
Казалось бы, нет необходимости защищать того, кто в защите не нуждается. Но, считаясь с числом «исторических» недоброжелателей, всякого рода «мемуаристов», «эссеистов», ненавистников и завистников гения, до сих пор боящихся его «железного стиха» и льющих крокодиловы слёзы по «бедным жертвам» острого языка поэта, – скажу этим господам: Лермонтов «в гордыне своей» не себя «мерил», а лишь пытался «достать собой» до вершин того, на что нацелен был его гений. Именно этим «мерил себя» поэт – в этом было его высокомерие. Лермонтов рождён был значительной исторической личностью, по делам своим долженствующей выйти за пределы непосредственно Российского государства. В этом убеждает масштаб его талантов, а более всего – сущности поэта. Устами своих героев Лермонтов приоткрывает завесу своего высокого избранничества, которое в ипостаси отечественного служения не реализовалось и не могло реализоваться в России, скроенной на прусско-французский лад.
Вспомним, в критический момент жизни – перед самой дуэлью – Печорин заглядывает в себя: «Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в себе силы необъятные…». Приоткрывая неслучившееся, Лермонтов, «уйдя в себя», говорит здесь от самого себя, после чего, возвращаясь к герою своего времени и затронутой в романе теме, заканчивает мысль от его уже имени. Эту мысль так же пронизывает печаль и тяжёлая горечь автора: «Но я не угадал этого назначения, я увлёкся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел твёрд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший цвет жизни. …Смешно и досадно!», – будто жалея, что проговорился как за себя, так и за своего героя, заключает Лермонтов свой монолог.
Между тем «досада» кроется не столько в личности, в данный момент как будто переоткрывшего себя Лермонтова, и не в словах героя. Истинная досада автора, возможно, питается комплексом противоречий XVII, а может, и предшествующего века… По всей видимости, что-то произошло, что-то сломалось в «механизме» истории (а в России это, надо сказать, случается чаще, чем где-либо), и мощные крылья творчества и незатребованной гражданской деятельности Лермонтова скомканы были повсеместно воцаряющимся «белым» Безвременьем (о чем позже поведали миру философ Н. Я. Данилевский и взваливший на себя «бремя Лермонтова» Ф. М. Достоевский). В отрочестве ещё, провидя свою судьбу, поэт догадывался о своём «личном бремени», а потому готовился к борьбе с неведомым ему поначалу Противником, который со временем приобрёл более ясные – демонские черты. Потому, в предвестии «затяжных боёв» ему важно было знать свою силу. Отсюда «копание в себе», которое лучше назвать подготовлением себя к великому делу. Однако «дело Лермонтова», неотделимое от судеб Родины, видимо, исторически запоздало… И «запоздалость» эта предопределена была неумением духовно разрозненного народа отстоять свою самобытность перед никогда не изменявшими своей самости историческими недругами, то бишь неверными «наставниками» России. Как бы там ни было, «ставшая неугодной истории» жизнь Лермонтова отвержена была от Отечества. Это, очевидно, и предрешило в самом начале великого служения печальную судьбу поэта, рождённого воином.
Словом, «собой занят» был Лермонтов не в силу эгоизма, любого сердцу едва ли не всякого интеллектуала, а по той причине, по какой мыслящий человек, отвергая пустую, отдает предпочтение умной книге. Лермонтову, умевшему читать подлинные страницы здешнего бытия, горько и скучно было перебирать пустые листы, вычитывая жалкие строки нуворишей и себялюбцев, равно как и приживальщиков без чести (к которым он – и это хорошо известно – никак не относил «маленького человека»).
Отсюда «занятость» Лермонтова. Поняв это после второй встречи с поэтом (1840), «неистовый Виссарион» (Белинский) с восторгом пишет И. И. Панаеву: «Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке!». И тогда же сообщает В. П. Боткину: «Какой глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и непосредственный дух изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! … меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества…».
Сам Панаев в своих воспоминаниях «просто» отмечал, что «Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его». Правда, это мнение менее всего разделяли те литераторы, которым «чертовски не везло» с журналами. Иное дело независимые, честные и умные люди, к коим относилась княгиня Е. А. Долгорукая. По словам издателя «Русского архива» П. И. Бартенева, «женщина необыкновенного ума и высокой образованности, ценимая Пушкиным и Лермонтовым», считала, что «Лермонтов в запросах своих был много выше и глубже Пушкина».
Мы вовсе не обязаны возводить в абсолют оценку этой славной женщине, но именно ей, цитирую Бартенева, «Лермонтов раскрывал тайны души своей, а от умиравшего Пушкина не отходила она по целым часам и, стоя на коленях, слышала его последние заветы жене и друзьям»[25].
Из сказанного явствует: не вина, а беда поэта была в том, что «книгой» этой являлся он сам («он был весь глубоко сосредоточен на самом себе…», – подтверждает Панаев)! И «читал» её поэт не как себя только, а как трагическое противостояние Добра и Зла, вписанное в память человеческую с «тех ещё» времён… В этом пафос бытийно-сущего творчества Лермонтова.
Иаков в нём боролся с Богом – но не для того, чтобы победить Его! Потому драматично протекавшая жизнь-борьба Лермонтова представляется неким всплеском ветхих времен в условиях судьбоносного, но обрамлённого в метафизически жалкие и житейски мелкие исторические реалии Нового времени. Воспроизведение в новых условиях элементов древней истории и не смог вычитать в творчестве великого поэта Вл. Соловьёв. Сердце Лермонтова как никакое другое было «полем битвы», на котором Дьявол боролся с Богом. Ибо понимал поэт и никем не раскрытый ещё духобор и философ, что жизнь человеческая вне духовного бытия (а значит, и без отчаянной борьбы с «пылью» и нечистью мира) не имеет смысла, а всякое бытие вне смысла есть бесполезное повторение множества других жизней. В этом Лермонтов, по словам В. Хлебникова, истинно был «дитя земли», на которую взирал «глазами неба»; потому и виделась ему сжатая во времени жизнь и слитное с ней творчество Поэта мерцающей в ночи «звездой»…
О внутренней чистоте и благородстве Лермонтова говорит всегда жёсткая, но этически безукоризненная реакция его на оскорбление святынь Отечества, но яснее всего – благовестник души и совести непорочное творчество поэта. В произведениях Лермонтова вы нигде не найдете желания унизить достоинство какого-либо народа или культуру его! Ни светила древности, ни знаменитые Данте и Петрарка, как и подавляющее большинство мэтров Возрождения и последующих времён (не говоря уже о нашем – склочном без величия, и без истинных величин склочном времени) не могут поставить себе это в достоинство. А Лермонтов мог! «Не созданный для мира» дивный гений настолько глубок и интересен, что даже и вне поэзии его личность притягивает к себе заинтересованное внимание, побуждая к изучению мыслей и поведенческих связей поэта. И если это невозможно сделать в обход любимых Лермонтовым муз, то потому только, что те являются наиболее достоверными свидетельствами и личности, и сущности его. И наоборот – жизнь великого человека, взятая вне творчества, «удобна» для создания инсинуаций теми, кто лишены соизмеримых с поэтом талантов, духовных свойств и, конечно, человеческого достоинства. Отсюда изобилие всевозможных «историй». Что касается «злого языка» и «дурного характера» поэта, то об этом довольно уже было сказано, а потому оставим любителей рыться в том, что принадлежит им. Ибо о гении следует судить не по качествам, которыми он напоминает «массового человека», а по выдающимся достоинствам, которыми он отличается от него.
И вновь о связи времён.
В состоявшемся в последние десятилетия разломе российской жизни весьма печальными видятся ошибки нынешних «отцов» – внуков и правнуков «лермонтовского» поколения. Но, как уже говорилось, схожий элемент вины принадлежит и «детям» их. Частью ставшие «нулевым» поколением, или попусту преходящим поколением «Next», они «завязаны» на грехах и ошибках многих поколений, главнейшим из которых видится утеря человеческого и гражданского достоинства. Загнивая в начале всякого поприща или являя постыдное равнодушие едва ли не во всём; не зная, не умея и не особенно желая исправлять ошибки отцов, они усугубляют затянувшееся историческое Безвременье собственной уже беспамятностью. Как во времена Тютчева, пережившего Лермонтова почти на два поколения, так и сейчас духовно всеядные поборники безграничных свобод готовы плясать перед платежеспособным «миром» любые «мазурки», при этом не особенно утруждая себя масками. Но не в «плясках» и, тем более, – не в «масках» дело. Под углом зрения, заданного Михаилом Лермонтовым, ясно видится позорная суть исторического малодушия, которое не могло быть иным у поколений, лишённых собственного исторического развития. Существование народа «вообще» порождает бескорневое состояние души, схожее с бездомным растением «перекати поле», ставшим символом заброшенных, засушливых и неприкаянных мест. Именно такого рода сорная жизнь становится и содержанием, и символом нынешней, донельзя исподлившейся российской действительности и формирующей её власти. Она же определяет ущемлённую суверенность страны, в которой народ по-прежнему не свободен и, как и встарь, чужд собственному правительству. Отсюда враждебность к последнему. В условиях доминанты в повседневной жизни технологий и прочих инноваций материального, то есть мёртвого мира, становится всё более очевидно, что рабство под ярмом «своих» политических и экономических нуворишей равносильно рабствованию перед чужой властью. И паразитирующая на всё ещё христианском состоянии души народа «добрая воля» в этом «направлении» лишь донельзя усугубляет общее положение дел. Ибо самое страшное рабство – это рабство без принуждения! Полная мелкодушия и беспамятности, «жизнь» эта, определяя судьбу страны, может стать причиной исчезновения с арены мировой истории уникального культурного наследия России и самого народа! Об этом ясно свидетельствует падение языковой культуры, как и культуры вообще. Ибо язык – это мысль народа. На каком языке народ мыслит – на таком он и говорит.
Приверженность к неологизмам, англицизмам и прочей «русскоговорящей» иностранной дребедени улично-«импортного» происхождения приводит – привела почти – к отчуждению народа от самих основ русской культуры. Последнее происходит через утерю понимания её языкового эквивалента – классической литературы. В основе этого разброда, помимо банального ослабления мышления, лежит духовная слепота, утеря этических критериев и моральных ориентиров. Совокупность этих потерь обусловливает синтетическое мировосприятие, которое подчёркивает язык общения на уровне Эллочки Людоедки из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Именно эти пустые глазницы псевдонародной жизни ставят под сомнение саму возможность объединения людей в народ, по этой причине становящихся населением. Поскольку народ нарождается из глубин своего духовно-культурного бытия, а население заполняет собой страну – и не обязательно свою… Если таковое положение дел не изменится, то по прошествии какого-то времени русский язык окажется не только чуждым собственному народу, но и непонятным ему. И тогда великое творчество Пушкина, Лермонтова, Чехова и Толстого станет восприниматься как ненужная архаика, что равнозначно падению всего пласта русской культуры и напрямую зависимой от неё жизни страны. Вот почему важно осознание того, что повседневно происходящее имеет отношение не только к сиюминутной реальности. Живая ткань будущего взращивается в каждом моменте безвозвратно уходящего времени, а всякий новый день, в известной мере вбирая пороки и достоинства предшествующего, выстраивает содержание не только близкого, но и очень далекого будущего.
Лермонтов не оставил после себя тезисов по устроению человека, относительно которого не заблуждался. Но, печально глядя на своё поколение, он обращался в своём творчестве к далёким потомкам. Не иначе как являясь «сколком вечности», поэт уже в юные годы провидел многоступенное отпадение «колен» русского народа от своей самости. И здесь, в связи с духовной и исторической важностью понимания и верного прочтения наследия Лермонтова, полезно помнить, что бытие его, как и творчество, – многосложно. А потому всякого, дерзнувшего стать на путь постижения «нездешнего мира» Лермонтова, подстерегают великие трудности, обусловленные множеством и блистательностью «непознанных объектов» его наследия.
И всё же задача уяснения «мира Лермонтова» хоть и трудна, но возможна. Стремлению ощутить вдохновенные таинства поэта должно сопутствовать понимание того, что все их проявления – как «видимые», так и невидимые – обладают мистическим зарядом всё ещё возможного возрождения внутреннего человека, возрождения в духе, а не вне его.
Лермонтов был не только великим поэтом, но исключительно умным и неустрашимым бойцом с реалиями вещного мира, в начале своём исключающего переустройство и совершенствование духовного мира человека. Ценность глубоко одухотворённого творчества Лермонтова непреходяща, а целебна потому, что живая ткань его поэзии, содержа в себе мощный духовный потенциал, способна, перевозродив «генетическую клетку» падшего человека, разрушить порочную клеть материальных и материалистических привязок народа и общества. Но осилить путь внутреннего усовершенствования может не праздно шатающийся люд, блуждающий в истории «где попало» или живущий, как ни попадя, а, народ, знающий свою цель и уверенно идущий к ней!
И опять: говоря о гениальности, в особенности, тех, для кого она стала Голгофой, – не будем путать «дар Божий» со святостью. Поскольку гений, а значит – делатель, реализует себя в здешнем устроении, от чего как раз и стремится освободиться «пустынная святость» и «святость обители». Именно в этом контексте надо уяснить, что «здесь», имея в виду социальные институты, жизнь идёт по законам, которых «там» точно нет… Потому «земному» гению пройти жизнь свято и безгрешно куда как сложнее, нежели спасать душу свою, прячась за оградой отнюдь не всегда истинной «духовной реальности». По всей видимости, «земная» честь и доблесть и есть те зёрна, которым суждено пробиться даже и чрез каменистую почву, что и явил собой один из ярчайших представителей русской культуры и народа Михаил Лермонтов. Это подтверждает уже то, что многие поколения спустя зёрна талантов, павшие было на каменистую почву (вспомним хотя бы поэтическую судьбу Николая Рубцова), дали свой рост и продолжают пробиваться под благодатными лучами творчества великой русской литературы, в царственном венце которой наиболее ярко блистают произведения Лермонтова.
Выросши из «чайльд-гарольдовского плаща» и тогда же перестав заботиться о славе, Лермонтов незримо для всех облачается в ризы лазурно сияющие, то и дело украшая их жемчугом своих бессмертных творений. И, дабы не слепили они взоры людей, поэт с иронией набрасывал на себя понятный всем, а потому всеми приемлемый – и в его время уже с прорехами – «плащ», с сарказмом отождествляя его с толстой шинелью одного из своих героев.
«Нет, я не Байрон…», – говорит поэт. – «Я другой». И это так – другой.
Душу великого Байрона – как и Лермонтов доблестного в своём презрении к несвободе и нетерпимого к бесчестью – всё же миновал дар проникновения в самые мрачные «тартары» бытия. Привязанный к земным ценностям, английский поэт и пал за них. Уступает блистательный гений Лермонтову и в мощи, которая позволяла русскому поэту, храня Его законы, оставаться наедине с Предвечным. И Байрон, и Лермонтов были далеки от мира. Но, если английский поэт покинул его, борясь за свободу, которой нет, – то Лермонтов ушёл из мира («где нет… истинного счастья») для того, чтобы соединиться с «новым». Но и при всех «окольных (по отношению к бытию) полётах» музы, Лермонтов всегда оставался истинным патриотом и великим печальником своего Отечества. А то, что со всеми частями света поэт умеет говорить на языке национальной культуры, придаёт его творчеству всемирное звучание. Чарующее благоухание прозы, благородство мыслей и фантастическая красота стихов, свежих и чистых, как хрустальный ручей дикого ущелья, выделяют творчество Лермонтова среди самых ярких «звезд» поэтического пространства. Помимо этого доблестная и глубокая, подобно небесной сини, русская душа поэта содержит в себе широту истинно всечеловеческую, отчего, отыскивая каждого в этом мире, влагает в него ощущение сопричастности к лучшему, что есть в нём!
2012 (2004)Дополнения к части II
I. Сокурсник Лермонтова Ф. Вистенгоф оставил воспоминания, в достоверности которых, учитывая не склонный к компромиссам характер поэта и его предпочтение к самообразованию, сомневаться не приходится:
«Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что в свою очередь и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания.
Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесённой книги, не слушал профессорских лекций. Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темно-карие большие глаза пронзительно впирались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение.
Так прошло около двух месяцев. Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться.
Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение.
– Вы подойдите к Лермонтову и спросите его, какую он читает книгу с таким постоянным напряжённым вниманием. Это предлог для начатия разговора самый основательный.
Недолго думая, я отправился.
– Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? – обратился я к нему не без некоторого волнения.
Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд.
– Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание её, – ответил он мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать.
Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу, – она была английская.
(П. Ф. Вистенгоф. «Из моих воспоминаний». «Исторический вестник». 1884 г., Т. XVI. С. 333)«Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал! Говоривший невольно конфузился, умалял свой экстаз или совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице».
(Там же. С. 334)«Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене.
Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос. Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:
– Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
– Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.
Мы все переглянулись.
Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику. Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах».
(Там же. С. 334)Некто И. П. Забелла, в 13-летнем возрасте столкнувшись с Лермонтовым, изображает поэта самой темной «гризайлью»: «Но зато глаза!.. Я таких глаз никогда не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза, и щели, полные злости и ума. …Впечатление, произведённое на меня Лермонтовым было жуткое. Помимо его безобразия, я видел в нём столько злости, что близко подойти к такому человеку мне казалось невозможным, и я струсил». (С. 281–282)
II. С целью пояснить, что никакая политическая реальность не способна изменить древние, как мир, человеческие свойства и взаимоотношения, нахожу уместным провести мостик между прошлым, по факту, современным Лермонтову бытием, и будущим, принадлежащим другим поколениям. Мысли и идеи поэта, начиная с его эпохи, живы во всяком времени. И не только в России.
Мы уже знаем, что у Лермонтова вызывали острую неприязнь и презрение представители салонной части русского общества, которые не только говорили, но и думали по-французски. Между тем, с подачи «приличного общества» до сих пор (!) остаются в силе расхожие «мнения света» о причинах «неуживчивости» поэта, сводящиеся, якобы, к его злому характеру.
Лермонтов не видел нужды защищаться перед теми, кто служил мишенью для его сарказма, ни, тем более, оправдываться перед наветами недругов и завистников. Тем не менее, проблема остаётся. Не всегда вразумительные попытки выявить истинное происхождение «горечи и злости» Лермонтова побуждают вернуться к этой теме.
Замечу, что «злые характеристики» поэта существуют не «вообще», а применительно к обществу и к отдельным его представителям. Следовательно, у «злой» иронии поэта есть конкретный адрес. Но и в этом случае проблема имеет больше аспектов, нежели это виделось незадачливым «жертвам» острого языка поэта. Сам же Лермонтов раскрывает «адреса» лишь временами, да и то лишь отчасти. Это приводит к необходимости обратиться к идеям русского религиозного философа и государственника Ивана Ильина. Его мысли могут прояснить масштаб проблем, поистине имеющих исторической характер.
В одной из своих лекций философ, обращая внимание на этические и духовные аспекты гражданского общества России, по существу, духовно цитирует Лермонтова. Идеи Ильина перекликаются с так и не реализованной миссией Лермонтова потому, что имеют с призванием поэта прямую историческую связь. Прерванная «траектория» творчества-миссии поэта определила историческую лакуну, в которой «пропали» несколько десятилетий внутренне «замершей» русской культуры (об этом вполне определённо говорил ещё Вас. Розанов). Можно гадать об источниках исторического ясновидения Лермонтова, но вряд ли можно сомневаться, что он истинно видел, во что отольётся характер народа, лишённого веры в себя. В этом плане поэт почти через столетие «получил» мощную поддержку со стороны И. Ильина. Один из самых сильных аналитиков первой половины XX века Ильин всю жизнь боролся с атавизмом именно такого рода безверия. Реализовывая свою уже миссию под стягами исторической России, философ вёл борьбу во имя воли к созиданию.
При встрече с русской молодёжью в Риге 9 марта 1931 года Ильин, заостряя внимание на необходимости энергичного сопротивления злу, в своей лекции обращал внимание на важную роль в жизни общества не только высоко духовной, но сильной и волевой личности. Именно в этом аспекте идеи Ильина особенно близки духу творчества и характеру Лермонтова. Категоричный противник толстовского «непротивления злу насилием» (созданного «лакуной», но примостившегося главным образом в ослабевших духом и опавших волей людей), русский философ на протяжении многих лет ярко, решительно и бескомпромиссно развенчивал психологических пораженцев, прятавшихся под личиной «любящих Бога» пустых, но отнюдь не безобидных доброхотов. Растерявшись и сникнув после «великих революций» 1917 года и впоследствии мало что поняв в разыгравшейся в России трагедии, «стяжатели духа мирна», а, говоря проще, духовные пораженцы и социальные трусы, своей непреходящей аморфностью духовно и религиозно разлагая общество, вносили в него реальное зло. Но это была не столько вина доброхотов, сколько беда эвольвентно направленной религиозности русского народа, ныне олицетворённой в России виртуально общепринятыми «правилами веры». Кавычки здесь ставлю потому, что духовная деформация, притупив и без того ослабленный инстинкт социального самосохранения народа, делает зыбкой всякую духовную практику. Оказавшись без царя в голове, народ потерял его и в государстве. Идя «путями» того же деформированного сознания, лишь наследовал духовно продиктованное ему преклонение перед всякой властью.
На протяжении нескольких сот лет в России менялись исторические условия (среди которых, впрочем, были и благоприятные), но не менялось несчастное для судьбы Страны мировосприятие духовных и психологических хамелеонов, получавших «духовное окормление» от елейных непротивленцев из среды церковных иерархов. Некогда предавшие своих святых и героев, смиренные поклонники власти «аще от Бога», улещая свою паству к бытийной пассивности, тем самым склоняли к унижению и себя, и других, заражая народ пессимизмом и неверием в собственные силы. Развенчание такого рода «мировосприятия» весьма важно и актуально было не только во времена Лермонтова или самого Ильина, но и в наши дни. Поскольку исходящий из духа елейного пораженчества комплекс вины неизменно порождает Массового Холопа, который никогда не имеет своей страны, а если имеет, то наследует её в качестве территории с тем, чтобы в конечном счёте потерять и её…
Ильин в русле заданной им темы никак не имел в виду творческое бытие Лермонтова. Но, не говоря о поэте, ни вообще, ни в частности, философ с большой силой и логической убедительностью раскладывает по полочкам исключительную важность бойцов духовного плана, к которым поэт относился более, нежели кто-либо. А раз так, то выступления Ильина имеют непосредственное отношение к великому поэту. Необходимость разъяснения мыслей русского философа вызвана тем ещё, что во времена Лермонтова на этих «материях» не заостряла своё внимание православная мысль. Впоследствии не уразумел их ни продвинутый в духовно-теоретическом плане Вл. Соловьёв, ни сторонники отвлечённой (т. е. опять непротивленческой) «синодской веры». И после «русской революции», которую священство трактовало главным образом как наказание Божие за грехи народа, на «арбузных корках» непротивления злу продолжали поскальзываться и младшие современники И. Ильина, и далёкие потомки его.
В своей речи имея в виду «меч» в его буквальной карающей ипостаси, Ильин говорил:
«Отвергающие путь меча настаивают на том, что путь меча есть неправедный путь. Это верно – в смысле абсолютной нравственной оценки; это неверно – в смысле указания практического исхода. Понятна мечта о том, чтобы для нравственно-совершенного человека не было неодолимых препятствий в чисто духовном поборании зла, так чтобы он мог остановить и преобразить всякого злодея одним своим взглядом, словом и движением. Эта мечта понятна: она есть отображение двух скрестившихся путей – идеи богоподобия нравственно-совершенного человека и идеи всемогущества Божия; она как бы ссылается на то, что истинно добродетельный человек приближается к божественному совершенству, от которого увеличивается его духовное могущество, так, что перед этим духовным могуществом злодею всё труднее удаётся устоять. Это – благородная, но наивная мечта, – повторяет Ильин. – И несостоятельность её обнаруживается тотчас же, как только её пытаются превратить в универсальное правило поведения. Эта мечта несостоятельна духовно потому, что обращение и преображение злодея должно быть его личным, самостоятельным актом, пламенем его личной свободы, а не отблеском чужого совершенства, и если бы это могло быть иначе, то он давно уже преобразился бы от дыхания уст Божиих. Эта мечта несостоятельна и исторически: духовная сила праведника имеет свой предел перед лицом сущего злодейства. И казалось бы, что именно христианину не подобало бы переоценивать эту мечту, имея перед глазами образы многого множества святых, замученных не обратившимися и не преобразившимися злодеями…».
Настаивая на том, что и государственное служение, и, беря шире, роль человека в обществе есть дело Божие, Ильин, в очередной раз «каясь» в «неправедности меча», последовательно отстаивает свою позицию: «Да, путь меча есть неправедный путь; но нет такого духовного закона, что идущий через неправедность идёт ко греху… Если бы было так, то все люди, как постоянно идущие через неправедность и даже через грех, были бы обречены на безысходную гибель, ибо грех нагромождался бы на грех и неодолимое бремя его тянуло бы человека в бездну. Нет, жизненная мудрость состоит не в мнительном правидничании, а в том, чтобы в меру необходимости мужественно вступать в неправедность, идя через неё, но не к ней, вступая в неё, чтобы уйти из неё». И далее: «Тот, кто перед лицом агрессивного злодейства требует «идеального», по своему совершенству, нравственного исхода и не приемлет никакого иного, тот не разумеет основной жизненной трагедии: она состоит в том, что из этой ситуации нет идеального исхода.
Уже простая наличность противолюбовной и противодуховной ожесточённой воли в душе другого человека – делает такой безусловно-праведный исход до крайности затруднительным и проблематичным: ибо как не судить и не осудить? как выйти из полноты любви и не возмутиться духом? как не оторваться и не противостоять? Но при наличности подлинного зла, изливающегося во внешние злые деяния, идеально-праведный исход становится мнимым, ложным заданием.
Этого исхода нет и быть его не может, ибо дилемма, встающая перед человеком, не оставляет для него места. Она формулирует то великое столкновение между духовным призванием человека и его нравственным совершенством, которое всегда преследует человека в условиях его земной жизни. Божие дело должно быть свободно узрено и добровольно принято каждым из нас; но мало утвердить себя в служении ему, надо быть ещё сильным в обороне его».
Видя разницу между житейским компромиссом и духовным в том, что последний никогда не действует из меркантильных интересов и не преследует цель получить выгоду, философ развивает свою мысль: акт духовного компромисса «есть бескорыстное приятие своей личной неправедности в борьбе со злодеем, как врагом Божьего дела.
Тот, кто приемлет духовный компромисс, думает не о себе, а о Предмете; и если думает о себе, то не в меру своего житейского интереса, а в меру своего духовного и нравственного напряжения; и если думает всё-таки о себе, то меньше, чем тот, кто, укрываясь, дрожит над своей мнимой праведностью.
Компромисс меченосца состоит в том, что он сознательно и добровольно приемлет волею нравственно-неправедный исход как духовно необходимый; и если всякое отступление от нравственного совершенства есть неправедность, то он берёт на себя неправедность; и если всякое сознательное, добровольное допущение неправедности волею – создаёт вину, то он приемлет и вину своего решения. Если ему, до того, было доступно величайшее счастье жить, приближаясь к требованиям совести, то теперь он отказывает себе в этом счастьи, как в невозможном».
Далее Ильин проводит очень важную идею, о которую до сих пор спотыкается всякая «праведно-бесхребетная», а в миру безвольная и безынициативная «душа»:
«Перед лицом сущего злодея совесть зовёт человека к таким свершениям, которые доступны Божеству и Его всемогуществу, и для которых ни мысль, ни язык человека не имеют ни понятий, ни слов. Эти свершения, если бы они были возможны, отрицали бы самый способ разъединения бытия, присущий людям на земле, и предполагали бы возможность того, чтобы праведник, оставаясь собою, вошёл в душу злодею и стал бы им, злодеем, не становясь им до конца, для того, чтобы в нём перестать быть злодеем и выйти из него, обратив его в праведника… Но эти свершения по силам не человеку, а Богу; и мечтания о них остаётся на земле практически бесплодным». Говоря о мере ответственности борющегося со злом, которая тяжела и неблагодарна, Ильин (очевидно, не желая расстраивать своих слушателей) не делает акцента на том, что позитивный исход в мире, в котором торжествует зло, не так уж и част:
«Желая блага, преданный благу, он (борец. – В. С.) видит себя вынужденным во имя религиозно-верной цели – взять на себя неправедность и, может быть, вину и как бы отойти от блага; и притом с полным сознанием того, что он совершает». Положение такого человека «является нравственно-трагическим, – настаивает Ильин, – и понятно, что выход из него оказывается по плечу только сильным людям. Но сильный человек утверждает свою силу именно тем, что не бежит от конфликта в мнимо-добродетельную пассивность, и не закрывает себе глаза на его трагическую природу, впадая от малодушия в криводушие; сильный человек видит трагичность своего положения и идёт ей навстречу, чтобы войти в мир и изжить её (здесь выделено мною. – В. С.). Он берёт на себя неправедность, но не для себя, а во имя Божиего дела. И то, что он делает в этой борьбе, является его собственным поступком, его собственной деятельностью, которую он и не думает приписывать Богу. Это есть человеческий исход, который он сам осознаёт, как духовный компромисс, и который в то же время есть и его подвиг: ибо это есть великое, предметное напряжение его, ведущей борьбу за благо, воли. Подвиг здесь не только в ведении самой борьбы, но и в том духовном напряжении, которое необходимо для открытого и выдержанного приятия возможной вины. Напряжение духа нужно здесь не только для того, чтобы убить злодея (здесь Ильин развивает мысль, которая не совсем вписывается в нашу тему, как и в духовный посыл творчества Лермонтова, что понятно, ибо Ильин говорил не о нём), но для того, чтобы вынести свой поступок и пронести совершённое дело, не роняя своего поступка малодушным отречением от его необходимости, но и не идеализируя его нравственного содержания. Трагедия зла и борьбы с ним разрешается именно через приятие и осуществление этого подвига. И самый подвиг оказывается тем выше, чем живее в совершающем его остаётся способность освещать его лучом Божественного совершенства. Надо видеть не только необходимость своего напряжения и делания, но и ту человеческую безвыходность, которая его породила. Нужен не целесообразный психический механизм меча, но духовный организм, зрячий в своём решении и сильный до того, чтобы вынести эту зрячесть: чтобы не только совершить поступок, но и осветить его потом Божиим лучом; и, увидев неправедность его, снова увидеть его духовную необходимость, и снова свершить его, в меру этой необходимости; и принять всё это не из личных побуждений, а в религиозном порядке.
Борьба со злом требует всегда героизма. Не только тогда, когда она ведётся в форме внутренних усилий, воспитывающих человека и взращивающих его духовные крылья; но и тогда, когда она ведётся в форме понуждающего и пресекающего меча. Героизм меча состоит не только в том, что его дело трудно, беспокойно, полно лишений, опасностей и страданий, но и в том, что меченосец нуждается в особых «духовных усилиях для ограждения своего личного духовного Кремля: ибо его героизм есть героизм сознательно и убеждённо принятой неправедности. Мало того: человек, берущийся за меч, в безысходной борьбе со злодеем героичен потому, что он подъемлет этим бремя мира. Поставленный перед основной трагической дилеммой, не оставляющей для него нравственного исхода, он религиозно приемлет эту безвыходность; и избирая наименее неправедный и наиболее трудный путь меча, он принимает этот путь как свою судьбу».
Подводя итог своему выступлению, Ильин опять подчёркивает, что «путь меча» важен не только в духовно-личной ипостаси, но также в общественной и государственной. «Тот, кто не признаёт меча, тот разрушает государство, но напрасно он думает, что он избавляет себя этим от компромисса: ибо он только предпочитает безвольный, трусливый, предательский и лицемерный компромисс – компромиссу волевому, мужественному, самоотверженному и честному». Говоря о противоречиях, которые на пути к благородной цели несут в себе жёсткие, но социально и политически необходимые средства, Ильин не оставляет сомнений в мессианстве не слишком большого числа исторических избранников: «Так слагается один из трагических парадоксов человеческой земной жизни: именно лучшие люди призваны к тому, чтобы вести борьбу со злодеями, – вступать с ними в неизбежное взаимодействие, понуждать их злую волю, пресекать их злую деятельность и притом вести эту борьбу нелучшими средствами, среди которых меч всегда будет ещё наиболее прямым и благородным».[30]
III. Наибольшее влияние на разработку проблем сознания в Новое время оказал Рене Декарт, акцентировавший главное внимание на высшей форме сознательной деятельности – самосознании. Истинность познания, по Декарту, зависит от врожденных идей, которые ещё не истина, а только возможность прийти к ней посредством рационального мышления. Отсюда, по Декарту, первенство разума над интуицией, чувственным опытом и прочими «надстройками». Самосознание есть высшая форма сознательной деятельности, считал философ, рассматривая её как созерцание субъектом своего внутреннего мира, противостоящего внешнему миру. То есть, как осознанное наблюдение собственных психических процессов, в которых Декарт отдавал предпочтение рациональному действу: «Сознание – это не свойство разума или ощущений, это свойство действий. Я считаю сознательными акты становления, а не акты сознания». Говоря об «уме», философ полагал, что «чистый интеллект есть интеллект, который не вращается среди телесных образов». В пику Декарту, Лейбниц разрабатывал положение о бессознательной психике. Впоследствии французские материалисты (Ламетри, Кабанис) подошли к тому, что сознание является особой функцией мозга, благодаря которой он способен приобретать знания о природе и себе самом. Материалисты Нового времени рассматривали сознание как разновидность материи, реализующей себя в “тонких” атомах. Сознательная деятельность напрямую связывалась с механикой мозга и считалась всеобщим свойством материи (“И камень мыслит”). Блез Паскаль не мог знать открытий Ламетри и Кабаниса, поскольку жил много раньше. Сводя «механизм» мозга homo sapiens к «тростнику» («человек не что иное, как тростник, очень слабый по природе, но этот тростник мыслит…»), Паскаль, очевидно, по религиозной своей доброте оставляет человеку некоторую надежду.
IV. Если бы у Лермонтова возникла необходимость из существительных «без счастья и без славы» образовать причастия, то, он в соответствии с грамматикой своего времени написал бы «безсчастный», «безславный». Стихотворение М. Лермонтова даёт повод остановиться на предлогах «старорежимного» правописания, их послереволюционных изменениях и, главное, – на искажённом смысле слов.
В советский период истории России в русском языке был произведён ряд реформ, преследующих цель унифицировать и упростить язык. Но не только это, очевидно, заботило «пламенных» филологов. Они вознамерились нейтрализовать морально-смысловое противостояние «старых» значений – их «конфликтность» с атеистической идеологией и социально-политической системой «новой России» (СССР) как таковой. В этих целях была изменена орфография, что в ряде случаев, надо признать, носило диверсионный характер. Поскольку из русского языка изымалось его историческое содержание и, на понятийном уровне, – духовные, моральные и нравственные основы. Технически это достигалось изменением структуры слов, после чего их смысл принимал чуждый и даже противоположный тому, который искони заложен был в русском языке. Рассмотрим здесь лишь предлог, который, сделавшись приставкой к прилагательному, рикошетом придавал слову подчас совершенно иной смысл.
К примеру, грамматическое указание отсутствия чего-либо – «без» – было подменено (в 1921 г. по инициативе Луначарского, бывшего, к слову, сторонником латинизации русского языка) присутствием – «бес», что привносило смысл – бесовщины (слуг дьявола). Таким образом, приставка сменилась настаивающим на себе в народном сознании именем существительным. Очевидно, бесы революции таким способом хотели поглотить духовные и моральные сущности великого и могучего русского языка. Напомню: в «старом» языке слова такого рода и при соединении с прилагательным оставались без изменений. Не иначе, как бес изменений не давал покоя большевистским вождям. Лермонтовское – «без счастья и без славы», как ничто, ясно иллюстрирует сказанное. С той лишь разницей, что слово безсчастный не прижилось в русском языке. Сравним:
Без славы – бесславный, без прибыли – бесприбыльный (естественно, – это одна из прерогатив «бесов»), без совести – бессовестный (…), без сердца – бессердечный, без содержания – бессодержательный, без культуры – бескультурный, без сознания – бессознательный (это понятно), без перспективы – бесперспективный, без пользы – бесполезный (это смотря кому), без порядка – беспорядочный (!), без примера – беспримерный, без мысли – бессмысленный (это мы знаем), без пощады – беспощадный (это, конечно, неправда), без примера – беспримерный, без помощи – беспомощный (ну, это уж никак), без приметы – бесприметный (а это, когда как…), без принципа – беспринципный, без приюта – бесприютный (в это трудно поверить), без толка – бестолковый (без сомненья!), без цены – бесценный (для реформаторов языка, наверное, – да), «без человека» (в смысле – отсутствия человеческого начала) – бесчеловечный (здесь отсутствие человека возмещено присутствием, ясно кого; поставлю здесь ☺), без чести – бесчестный (дважды ☺☺), без солнца – бессолнечный, без пути – беспутный (никогда в это не поверю), без хлеба – бесхлебный (и это вряд ли), без хозяйства – бесхозяйственный (в определённом смысле – да).
В то же время в до сих пор существующем «новоязе» прослеживаются свойства, весьма характерные для самих «писателей языка»:
Без пламени – беспламенный (это – точно о себе!), без партии – беспартийный (тоже), без плана – бесплановый (вне сомнения), без системы – бессистемный (это без вопросов), без процента – беспроцентный (без этого – никак!), без серебра – бессребреник (опять про себя), без числа – бесчисленный (ещё бы!), без силы – бессильный (в этом нет никаких сомнений), без слова – бессловесный (увы!), без союза – бессоюзный, без чувства – бесчувственный.
Однако, в ряде случаев поддавшись деформации, русский язык оказался непоколебим в базовых своих сущностях, где и «без» и «бес» вполне соответствуют своему смыслу. Смотрим:
Без Бога – сохранило свой смысл и при соединении предлога – безбожный, без веры – безверный, без души – бездушный, без нравственности – безнравственный, без жалости – безжалостный, без завета – беззаветный, без отрады – безотрадный, без закона – беззаконный, без защиты – беззащитный, без утехи – безутешный, без матери – безматерний, без беды – безбедный, без идеала – безыдеальный, без страха – бесстрашный, без тела – бестелесный, без субъекта – бессубъектный, без трепета – бестрепетный, без характера – бесхарактерный, без цели – бесцельный, без компромисса – бескомпромиссный, без конца – бесконечный, без корысти – бескорыстный, без памяти – беспамятный, без попа – беспоповный (тут надо подумать ☺), без призора – беспризорный (тоже не случайно), без смерти – бессмертный, без шума – бесшумный (это – когда как), без хитрости – бесхитростный, без мата – безматерный (это явно по недосмотру – приставка «бес» была бы здесь более уместной), без хвоста – бесхвостый (это понятно).
На этом можно остановиться, поскольку принципы изменений ясны.
V. Положение дел в России подтверждает, в частности, реакция на повесть беллетриста Б. М. Маркевича «Две маски», опубликованной в 1874 г. в журнале «Русский вестник». В ней Маркевич «мимоходом» уделил внимание Лермонтову: «Лермонтов – скажу мимоходом – был, прежде всего, представителем тогдашнего поколения гвардейской молодежи».
Эти, сами по себе пустые, строки вызвали важную для исследователей негодующую реакцию со стороны доживающих свой век современников поэта. В газете «Голос» появилась заметка кн. А. И. Васильчикова под заглавием «Несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича», прояснившая некоторые аспекты взаимоотношений поэта и общества.
«Пустота окружающей его <Лермонтова> светской среды, эта ничтожность людей, с которыми ему пришлось жить и знаться», была, по словам Васильчикова, причиной того, что Лермонтов «печально глядел на толпу этой угрюмой молодежи, которая действительно прошла бесследно, как и предсказывал поэт, и ныне, достигнув зрелого возраста, дала отечеству так мало полезных деятелей; ему «некому было руку подать в минуту душевной невзгоды», и когда в невольных странствованиях и ссылках удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского, он изливал свою современную грусть в души людей другого поколения, других времен. С ними он действительно мгновенно сходился, их глубоко уважал, и один из них, еще ныне живущий, М. А. Назимов, мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к коему принадлежал».
М. А. Назимов не замедлил включиться в полемику: «В сарказмах его <Лермонтова> слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной ему великосветской жизни и страхом неизбежного влияния этой пошлости на прочие слои общества. Это чувство души его отразилось на многих его стихотворениях, которые останутся живыми памятниками приниженности нравственного уровня той эпохи». О том же свидетельствовал в «Былом и думах» и А. Герцен: «Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарением Николая…».
В книге «С того берега» А. Герцен в своём «Эпилоге» подтверждает печальное видение эпохи М. Лермонтовым:
«Меня просто ужасает современный человек. Какая бесчувственность и ограниченность, какое отсутствие страсти, негодования, какая слабость мысли, как скоро стынет в нем порыв, как рано изношено в нем увлеченье, энергия, вера в собственное дело! – И где? чем? когда эти люди истратили свою жизнь, когда они успели потерять силы? Они растлились в школе, где их одурачили; они истаскались в пивных лавках, в студенческой одичалости; они ослабли от маленького, грязного разврата; родившиеся, выращенные в больничном воздухе, они мало принесли сил и завяли потом, прежде, нежели расцвели; они истощились не страстями, а страстными мечтами. И тут, как всегда, литераторы, идеалисты, теоретики, они мыслью постигли разврат, они прочитали страсть. Право, иной раз становится досадно, что человек не может перечислиться в другой род зверей, – разумеется, быть ослом, лягушкой, собакой приятнее, честнее и благороднее, нежели человеком XIX века.
…Одно утешение и остается: весьма вероятно, что будущие поколения выродятся ещё больше, ещё больше обмелеют, обнищают умом и сердцем; им уже и наши дела будут недоступны и наши мысли будут непонятны. Народы, как царские домы, перед падением тупеют, их понимание помрачается, они выживают из ума – как Меровинги, зачинавшиеся в разврате и кровосмешениях и умиравшие в каком-то чаду, ни разу не пришедши в себя; как аристократия, выродившаяся до болезненных кретинов, измельчавшая Европа изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии. Слабые, хилые, глупые поколения протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению – летописей».
Местами повторяя думы Лермонтова едва ли не буквально, Герцен завершает свой «Эпилог»: «Когда многие надеялись, мы говорили им: это не выздоровление, это румянец чахотки. Смелые мыслию, дерзкие на язык, мы не побоялись ни исследовать зло, ни высказать его, а теперь выступает холодный пот на лбу. Я первый бледнею, трушу перед тёмной ночью, которая наступает; дрожь пробегает по коже при мысли, что наши предсказания сбываются – так скоро, что их свершение – так неотразимо. …Прощай, отходящий мир, прощай, Европа!»…
Цюрих, 21 декабря 1849 г.
«Видимая, старая, официальная Европа не спит – она умирает!», – пишет Герцен из Парижа в следующем году.
Однако нечто подобное было характерно не только для «отсталой» России. В этой связи представляется любопытным «сторонний» взгляд на исторически ту же эпоху: «Мир разлагается, как гнилая рыба, мы не станем его бальзамировать» (нем. Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch. Wir wollen sie niclit balsamieren), – предвещая мысли Лермонтова, писал Гёте о «мире», под которым, естественно, подразумевал Европу.
VI. В феврале 1841 г. Лермонтову был разрешен короткий отпуск в столицу для свидания с бабушкой Е. А. Арсеньевой. Главной же его целью были поиски пути выхода в отставку с тем, чтобы полностью уйти в литературную деятельность. П. А. Висковатов, со слов
A. А. Краевского, говорит об этом периоде: «Он мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления «Отечественных записок». «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. «Мы в своем журнале, – говорил он, – не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их». Хлопоты Лермонтова, как известно, закончились высылкой его из столицы.
Весьма интересно наблюдение Лермонтова – и тоже на балу, оставленное не дворянином, а, скорее, «разночинцем» – поэтом B. И. Красовым. В июле 1841 г. он пишет А. А. Краевскому: «Что наш Лермонтов? …Нынешней весной, перед моим отъездом в деревню за несколько дней – я встретился с ним в зале Благородного собрания, – он на другой день ехал на Кавказ. Я не видал его десять лет – и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо. Он был грустен, и, когда уходил из собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце – так мне жаль его было».
VII. В свете рассматриваемого вопроса интересно проследить сокровения европейской мысли Нового времени и «века Просвещения», предшествующего эпохе Лермонтова.
Французский философ Блез Паскаль на протяжении всей своей жизни исследовал место человека в мире и смысл его существования. И возвышая, и чаще – унижая человека («человек, всё же, бесконечно выше других существ, поскольку сознает своё ничтожество»), видя зло в испорченности сознания человека («Несчастным может быть только существо сознательное. Разрушенный дом не может быть несчастным. Бедствовать сознательно может только человек»), Паскаль сформулировал свои открытия следующим образом: «Не в пространстве, занимаемом мною, должен я полагать свое достоинство, а в направлении моей мысли. Я не сделаюсь богаче чрез обладание пространствами земли. В отношении пространства, вселенная обнимает и поглощает меня как точку; мыслью же своею я обнимаю её». Следуя своим концепциям, Паскаль в научной работе «Трактат о пустоте» логично приходит к тому, что «человек предназначен для бесконечности». В основе «Трактата» содержится представление о том, что бесконечна не только протяженность вселенной, бесконечно и время, в котором она существует, и время, в котором она будет существовать. Бесконечны непрестанно совершающееся во вселенной движение и изменения в ней, как бесконечен числовой ряд. Мир, по Паскалю, представляет собой единое целое: «все части мира находятся между собой в таком взаимосцеплении, в такой связи», что каждая из них связана со всеми без исключения другими и зависит от них. «Всё в мире является и причиной, и следствием, и движущим, и движущимся, и непосредственным, и опосредованным… всё связано естественными и нерушимыми узами, соединяющими самые отдаленные друг от друга, самые непохожие друг на друга явления». А поскольку различных объектов и процессов в мире неисчислимое множество, и каждый из них связан со всеми прочими, то у любого исследуемого объекта, как бы мал он ни был, обнаружится бесконечное количество связей. Таким образом, в каком бы направлении ни велось научное исследование, оно будет направлено на постижение бесконечности, что не продуктивно, а потому бессмысленно. Ибо знания, которыми располагает и когда-либо будет располагать человечество, всегда будут конечными.
Говоря о «человеке», Паскаль указывал на ограниченную самость и компетентость homo sapiens: мы – нечто, но не всё. Это «нечто» по сравнению со «всем» бесконечно мало, но оно всё же не ничто, а реально существующая частица природы. И если «наши знания занимают в ряду всего, что подлежит познанию, такое же место, какое наши тела занимают в протяженности природы», то очевидно, что эти знания отнюдь не суть скопление одних только заблуждений и вымыслов, а часть, хотя и очень малая, полного и совершенно точного знания.
В конце XVII в. Готфрид Лейбниц, раскрывая содержание понятия времени, использовал термин «феномен». Немецкий философ пришёл к выводу, что пространство и время не реальности, существующие сами по себе, а феномены, вытекающие из существования других реальностей.
Согласно Лейбницу, пространство представляет собой порядок размещения тел, то, посредством чего они, сосуществуя, обретают определённое местоположение относительно друг друга; время представляет собой аналогичный порядок, который относится уже к последовательности тел. Лейбниц предполагает органичную (а значит – взаимозависимую) связь между месторасположением и последовательностью «реальностей», к числу которых относится бытие, «овеществлённое» деятельностью человека. Далее Лейбниц заключает: если бы не было живых созданий, то пространство и время остались бы только в идеях Бога. Иначе говоря, пространство и время «материализуют» себя не в абстрактном «человеке», а в наивысших проявлениях его деятельности (творчества), венчающей, как нам известно, лучшее творение Бога.
Позднее, в работе «Опыты теодицеи», Лейбниц пришёл к любопытному заключению: гармония производит связь как будущего с прошедшим, так и настоящего с отсутствующим. Первый вид связи объединяет времена, а второй – места. Эта вторая связь обнаруживается в единении души с телом, и вообще в связи истинных субстанций между собой. Но первая связь имеет место в преформации органических тел или лучше всех тел…
Эммануил Кант в своих изысканиях пришёл к выводу, родственному Паскалю, а именно: абстрагировать из реальности время и пространство невозможно, поскольку оно существует безотносительно к человеку и, будучи «абсолютной независимостью», принципиально недоступно человеческому анализу.
Вместе с тем, время и пространство для Канта – это априорные (до опыта) формы чувственного созерцания, изначально присущие человеческой способности воспринимать мир, что, нивелируя предыдущую мысль Канта, подтверждает глубинную связь Образа с подобием…
Возвращаясь к «времени» и «пространству» в творчестве М. Ю. Лермонтова, нельзя преуменьшать, но нельзя и преувеличивать воздействие философских учений и категорий на мировоззрение поэта. При всём том, что Лермонтов пристально изучал европейскую мысль, он мог лишь опосредованно соотносить её со своим видением истории и человека в ней. Ибо не дело поэзии (это совершенно отчётливо читается в его произведениях) мучиться отвлечённо философскими проблемами. Тем не менее, по складу ума Лермонтова по праву можно считать мощным аналитиком, по характеру – проникновенным психологом («Он не слушает то, что вы говорите – он вас самих слушает!», – изумлялся один из современников), а по мировосприятию – философом-мистиком. Но это лишь подтверждает то, что мы уже знаем – многогранность феномена Лермонтова, потенциальные возможности которого ввиду прерванности судьбы его навсегда останутся для нас тайной.
Мощная мысль Лермонтова оттенялась исключительным по силе наитием. Пронизывая творчество поэта, эти качества находят подтверждение в фактах его биографии, увы, изобилующей многими белыми пятнами.
Участвуя в беседах со славянофилами А. С. Хомяковым и Ю. Ф. Самариным, Лермонтов, по сохранившимся сведениям, был единодушен с ними в отношении к отечественной культуре, но оспаривал ряд позиций славянофилов. В первую очередь – идеализацию Московской Руси и псевдо-крестьянское, «лубочное» понимание русского бытия. «Москва сороковых годов принимала деятельное участие за мурмолки и против них…», – не без сарказма характеризовал брожение умов А. И. Герцен. Надуманность учения в известной степени обличал далёкий от славянофильских «картинок» суровый быт русской деревни, а известную «пришлость» учения подчёркивает влияние на славянофилов немецкого классического идеализма Шеллинга и романтизма Гегеля.
Отдельной и совершенно не исследованной темой в творчестве поэта является своего рода «графическое» ощущение времени, а если быть точным, – умение Лермонтова художественными средствами изобразить движение и скорость. Будучи исключительно одарённым рисовальщиком, поэт мастерски передавал движение в пространстве. Об этом свидетельствуют полные динамики батальные сцены, изображающие лошадей и всадников. Поразительно, но бегущая лошадь в рисунках Лермонтова более естественна и убедительна, нежели у кого-либо из русских и зарубежных рисовальщиков его эпохи! Помимо графического таланта и живописных данных поэт наделён был редким музыкальным даром: играл на скрипке, рояле, пел арии из своих любимых опер и сам писал музыку; был очень сильным математиком: решал и составлял сложные математические задачи и ребусы, слыл очень сильным шахматистом. Факт разносторонней одарённости и многообразие форм применения таланта даёт основания полагать, что именно универсальность Лермонтова была предпосылкой для восприятия им мира в нескольких измерениях, включая время и пространство. Проявляясь ярко и ёмко, разносторонне одарённая натура поэта делала возможным широкомасштабный охват бытия, в то время как великий дар Слова позволял Лермонтову творить с помощью феерического по красоте стиля.
Примечания к части II
1. Любопытно, что доязыческая Русь в качестве духовного и культурного феномена не изучается нигде — даже в России! В этой ипостаси её не проходят не только в школьных учебниках и вузовских программах, но не рассматривают и в науке, за исключением «закрытых» диссертаций отдельных учёных-энтузиастов, без всякой поддержки государства изучающих политеистические или этнические религии. Факт этот говорит о том, что беспамятны и «безмолвны» как российские власти, так и «послушный им народ». Возможно, по своей эпической мощи и пластической красоте «русские боги» не смогут на равных «тягаться» с греческими. Но что из того?! Да и кто знает: если учесть, что христианский мир на протяжении всей своей истории сохранял, продолжает хранить, лелеять и изучать (по факту – приумножая в исследованиях) культуру древнего языческого мира, чего не скажешь про его русский эквивалент, то, может, не всё так однозначно. К примеру, выдающийся специалист по славянскому фольклору Ю. И. Смирнов, отмечая общее наследие греческой мифологии и славянской, определяющее сходство сюжетов, – по древности отдаёт предпочтение славянским сказаниям. Говоря о Сцилле и Харибде у греков, Смирнов приводит их славянский аналог – Горы Толкучие, которые то сходятся, то расходятся, мешая русским героям проскочить их. «Но про Одиссея-то все знают, а наш собственный сюжет – не знают», – отмечает Смирнов («ЛГ», 2013, № 13. «Фольклор, которого мы не знаем»). Словом, славянский эпос до сих пор остаётся тайной за семью печатями, сбивать которые, впрочем, не входит в нашу задачу. Во всяком случае, духовное и моральное богатство русских мифов заслуживает лучшей участи, нежели захоронение ключей к ним в архивах и запасниках музеев. Уже потому, что эпическая мощь славянского язычества легла в основу культуры славянских народов, включая исторически и культурно наиболее жизнеспособный из них – русский народ.
2. Впервые опубликовано: «Новое время». 1916. 18 июля. № 14499.
3. Литературное наследство. Т. 45–46. М. 1948. С. 648.
4. А. Герцен. Полное собрание сочинений. VI. 374.
5. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради (1860–1880 гг.). М. Наука. 1971. С. 174.
6. В одной из последних встреч Лермонтов сообщил Белинскому свой замысел написать романтическую трилогию – три романа из трех эпох жизни русского общества (век Екатерины II, Александра I и современной ему эпохи). Эти романы должны были иметь между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинавшейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыню», «Пионерами» и оканчивающейся «Степями».
7. Здесь прежде всего укажу на геополитические заблуждения Александра I и Николая I, суть которых в недальновидном ведении политики в регионе Среднего Востока и в исторически спорном включении в территорию России ряда стран Средней Азии. В правительстве России не было понимания потенциальной опасности исторически неизбежных противоречий религиозного и этнического характера, идущих от физически приобретённых, но духовно не закреплённых территорий. Всё это, создавая потрясения множественного характера, вело к образованию «тектонических сдвигов», которые в дальнейшем усугубило отсутствие должного к ним внимания. Заявив о себе сразу же, трещины и разрывы в теле новообразованной России со временем всё увеличивались. Подробнее об этом в моей книге «Великая Эвольвента».
8. У Пушкина «день» прямо связан с «судьбой» и «законом» («Евгений Онегин». Глава шестая, XXI):
Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он. Нет нужды; прав судьбы закон.Заметим, что выражение: «На сон грядущий» – несёт в себе однозначно иронический смысл, что более всего подчёркивает его излишняя торжественность.
9. Справедливости ради отмечу, что видению тогдашних реалий М. Булгаковым, в повести «Собачье сердце» (1924) раскрывшего читателю развитие «нового человека» по-большевистски, – предшествовала тяжелая и дремучая в душах «передоновская провинция», мастерски явленная Ф. Сологубом в романе «Мелкий бес» (1907). Некоторая тусклость стиля повествования, возможно вызванная желанием автора создать соответствие провинциальному быту, была ещё, наверное, обусловлена неведением им истинного масштаба «бесов». Хотя, скорее всего, «тусклость» является художественным приемом. Острота характеров чеховских героев или блистательность стиля Булгакова лишь помешали бы Сологубу раскрыть, поистине, адское зложелание ряда его персонажей. Как показывает безотрадная жизнь, по сию пору застрявших в безвременье российских предместий и деревень, даже и сейчас существующих в отрыве от культурных центров, «сологубовская Россия» была куда меньшей фантастикой, нежели «булгаковская».
10. Отдав должное зарубежным, всё же снимем шляпу перед отечественными литературными мудрецами – истинными «пионерами» философии практицизма. За сто лет до прагматизма Ч. Пирса, У. Джеймса и Д. Дьюи – один из персонажей И. Крылова (см. «Почта духов», 1789; письмо VIII к волшебнику Маликульмульку.) выдвигал соображения, которые, хоть и не столь мудрёны, как в сочинениях американских философов, зато не менее глубоко осмысленны и на загляденье просто поданы: «Неужели должен я ломать голову, занимаясь сими глупостями, которые не принесут мне никакой прибыли? К чему полезна философия? Разбогател ли хоть один учёный от своей учёности? Наслаждается ли он лучшим здоровьем, нежели прочие? – Совсем нет! Философы и учёные таскаются иногда по миру; они подвержены многим болезням по причине чрезмерного их прилежания; зарывшись в книгах, провождают они целые дни безвыходно в своих кабинетах и, наконец, после тяжких трудов, живучи во всю жизнь в бедности, умирают таковыми же. Поистине, надобно сойти с ума, чтоб им последовать» (Хрестоматия по русской литературе XVIII века. М. 1956).
11. Одно только местоимение «мы» Лермонтов употребляет в стихотворении одиннадцать раз. Другие вариации «личного» обращения – «наш», «нас», «его», «оно» и пр. – содержатся в «Думе» двенадцать раз. Отнюдь не случайная концентрация именных «указателей» создаёт мощную общественно-личностную структуру произведения, попутно не давая читателю возможность сбиться с заданного Лермонтовым направления.
12. Пушкин А. С. Письма последних лет (1834–1837). Л. 1969. С. 156. (Подлинник по-французски).
13. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. XI. 1949. С. 223.
14. Там же. Т. XII. С. 36.
15. Обе работы находятся в экспозиции московского музея им. М. Лермонтова на Малой Молчановке (дом № 2). И хотя среди литературоведов нет полной уверенности в авторстве Лермонтова, считаю, что живописные особенности акварелей, свидетельствуя о специфической неординарности натуры, принадлежат детской руке поэта.
16. Н. Федоров называет Вл. Соловьева «философом превозносящегося эгоизма», который «видит в Лермонтове <…> зародыш ницшеанства, а в себе самом не замечает полного ницшеанства» (Н. Ф. Федоров. Философия общего дела: Статьи, мысли и письма. М. 1913. Т. 2. С. 123).
17. Шувалов С. В. Религия Лермонтова. Венок М. Ю. Лермонтову: Юбилейный сборник. – М.; Пг.: Изд. т-ва «В. В. Думнов, наследники бр. Салаевых». 1914. С. 161.
18. Онтологическое доказательство существования Бога впервые сформулировал Ансельм Кентерберийский. Применительно к чисто философской проблеме, оно сводится к тому, что мыслимость Бога является логическим обоснованием его существования. Кант опроверг это доказательство с позиций субъективного идеализма, в то время как объективный идеалист Гегель опроверг Канта, исходя из положения о единстве мышления и бытия. Здесь налицо различие не только в философском мышлении и методах анализа, но и в свободе, мыслимой человеком.
Позднее Шеллинг под «свободой» понимал не случайную возможность выбора в каждом данном случае, а дисциплину внутреннего самоопределения человека.
Тёмная природа, поскольку она в Боге, не есть ещё зло. Она становится злом, считал Шеллинг, лишь в природе конечных вещей, где она не подчиняется светлому началу и высшему единству.
Таким образом, зло лишь попутно (begleitungsweise) развивается в самообнаружении Бога и, хотя коренится в Его тёмной природе, не может быть признано актом Бога.
19. А. Герцен куда более трезво оценивал прогрессивные инициативы общественности, нежели умные и образованные друзья Лермонтова. Пресса того времени свидетельствует о том, что этически инициативы эти не слишком далеко уходили от мировоззрений грибоедовского Молчалина. Герцен свидетельствует: положительная программа «дворянских революционеров» не виделась Лермонтову панацеей от социальных бед, так как «основные вопросы стали гораздо более сложными и глубокими» (А. Герцен. Полн. собр. соч. Т. V. С. 359).
20. Лермонтов не мог «просто так – для рифмы» употребить «глаз» в единственном числе. Зная начала, на которых выстраивается пирамида власти в Европе и России, ведая о механизмах управления обществом и через явные связи европейских дворов провидя тайные (и, вероятно, угадывая причины этих «связей»), поэт «всезнание» царедворцев употребляет в значении дозора – не только все-видящего, но и все-слышащего. Потому представляется очевидным, что поэт указывает здесь на масонское происхождение «одноглазой» пирамиды власти.
В России «всевидящее око» в качестве масонского символа употреблялось с начала XVIII в. Его можно найти на медалях, посвящённых императрице Елизавете Петровне, Екатерине II, Александру I и Николаю I. Во всех случаях «око» изображено в треугольнике, от которого исходят лучи. Тексты на медалях были самые разные: «За любовь к отечеству» («На коронацию Екатерины Второй», 1762), «Не нам, не нам, а имени твоему» (1812), посвящённой борьбе с Наполеоном, «За взятие Парижа» (1814) и т. д. Следует знать, что в первой половине XIX в. к масонам принадлежала практически вся верхушка Императорского Двора. К примеру, генерал-адъютант (впоследствии шеф жандармов) граф А. Х. Бенкендорф, министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде, граф Л. А. Перовский (министр внутренних дел в 1841–1852 гг.), граф В. Н. Панин (министр юстиции в 1841–1852 гг.).
21. Арестованный за стихотворение «Смерть поэта» и помещённый в одну из комнат верхнего этажа Главного штаба Лермонтов написал несколько выдающихся произведений (как он признавался: на клочке бумаги «… с помощью вина, печной сажи и спички»).
Помимо стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива», – это были «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Сосед» («Кто б ни был ты, печальный мой сосед…») и «Узник».
22. Осмелюсь предположить, что последними строками:
И ты его узнаешь – и поймёшь, Зачем в руке его булатный нож: И горе для тебя! – твой плач, твой стон Ему тогда покажется смешон: И будет всё ужасно, мрачно в нём, Как плач его с возвышенным челом.– Лермонтов старается «закруглить» действительно явившееся ему страшное предвидение. Очевидно, очнувшись от реально видимого им кошмара, поэт решает привести образ к некоему, понятному и приемлемому для своего окружения, романтическому знаменателю. Тем не менее, эта часть стихотворения, несколько искусственно выстраивающая «мостик» к вкусам своего времени (в особенности последней строкой), никак не ставит под сомнение силу и достоверность прозрения, явленного в первой строфе.
23. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М. 1989.
24. И. Л. Андроников. Исследования и находки. М. 1964. С. 181.
25. «Русский архив». 1908. № 10. С. 295; 1912. Кн. III. С. 86–87.
Творчество М. Ю. Лермонтова в изобразительном искусстве
Творчество М. Ю. Лермонтова в изобразительном искусстве нашло наиболее сильное отражение в живописи и иллюстрациях М. А. Врубеля. Профессор С. Н. Дурылин так охарактеризовал их: «…Работая над иллюстрациями к Лермонтову. Врубель откликался на его поэзию как на что-то творчески родственное, он давал отзвук на лермонтовскую поэзию как на нечто изнутри ему близкое, неотторжимое от его собственного бытия. Лермонтов живет во всём творчестве Врубеля. Невозможно говорить об основных темах и приемах Врубеля, не припоминая тлей н перепутий творчества Лермонтова. И обратно: изучая Лермонтова, погружаясь в сложную историю создания «Демона» или «Мцыри», невольно входишь в художественную мастерскую Врубеля, ища там соответствий и аналогий к творческому делу Лермонтова. Врубель – не только непревзойденный иллюстратор Лермонтова: он художник, во многом родственный Лермонтову». Александр Иванов не иллюстрировал М. Лермонтова, но в своих «Библейских эскизах» он разрабатывал духовные пласты, созвучные великому поэту. Поэтому наряду– с иллюстрациями М. Врубеля в книге мы приводим акварели А. Иванова, цикл которых предваряем замечательным портретом М. Лермонтова, выполненным М. Зибольдом.
Лермонтов. Гравюра М. Зибольда (в ремарке портрет Е. А. Арсеньевой)
Демон летящий. М. Врубель. 1890 г.
Голова Демона. М. Врубель.1890–1891 гг.
Тамара и Демон. М. Врубель. 1890–1891 гг.
Пляска Тамары. М. Врубель. 1890–1891 гг.
Демон (сидящий). М. Врубель. 1890 г.
Демон летящий. М. Врубель
Демон у стен монастыря. М. Врубель. 1891 г.
Тамара в гробу. М. Врубель. 1890–1891 гг.
Демон поверженный. М. Врубель. 1902 г.
Журналист, писатель и читатель. М. Врубель. 1890 (?)
Кирибеевич (сидящий). М. Врубель. 1889 г.
Библейские эскизы А. Иванова
Список имён
Абеляр, Пьер (фр. Pierre Abailard/Abélard; 1079–1142) – французский философ (схоласт), теолог и поэт.
Августин Блаженный (Аврелий Августин, лат. Aurelius Sanctus Augustinus; 354–430) – христианский теолог и церковный деятель.
Аврелий, Марк Антонин (лат. Aurelius, Marcus Antoninus; 121–180) – римский император (161–180) из династии Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма.
Адлерберг, Владимир Фёдорович (1791–1884) – российский государственный деятель, генерал от инфантерии (1843), граф (1847).
Адлерберг, Александр Владимирович (1818–1888) – граф, русский генерал, министр Императорского Двора и уделов.
Адриан, Публий Элий Траян (лат. Hadrianus, Publius Aelius Traianus; 76– 138) – римский император в 117–138 годах.
Айхенвальд, Юлий Исаевич (1872–1928) – литературный «критик-импрессионист».
Аквинский, Фома (итал. d'Aquino, Tommaso; род. примерно в 1225–1274) – философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви.
Акимов, Иван Акимович (1754–1814) – русский исторический живописец, представитель классицизма.
Аксаков, Иван Сергеевич (1823–1886) – русский публицист и поэт.
Александр I, Александр Павлович Романов (1777–1825) – русский император (1801–1825).
Александр II (Романов; 1818–1881) – русский император (1855–1881).
Андреев, Даниил Леонидович (1906–1959) – русский поэт и писатель, автор мистического сочинения «Роза Мира».
Андреевский, Сергей Аркадьевич (1847–1918) – русский поэт, критик и судебный оратор.
Андроников, Ираклий Луарсабович (1908–1990) – советский писатель и литературовед.
Ансельм Кентерберийский (лат. Anselmus Cantuariensis; 1033–1109) – католический богослов, средневековый философ, архиепископ Кентерберийский (с 1093).
Антиох III, Великий (др. – греч. ΑντίοχοςΓ' ο Μέγας; 241–187 до н. э.) – один из выдающихся правителей Империи Селевкидов.
Антропов, Алексей Петрович (1716–1795) – русский живописец, представитель стиля барокко.
Аргунов, Иван Петрович (1729–1802) – русский живописец, портретист.
Аристотель (384–322 до н. э.) – древнегреческий философ, слушатель Академии Платона.
Арсений Грек (род. ок. 1610) – выходец из еврейской семьи, принявшей христианство, иеромонах, переводчик греческих и латинских книг, учитель греко-латинской школы.
Байрон, Джордж Ноэл Гордон (англ. Byron, George Gordon; 1788–1824) – английский поэт-романтик.
Бар-Кохба, Шимон (ивр. אבכוכ רב ןועמש с арамейского – сын звезды) – предводитель иудеев в восстании против римлян при императоре Адриане, в 131–135 гг. до. Хр. эры.
Белинский, Виссарион Григорьевич (1811–1848) – русский литературный критик, публицист, философ-западник.
Бенедиктов, Владимир Григорьевич (1807–1873) – русский поэт и переводчик.
Бенкендорф, Александр Христофорович (1783–1844) – граф, российский военный и государственный деятель.
Беранже, Пьер-Жан (фр. Pierre-Jean Beranger; 1780–1857) – французский поэт, автор песен.
фон Берг, Фёдор Фёдорович (нем. von Berg, Friedrich Wilhelm Rembert; 1794–1874) – граф, русский государственный деятель, дипломат, географ и военачальник.
Бернини, Джованни Лоренцо (итал. Bernini, Giovanni Lorenzo; 1598–1680) – итальянский архитектор и скульптор, крупнейший представитель итальянского барокко.
Бестужев – Марлинский, Александр Александрович (1797–1837) – русский писатель.
Блок, Александр Александрович (1880–1921) – русский поэт, драматург.
Бодлер, Шарль Пьер (фр. Baudelaire, Charles Pierre; 1821–1867) – поэт, прозаик, критик,
Борхес, Хорхе Луис (исп. Borges, Jorge Luis; 1899–1986) – аргентинский прозаик, поэт и публицист.
Ботичелли, Сандро (итал. Botticelli, Sandro, наст. имя – Алессандро ди Мариано Филипепи Alessandro di Mariano Filipepi; 1445–1510) – итальянский живописец тосканской школы.
Боткин, Василий Петрович (1811–1869) – русский очеркист, литературный критик, переводчик.
Браге, Тихо (дат. Tyge Ottesen Brahe; 1546–1601) – датский астроном, астролог и алхимик
Бруно, Джордано (итал. Bruno, Giordano; 1548–1600) – итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель пантеизма.
Булгаков, Александр Яковлевич (1781–1863) – российский государственный деятель, дипломат, сенатор, московский почт-директор.
Булгаков, Михаил Афанасьевич (1891–1940) – советский писатель, драматург и театральный режиссёр.
Бунюэль, Луис Портолес (исп. Buсuel, Luis Portols; 1900–1983) – испанский кинорежиссёр, крупнейший представитель сюрреализма в кинематографии.
Ван Гог, Винсент Виллем (нидерл. van Gogh, Vincent Willem; 1853–1890) – нидерландский художник-постимпрессионист.
Вергилий, Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.) – римский поэт.
Веспасиан, Тит Флавий (лат. Vespasianus; 9—79 г.) – римский император с 69-го по 79 год.
де-Виньи, Альфред Виктор (фр. de Vigny, Alfred Victor; 1797–1863) – граф, французский писатель.
Висковатов, Павел Александрович (Висковатый; 1842–1905) – историк литературы.
Волоцкий, Иосиф (в миру – Иван Санин; 1439 / 40—1515) – церковный писатель и публицист.
Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ (фр. Voltaire, Franзois Marie Arouet; 1694–1778) – французский философ-просветитель, поэт, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник; основоположник вольтерьянства.
Воронцов, Андрей Венедиктович (р. 1961) – русский писатель и критик.
Врубель, Михаил Александрович (1856–1910) – русский художник, выдающийся во многих видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре, театральном искусстве.
Вяземский, Пётр Андреевич (1792–1878) – русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель.
Галерий, Гай Валерий Максимиан (лат. Galerius, Caius Valerius Maximianus; 250–311) – римский император; цезарь с 293, август с 305 года.
Гарсиа Маркес, Габриэль Хосе де ла Конкордиа (исп. García Márquez, Gabriel José de la Concordia; род. 1927) – колумбийский писатель, журналист, издатель и политический деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года.
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831) – немецкий философ, классик идеалистической диалектики.
Гейне, Генрих (нем. Heine Christian Johann Heinrich, 1797 / 99—1859) – немецкий поэт еврейского происхождения, публицист и критик.
Герасимов, Осип (Иосиф) Петрович (1863–1920) – писатель, филолог, историк и педагог.
Гергей, Енё (венг. Jenő, Gergely; 1944–2009) – венгерский историк.
Гермоген (ок. 1530–1612) – Патриарх Московский и всея Руси (1606–1612) – церковный и общественный деятель. Канонизирован Русской Православной Церковью.
Герцен, Александр Иванович (1812–1870) – русский публицист, писатель, философ.
Гёльдердин, Иоганн Христиан Фридрих (нем. Hцlderlin, Johann Christian Friedrich; 1770–1843) – немецкий поэт.
фон Гёте, Иоганн Вольфганг (нем. von Goethe Johann Wolfgang; 1749–1832), – немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель.
Гильберт Порретанский (фр. Gilbert de la Porr; 1085 / 90—1154) – французский схоласт.
Гнедич, Николай Иванович (1784–1833) – русский поэт, наиболее известный как переводчик на русский язык «Илиады».
Гоген, Эжен Анри Поль (фр. Gauguin, Eugиne Henri Paul 1848–1903) – французский живописец, скульптор-керамист и график.
Гоголь, Николай Васильевич (1809–1852) – русский, украинский писатель.
Гойя-и-Лусьентес, Франсиско Хосе (исп. Goya, Fransisko-y-Lucientes; 1746–1828) – испанский живописец, гравер, рисовальщик.
Гомер (греч. Ὅμηρος) – легендарный поэт-сказитель Древней Греции (XII–VIII вв. до н. э.), которому приписывается создание «Илиады» и «Одиссеи».
Горбовский, Глеб Яковлевич (р. 1931) – русский поэт, прозаик.
Горчаков, Александр Михайлович (1798–1883) – российский дипломат и государственный деятель, канцлер.
Граббе, Павел Христофорович (1789–1875) – русский генерал, участник войн с Наполеоном и Кавказских походов.
Грибоедов, Александр Сергеевич (1795–1829) – русский поэт, драматург, дипломат.
Григора, Никифор (ок. 1295–1360) – византийский историк, астроном, научный и религиозный полемист.
Григорьев, Аполлон Александрович (1822–1864) – русский поэт, литературный и театральный критик.
Грундтвиг, Николай Фредерик Северин (дат. Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin; 1783–1872) – датский священник, писатель и философ.
Гус, Ян (чеш. Hus Jan; 1369–1415) – национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации.
фон Гуттен, Ульрих (нем. von Hutten, Ulrich; 1488–1523) немецкий рыцарь, писатель, гуманист и политический деятель.
Гюго, Виктор Мари (фр. Victor Marie Hugo; 1802–1885) – французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского романтизма.
Дали, Сальвадор (исп. Dalí, Salvador; 1904–1989) – испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Представитель сюрреализма.
Данилевский, Николай Яковлевич (1822–1885) – русский философ, историк, публицист, социолог.
Данте, Алигьери (итал. Dante Alighieri; 1265–1321) – итальянский поэт, один из основоположников литературного итальянского языка.
Декарт, Рене (фр. Descartes, Renе; 1596–1650) – французский математик, философ, физик и физиолог.
Делакруа, Фердинан Виктор Эжен (фр. Delacroix Ferdinand Victor Eugиne; 1798–1863) – французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.
Державин, Гавриил Романович (1743–1816 год) – русский поэт и государственный деятель.
Джеймс, Уильям (англ. James, William; 1842–1910) – американский философ и психолог, один из основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма.
Джотто ди Бондоне (итал. Giotto di Bondone; ок. 1267–1337) – итальянский художник и архитектор эпохи Проторенессанса.
Диоклетиан, Гай Аврелий Валерий (лат. Diocletianus, Gaius Aurelius Valerius; 245–313) – римский император с 284 по 305 г.
Достоевский, Фёдор Михайлович (1821–1881) – русский писатель и мыслитель.
Дружинин, Александр Васильевич (1824–1864) – русский писатель, литературный критик.
Дуббельт, Леонтий Васильевич (1792–1862) – руководитель тайной полиции.
Дурылин, Сергей Николаевич (1886–1954) – богослов, литературовед, педагог и поэт.
Дьюи, Джон (англ. Dewey, John; 1859–1952) – американский философ и педагог, представитель философского направления прагматизм.
Дюма, Александр (фр. Dumas, Alexandre; 1802–1870) – французский писатель.
Егоров, Алексей Егорович (1776–1851) – русский живописец и рисовальщик.
Екатерина II Великая (1729–1796) – немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. С 1744 – в России, российская императрица с 1762 г.
Елизавета Петровна (1709–1761) – российская императрица с 1741.
Ермолов, Алексей Петрович (1777–1861) – русский военный и государственный деятель, ученик Суворова, герой Отечественной войны 1812 года, генерал.
Есенин, Сергей Александрович (1895–1925) – русский поэт.
Жуковский, Василий Андреевич (1783–1852) – русский поэт,
Иван IV Васильевич (Грозный; 1530–1584) – великий князь всея Руси (с 1533), первый русский царь (с 1547), сын Ивана III.
Иванов, Андрей Иванович (1775–1848) – исторический живописец и педагог, отец живописца Александра Иванова.
Иванов, Александр Андреевич (1806–1858) – русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академической школы.
Иванов, Вячеслав Иванович (1866–1949) – русский поэт, философ, филолог и переводчик.
Иванов, Георгий Владимирович (1894–1958) – русский поэт, прозаик, переводчик.
Ильин, Иван Александрович (1882–1954) – русский религиозный философ-неогегельянец.
Ильф и Петров – советские писатели-соавторы Илья Ильф (Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг; 1897–1937) и Евгений Петров (Евгений Петрович Катаев; 1903–1942).
Иоанн Лествичник (греч. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος; 525–602 или 579–649) – христианский богослов, византийский философ.
Кабанис, Пьер-Жан Жорж (фр. Cabanis, Pierre Jean Georges; 1757–1808) – французский философ-материалист и врач. Задолго до Фрейда использовал психоаналитический метод.
Калита, Иван Данилович (1288–1340 / 1341) – князь Московский с 1325, Великий князь Владимирский (ярлык от хана в 1331), князь Новгородский 1328–1337.
Кальвин, Жан (фр. Jean Calvin, 1509–1564) – французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма – протестанской версии, выражавшей интересы буржуазии.
Канкрин, Егор Францевич (Георг Людвиг; 1774–1845) – граф, писатель и государственный деятель, генерал от инфантерии, министр финансов России в 1823–1844 годах.
Кант, Иммануил (нем. Immanuel Kant; 1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.
Каракалла, Септимий Бассиан (лат. Caracalla Septimius Bassianus; 188–217) – римский император из династии Северов. Сын Септимия Севера, брат Геты.
Фон Кауфман, Константин Петрович (1818–1882) – русский военный деятель, инженер-генерал (1874), генерал-адъютант (1864), руководивший колонизацией Средней Азии.
Кеплер, Иоганн (нем. Johannes Kepler; 1571–1630) – немецкий математик, астроном, оптик и астролог, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы.
Кипренский, Орест Адамович (1782–1836) – русский художник, график и живописец, мастер портрета.
Кир Великий или Кир II (ок. 590–530 до н. э.) – царь Персии и основатель державы Ахеменидов.
Клопшток, Фридрих Готлиб (нем. Klopstock, Friedrich Gottlieb; 1724–1803) – немецкий поэт.
Козловский, Михаил Иванович (1753–1802) – скульптор, представитель русского классицизма.
Козьма Петрович Прутков – псевдоним, под которым в печати выступали в 50—60-е годы XIX века поэты Алексей Толстой, братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы, а также Пётр Ершов.
Константин, Флавий Валерий Аврелий (лат. Constantinus, Flavius Valerius Aurelius; 272–337) – римский император.
Конфуций (кит. Кун-Цзы, латинизированная форма китайского Кун Фу-цзы – «Учитель Кун»; 552 / 551–479 до н. э) – первый китайский философ, создатель конфуцианства.
Коперник, Николай (польск. Kopernik, Mikołaj, нем. Kopernikus, Nikolaus; 1473–1543) – польский и прусский астроном, математик, экономист, каноник эпохи Ренессанса.
Котляревский, Нестор Александрович (1863–1925) – историк литературы, литературный критик, публицист.
Краевский, Андрей Александрович (1810–1889) – русский издатель, редактор, журналист, педагог.
Кранах Старший, Лукас (нем. Cranach der Ältere, Lucas; 1472–1553) – немецкий живописец и график.
Крылов, Иван Андреевич (1769–1844) – русский поэт, баснописец, переводчик.
Кузанский, Николай (нем. von Kues, Nikolaus, лат. Cusanus, Nicolaus; 1401–1464) – кардинал, немецкий мыслитель, теолог, учёный, математик, церковно-политический деятель.
Кьеркегор, Сёрен Обю (дат. Kierkegaard, Søren Aabye, МФА; 1813–1855) – датский философ, протестантский теолог и писатель.
де Лабрюйер, Жан (фр. de La Bruyеre, Jean; 1645–1696) – французский моралист.
де Ламетри, Жюльен Офре (фр. de La Mettrie, Julien Offray; Lamettrie; 1709–1751) – французский врач и философ-материалист.
Лангтон, Стефан (англ. Langton, Stephen; ум. 1228 г.) – английский богослов, один из создателей Великой хартии вольностей (1215).
фон Лейбниц, Готфрид Вильгельм (нем. von Leibniz, Gottfried Wilhelm; 1646–1716) – немецкий философ, логик, математик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед.
Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 1452–1519) – итальянский живописец, скульптор, архитектор и учёный, изобретатель, писатель.
Леонов, Леонид Максимович (1899–1994) – русский прозаик, драматург.
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814–1841) – русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер.
Лесков, Николай Семёнович (1831–1895) – русский писатель.
де Лойола, Игнатий (исп. de Loyola, Ignacio ок. 1491–1556) – католический святой, основатель Общества Иисуса (ордена иезуитов).
Ломоносов, Михаил (Михайло) Васильевич (1711–1765) – первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик.
Лосев, Алексей Фёдорович (1893–1988) – русский советский философ и филолог.
Лосенко, Антон Павлович (1737–1773) – русский живописец, портретист. Основоположник русской исторической живописи.
Лукин, Владимир Игнатьевич (1737–1794) – русский государственный деятель, писатель, выдающийся масонский деятель.
Лютер, Мартин (нем. Martin Luther; 1483–1546) – христианский богослов, инициатор Реформации (лютеранства), переводчик Библии на немецкий язык.
Мазаччо (итал. Masaccio; 1401–1428) – итальянский живописец флорентийской школы, реформатор живописи эпохи кватроченто.
Майоль, Аристид (фр. Maillol, Aristide; 1861–1944) – французский скульптор и живописец каталонского происхождения.
Майстер Экхарт, Иоганн Экхарт (нем. Meister Eckhart, Johannes Eckhart; ок. 1260 – ок. 1328) – средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков.
Мандельштам, Осип Эмильевич (1891–1938) – русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик.
Марк Подвижник или Марк Пустынник (IV век) – святой, автор мистических и аскетических сочинений.
Маркс, Карл (нем. Marx, Karl; 1818–1883) – немецкий философ, социолог, экономист, политический журналист, общественный деятель.
Мартос, Иван Петрович (1754–1835) – русский скульптор-монументалист классического направления.
Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – русский поэт, прозаик, публицист, религиозный мыслитель.
Микеланджело Буонарроти (итал. Michelangelo Buonarroti; 1475–1564) – выдающийся итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель.
Мильтон, Джон (англ. Milton, John; 1608–1674) – английский поэт, политический деятель и мыслитель.
де Монтескьё, Шарль-Луи (фр. de Montesquieu, Charles-Louis; 1689–1755) – французский писатель, правовед и философ.
де Мюссе, Альфред (фр. de Musset, Alfred; 1810–1857) – французский поэт, драматург и прозаик.
Набоков, Владимир Владимирович (1899–1977) – русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог.
Наполеон I, Бонапарт (фр. Napolon Bonaparte; 1769–1821) – французский полководец и государственный деятель, французский император (1804–1814, март-июнь 1815).
Некрасов, Николай Алексеевич (1821–1878) – русский поэт, демократ.
Нерон Клавдий Цезарь (лат. Nero Claudius Caesar; 37–68) – римский император c 54 года.
Нессельроде, Карл Васильевич (1780–1862) – министр иностранных дел в 1816–1856 гг.
Николай I (Романов; 1796–1855) – российский император (1825–1855).
Никон, Патриарх (в миру – Никита Минин (Минов); 1605–1681) – шестой Патриарх Московский и всея Руси, церковный реформатор.
Ницше, Фридрих Вильгельм (нем. Nietzsche, Friedrich Wilhelm 1844–1900) – немецкий мыслитель.
Сэр Ньютон, Исаак (англ. Sir Newton, Isaac; 1642–1727) – английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики.
Огарёв, Николай Платонович (1813–1877) – русский революционер, публицист, поэт.
Палама, Григорий (греч. Γρηγόριος Παλαμᾶς; 1296–1359) – архиепископ Фессалоникийский, средневековый мистик, византийский богослов и философ, один из основателей исихазма.
Панаев, Иван Иванович (1812–1862) – известный журнальный деятель и беллетрист.
Панин, Виктор Никитич (1801–1874) – граф, государственный деятель, известный своими реакционными убеждениями, министр юстиции в 1841–1862.
Паскаль, Блез (фр. Pascal, Blaise; 1623–1662) – французский религиозный мыслитель, математик, физик и литератор.
Переяслов, Николай Владимирович (род. 1954) – русский критик, поэт, прозаик.
Перцов, Пётр Петрович (1868–1947) – русский писатель, поэт, искусствовед, литературный критик, публицист, издатель, мемуарист.
Петрарка, Франческо (Petrarca, Francesco; 1304–1374) – итальянский поэт, предтеча европейского гуманистического движения.
Печёрин, Владимир Сергеевич (1807–1885) – русский поэт и мыслитель.
Пётр I Великий (Пётр Алексеевич; 1672–1725) – последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года), великий реформатор.
Петр (ум. 1326) – митрополит Киевский и всея Руси.
Пирс, Чарльз Сандерс (англ. Peirce, Charles Sanders; 1839–1914) – американский философ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики.
Пифагор Самосский (др. – греч. Πυθαγόρας ὁ Σάμιος; 570–490 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.
Платон (др. – греч. Πλάτων, 428 / 427–348 / 347 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.
Плетнёв, Пётр Александрович (1791–1865) – критик, поэт.
Плифон, Георгий Гемист Малатест (греч. Πλήθων, Γεώργιος Γεμιστός; ок. 1360–1452) – византийский философ.
Порфирий (Константин Александрович Успенский; 1804–1885) – епископ Чигиринский, викарий Киевской митрополии. Русский востоковед, византолог и археолог.
Поссевино, Антонио (итал. Possevino, Antonio; 1534–1611) – первый иезуит, побывавший в Москве.
Потто, Василий Александрович (1836–1911) – генерал-лейтенант, военный историк.
Прокопович, Феофан (1681–1736) – епископ Православной Российской Церкви; проповедник, государственный деятель, писатель и публицист, поэт, сподвижник Петра I.
Птолемеи (Лагиды) – династия правителей Египта в IV–I веках до н. э. – в эпоху эллинизма. Основана диадохом Александра Македонского Птолемеем I.
Пушкин, Александр Сергеевич (1799–1837) – русский поэт, прозаик и драматург.
Рабле, Франсуа (фр. Rabelais, Franзois; 1494–1553) – французский писатель.
Радищев, Александр Николаевич (1749–1802) – русский писатель, философ, поэт.
Радонежский, Сергий (ок. 1321–1391) – святой Русской Православной Церкви, монах, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря.
Рейхлин, Иоганн (нем. Reuchlin, Johannes; 1455–1522) – немецкий философ и гуманист.
Рембо, Жан Николя Артюр (фр. Rimbaud, Jean Nicolas Arthur 1854–1891) – французский поэт, один из основоположников символизма.
Рембрандт, Харменс ван Рейн (нидерл. Rembrandt, Harmenszoon van Rijn; 1606–1669) – нидерландский художник, рисовальщик и гравёр.
Робиндранат Тагор (1861–1941) – индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1913).
Розанов, Василий Васильевич (1856–1919) – русский философ, публицист и писатель.
Рокотов, Фёдор Степанович (1735?—1808) – русский художник, портретист, представитель стиля рококо.
Ростопчина, Евдокия Петровна (1811–1858) – графиня, русская поэтесса, переводчица, драматург и прозаик.
Роттердамский, Дезидерий Эразм (нидерл. Gerrit Gerritszoon; 1469–1536) – крупнейший учёный Северного Возрождения.
Рубенс, Питер Пауль (нидерл. Rubens, Pieter Paul; 1577–1640) – южнонидерландский (фламандский) живописец.
Рубцов, Николай Михайлович (1936–1971) – русский поэт.
Румянцев-Задунайский, Пётр Александрович (1725–1796) – русский военный и государственный деятель, граф (1744), генерал-фельдмаршал (1770).
Савонарола, Джироламо (итал. Savonarola, Girolamo; 1452–1498) – итальянский доминиканский священник, бывший монах, диктатор Флоренции с 1494 по 1498.
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (1826–1889; настоящая фамилия Салтыков, псевдоним Николай Щедрин) – русский писатель, рязанский и тверской вице-губернатор.
Самарин, Юрий Фёдорович (1819–1876) – русский публицист и философ.
де Санглен, Яков Иванович (1776–1864 или 1868) – русский государственный деятель и писатель.
Саровский, Серафим (в миру – Прохор Сидоров Мошнин; 1754–1833) – святой Русской Православной Церкви, монах Саровской пустыни.
Сартр, Жан-Поль Шарль Эмар (фр. Sartre, Jean-Paul Charles Aymard; 1905–1980) – французский философ, представитель атеистического экзистенциализма, лауреат Нобелевской премии по литературе (1964).
Свенцицкий, Валентин Павлович (1881–1931) – протоиерей, богослов, философ и духовный писатель.
Селевкиды – македонская династия, объявившая себя в 312 до н. э. наследницей большей части азиатской империи Александра Македонского.
Скабичевский, Александр Михайлович (1838–1911) – критик и историк русской литературы.
Скржинская, Елена Чеславовна (1894–1981) – российский и советский историк-медиевист и филолог, доктор исторических наук.
Соколов, Иван Иванович (1865–1939) – российский историк Церкви и церковного права, византинист.
Соловьёв, Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик.
Сологуб, Фёдор Кузьмич (наст. имя – Тетерников; 1863–1927) – русский писатель.
Сперанский, Михаил Михайлович (1772–1839) – граф, русский общественный и государственный деятель, реформатор, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения.
Стейнбек, Джон Эрнст (англ. Steinbeck, John Ernst; 1902–1968) – американский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1962).
Столыпин, Пётр Аркадьевич (1862–1911) – государственный деятель Российской империи.
Стриндберг, Юхан Август (швед. Strindberg, Johan August; 1849–1912) – шведский писатель, драматург, основоположник современной шведской литературы и театра.
Суворов, Александр Васильевич (1729–1800) – князь, генералиссимус, никем не побеждённый русский полководец.
Сунь-цзы (6–5 вв. до н. э.) – китайский стратег и мыслитель.
Тиберий, Юлий Цезарь Август (лат. Tiberius, Julius Caesar Augustus; 42 г. до н. э. – 37 г. н. э.) – второй римский император (с 14 г.) из династии Юлиев-Клавдиев. Согласно Библии, именно в его правление был распят Иисус Христос.
Тит, Флавий Веспасиан (лат. Titus Flavius Vespasianus; 41–81 н. э.) – римский император (79–81).
Тойнби, Арнольд Джозеф (англ. Toynbee, Arnold Joseph; 1889–1975) – британский историк, философ истории, культуролог и социолог.
Толстой, Лев Николаевич (1828–1910) – граф, русский писатель.
Толстой, Фёдор Петрович (1783–1873) – русский живописец, рисовальщик, медальер и скульптор, представитель стиля классицизма.
Тропинин, Василий Андреевич (1776–1857) – русский живописец, мастер романтического и реалистического портретов.
Тургенев, Иван Сергеевич (1818–1883) – русский прозаик, поэт.
Тютчев, Фёдор Иванович (1803–1873) – русский поэт и дипломат.
Угрюмов, Григорий Иванович (1764–1823) – русский исторический живописец и портретист; представитель классицизма.
Уиклиф, Джон (англ. Wycliffe, John; 1320 или 1324–1384) – английский богослов, реформатор, предшественник протестантизма. Первый переводчик Библии на среднеанглийский язык.
Фёдоров, Николай Фёдорович (1829–1903) – русский религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор. Один из родоначальников русского космизма.
Филарет (в миру – Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867) – епископ Православной Российской Церкви; с 1826 г. митрополит Московский и Коломенский (в 1994 году канонизирован РПЦ).
Фихте, Иоганн Готлиб (нем. Fichte, Johann Gottlieb; 1762–1814) – немецкий философ.
Флавий, Иосиф (лат. Flavius, Josephus, при рождении Йосеф бен Матитьяху, ивр. והיתתמ ןב ףסוי; ок. 37 – ок. 100) – еврейский историк и военачальник.
Флобер, Гюстав (фр. Flaubert, Gustave; 1821–1880) – французский романист.
Флоренский, Павел Александрович (1882–1937) – русский православный священник, богослов, философ, учёный, поэт.
Фонвизин, Денис Иванович (1745–1792) – русский писатель, просветитель.
Франк, Семён Людвигович (1877–1950) – русский философ, религиозный мыслитель и психолог.
Хаксли, Олдос Леонард (Aldous Huxley; 1894–1963) – английский писатель.
Хальс, Франс (нидерл. Hals, Frans; 1580 / 1585–1666) – голландский живописец.
Хлебников, Велимир (1885–1922) – поэт и прозаик Серебряного века, реформатор поэтического языка, один из теоретиков русского футуризма и авангардного искусства.
Ходасевич, Владислав Фелицианович (1886–1939) – русский поэт и критик.
Хомяков, Алексей Степанович (1804–1860) – русский религиозный философ, писатель, поэт, публицист, один из основоположников славянофильства.
Хрисолор, Мануил (греч. Χρυσολώρας, Μανουήλ; ок. 1355–1415) – ученый византийский грек, первым познакомил Западную Европу с греческой литературой.
Цезарь, Гай Юлий (лат. Caesar, Gaius Iulius; 100 / 102 до н. э. – 44 до н. э.) – древнеримский государственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель.
Цицерон, Марк Туллий (лат. Cicero, Marcus Tullius; 106 до н. э. – 43 до н. э.) – древнеримский политик и философ, блестящий оратор.
Чаадаев, Пётр Яковлевич (1794–1856) – русский мыслитель.
Чемесов, Евграф Петрович (1737–1765) – русский художник-портретист, гравёр.
Шатобриан, Франсуа Рене де (Chateaubriand, Franзois Ren de; 1768–1848) – французский писатель и государственный деятель.
Шаховская, Зинаида Алексеевна (1906–2001) – княгиня, поэт, прозаик, критик, журналист.
Шебуев, Василий Козьмич (1777–1855) – русский живописец.
Шевырёв, Степан Петрович (1806–1864) – русский литературный критик, историк литературы, поэт.
Шекспир, Уильям (англ. William Shakespeare; 1564–1616) – английский драматург, поэт и актёр.
фон Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф (нем. von Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 1775–1854) – немецкий мыслитель, классик идеалистической философии.
маркиз де ла Шетарди, Жак-Иоахим Тротти, (фр. marquis de la Chеtardie, Jacques-Joachim Trotti; 1705–1759) – французский дипломат, посланник при русском дворе (1739—42), генерал.
Шибанов, Михаил (отчество и г. р. неизвестны – умер после 1789) – русский живописец из крепостных крестьян.
фон Шиллер, Иоганн Кристоф Фридрих (нем. von Schiller, Johann Christoph Friedrich; 1759–1805) – немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор истории.
Шкловский, Виктор Борисович (1893–1984) – советский писатель, литературовед, критик, киновед и киносценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1979).
Шопенгауэр, Артур (Schopenhauer Arthur; 1788–1860) – немецкий мыслитель (иррационалист), представитель философии пессимизма.
Шпенглер, Освальд (нем. Spengler, Oswald; 1880–1936) – немецкий философ и историк, представитель «философии жизни».
Штирнер, Макс (нем. Max Stirner, настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт – Johann Caspar Schmidt; 1806–1856) – немецкий философ, предвосхитивший идеи нигилизма, экзистенциализма, постмодернизма и индивидуалистического анархизма.
Эйхенбаум, Борис Михайлович (1886–1959) – советский литературовед-начётчик, текстовик, один из деятелей «формальной школы».
Энгельс, Фридрих (нем. Engels, Friedrich; 1820–1895) – немецкий философ, один из основоположников марксизма.
Юнг, Карл Густав (нем. Jung, Carl Gustav; 1875–1961) – швейцарский психолог и психиатр, основатель «аналитической психологии».
Языков, Николай Михайлович (1803–1846) – русский поэт.
Языков, Дмитрий Дмитриевич (1850–1918) – библиограф, директор библиотеки Московского университета.
Примечания
1
См. «Дополнения к Части I» на с. 273–325.
(обратно)2
См. «Примечания к Части I» на с. 326–340.
(обратно)3
Всё хорошее от Бога, всё плохое от человека (лат.).
(обратно)4
Казнодей (устар.) – проповедник. – В. С.
(обратно)5
Цитаты из книги Б. М. Эйхенбаума «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки». Ленинград. 1924 г. Переиздана на русском языке в 1967 г. в Мюнхене. Wilhelm Fink Verlag Munhen.
(обратно)6
См. книги Эйхенбаума – «Пушкин-поэт и бунт 1825 года» (Опыт психологического исследования), 1907. «Мелодика русского лирического стиха», 1922. «Лев Толстой: пятидесятые годы», 1928. «Мой временник: Словесность. Наука. Критика. Смесь». Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. «Лев Толстой: шестидесятые годы», 1931, и др.
(обратно)7
Nic. Greg. I. XXIX c. 1, ed. Bonn. 111, p. 841–842.
(обратно)8
Византийская цивилизация в освещении российских ученых. М. 1999. Т. II. Статья Скржинской Е. Ч. «Генуэзцы в Константинополе в XV в.». С. 658.
(обратно)9
Византийская цивилизация в освещении российских ученых. М. 1999. Т. II. Статья Скржинской Е. Ч. «Генуэзцы в Константинополе в XV в.». С. 660.
(обратно)10
История Афона. Т. 111. Киев, 1877. С. 133.
(обратно)11
Собрание писем, IV, п. N. 704.
(обратно)12
И. И. Соколов. ЖМНП. Н. С. Т. XLIV, 1913. С. 384–386.
(обратно)13
Издание Аристарха. Т. I. С. 234.
(обратно)14
Слово XV. 5. «Добротолюбие». I. 355.
(обратно)15
Архимандрит Киприан. «Антропология Св. Григория Паламы». 1950. Париж, с. 52.
(обратно)16
Умозрительные главы. Сотница третья. 44. Добротолюбие. V. 152–155.
(обратно)17
Or. XXVIII, c. XII, col. 41.
(обратно)18
П. П. Соколов. Вера. Психологический этюд. М., 1902. С. 64.
(обратно)19
Там же. С. 68.
(обратно)20
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 149.
(обратно)21
Справка: годовое жалование вольного металлиста на Урале в 1775 г. составляло примерно 37 руб. в год, текстильщика на мануфактуре в Петербурге – около 30 руб. Изба в конце XVIII в. стоила около 10 руб. На 72 000 руб. (60+12) можно было купить 14 400 коров, так как корова тогда стоила в России около 5 рублей.
(обратно)22
А. Ф. Лосев. Эллинистически-римская эстетика. М. 1979. С. 28.
(обратно)23
Там же. С. 29.
(обратно)24
Там же. С. 90.
(обратно)25
А. Ф. Лосев. Эллинистически-римская эстетика. М. 1979. С. 32.
(обратно)26
Автограф неизвестен. Копия – ЦГАЛИ, ф. 276, оп. 1, № 67 (тетрадь Чертковской библиотеки). Впервые – сб. «Вчера и сегодня», кн. 1, СПб, 1845. С. 92–93 (без последнего стиха, который опубликован в «Библиографических записках», 1859, т. 2, № 1, стлб. 20). Дата не установлена.
(обратно)27
Гоголь Н. В. «Выбранные места из переписки с друзьями». С. соч. Т. 6. М., 1978. С. 348.
(обратно)28
См. «Примечания к Части II» на страницах 475–480.
(обратно)29
См. «Дополнения к Части II» на страницах 456–474.
(обратно)30
И. А. Ильин. «О сопротивлении злу силой». «Вече», 1984, № 16. ФРГ, Мюнхен.
(обратно)
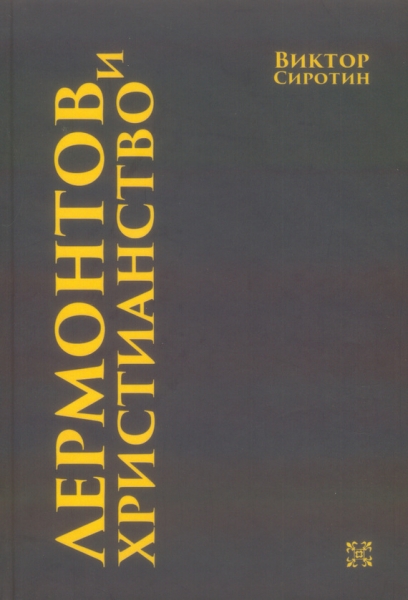

![Кормильцев. Космос как воспоминание [Главы из сети, 13 из 32]](https://www.4italka.su/images/articles/582915/primary-medium.jpg)
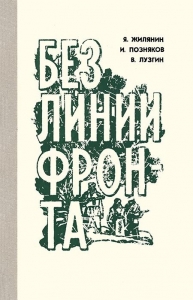

Комментарии к книге «Лермонтов и христианство», Виктор Иванович Сиротин
Всего 0 комментариев