Борис Пастернак «Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями
Не бойся слов, не мучься, брось. Люблю и думаю и знаю. Смотри: и рек не мыслит врозьЕлена В. Пастернак Предисловие ко второму изданию
Составитель этой книги Евгений Борисович Пастернак, старший сын Бориса Леонидовича, сын от первого брака, волею судьбы стал его первым биографом. Он собрал большое количество документов и писем, давших ему возможность написать подробное жизнеописание Бориса Пастернака под скромным названием “Материалы для биографии”. Книга писалась более десяти лет еще в то время, когда имя его отца было под запретом и обвинения в антисоветчине, как принято было характеризовать роман “Доктор Живаго”, и в предательстве после его издания за границей и присуждения Нобелевской премии были живы в памяти. При поддержке академика Д. С. Лихачева, написавшего предисловие к роману, опубликованному в 1988 году в “Новом мире”, книга Е. Пастернака об отце была издана в 1989 году и стала основным материалом, на котором могли строить свои исследования будущие биографы Бориса Пастернака.
Но основным своим достижением Евгений Пастернак считал жанр, который он нашел для изданий переписки своего отца с разными лицами. Не будучи по своему образованию филологом и историком литературы, он не любил научные публикации эпистолярного наследия, снабженные инвентарем ссылок, набранных петитом внизу страницы. Составляя первую из серии книг переписки Бориса Пастернака, письма к его двоюродной сестре, профессору классической литературы Ольге Фрейденберг, равной ему по силе корреспондентке, мы посчитали, что можно восполнить несохранившиеся письма О. Фрейденберг выписками из ее дневников, воссоздающими обстоятельства ее жизни и события того времени. Переписка охватывала период с 1910 по 1955 год. Это перевело научное издание писем в категорию литературы, основанной на подлинных документах страшной эпохи, в которую жили ее герои, и ставшей захватывающим чтением. Такой рассказ дал возможность отчетливо увидеть не только характеры действующих лиц в диалоге, который они вели, но и те жизненные условия, с которыми им приходилось иметь дело, и то, как они их преодолевали.
При составлении второй книги серии эпистолярных публикаций нам пришлось уже самим по этому же принципу построить переписку трех великих лириков XX века: Бориса Пастернака и Марины Цветаевой с Райнером Мария Рильке. Мы сумели убедить в превосходстве такой композиции серьезного академического ученого Константина Марковича Азадовского, который взял на себя перевод немецких писем Цветаевой и Рильке и часть комментариев, помещенных между ними как текст, необходимый для понимания.
Тот же принцип был применен при публикации переписки Пастернака со своими французскими переводчицами Жаклин де Пруайяр и Элен Пельтье-Замойской, а позже – с родителями и сестрами.
После издания книги О. В. Ивинской и публикации воспоминаний З. Н. Пастернак и писем к ней со всей необходимостью вставала задача “самая близкая и потому самая трудная, – как писал Евгений Борисович, – издания переписки моих родителей – Бориса Пастернака и Евгении Владимировны Пастернак, дополненной письмами отца ко мне. Я уже старше, чем был отец, когда он скончался, и откладывать эту задачу более нельзя”.
Оставлять это до будущих времен и будущих исследователей было невозможно. Да и кто, кроме живого участника событий, мог бы справиться с этой задачей, как бы трудна она для него ни была.
Из-за душевной трудности передать трагедию семьи, их расставание, тяжесть которого сын пронес через всю жизнь, работа шла очень медленно. Постепенно разбирались и составлялись письма; кроме того, надо было восстановить по документам события, которые сын не мог помнить. В следующих главах стало возможным дополнять письма собственными воспоминаниями Евгения Борисовича. Он пишет, что многое стерлось из памяти, даже то, что, казалось бы, он хорошо помнил и знал. Вставали перед глазами отдельные сцены и эпизоды, которые можно было перевести в текст, но полной картины жизни и отношений с родителями восстановить не удавалось. Это смущало и мешало работе.
Складывая тексты писем, Евгений Борисович что-то припоминал, записывал, иной раз надиктовывал, а потом записи перекраивал и дополнял попутно возникающими соображениями. Чтобы облегчить задачу памяти, задавал себе определенные темы: написать о квартире на Волхонке, о соседях, вспомнить картины города того времени. Иногда, чтобы представить себе что-то, специально приходил туда, где это происходило, но то, что он видел там, часто не могло помочь и только мешало, и нужно было время, чтобы снова увидеть это место глазами прошлого и написать о нем.
Книга складывалась медленно и трудно, с большими паузами, чтобы отдохнуть от тяжелых воспоминаний, иногда хотелось бросить все и не возвращаться, но через некоторое время надо было снова ставить себе задачи: вспомнить, как было то или это.
Первая попытка опубликовать эту книгу кончилась неудачей, издательство разваливалось и не смогло напечатать тираж, тем более что надо было познакомить читателей с работами Евгении Владимировны Пастернак, незаслуженно забытой художницы. Счастливой случайностью стало знакомство Ирины Дмитриевны Прохоровой с текстом книги, она оценила ее значение и решилась напечатать ее в 1998 году, в начале своей издательской деятельности. Книга была прекрасно издана, художник Е. Поликашин снабдил ее множеством фотографий и прекрасных репродукций картин и портретов героини. Тираж разошелся очень быстро. Книга сразу вышла на французском у Галлимара в блестящем переводе Софи Бенеш.
С тех пор прошло много лет, и чтобы повторить издание, нам пришлось кое-что добавить из того, что написал Е. Б. Пастернак за это время, что-то поправить и уточнить.
Передаем слово составителю.
Евгений Пастернак Введение
Основная часть писем моих родителей относится к тому времени, когда мы жили вместе, одной семьей. Они писались в периоды разлук, то есть в самые эмоционально напряженные и мучительные моменты, озаренные сильным и контрастным светом тяжелого жизненного уклада 1920-х годов.
При этом легко выявляется четкая закономерность в изменении тона писем. Сначала – после маминых отъездов – письма, посланные ей вдогонку, полны беспокойства о ее поездке, о том, что ее встретило на новом месте. В ответ – по инерции, заданной утомлением и взаимными обидами последних месяцев, – идут упреки, которые вызывают долгие аналитические выяснения отношений.
Однако вскоре болезненный тон сменяется тоскою разлуки, переходящей в лирический диалог в нетерпеливом ожидании задерживающегося свидания.
После развода моих родителей мы все продолжали жить в Москве, и писание писем уступало место живому общению – отец бывал у нас почти еженедельно. Рассказ об этом времени представляется естественным продолжением их переписки.
Я неправомерно долго откладывал составление этой трудной для меня книги. Со смертью отца в 1960 году из нашей жизни ушло самое значительное ее содержание. Маме стало трудно жить и работать, она на глазах стала мрачнеть. Началась тяжелая депрессия, которая вскоре свела ее в могилу. Мои воспоминания о ней болезненно затемнены и искажены впечатлениями последних лет, когда решительный, волевой и жизнерадостный художник, преданный своему искусству, постепенно уступал место беспомощному человеку, угнетенному мучительными переживаниями и бесплодными мыслями. А ведь ей было тогда только 60 лет. Как видно из писем, эмоционально глубокие моменты и раньше оказывали на нее гнетущее впечатление, но тогда на их преодоление хватало внешнего света и собственных сил. Не хочется утяжелять и без того трудный текст переписки психологическими рассуждениями, хотя многое из пережитого родителями мне глубоко запомнилось. Поэтому после небольшого введения мы даем письма в их хронологической последовательности, перемежаемые описанием затронутых в тексте конкретных биографических обстоятельств или сопутствовавших им событий.
В начале книги эти моменты излагались по фактическим материалам, лишь слегка расширенным моими воспоминаниями или сохраненными в памяти рассказами родителей и их друзей. Со временем повествование все более обретало субъективный характер моих личных впечатлений, подчиненных законам человеческой памяти и жанру мемуарных записок. Как мы многократно убеждались, автор воспоминаний почти всегда пишет о себе, а не о том, кому посвящаются его записи и кого он стремится вспомнить. Передавая отрывки наших разговоров и наблюдений, мы писали только правду, но это именно “воспоминания”, они односторонни, не могут претендовать на документальную точность и не должны никого задевать.
Публикация писем к близким людям недаром считается делом нескромным и нелегким. Принято думать, что лучше не торопиться с этим, пока живы участники переписки и лица, в ней упоминаемые. Так относилась к своей переписке Марина Цветаева, когда откладывала обнародование писем Рильке к ней на пятьдесят лет, этого же мнения придерживалась ее дочь Ариадна Эфрон, когда мы с ней разговаривали о переписке наших родителей. Но на мое возражение, что я всегда готов напечатать любую строчку своего отца в силу чистоты и благородства его отношений к людям, она сказала, что, вероятно, я прав, и она может мне только позавидовать. К тому же, со времени первых писем моих родителей друг к другу прошло уже более семидесяти лет, да и последние удалены от нас теми же заповеданными пятьюдесятью годами.
Время восстанавливать сохраненное памятью пришло слишком поздно. Я ничего своевременно не пытался записывать. А потом мне казалось более важным работать над биографией отца, собирать чужие свидетельства и писать текст как комментарий к ним. Надеялся на свою память. Но, начиная работу над этой книгой и стараясь вспомнить обстоятельства, вызвавшие те или иные письма, я понял, что многое забыл или не успел выяснить. Однако боюсь, что тем, кто возьмется за подготовку этой переписки, когда меня не станет, будет намного трудней. И главное, еще сложнее будет читать и понимать эти письма.
Дело не в том, что совместная жизнь двух художников требовала жертвы со стороны младшего, менее талантливого, и у моей матери, страстно стремившейся к самостоятельности в искусстве, не хватало для этого сил и понимания. Дело не в том, как тяжело они оба пережили расставание и как потом всю жизнь она продолжала любить моего отца, и не в том, что отец, со свойственным ему чувством неизживаемой вины перед нами, сознавал, что не сумел преодолеть психологические и материальные трудности, с которыми была связана его первая семейная жизнь, и потому разрушил ее и обрек всех на страдания, – но в том, что он видел причину этого в недостатке любви к моей матери, считая, что надо было это понять с самого начала и не заводить семью, не начинать то, к чему – как он писал в Послесловии к “Охранной грамоте” – у него “не было достаточных данных”, то есть той большой любви, которая необходима, чтобы сделать семью счастливой. Под это подводилась теория двух типов красоты, связанных с внутренней сущностью женщины, и строились богословско-мифологические концепции; навязчивые, мучительные комплексы нарушали логику событий и их фактическую сторону. Анализировать их не имеет смысла – они относятся к области художественного творчества.
Возможно, что мне не надо было бы трогать эту тему, но я кое-что слышал от самого отца, кое-что наблюдал и старался понять. Хотя это и трудно, тем не менее попробую рассказать, как я представляю себе его отношение к предмету любви и поклонения, источнику лирического порыва. Во внешних проявлениях страсти отец был накрепко скован цепью традиционной нравственной ответственности и благородства. В “Охранной грамоте” он называл это “возвышенным отношением к женщине”, в 1956 году в письме к Екатерине Александровне Крашенинниковой писал о “черте, за которой начинаются судьбы, совместности, соучастия в жизни, вещи счастливые и роковые”; Марине Цветаевой в 1926 году он рассказывал о мучительном преодолении страсти, вызываемой одиночеством лета в городе. “Стонущие дуги” невозможности сделать жизнь и счастье другого человека источником эгоистического использования и подвергнуть любовь опасности опошления были органически крепки в нем, держали и возвышали его душу ценою страданий и жертв. А судьба “по гроб, до морга” – отпугивала и сдерживала тех, к кому он стремился в молодости. Предметам его увлечений казалось, что они ему в реальности не нужны, что его чувство выдуманное и чисто духовное, что он сочиняет, фантазирует. Так думает Анна Арильд в “Повести” 1929 года. Серьезность его отношения не позволяла стать на легкий, игровой, бездумно-скользкий путь. В случае с Идой Высоцкой это рассказано им самим предельно доказательно и подробно в “Охранной грамоте”.
Мамочка говорила мне, что Надя Синякова измучила Борю тем, что играла на последнем пределе ласки, никогда не переходя его. Елена Александровна Виноград, напротив, была к нему строга и держала на определенной дистанции. Отсюда в посвященных ей стихах постоянные метафоры льда и холода. В конце жизни она с болью признавалась нам в жесткости своего отношения к Боре, ей казалось, что она сама ему не нужна, а он любит только свой поэтический сон о ней.
В Тихих Горах на Каме в 1916 году у Пастернака был краткий романтический эпизод с Фанни Николаевной Збарской. Ее муж – Борис Ильич – покровительствовал этим отношениям. Но пошлость видевшегося “треугольника” была невыносима, и что бы там ни затевалось и до чего бы ни дошло, отец едва не сбежал тогда от этого в Петроград. Судя по его письмам к родителям, он вскоре сумел овладеть собой и уехал при первой возможности.
В революционные годы и годы Гражданской войны Пастернак был страстно и душеизнурительно влюблен в Елену Виноград. Это видно по стихам “Сестры моей жизни”. Болезненные стороны этого романа “отсеяны” в книгу “Темы и вариации” и восстанавливаются по рассказам Елены Александровны о том, как Боря утешал ее, когда ей было грустно, приходил на помощь, ничего, кроме душевной растравы, не получая. Ей было больно с нами об этом говорить, и она во многом себя винила. Царство ей Небесное.
Встреча с мамочкой перед отъездом за границу родителей отца и сближение с ней к исходу 1921 года стало для него после страданий несчастной любви исполнением мечты о реальной жизни. Он суеверно не делал ее литературной героиней, не писал ей стихов, как Елене. Его чувство выливалось в письмах к ней, равных которым, как мне кажется, в эпистолярной лирике нет. Ее смелость и полная доверчивость в ответ на его любовь дали ему почувствовать себя полноценным человеком.
Мои родители поженились в январе 1922-го года и прожили одной семьей до 1931-го. Яркость детских воспоминаний в моем случае прошла жестокие испытания, поблекла, и они стали бледными и плохо различимыми. Главной причиной трудности совместного существования отца и матери была страстная посвященность их обоих своему искусству, то есть именно то, что было для обоих оправданием существования и душевно их сближало. В то же время в условиях “немыслимого быта” 1920-х годов совместная жизнь двух художников требовала чрезмерных физических и духовных сил. Одному из них приходилось жертвовать своим искусством ради работы другого, что тяжело отзывалось на обоих.
Надо сказать, что мамино самоутверждение было особенно жестко первые четыре года их совместной жизни. В 1926 году это стремление было максимальным по силе, она уехала тогда в Германию с намерением вырваться из оков семейной жизни и заняться только работой. Она не отвечала на отцовские письма и старалась найти себя в живописи. Однако вместо этого она ощутила силу своей привязанности к мужу и поняла, насколько он дорог ей и насколько его сила и талант несравненно выше ее собственных возможностей. Она вернулась с твердым намерением подчинить жизнь в доме его потребностям, создать необходимый уют и по мере возможности удобный уклад их совместной жизни. Но этому во многом мешали обстоятельства: тяжело пережитая ею смерть матери, окончание института, дипломная работа, слабое здоровье и, с другой стороны, сознательное в то время отталкивание отца от писательских организаций и официальных сторон жизни, следовательно, постоянные отказы на его просьбы о предоставлении квартиры в строившемся тогда писательском доме или о временном выезде за границу. Это, в конечном счете, и стало основной причиной того, что мои родители в 1931 году разошлись.
Жизнь Бориса Пастернака достаточно известна. Мамины работы и ее судьба остались в тени и могут быть забыты. Мне не удалось устроить ее выставку, дать возможность публике оценить ее работы и заинтересовать ее судьбой. Надо сказать о ней несколько слов.
В последние годы мамочка очень хотела записать свои воспоминания, начинала рассказывать про свою куклу, с которой была сфотографирована в четырехлетнем возрасте, потом о том, как родители отца купили ей другую куклу (в Германии в 1922 году), а она оставила ее папиной сестре Жоне[1]. О ней мама вспоминала в поздних письмах и спрашивала: “Существует ли старинная кукла, которую вы подарили мне, которую я назвала Катюшей, потому что она немного косила, и которую мама оставила Жоничке”[2]. Как мы помним, немного косила героиня романа Толстого “Воскресение” Катюша Маслова.
Ее воспоминания пыталась записать З. Масленникова, получились две-три сбивчивые страницы. Ее рассказы о себе, которые помню я, тоже были фрагментарны.
Надо написать, кто она была. Евгения Владимировна Лурье родилась 16 (28) декабря 1898 года в провинциальном губернском городе Могилеве. Ее родители были сравнительно обеспечены[3]. Отец имел небольшое, доставшееся ему по наследству состояние, которое он безуспешно, за отсутствием деловой хватки, пытался сохранить. У него был маленький писчебумажный магазинчик, но мама рассказывала, что он любил делать подарки чужим детям и торговал себе в убыток. Все в семье определялось матерью – человеком лучезарно светлого и жизнерадостного характера, делавшим праздником каждый день повседневного обихода. Она любила принимать и угощать гостей. У них была большая квартира на главной улице города – Ветряной. Мама вспоминала о двух огромных пальмах в кадках, которые стояли у них в прихожей.
Слабое здоровье маленькой Жени (она в детстве перенесла тиф) и тяжелая болезнь ее матери вызывали опасения. Их вдвоем отправили в Крым на поправку.
“Я с мамой в Алуште, – вспоминала она в поздние годы. – Море, солнце, камушки, кипарисы, миндаль, розы, близость и любовь мамы. Возвращение домой. Нянина полутемная комната. Занятия Миши (няниного сына) с Катей, революционной подругой двоюродных братьев и сестер. Мое хождение к учительнице куда-то вниз с горки по переулку, где во дворе большой сад, ослики. Длинные мои косы, спасающие меня от приставания мальчишек. Завтраки у учительницы в кругу ее многочисленной семьи, девять человек детей. Растущая наблюдательность, ощущение себя среди других ребят. Поступление в гимназию”.
Женя была, по-видимому, шаловливой и смелой девочкой. Свои длинные тяжелые косы до колен, привлекавшие внимание и интерес соседских мальчишек, она использовала как средство защиты. Взяв в руки концы кос, она размахивала ими, как пастух кнутом, и больно колотила своих противников.
В течение нескольких лет семейство снимало также небольшой хутор на Днепре, Котыши. Мамочка любила рассказывать мне об их счастливой жизни на хуторе, о собаках, с которыми она много возилась в детстве и которые вспоминала всю жизнь с великой нежностью. При доме была скотина, лошадь, домашняя птица. Брат Сеня[4] был еще мальчиком, когда родители купили ему маленькую лохматую лошадку, за которой он сам ухаживал. Женя была младшим ребенком в семье, и родители опекали ее больше старших сестер Анны и Гитты[5] и брата Семена.
Позже она записала в тетради:
“Хутор на Днепре. У старших еще экзамены, они в городе. Меня отправили на хутор, где я живу до приезда остальных с хозяевами. Сегодня два хозяйских сына взяли меня на рыбную ловлю. Чудное утро, река полноводная, берега крутые, поросшие кустарником. Я тихонько сижу в лодке и молюсь: «Господи, сделай так, чтобы не попалось ни одной рыбки». Меня больше на рыбную ловлю не взяли, я проговорилась, и меня сурово отругали.
Но какое чудное это было утро, как помнится луг, покрытый туманом, крутой берег, цепляющиеся при спуске в лодку кусты ежевики и шиповника. Тишина и дыхание реки. Божественное утро”.
Брат Сеня еще в гимназии стал добровольным членом Могилевской пожарной команды, с которой выезжал тушить пожары, частые в этом деревянном городе. По окончании гимназии брат и сестры уехали в Петербург, чтобы получить образование. Анна Владимировна (дома ее звали Нюня) вышла замуж за начинающего юриста Абрама Бенедиктовича Минца[6]. Семен Владимирович, поступив в Петербургский университет, стал одним из самых заметных наездников Петербургского ипподрома и в 1912–1913 годах для знаменитого американского наездника Вильяма Кейтона тренировал “лошадь столетия” – легендарного Крепыша.
Началась Мировая война. Мамочка рассказывала, как переменился облик города, когда в Могилеве расположился сначала штаб фронта, а потом царская ставка. Город был полон солдатами, казаками и офицерами всех рангов, ставшими на постой во всех домах. Родители беспокоились за Женю, которая заканчивала гимназию. Но у девочки был смелый и решительный характер, она не терпела сковывающей ее опеки. Чтобы дать некоторое представление о том, что за человек была эта девочка, ставшая через несколько лет женой Бориса Пастернака, приведем несколько записей из ее дневника тех лет:
25 августа 1914 года. Как-то странно – столько новых происшествий, впечатлений, а я не пишу, а как иногда хочется взяться за перо. С 18-го июля была объявлена мобилизация войск, объявлена война ужасная, всемирная, какой еще не помнит история. Тяжело очень думать о войне, но мне хочется передать то горе, какое царило повсюду. В Могилеве у нас сравнительно тихо, а в особенности тихо в Котышах, где мы жили в это лето опять, и действительно в Котышах как-то забывала я о том, что столько людей гибнет, все как-то было так далеко от меня, совсем не касалось, я очень хладнокровно узнавала все новости о войне и только первые дни волновалась. Близких у нас тоже на войну не взяли и потому у нас на даче не было той паники, которая была повсюду.
Приехали мы в город 19 августа, в городе, где на каждом шагу в каждой семье не хватает кого-нибудь (то есть кто-нибудь да пошел на войну), а часто и нескольких, – ближе как-то касаешься всеобщего волнения, сама проникаешься общим настроением. А тут ужасное известие, что немцы разбили два корпуса русских, значит, убито около 100 тысяч человек, как-то пусто и больно на душе, не можешь себе отдать отчета, как это столько человек убито. Противно, что сама ничего не делаешь, не работаешь, не помогаешь бедным раненым, не страдаешь вместе с ними.
Боже мой! Неужели наш Сеня пойдет на войну. Он был в психоневрологическом институте, и там отняли отсрочку. Правда, все теперь горюют о братьях, сыновьях, родных, но, Боже мой, какой ужас, если брат убит или серьезно ранен. Остаться навеки калекой гораздо хуже, чем быть убитым, страдать всю жизнь, быть в тягость другим, заставлять других страдать – это ужасно.
А ведь я как-то даже хотела, чтобы была война, чтобы люди проснулись, оставили бы немного свои денежные дела и поволновались немного, но я была идиотка, Боже! Какой ужас – столько людей должно погибнуть, столько молодых, полных жизни. Ведь люди, видя страданья, не забыли о деньгах, да это и невозможно, ведь всякий хочет есть. А я сама уж, наверное, не лучше других, мне хочется, чтобы у меня было теплое, красивое пальто, чтобы моя комнатка была уютно обставлена, чтобы были новые ботинки, а у других, что есть теперь? А у солдат очень ли уютные комнаты и красивые пальто? Но я подумаю, подумаю, выругаю себя, а все-таки мне всего хочется, и я добиваюсь своего. А сколько вообще есть людей, что рады, когда есть кусок хлеба! Но все это очень старо – людям всегда мало того, что у них есть.
27 марта 1915 года. Мне уже шестнадцать, я должна кончить в этом году гимназию. Я буду уже самостоятельным человеком, и мне как-то странно, не верится, что я уже почти большая, что теперь я должна буду жить сама. Говорят, что шестнадцать лет самая лучшая пора жизни, и я чувствую, что у меня масса сил, мне чего-то хочется, я чего-то ожидаю, мне бывает страшно. Но я не знаю, чего я хочу, что я могу ожидать нового. Неужели я и будущий год проведу так, как этот – в Могилеве, только ожидая чего-то? Это было бы очень гадко, но это вероятнее всего. Куда мне ехать, куда поступить? Я очень хочу поехать в Москву и поступить на архитектурно-строительный, но я не имею правожительства, да к тому я ведь не знаю, быть может, я и не сумею там учиться, я не знаю, насколько достаточно я рисую. А пока скоро экзамены, но я даже не хочу о них думать. Теперь, вот в эту минуту мне очень скучно, гадко, пусто на душе. Что я буду потом делать, к чему приложу свои силы? Так хочется какой-то хорошей работы, хочется влезть в нее с головой и душой и как-то страшно: что если я не найду этой работы, что если даже искать не захочу?
А иногда так весело, так верится иногда, все кажется таким близким, возможным, кажется, весь свет перевернуть сумею. В душе так много сил, что ищешь, куда бы их приложить, готова просто так взять и побежать по улице, бежать, бежать, пока совсем не устанешь, не выбьешься из сил. И хочется такого большого, сильного впечатления.
Я не писала последнее время потому, что мне кажется, что я не то пишу, что хотелось бы, есть в душе еще что-то такое, о чем даже боишься подумать, а если попробовать написать об этом, то выйдет совсем не то, а потому и сам дневник как-то гадок, и я думала уже несколько раз порвать его, а все-таки жалко, ведь он не мешает, я старалась только не думать и не писать об этом. Читая дневник, я чувствую, что старалась не писать о самом хорошем и о самом плохом, а писала так, только среднее, и старалась себя уверить, что я пишу все, что чувствую и думаю. Нет, если бы я писала все, то писала бы каждый день, а не выбирала бы отдельные случаи, когда можно писать о том, о сем, но не о том, до чего тебе стыдно и больно и приятно касаться и о чем боишься писать, потому что кажется, что не сумеешь это передать и что выйдет только бледно и смешно.
26 мая 1915. Я считала, что в жизни больше всего люблю людей, мне казалось, что люди это самое красивое и самое сильное и богатое в жизни, что в людях можно найти все. Я горячо защищала индивидуальность каждого человека, говорила, что у каждого есть что-то свое, я возмущалась, когда людей ставили близко к животным, и доказывала, что человек не сравним с животными потому, что у каждого есть что-то свое, в то время, как у животных этого нет.
Я безумно люблю все красивое: в людях я видела красоту в их душе, в том, чем один человек выделяется из окружающих. И мне казалось, что у каждого я нахожу что-то новое “его”, и чем у человека было сильнее это “его”, тем больше он меня интересовал. А вот вчера мне как-то показалось, что все это вздор, что люди только делятся на мужчин и женщин, а там все одинаковы, немножко хуже, или немножко лучше. Я читаю журналы за 1915 год, все так однообразно, прежде, чем начнешь читать, уже знаешь конец. Я смотрю на знакомых, слушаю их разговоры, вижу их поступки, и мне кажется все это таким знакомым, старым и ничего нового.
Через год после окончания Мариинской гимназии Женя сдала дополнительные экзамены за курс казенной, получила аттестат зрелости с золотой медалью, что открывало ей дорогу на Высшие женские курсы. Отец воспротивился отъезду своей любимицы, она настояла на своем. Они поссорились и несколько лет не разговаривали друг с другом.
Летом 1917 года Женя вместе со своей двоюродной сестрой Софьей Самойловной Лурье уехала в Москву. Вот запись того времени:
Нет заботы у меня в сердце, все свое устояние оставила я далеко позади себя. Я бегу через холмы и долы, странствую по безымянным землям оттого, что я гонюсь за золотым олененком, еду в Москву первым классом в отдельном купэ, еду в поисках за золотым олененком. Но страшно мне, на душе у меня такой хаос, впереди ничего определенного, позади – ссоры, споры, борьба, слезы и большая, большая мамина любовь. Она давит меня, эта бесконечная любовь, как забыть мне все – недовольство и озлобление всех наших, неодобрение Гиты, сердце папы, но как связана я любовью мамы, как хочется тряхнуть головой, помчаться без заботы вперед, как в сказке Рабиндраната Тагора, но, верно, тот, кто гонится за тем олененком, не человек, он бездушный, а иначе не отбросить забот, не расстаться с тревогой, как сосет, как болит голова – эта вера и в меня. Мама – материя, а ее душа – инстинкт – хорошая философия неверующих в Бога и душу. Но зачем эта старость – угроза смерти. Лягу, усну, успокоюсь и соберу свои мысли.
Женя поступила на физико-математическое отделение Высших женских курсов, что на Девичьем поле, и вспоминала, что слышала курс логики знаменитого тогда профессора Г. Г. Шпета[7], с увлечением занималась математикой. Кроме того, она вскоре стала брать уроки рисования. И так она неожиданно нашла свое призвание. По ее рассказам, как-то зимой она зашла в мастерскую, где училась ее подруга. Рисовали старушку в кружевной шали. Женя пристроилась тоже и, взяв лист бумаги, сделала на редкость удачный рисунок, до сих пор сохранившийся среди ее работ. Руководитель мастерской уговорил ее продолжать занятия. Но переутомление и полуголодная студенческая жизнь в чужих холодных комнатах сказались на ее здоровье.
О своей жизни в Москве, дружбе с однокурсницей Марией Соломоновной Маркович и преданно любившим ее студентом-медиком Даниилом Яковлевичем Линденбратеном (Доней) она записала в своей тетрадке:
“Душа была полна мыслями о Доне, его любовью, близостью. Маничка, Доня, две-три книги, художник, курсы заполняли мою жизнь. Потом что-то сломалось. Порвалась какая-то струнка. Ушла радость встреч с Доней, чувство близости к Мане, оставила я художника, курсы, поступила на службу. Устала, измучилась, потеряла охоту жить, давила тоска. Малокровная, с нарывами на шее, приехала в Могилев. Было одно желание, одно желание – выздороветь, избавиться от нарывов”.
Мать повезла Женю в Киев. Они остановились у родственников – на Украине всегда было легче с продовольствием. Женя познакомилась с А. А. Экстер[8] и стала брать у нее уроки живописи. Ее показывали врачам. Оказалось, что бесконечные простуды и затяжной бронхит дали начало верхушечному процессу в легких. Мать поехала с нею в Крым, где они пробыли с июля по сентябрь 1918 года.
“Шумит ветер, – записала Женя в своем дневнике 20 июля/ 2 августа 1918 года, – мне жутко, хотя теперь утро, я лежу в постели. Глупая девочка, где твои близкие люди? Ведь мне нужны все новые и новые. Была Соня, Рахиль, Маничка, Доня, – все далеко, а я в Крыму одна. Но сегодня мне впервые тоскливо утром. Тоска приходит ко мне ежедневно вечером вместе с теплой крымской ночью, а ночь наступает здесь рано в восемь часов, наступает она сразу без сумерек и тогда приходит тоска по близким. Ночи теплые, шумит море, тихо покачиваются кипарисы, со всех сторон несутся стрекотанье, шепот, жужжанье, чей-то протяжный свист, а наверху черное, как пропасть, небо, усыпанное бесчисленными звездами. Ляжешь на спину и смотришь, как тихо скатываются золотые звезды”.
Тем не менее курс лечения виноградом и солнцем пошел Жене на пользу. Она выздоровела и потом всегда вспоминала время, проведенное с матерью в Алуште, как последние лучезарно счастливые месяцы беззаботной юности.
Семья тем временем переселилась из Могилева, где уже шли военные действия, к старшей дочери в Петроград. Но путь туда из Крыма был отрезан. Женя с матерью добрались до Харькова, куда к ним приехал Семен Владимирович. Он недавно, во время немецкого наступления 1918 года, когда в Могилеве были захвачены кровные лошади знаменитого конного завода, по просьбе командования Красной армии пробрался в Могилев и перегнал всех лошадей через линию фронта. Это помнили все конники, и до самой смерти он продолжал быть в чести у них, и они приглашали его продемонстрировать молодым езду высшего класса и ежегодно присылали ему пригласительные билеты на ипподром.
В Харькове Женя подружилась со своим кузеном Семеном Филипповичем Добкиным, который потом всегда вспоминал о ней и ее матери в Харькове, о том, как близки были тогда брат и сестра, как ходили вместе на вечера артистической молодежи. Ее гладко зачесанные волосы открывали крутой и высокий лоб, длинная густая коса спускалась до колен. Запомнилась ее улыбка, освещавшая лицо, причем часто она улыбалась не столько внешним причинам, сколько своим мыслям.
Удивительно, но эта загадочная улыбка появляется почти во всех воспоминаниях о ней. Н. Н. Вильям-Вильмонт называет ее “таинственной, беспредметно манящей, которую при желании можно назвать улыбкою Моны Лизы”, о ней писал Пастернак в стихотворении, написанном при расставании:
Художницы робкой, как сон, крутолобость, С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, Улыбкой, огромной и светлой, как глобус, Художницы облик, улыбку и лоб.О ней же в Послесловии к “Охранной грамоте”: “Улыбка колобком округляла подбородок молодой художницы, заливая ей светом щеки и глаза. И тогда она как от солнца щурила их непристально-матовым прищуром”.
А тогда в Харькове Женя в течение нескольких месяцев, с 20 сентября 1918 года по 2 мая 1919-го, занималась скульптурой в Художественном цехе, познакомилась с художницей Любовью Михайловной Козинцевой[9], посещала собрания группы ХЛАМ (художество, литература, архитектура, музыка).
Когда восстановилось железнодорожное сообщение, Женя с матерью и братом отправилась в Питер. Муж старшей сестры вскоре устроил Женю курьером в Смольный. Ей выдали полушубок и валенки, и она бегала целый день, разнося пакеты по городу. За это давали красноармейский паек. Вскоре она поступила в училище барона Штиглица, где продолжила свои занятия живописью, в чем теперь видела цель жизни. Там она познакомилась с Саррой Дмитриевной Дармолатовой-Лебедевой[10], которая преподавала рисунок. Дружба с ней, возобновившаяся после переезда Лебедевой в Москву, впоследствии стала для мамочки огромным душевным подспорьем в жизни.
Однако Женя не смогла долго совмещать службу с занятиями у Штиглица и в результате потеряла паек. Это возмутило ее зятя, который преподал ей свое жизненное правило, часто потом с горечью вспоминавшееся: “Живи не как хочется, а как можется”. Мириться с этим Женя никогда не могла. Она уехала в Москву и поступила в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), открывшиеся вместо Училища живописи, ваяния и зодчества, в котором еще недавно преподавал Л. О. Пастернак. Мамочка училась в мастерской Д. Штеренберга и П. П. Кончаловского.
Летом 1920 года ей удалось отправиться с Фиалкой Штеренберг и Еленой Фрадкиной[11] в художественную колонию в Малаховке, которой руководили Марк Шагал и Роберт Фальк. Там она познакомилась с музыкальным критиком Юлием Дмитриевичем Энгелем и его дочерьми Адой и Верой[12].
В Москве мама снимала комнату на Рождественском бульваре против дома со львами, зарабатывала гроши, давая уроки рисования дочери одного из актеров МХТ, графила конторские книги, голодала. Кроме ВХУТЕМАСа, она бегала в балетную школу учиться ритмике, часто ходила слушать музыку. Временами приходила помощь от родителей из Питера, которую привозили навещавшие ее брат и сестра Гитта.
Главным в ее характере было стремление к самостоятельности и тогда еще не надломленная веселая вера в свои силы. Она была очень способна к живописи, владела сильным рисунком и рядом со своими однокурсниками, среди которых были очень талантливые художники, чувствовала себя уверенно. Мамочка вспоминала потом, что в это время И. И. Машков писал ее портрет на огромном холсте. Судьба этой работы неизвестна.
В январе 1921 года через адресный стол ее разыскал только что приехавший в Москву после двухлетних мытарств в отрезанном войной Крыму Михаил Львович Штих[13]. Найти Женю Лурье просила его уезжавшая из Крыма в эмиграцию ее кузина Софья Мельман.
Мы очень быстро и крепко подружились, – вспоминал М. Штих. – Я стал часто бывать по вечерам в ее комнате в большом доме на Рождественском бульваре, я читал ей стихи, которые помнил в великом множестве – Блока, Ахматову и, конечно, Пастернака. В начале осени дядюшка мой стал устраивать в подмосковный санаторий на станции Пушкино мою сестру Нюту. Я нажал на него и вместе с Нютой он устроил туда же и Женю. Время от времени я навещал их там. И однажды, когда мы с Женей сидели на скамейке в санаторном лесу, я прочитал ей два моих стихотворения (увы, далеко не блестящих), которые были посвящены ей. Одно из них “Портрет”:
Да, в сумерки яснее все улики. В такие сумерки. И ясно в этот час: Лишь на полотнах мастеров великих Есть женщины, похожие на Вас. Одни из тех, о ком столетья пели И за кого на смерть, ликуя шли, На плаху шли и гибли на дуэли Поэты и мечтатели земли. Ах, все они давно лежат в могилах, И только Вам – стучаться у дверей, Чтобы искать своих родных и милых В каталогах картинных галерей.Когда я кончил, Женя как-то погрустнела и сказала ласково и непреклонно:
“Миша, мы с вами останемся друзьями. Вы меня поняли?”
Я понял. И вскоре мы попрощались, я поехал в Москву. <…>
И мы остались друзьями. Только теперь наши встречи происходили чаще у нас в Банковском переулке. Женя очень подружилась и с Шурой[14]. А еще ей очень хотелось познакомиться с Борей, но их посещения все как-то не совпадали по времени.
Брат Миши Шура Штих был с детских лет близким другом Пастернака. Его первый слушатель и советчик, он сам писал стихи и за год до революции издал свою книжку. Женя сделала портреты обоих братьев.
“И однажды, – писал Миша Штих, – когда мы с ней были по какому-то делу на Никитской, я сообразил, что в соседнем переулке (он, кажется, тогда назывался Георгиевским) живет Боря. И мы решили наугад, экспромтом заглянуть к нему. Он был дома, был очень приветлив, мы долго и хорошо говорили с ним. Он пригласил еще заходить. И через некоторое время мы пришли опять. На этот раз я ушел раньше Жени, и они с Борей проводили меня до трамвая. И я как-то, почти машинально, попрощался с ними сразу двумя руками и вложил руку Жени в Борину. И Боря прогудел: «Как это у тебя хорошо получилось»”.
Это было летом перед отъездом родителей Бориса Пастернака в Германию. Он тогда жил на углу Георгиевского и Гранатного переулка, снимал комнату у Марии Львовны Пуриц[15], вдовы адвоката, старого знакомого его отца, недавно скончавшегося. Ее дочь Наталья Семеновна запомнила приход Жени к ним в дом и рассказывала, каким страшным потрясением для них было известие о смерти Блока, – как тяжело переживал это Борис, который в мае встретился с Блоком на вечере в Политехническом и по его просьбе отложил свое свидание с ним до следующего приезда в Москву.
Он ожидал тогда издания своих книг “Сестра моя жизнь” и “Темы и варьяции”, отданных в Государственное издательство под объединенным названием “Жажда в жар”. Тем временем стихи из “ Сестры” ходили по рукам в списках, отдельные вещи были отданы в случайные журналы и печатались. Ими восхищался Брюсов, имя Пастернака вместе с именами Маяковского и Асеева стояло в ряду первых молодых поэтов. “Сестрой” заинтересовался издатель З. И. Гржебин и вел переговоры с ГИЗом, желая выкупить у него рукопись.
Еще в середине июля в Германию через Ригу уехала сестра Бориса Жозефина. Теперь, записавшись в университет, она ждала приезда родителей с младшей сестрой Лидией[16]. Они приехали в Берлин 18 сентября. Борис с братом Александром[17] остались в Москве в двух комнатах родительской квартиры на Волхонке, которая была сразу уплотнена вселившимся семейством Фришманов.
Осенью возобновились занятия во ВХУТЕМАСе. Женя занималась тогда в мастерской Петра Петровича Кончаловского, дружила с сокурсниками Еленой Фрадкиной, Сергеем Сахаровым, Леонардо Бенатовым, Натальей Челпановой[18]. С некоторыми из них завязывались романтические отношения. Особенно привлекал ее Сергей Сахаров, у нас сохранился сделанный им ее красивый портрет. Он познакомил ее со своей матерью и сестрой. Женя записывала в дневнике события осени 1921 года и свое скептическое отношение к занятиям в школе, когда каждый сам по себе выискивал средства к существованию в те трудные и голодные годы. Начало занятий оттягивалось, 25 октября 1921 года она писала, обращаясь к себе самой:
Слушай, Женя, я буду рассказывать тебе о своей жизни и мыслях. Уже третья неделя, как я скверно очень живу. Я ничего не делаю. Сегодня в три часа Петр Петрович будет в мастерских. Я жду трех часов, но знаю, что зря. Будет несколько человек, а на нас надежда плохая, мы не сумеем дать жизнь мастерской, а мальчики, они, каждый работает сам по себе и вряд ли хочется им наладить работу в школе. Мне кажется, что вообще школа скверная штука, она как-то не нужна тем, которые там околачиваются.
29-го. Конечно, П. П. не пришел. Сегодня уже суббота, занятия не начались. Гита и Сеня все еще не уехали в Петроград. Хочу, если уедут завтра, придти в себя и начать работать хоть одной. Знаю, что в понедельник кое-кто соберется в мастерской, но как мне всё и все противны. Хочется видеть Сережу, можно бы написать, попросить быть завтра на концерте, но просто не знаю, что это ни к чему, храм разрушен, а он был. Правда, не верилось. А теперь зачем встречаться, мне дорого безусловно его мнение, может, даже единственное, о работе. Но нужно даже и этим пренебречь.
Я хочу проследить свои личные отношения с людьми. Когда читаешь свои заметки о прошлом или письма, все кажется теперь (я, как всегда, считаю теперь – сегодня, а завтра, может быть, иначе) не нужным, не стоящим затраты дум и времени. Доня – это хорошие, радостные отношения. Виктор – ценно только одно лето, просто летние хорошие дни, а все, что было потом, – могло и не быть… Теперь я не хочу больше создавать личных отношений. Может быть так, что я не похоронила еще Сережи. Я отгоняю даже мысль зайти к нему в мастерскую, я не хочу больше мимолетных настроений. Я поддалась ему на рождении Александра Львовича, и было хорошо мне с Борисом Пастернаком. Правда, на следующий день и завтра хотелось его повидать, во-первых, потому что я ничего не делаю, а потом приятно состояние напряженности и интереса. Но довольно, я его не видела и не надо, ни к чему.
Запись обрывается, но мнимое безразличие дает увидеть зародившееся влечение.
Мама часто вспоминала потом об этой встрече на дне рождения Шуры Штиха. Это было 13 октября 1921 года. Пастернак играл на рояле, а Миша Штих – на скрипке. Вероятно, они все читали свои стихи. Но по словам А. А. Поливановой, мамочка рассказывала, что была чем-то отвлечена во время чтения Пастернака и на его вопрос, как ей понравились его стихи, ответила, что не слушала их. Борю эта откровенность привела в восторг. “Вот и правильно, зачем слушать такую ерунду”, – воскликнул он.
Вероятно, именно после этой странной встречи Женя попросила у Штихов пастернаковские стихи и переписала для себя его первый стихотворный сборник “Близнец в тучах”, подаренный автором Шуре Штиху с нежной надписью.
Удивительно, что Михаил Штих не запомнил этого, ему вспоминалось лишь нетерпение, которое проявляла она потом, чтобы снова увидеться с Борей. Может быть, она тоже заметила, что произвела впечатление.
Встречи с Женей продолжались. Однажды это было на улице, когда она бежала на занятия балетом. Она вспоминала, как ее поразили его огромные и нескладные, разъезжающиеся по грязи галоши – “точно с людоеда” – как он потом записал в “Спекторском”. Он пригласил ее прийти за красками, которые в большом количестве остались после отъезда отца. Она пришла на Волхонку и набрала в передник кучу недовыжатых тюбиков. В ее приходы между чтением Пушкина и своих стихов он стал читать ей роман о Жене Люверс и загадывал по книге, станет ли она его женой. Этот роман был написан зимой 1917/18 года, и его героиня была ориентирована на Елену Виноград, в которую Пастернак был тогда влюблен. Пробуждение в Жене Люверс лирического начала взято, конечно, из собственного жизненного опыта. Совпадения имен героини и Жени Лурье сыграло большую роль в символическом значении, которое приобрел неоконченный роман в истории их любви.
Тогда был сделан маленький портрет с читающего Бори, который мама потом очень любила как воспоминание о тех счастливых днях. В конце жизни, к новому 1964 году, она вложила в письмо папиным сестрам репродукцию этого портрета и написала: “Посылаю вам две фотографии с моих рисунков, один очень ранний. Я пришла за красками на Волхонку (оставшимися от папы), Боря читает мне письма Пушкина к жене. Второй более поздний, приблизительно начала 40-х годов”[19].
Второй портрет был сделан в 1933 году, когда папа позировал художнику З. Горбовцу, пригласив его к нам на Тверской бульвар, чтобы мама могла воспользоваться этим для своего рисунка. Я очень любил этот портрет, и папе он тоже нравился, он писал о нем своим родителям как о маминой удаче.
“Я принимала все абсолютно, – вспоминала потом мама свои первые посещения Бори на Волхонке. – Я доверчиво приходила к нему в мастерскую, там стоял огромный подиум. Борис Леонидович ставил самовар”.
Однажды он принес ее на плечах на общую кухню и познакомил с нею семейство Фришманов. Фришманов было пятеро[20], они заняли три комнаты в квартире Пастернаков: две спальни родителей и девочек и столовую. На них была возложена забота об оставшихся в Москве сыновьях Борисе и Александре, так что обеды и ужины проходили в общей столовой. Их дочь Стелла была подругой Жозефины и Лиды Пастернак. Она была замужем за химиком, с которым вместе училась и дружила Лида, Абрамом Адельсоном, что не мешало этой веселой молодой женщине кокетничать и постоянно влюбляться в разных людей. И с братьями Пастернаками она поддерживала быстро возникшие при близком соседстве романтические отношения и весело флиртовала. Она подробно писала о Борисе и Шуре и своих отношениях с ними, поцелуях и совместных прогулках в письмах к Жоне и Лиде:
18 ноября 1921 года она писала о Борисе:
Сейчас для него существует только Женя. Вплоть до последних дней он все еще колебался, то есть временами на целые часы, даже сутки думал обо мне, а теперь – только о Жене. Думаю, что в настоящее время (подчеркиваю – настоящее, ибо знаю немного Борю, изменчивость его настроений и т. д. и не могу ручаться за будущее) я ему абсолютно безразлична. <…>
В 8 ч. до ужина мы вместе вышли на Арбат, вышли веселые, живые, смеющиеся, ходили рука за руку с тысячами нежных глупостей – а вернулась я мрачной, как тень. Разговор зашел про Женю. И ведь знаю я все это, знаю, что любит ее сильно и нежно и что вместе весной собираются ехать за границу – и все же не выразимая словами боль. И опять страшная, ничем не заглушимая, огромная жажда жизни. Любовной, земной, огненной жизни! Жажда моря, того моря, которого никогда не видала и про которое только знаю, что оно есть. Потом Боря заиграл. Так, как он умеет играть, он один. Я легла ничком на сундук в галерейке и прижалась лицом к перегородке, за которой он играл. Направо от меня была перегородка, вся звеневшая от ударов по клавишам; налево окно, а в окно виднелся кусок сероватого зимнего неба и освещенные ярким светом окна Княжьего двора. Я лежала без движения, вся вытянутая и напряженная. Из-под закрытых ресниц медленно катились слезы. В этот вечер я любила его. И тоже без надежды. Потому что настоящее – это Женя, а я – что ж, пустячок, огневой пустячок, которому трудно противостоять и которого надо остерегаться и избегать[21].
Борис стал ходить к Жене на Рождественский бульвар. Как-то его застал там ее брат Сеня, приехавший из Питера, и, испугавшись странностей Жениного поклонника, который читал непонятные стихи, пожаловался матери. Женю срочно вызвали в Петроград. Ей скоро должно было исполниться 22 года, и родители хотели вместе с дочерью отпраздновать день ее рождения.
Борис обещал ей, что вскоре приедет тоже.
О, как она была смела, Когда едва из-под крыла Любимой матери, шутя, Свой детский смех мне отдала, Без прекословий и помех Свой детский мир и детский смех, Обид не знавшее дитя, Свои заботы и дела.Борис Пастернак Переписка с Евгенией Пастернак дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями
Глава I (1921–1924) Попытка семьи
Среда 22?.XII.21[22]. <Москва>
Женичка, я из твоего отсутствия не создам культа, мне кажется, что я не думаю о тебе, сегодня первый “спокойный” день у меня за последний месяц, но – весь этот день у меня, со вчерашнего, – безостановочно колеблющееся сердцебиение, точно эти пульсации имитируют что-то твое, дорогое и тихое, может быть ту золотую, рыбковую уклончивость, с которой начинаешь ты: “ах попа<лась…>”.
Такова и погода, таковы и встречи. То есть я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобою.
Женичка, Женичка, Женичка, Женичка! Ах я бы лучше остался при этом чувстве: оно как разговор с собою, оно глубокомысленно бормочущее, глухо каплющее, потаенно-верное, – ходишь и нехотя перелистываешь что-то тысячелистное в груди, как книгу, не читая, ленясь читать. Я бы остался при нем и не писал бы тебе, если бы не родная твоя шпилька! Я убирая, отодвинул диван, она звякнула и опять:
“ах попа<лась…>”. Не сердись на меня, золото, со стороны это глупо и сентиментально-смазано, вероятно, но это потому, что не поддается разговорному выраженью. Твой голос, оставшийся в углах этой тишины, он больше мой, чем твой. Он далекий и темный и самый родной, больше – мой.
Ты напишешь мне, как доехала. Не пересаживали ли по дороге? Чувствую, что не топили, несмотря на человека, смотревшего на тебя сквозь голубые очки. Помнишь, как содрогался я, когда ты меня укоряла – в розовых? Ах, дорогая, дорогая!
И все – дрова! Сегодня в 9 часов утра опять привезли. По ошибке? – Постепенно они вырастают, кто-то шлет их по своей особой рассеянности, заразившись – моей. Так я утрами переселяюсь в какой-то лес, заснеженный, недоспавшийся, мокрый, смешанный, – осиновый скорее, нежели березовый. И эти мужики по утрам правы: я – в лесу. Я действительно как в лесу без тебя. Величественно темно, одно образно захватывающе. Это ты. Но из этого леса надо выбраться, и по нескольким путям сразу. Я и буду. А ты дыши домом и близкими, – радость, – работай, отдыхай, гляди, как копошится, дымит и колдует кругом тебя Петербург, как он вершит свою Блоковщину, и пиши, пиши мне, если можешь! Я тебя долго, долго, продолжительно мучительно нежно целую.
Дорогая Женюрочка моя, что делать мне, и как мне назвать мою намагниченность и напетость тобою, если не тою растерянностью как раз, которую ты велишь, и я бы хотел разогнать! – Как в лесу.
23. XII.21
Женичка ласочка, одной рукой ты прижимаешь куклу, а другой держишь ее за ножку, тебе шесть (?) лет и я люблю тебя! Женичка, я читал опять про принцип относительности; автор не Эйнштейн, а другой философ, все равно кто, но он эти мысленные винты на диво как хорошо протирает и полирует, и как жар горят логические шарниры, и все зданье хаотически одинокой современной гениальности скользит и отливает, катастрофически страшное и математически застрахованное, как внутренность колоссальной какой-то электрической станции в головоломном каком-нибудь Лондоне, где, как известно тебе, ни души, ни пылинки и все – напряженье и почетный караул тянущих и тянущихся магнитов и бессонной меди. Они втягивают в себя бессветную ночь и, втягивая ее, ей светят.
Женичка, душа и радость моя и мое будущее. Женичка, скажи мне что-нибудь, чтобы я не помешался от быстрот, внезапно меня задевающих и срывающих с места. Женичка, мир так переменился с тех дней, которые когда-то нежились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали – куколкой с куклою в руках! И не попадались тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побеги распускавшихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями – под карандаш, срисовывавший маму с тихой фотографии на тихую бумагу.
И ты еще читаешь эти глупости, ясная моя! Женя, а теперь он по-иному молод, этот куда-то сквозь коридор, нет лучше сквозь ущелье человеческого бессмертия мчащийся свет! Мы поедем с тобой на полигон, по которому мчится он, мы будем в Европе! Но чему учили нас! Ведь это Средневековье в сравненьи с тем, что происходит там в физике и, значит, в философии. Ну вот распутай это: поклоненье гению и поклоненье евгении! О Женичка, Женичка! Сейчас же напиши мне что-нибудь, я тебя услышу.
Опять – вечер, на улице было тихо, пока я читал и безумствовал; вдруг прошли с гармоникой, я проснулся и стал писать тебе, стараясь без безумств.
Женичка, вероятье ветвей каких-то мерещится мне при мысли о тебе. Не то на пути у тебя в гости куда-то был вечеревший и заснеженный сквер, сдавленный тесно сошедшимися кругом петербургскими домами, не то сама ты подошла к окну, равняясь по гардине, и перед глазами у тебя было это графическое вероятье. Но есть это где-то. Есть. Это бы совсем не существенно, если бы рядом с этими деревьями не вставали две двойственные, горькие как питер[23] (приторно-горькие) мысли. – Она, эта, стоящая у окна, она окидывает взглядом последнюю осень, и не знает, не любит, сомневается, нет, даже иначе: поскальзывается, и скользнув по ноябрю, видит ясно и беспрепятственно: август или май и другого человека. Это – она! Что ж с того что ее зовут Женею. Так вдумывается и задумывается она. Но – ты, Женичка, ты, – (как странны оба этих чувства!) ты назовешь меня, когда тебе или ей станет грустно или обидно? Ты назовешь меня, не правда ли! Меня, и этот жалкий гадкий ноябрь? Да? Да? О, не сердись и пощади. До следующего. Ведь ты прочла? Ты поняла, где были тут меж слов поцелуи?
Твой Б.
22. XII.<1921>. Петроград
Боринька милый. Вчера приехала, устала. Болезненно все воспринимала. Тревожно было очень. Дома живут тяжело. Сестра простудилась в магазине, где сидела с 10 до 10. Папу на днях обокрали. Сегодня ночью арестовали мужа другой сестры. Пишу, Боринька, на ходу, потому что прислуга идет на почту, а мне хочется, чтобы ты поскорее получил от меня привет. Сейчас повезу посылочку Юлии Бенционны. Адрес: Троицкая 23, кв. 6.
Прости, что пишу на клочке, но нет другой бумаги. Крепко, крепко целую. Жду письма.
Женя
24. XII.<1921> <Петроград>
Боринька, не сердись на Женю за то, что она послала тебе гадкое письмо, из-за которого ты волнуешься, от 22 XII. Я не буду тебе писать обо всем, что связано с тобой – я потом расскажу.
Я не хочу тебя спрашивать о твоем приезде и как-нибудь влиять на твое решение. С мамой я говорила о тебе. Я не работаю пока, потому что Гитта еще не выходит и я сижу с папой в магазине.
Сегодня была в школе барона Штиглица, где я зимой 19 г. немного работала – там холодно и мертво, в академии, говорят, еще хуже. Завтра, верно, пойду в Эрмитаж.
Ю<лии> Б<енционовне> скажи, что посылку и письмо отнесла, но застала только жену брата, перед отъездом зайду.
Боринька, не думай ничего плохого, если письмо тебе покажется неласковым и даже тогда, если долго ничего от меня не получишь. Мне хочется крепко к тебе при жаться…
Женя
<31 декабря 1921–1 января 1922. Петроград>
Боринька, как долго нет писем. Я знала, что ты не приедешь ни 28-го[24], ни сегодня, но все-таки ждала. Грустно прошло мое рожденье, было много хлопот у мамы и беготни из-за магазина, потому что отбирают помещение. 29-го была в гостях у двоюродной сестры Бетти. Ехала туда вечером одна. Погода мягкая, тихо, проволоки как канаты, деревья лохматые, а справа Фонтанка – вода и мосты и весело думать, что это не Петербург, а чужой незнакомый город. Народу человек тридцать. Но я боюсь, что мне будет не о чем с ними разговаривать. На помощь пришел кокаин. Мне совершенно нет дела, чем и как заняты остальные. Я чувствую только себя. Боринька, не сердись, милый, я знаю очень хорошо, что он мне не нужен, но он мне помог не скучать, а сидели поздно до 6 ч. утра – и спасибо.
Сегодня, вероятно, за мной заедут встречать новый год, даже не надеясь, что ты приедешь, я все-таки оставила за собой право остаться дома, но теперь уже скоро 8 часов и ясно, что ты не приехал. Комната у меня светлая, насколько это может быть в Петербурге, мольберт, подрамок достала, холст загрунтован, натура есть, купила уголь, кисти, но не достала лаку. Если не завтра (после встречи нового года), то в понедельник начну. Боринька, меня волнует, что ты не пишешь. Боринька милый, я чувствую себя в изгнании, когда же ты приедешь?
Женя
31. XII
Осталась дома, в 12 была уже в кровати. А сегодня начала портрет девочки. Но работа займет часа 2–3 в день, а дальше? Боря, я сама решила уехать, да и теперь знаю, что останусь здесь еще недели две, а если работа наладится и затянется, то и больше. Но тяжело безысходно. Дай знать мне поскорее, что сказал тебе доктор, с его ли только советом связан твой приезд? Если и завтра не будет письма (уже целую неделю, как нет) я или залягу спать, или —?
Женя
1/I
Боря, любишь?
Уезжая в Питер, Женя оставила на память свою детскую фотографию с куклой на руках и тетрадку с дневниковыми записями гимназического и студенческого времени, выдержки из которой мы приводили раньше. Папа считал, что она сумела в ней удивительным образом выразить себя, и впоследствии часто вспоминал о ней и даже просил оставить ему тетрадку, когда они расставались. В его письме упоминается также мамин рисунок, который она делала с фотографии своей матери Александры Николаевны, по которой очень тосковала в Москве.
Слова о птичьем щебете, который “срисовывал побеги распустившихся лип” и “лился через окошко” на дневники и журналы, перекликаются со стихотворением Пастернака, написанным весной 1922 года, “Чирикали птицы и были искренни…”:
Чирикали птицы. Из школы на улицу, На тумбы ложилось, хлынув волной, Немолчное пенье и щелканье шпулек, Мелькали косички и цокал челнок.Можно сопоставить с этим также детскую песенку “Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети…”, которая обыгрывается в письме.
В движущуюся перебоями лирику письма неожиданно вплетается рассуждение о принципе относительности, почерпнутое из чтения немецкой книги Германа Вайля “Пространство. Время. Материя” (1918), очень важное для философии Пастернака, считавшего, что его собственные художественные принципы соответствуют новейшим открытиям точных наук.
В свою очередь, Женя сообщала, что выполнила поручение соседки по квартире на Волхонке, Юлии Бенционовны, и рассказывала о грустной встрече с друзьями и родными в Петрограде.
Вероятно, на это письмо был папин ответ, который не сохранился. В это время он срочно готовил рукопись “Сестры моей жизни” для Гржебина, которому удалось добиться у ГИЗа прав на ее издание. Был изготовлен макет будущей книги, и отец детально разрабатывал композиционную структуру глав, вносил последние исправления в текст[25].
Очень важным событием был привоз дров. Жильцы давно этого ждали и последнее время часто подмерзали, экономя на топливе. Нужно было срочно пилить дрова и убирать в сарай. А тут подоспели зимние праздники, и Рита Райт[26] пригласила Пастернака на встречу Нового года в Дом печати. Все это мешало работе, и поэтому перед отъездом он писал Брюсову, готовившему сборник современных поэтов, с извинением, что не успел подготовить для него подборку своих стихов. “Завтра я уезжаю на неделю другую в Петербург, – писал он Брюсову 12 января. – Эта поездка еще большею тяжестью лежит на моей совести, нежели запозданье со стихами. И тут все просрочено до последней возможности и «просьбы о прощеньи»”. В тот же день он уполномочил Я. Шапирштейна[27] забрать рукописи двух своих стихотворных книг, лежавших без движения в ГИЗе, и передать Брюсову, надеясь по возвращении отобрать из них лучшее для антологии. Кстати, предполагалось перевести антологию на иностранные языки, но из этого замысла ничего не вышло.
Папа приехал в Петроград 14 января, в первый день Нового года по старому стилю. В ожидании его мама готовила ему подарок – покупала книги. Она заметила, что среди книг на Волхонке нет русских классиков: часть была распродана в голодные годы, часть, вероятно, увезена в Германию родителями. Мама купила дешевые собрания Пушкина, Жуковского, Гоголя и др. Я хорошо помню эти несколько полок в черном папином книжном шкафу, по ним я учился читать, ими всю жизнь пользовался мой отец. После его смерти я отдавал в переплет отдельные рассыпавшиеся тома, испещренные его заметками на полях и пережившие переезды, войну, разорение квартиры и смерть самого владельца.
В Петрограде они много гуляли по городу, вечерами ходили в литературно-художественные собрания, в театр. Папа вспоминает в письмах впечатление от “Валькирии” Вагнера, которую они слушали в Мариинке. Мама рассказывала о посещении “Звучащей раковины”, собиравшейся у Иды Наппельбаум. К этому времени относится их знакомство с Ахматовой. Папа водил маму к Фрейденбергам, она очаровала их обоих, тетю Асю и ее дочь Ольгу, которая спустя много лет вспоминала:
“Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее. Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был женат и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела”.
Было начало нэпа, и мамин отец открыл в Петрограде рыбную лавочку, где ему помогали торговать жена и дочь Гитта. Гитта вспоминала, что молодые только заполдень появлялись в общей комнате и сразу торопились уйти. Из всей семьи папочка выделял хозяйку дома Александру Николаевну и, несмотря на то что ни маме, ни ему не хотелось вносить казавшуюся устарелой и по тем временам отжившей официальность в свои отношения, они подчинились ее уговорам и 24 января 1922 года зарегистрировали свой брак. Отец уговорил маму сменить фамилию, хотя она всячески противилась серьезности момента и вспоминала, как хотела, чтобы Боря, наоборот, взял ее фамилию.
Боря сразу оповестил о своей женитьбе брата Шуру в Москве.
В духе времени, ставившего под сомнение традиционные понятия, мама признавалась, что “много дикого придумали люди, – как писала она Шуре, – для меня самым диким всегда были общие понятия: грех, свобода, преступление, еврей, разврат, брак. И не только дикими. Но мучительными. И вот в чем страх этих понятий, они развращают нас, они не позволяют естественно и искренне нам жить, и власть их не в том, что мы их признаем, а в том, что мы их отрицаем. Мы начинаем с утверждения того, что свойственно именно нам, а прежде всего с отрицания чего-то возможного, что бывает у других и что другие называют так или иначе. Некоторым по натуре вовсе не свойствен разврат, но развращенная мысль уверяет, что все остальное скука и пошлость. Никто бы не задумался над тем, что близость и жизнь с дорогим тебе человеком – скука, пошлость, понижение напряженности и интереса к жизни, но слова «брак», «семья» как будто волокут с собой всю грязь, весь сор, всю мерзость, которые встречались на их пути”.
Соседка Стелла Адельсон 31 января 1922 года писала в Берлин: “Жоничка! Боря женился! Позавчера в Петрограде! В 12 ч. ночи раздался телефонный звонок и Боря сказал, что повенчаны. Завтра они должны приехать. Я об этом знала и не удивилась. Но как-то странно этот факт не может проникнуть в мозг. Знаю, но… понимаешь? Мы с Шурой целый день вчера проговорили об этом. И оба мы немного плакали. Что ж, дай бог счастья”[28].
По возвращении в Москву они сделали себе обручальные кольца. Маме очень нравилось, что ее колечко как раз умещалось внутри папиного. На внутренней стороне он сам нацарапал их имена: Женя и Боря.
Родители и сестры в Берлине по-разному восприняли эту новость. Жозефина позже вспоминала свои чувства, когда она узнала об этом. Ее тревожила трагическая необратимость этого поступка и будущие трудности, сужденные обоим:
Боря женился? Непостижимо, невозможно… В мое сердце закралась грусть, я испытывала острую боль. Боря женился. Правда ли это, возможно ли это, как это может быть? Увлеченный работой, яркий – Прометей в цепях… Как он мог умалить свое призвание до положения простого смертного: муж, жена – о, мучительная боль от этого известия. Женитьба – это когда из организма семьи вырезают живую ткань, пересаживают ее куда-то, возникает новая жизнь – о, но Боря… Какой должна была быть природа эмоциональных катаклизмов, вынудивших его принять такое… необратимое решение? Он собирался приехать в Берлин. Но это уже будет не прежний Боря. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к перспективе появления нового Бори. Мне не стоило паниковать. Когда он и его жена приехали, я поняла, что он совсем не изменился: тот же оптимизм, та же непредсказуемая смена настроений, то же чувство юмора. Короче говоря, прежнее поэтическое мироощущение, не искаженное практическими соображениями. Милая Женя, тебе досталась нелегкая доля. Почему ты решила связать свою жизнь с этим человеком? Ты не сможешь следовать за ним в его полетах. И он не будет виноват в том, что набирает и набирает высоту… [29]
В Москве молодожены поселились в большой комнате, бывшей художественной мастерской Леонида Осиповича Пастернака. Комнату рядом, бывшую прежде гостиной, занимал брат Бориса Александр, молодой архитектор.
Дом находился в красивейшей части города, на Волхонке, рядом с Музеем изящных искусств. Окна выходили на Всехсвятский проезд. Слева на высоком цоколе стояла розовая церковь Похвалы Богородице, называвшаяся в округе Нечаянной радостью – по чудотворной иконе, которая там находилась. Справа – эспланада скверов и лестниц с Храмом Христа Спасителя в центре.
Тогда еще звонили колокола. С утра воздух наполнялся плотным гудением и солнечным блеском золотых куполов. Таково было пробуждение города, приход утра.
В нашу квартиру вела широкая лестница белого камня, двумя длинными маршами во много ступеней. Поначалу она была покрыта ковровой дорожкой. Двустворчатая дверь открывалась в переднюю – большую комнату с окнами во двор, заставленную разной мебелью и по углам заложенную дровами. Летом в ней кто-нибудь жил за занавеской. Зимой здесь было холодно.
Большая квартира, полученная дедом от Училища живописи в 1911 году, после его отъезда в Германию превратилась в типичную коммунальную. В письмах постоянно присутствуют семейства Фришманов и Устиновых, Василий Иванович с женой Елизаветой Ивановной, их прислуга Прасковья Петровна (Паша)[30] и другие. Различные ведомства постоянно требовали освобождения квартиры под учреждения, но предлагаемые варианты жилья были абсолютно непригодны. Во всем чувствовалась неуверенность и ненадежность будущего.
В апреле 1922 года разрешили частные поездки за границу, и с первого же дня отец стал хлопотать о том, чтобы увидеться с родителями и показать им свою молодую жену. Тем временем в различных журналах стали печататься написанные им ранее работы, задержанные разрухой. Отдельной книжкой вышли “Тайны” Гёте в его переводе, потом “Сестра моя жизнь”, в журналах были опубликованы “Детство Люверс”, “Письма из Тулы”, статья “Несколько положений”, цикл стихов “Разрыв”. Газеты, журналы и альманахи охотно печатали отдельные стихотворения становившегося знаменитым поэта.
Но жизненный обиход все еще оставался очень трудным, и мамина приятельница художница Елена Михайловна Фрадкина вспоминала, как зимой во ВХУТЕМАС привезли мороженую картошку, чтобы поддержать оголодавших студентов. Можно было взять ее домой сколько хочешь. Елена Михайловна рассказывала, что впервые познакомилась с Жениным мужем, знаменитым поэтом, в очереди за картошкой, когда они вдвоем пришли во ВХУТЕМАС с детскими саночками и, счастливые, везли их потом домой вниз по Мясницкой.
Летом, после тяжелой зимы и болезней, Женю поместили на месяц в подмосковный санаторий.
По четвергам на Волхонке собирались друзья. В окна большой комнаты заглядывал купол Храма Христа, на золоте которого играли лучи заходящего солнца. К старым друзьям Боброву[31], Асееву и Маяковскому добавились Дмитрий Петровский со своей женой Мариечкой Гонтой[32], приходили Черняки – критик и поэт Яков Захарович и его жена пианистка Елизавета Борисовна[33]. Она описала один из таких вечеров и свое впечатление от знакомства с мамой:
Б. Л. стал готовить чай и только успел разлить его в чашки, как в открытое окно его окликнул женский голос. Б. Л. подошел к окну и стал уговаривать собеседницу подняться и не обращать внимания на то, что она “в тапочках”. Из разговора стало понятно, что она приехала из-за города. Она пришла, окинула комнату ревнивым взглядом и сказала: “А вы уже без меня устроились”. Что мне сказать о Жене? Гордое лицо с довольно крупными смелыми чертами, тонкий нос с своеобразным вырезом ноздрей, огромный, открытый умный лоб. Женя одна из самых умных, тонких и обаятельных женщин, которых мне пришлось встретить. <…> Но характер у Жени был не легкий. Она была очень ревнива, ревновала Б. Л. к друзьям, на что не раз жаловались ближайшие друзья Б. Л. – Бобров, Локс.
В Жене вообще было мало мягкости, уютности, уступчивости. У меня сложилось впечатление, что Женя очень боится стать придатком к Б. Л., потерять свою душевную самостоятельность, независимость. Она все время как-то внутренне отталкивалась от Б. Л. Эта внутренняя борьба длилась все время, и именно она, по моему убеждению, привела к разрыву. В быту Женя все время требовала помощи Б. Л.
Она была одаренной художницей, отличной портретисткой, обладала безукоризненным вкусом.<…> Она была достойна Пастернака[34].
В Германию собирались основательно, думая остаться там на несколько лет. Мама мечтала продолжать свое художественное образование, причем Боря надеялся в этом на помощь и участие своего отца, профессионального преподавателя. Маме хотелось уехать в Париж, для чего она получила рекомендательное письмо от своего учителя по ВХУТЕМАСу П. П. Кончаловского.
Je certifie que M-me Lourie-Pasternak était mon élève très assidue et que pendant deux ans elle travaillait avec beaucoup de progrès à mon atelier à l’école des Beaux Arts de Moscou.
Peintre Pierre Kontchalovsky. Moscou 25 Juillet 1922[35].
Паковали книги, папины рукописи и мамины картины, рисунки, художественные материалы.
Этим летом уезжали за границу Женины друзья Сергей Сахаров и Леонардо Бенатов. Сахаров во время Гражданской войны был мобилизован в Красную армию, откуда вскоре бежал, напуганный жестокостью и бесчеловечием “народных заступников”. Над ним висела опасность ареста. Из Одессы на пароходе они отправились в Италию, затем ненадолго попали в Германию.
Сохранилась книга Рабиндраната Тагора “Гитанджали. Жертвенные песнопения” в переводе Н. Пушешникова под редакцией И. А. Бунина[36], купленная и надписанная отцом в эти дни. Надпись возвращает к их совместному зимнему пребыванию в Петербурге, первой близости и взаимопониманию. Вероятно, тогда в их разговорах заходила речь о маминых юношеских впечатлениях от сказок Рабиндраната Тагора.
Милому моему Голубочику в память прогулок по Петербургу зимой 1922 г. Перед отъездом за границу. Укладка. Июль 1922 г. Волхонка. Пилка дров.
Получив разрешение на выезд, они поехали в Петроград, чтобы оттуда морем попасть в Штеттин. Это было дешевле. Много времени и сил отняло оформление багажа: “Таможенный округ (две инстанции), – писал Пастернак брату, – внешторг – художественные матерьялы и Женины работы – два разных отдела, Военная цензура, портовая таможня”.
Утром 17 августа 1922 года они отплыли на пароходе “Обербургомистр Гакен”. Мама запомнила, как удивительно смотрелся на светлом фоне залива силуэт Ахматовой, пришедшей провожать своего друга Артура Лурье. Этот образ стал центральным композиционным моментом стихотворения Пастернака “Анне Ахматовой” 1929 года.
В Берлине им был написан небольшой стихотворный цикл, посвященный воспоминаниям детства, нахлынувшим при встрече с родителями, путешествию и первым впечатлениям от Германии. Среди них прекрасное описание отплытия из Петрограда и купания в Северном море под Штеттином.
Не осмотрясь и времени не выбрав И поглощенный полностью собой, Нечаянно, но с фырканием всех фибров Летит в объятья женщины прибой. Где грудь, где руки брызгавшейся рыбки? До лодок доплеснулся жидкий лед. Прибой и землю обдал по ошибке… Такому счастью имя – перелет.Образ трепыхающейся рыбки восходил к той “золотой, рыбковой уклончивости”, о которой писал отец в своем первом письме к маме в 1921 году. Потом эти метафоры получили развитие в письмах к ней летом 1924 года, когда он мучился и просил прощения за то, что из суеверного страха потерять ее не позволил себе в то счастливое время любви написать книгу о ней. Об этом же говорится и в стихотворении “Перелет”, причем запрет на любовные стихи объясняется шутливо прагматически:
И ты поймешь, как мало было пользы В преследованьи рифмой форм ее.Втянутый заранее в берлинскую литературную жизнь публикациями в прессе и извещениями о приезде, отец не хотел оставаться в этом “безликом Вавилоне” и рвался в немецкую провинцию, чтобы начать там работать. Он взял с собой рукопись романа о Жене Люверс и Сергее Спекторском и хотел его довести до конца. В издательстве “Геликон” выходила его новая книга стихов “Темы и варьяции”, у Гржебина, перебравшегося в Берлин, – второе издание “Сестры”. Мама хотела продолжать образование, и вскоре после приезда в Берлин они вдвоем поехали в Веймар, город Гёте и Шиллера, может быть, в надежде найти пристанище. Там находилась знаменитая Академия живописи, но маме резко не понравился метод преподавания, а бедствия послевоенной Германии были так болезненно ощутимы в провинции, что они не решились там остаться. Проведя там несколько “счастливых”, по папиным словам, дней, они отправились в Дрезден. Мама вспоминала свои первые впечатления от картин Дрезденской галереи, когда в 1955 году в Музее изящных искусств была открыта выставка перед отправкой этих вещей в Германию.
После возвращения в Берлин она писала в Москву Шуре Пастернаку как архитектору:
…Были мы в Weimar’е, – левые – теоретически проходят понятие формы, конструкции и т. д., правые – рисуют акварелью резеду для ботанического атласа и т. д.
Были мы у одного, судя по старым работам, талантливого художника голландца Doesburg’а. Но от темной голландской живописи он перешел к упрощению, к квадратикам, я надеюсь, что упрощая квадратики, он придет к чистому холсту. Он перешел также от живописи к архитектуре (я постараюсь достать и выслать Вам журнал, где есть его дома) и внутренней отделке квартир, мебели. Моды тоже вышлю, но все это не самостоятельно, я не говорю.
Шурочка, рисунок мне не близок, я стараюсь уйти от сухой однообразной линии. Может быть, одна линия (без тушевки), но характерная для каждого места, иногда совсем исчезающая, а иногда резко подчеркивающая характер – но это – в идеале живописный рисунок.
Мое письмо отрывочное и резкое. Но это потому что осень. Ветер, листья падают, холодно, сурово (не мне сейчас: а на дворе или где-то в будущем).
Слова о рисунке, которым она не хотела заниматься, по-видимому, относились непосредственно к надеждам на помощь Леонида Осиповича Пастернака, опытного преподавателя, для которого основой искусства было умение рисовать с натуры, а современные течения, которые преподавались во ВХУТЕМАСе, пренебрегающие верным рисунком, были ему чужды и далеки.
Попытки связаться с преподавателем в Париже, которому рекомендовал маму Кончаловский, не удались. Ехать наугад одной она не решалась.
Мама искала мастерскую и хотела работать самостоятельно. Папина сестра Жозефина вспоминала о их жизни в Берлине.
Мы с Женей подружились, – писала она. – Она рассказывала о своей жизни до встречи с Борей, о своем искусстве, и в ее словах была странная смесь страсти и нежности, и по ее то лукавой, то обворожительной улыбке можно было почувствовать, как она уязвима, как беспомощна, несмотря на притворную гордую независимость. Боря, конечно же, тоже об этом знал и, соответственно, относился к ней скорее, как к сестре, чем как к любовнице. Да, к любимой сестре, но сестер, в конце концов, оставляют, когда более сильные чувства уводят от домашнего круга…
А тогда они были молодоженами, счастливыми и безмятежными. Боря находился в прекрасном настроении, он радовался, что снова вместе с родителями, радовался, что оказался в Берлине, радовался короткому очарованию своего светлого отдыха. Во время путешествия морем из Ленинграда у него ветром сдуло шляпу, надо было купить новую, и как мы дурачились, отправившись ее покупать!.. Берлин был в новинку для Жени; это ее первая поездка за границу. Она упивалась новыми впечатлениями. Иногда ей удавалось вытащить с собой Борю – он не особенно любил достопримечательности, хотя, конечно, со своим чувством реальности он интересовался всем, что его окружало. Нищета в трущобах северных районов города – какой контраст с бурлящей жизнью в фешенебельных кварталах! Если я хорошо помню, авторские гонорары Боре выплачивались в долларах, и он свободно тратил деньги. Он испытывал стыд, видя вокруг бедность простых немцев, и поэтому давал чаевые с непревзойденной щедростью и осыпал деньгами бедных оборванцев с протянутой рукой…
Женя была художницей. Отец, будучи строгим судьей, сказал, что она очень талантлива. Женя высоко ценила отца, но в своих художественных стремлениях не отвергала “левые” тенденции в искусстве. Будучи разборчивой, она проявляла сдержанность, а ее работа отличалась безупречным вкусом…
С самого начала молодожены поселились в пансионе “Фазаненек”, в большой комнате рядом с родителями. Они, особенно Женя, посещали галереи, встречались со старыми и новыми друзьями. Но после нескольких безоблачных недель Боря стал проявлять беспокойство. Что он думал делать в этой чуждой ему атмосфере? Его также не привлекала жизнь русских литературных кругов. Посещение кафе, лекций и собраний. Время от времени – да, но не как занятие, не каждый вечер. Боря, как и отец, ненавидел праздность, и они оба не любили “развлечений”. Он стал раздражительным…
Наступила зима. Женя страдала от гингивита и от Бориного равнодушия. Она плакала. Они ссорились… Боря не выказывал какого-либо бессердечия, просто ему, видимо, надоела абсурдность всего спектакля – пансиона, отсутствия уединения, неуправляемых настроений и слез жены. И хотя нам это показалось чрезмерным сумасбродством, он решил снять отдельную комнату. Это была крохотная комнатка на том же этаже, но по крайней мере он мог в ней спокойно работать. Да, Боря сумасброд, – думали мы. Не он ли купил себе самые дорогие перчатки, он, отказавшийся поменять свое старое потертое пальто на новое? Разве не он выбросил в раздражении розовый абажур из своей новой комнаты и купил себе другой, не действующий ему на нервы? Он был щедр: услышав, что Лида мечтает о велосипеде, он купил ей его и, как я уже говорила, щедро раздавал чаевые[37].
В Берлине Женя написала несколько работ, среди них интерьер комнаты, где они жили с папой, портрет его сестры Лиды. Для работы мама обтянула холстом стену, чтобы скрыть цветные обои.
Она сделала два удачных портрета отца, но он не соглашался позировать специально и читал во время сеансов Диккенса, собрание сочинений которого они привезли из Москвы. Поэтому на обоих портретах у него опущенные веки.
В этих работах отразилось умение художницы передать сходство с натурой и, несмотря на сказанное в письме к Шуре о нелюбви к рисунку, хорошее им владение, на чем сказалось также увлечение обобщенным восприятием формы и желание рисовать плоскостными поверхностями и прямыми линиями. Колористическая гамма масляного портрета тоже необычайна для позднейшей манеры художницы своим насыщенным и плотным цветовым содержанием.
Они встретились в Берлине с Сергеем Сахаровым, который собирался в Париж и обещал написать о тамошних условиях. Вскоре пришло от него письмо:
Женя! Уезжая из Берлина – я не смог с Вами проститься по причине, может быть, и не так уж уважительной, как это мне кажется теперь.
Итак, вот уже полтора месяца, как я живу в Париже и это только первое письмо, но… даже не знаю, что сказать после этого но. Помню из нашей Берлинской беседы Вашу фразу, что Париж – это последняя инстанция, и хочу Вам возразить теперь, что нет, нет, нет и еще раз нет. И не потому нет, что Париж плох чем-либо – нет, совсем по-другому.
Пропутешествовав большое количество километров по миру, я как-то странно с первых же дней подумал о том, что дело не в том, где живешь. А в том – чем живешь и как. Никакому разочарованию, конечно, нет места. Особенно это могу сказать про Париж, который совершенно изумителен, это зрелище бесподобное, и конечно, такая казарма, как Берлин, не может идти в сравнение. Вы понимаете, о чем я говорю, и полагаю лишним писать Вам, что это, с моей точки зрения, так сказать живописной, что же касается комфорта жизненного, то Берлин во много раз лучше Парижа. Квартиры в Париже вообще неважны и не удобны ни по помещению, ни по свету.
<…> Вы, наверное, очень интересуетесь тем, а как Лувр и что французы. На это могу сказать, что Эрмитаж одно из величайших по своим достоинствам собраний. Такого Тициана, как там, нет. В Лувре мне нравится большой Веронез Кана Галилейская, два Веласкеза – портреты, Олимпия Манэ, рисунки Леонардо и Микеля. Пожалуй и все. Стоит ли говорить, что есть много хороших вещей, но эти хорошие вещи не принадлежат к числу тех, ради которых необходимо ехать в Париж. Про французов скажу, что кроме Манэ, вы в Москве видели все едва ли не лучшее. Конечно, много картин французов по частным собраниям, но как туда проникнуть. Думая пойти на выставку не то Осеннего, не то Зимнего Салона – слышал о нем, что это пакость, какой мы и в мыслях не видывали.
Да! Делякруа мне понравился меньше, чем я ждал.
Вообще у меня такое состояние, что я все с удовольствием послал бы к чорту – и за возможность работать в сносных условиях, но где бы то ни было – в любой дыре, что называется, отдал бы все, подписал бы контракт хоть с чортом – так как желание наше (каждого из нас) осуществить хоть одну из грез, выразить вполне хоть одно из видений, вот последняя инстанция, вот настоящая потребность, вот истинная действительность, вот подлинное счастье – словом все! Но что делать – этой-то возможности и нет <…>
Мои лучшие пожелания и искренний привет.
Сергей
Если вздумаете написать о себе, буду рад, а если будете писать, то пишите побольше о том, как живете и работаете. Знать о Вас это мне очень хотелось бы. Мой адрес: Paris. Rue Lafayette 135. Hotel du Nord. Сергею, т. е. Monsieur S. Sakharoff.
Сахаров также писал, что заболел, простудившись в своей нетопленой мансарде, но несмотря на разочаровывающее содержание его письма, Женя пыталась получить визу и осуществить свою мечту.
Пересылая через издательство “Геликон”, где печатались “Темы и варьяции”, свои письма в Москву, отец неожиданно разговорился с Абрамом Григорьевичем Вишняком[38], которого интересовали переводы папиного друга поэта Сергея Боброва из Алоизиуса Бертрана “Ночной Гаспар”. В письме Боброву он ярко описал сцену, “согретую двумя голландками и до ослепительности раздутую, взбитую и смыленную в обмылки двумя дуговыми лампами”, в которой Жене удалось заинтересовать издателя прозаическими произведениями Боброва. В “Геликон” был прислан фантастический роман Боброва “Изобретатели идитола” и вслед за ним ожидался приезд самого автора.
Вспоминавшие встречи с Пастернаком в Берлине не упоминают маминого присутствия на литературных вечерах в кафе “Леон” и “Прагер-Диле”. Ее заметил там только Виктор Шкловский, посвятивший молодой паре несколько добрых слов в своем “Zoo”:
“В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере, ее понимает, жил и раньше в Германии, с ним сейчас молодая, хорошая жена, – он же очень тревожен”[39].
Берлинские развлечения оборвались в январе, мама с обидой и горечью рассказывала всегда о встрече Нового 1923 года в Доме искусств. Она ушла оттуда одна, возмутившись тем, что кокетничавшая с Борей художница Ксения Богуславская под конец просто уселась к нему на колени. Папа выбежал вслед. Из маминого письма 1924 года известно, что этому предшествовал разговор папы с Борисом Зайцевым[40], который пожелал ему “написать что-нибудь такое, что он бы полюбил (счастливая по простоте формулировка потребности в художестве)”, – как характеризовал слова Зайцева Пастернак[41].
Отцовская работа не ладилась. Его огорчали отзывы на “Темы и варьяции”, появившиеся в начале января в издательстве
“Геликон”. Их прославили за непонятность. Это отразилось в надписи на книге, посланной Цветаевой: “Несравненному поэту Марине Цветаевой, «донецкой, горючей и адской» (стр. 76), от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося”. Она кинулась его разубеждать. Ее горячие и страстные письма сразу переросли в желание встречи, невозможность приехать к нему самой оборачивалась настоятельными приглашениями в Чехию. Переписка с Цветаевой увлекала и волновала отца, и он считал, что мама тоже должна разделить с ним его восхищение. Но поток кипящих страстей в следующих одно за другим день за днем письмах Цветаевой пугал ее и приводил в ужас. Она не могла рассматривать их с чисто литературной точки зрения.
Пастернак пытался остановить это и, прощаясь с Цветаевой за день до отъезда из Берлина, хотел объяснить ей свою невозможность переписываться.
20 марта 1923 года:
Призовите на помощь Ваше родное воображенье и представьте себе жизнь со всеми ее странностями и непорядками. Осмотритесь в этом представленьи: в нем найдите объясненье моего сдержанного величанья Вас и дикого этого запозданья. Увы, даже и это письмо преждевременно и пронесено тайком, под полою. В чем же дело? Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой, терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит воочию, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всею горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит. Это роковая незадача, что мы не встретились втроем. Тогда от этой низкой тяжбы избавлены были бы все трое. Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразумений.
<…> Что сказать мне Вам обо всем этом, если уже и сейчас возможность писать Вам или “взяться с Вами за дело” (в чем мне пока отказано) я заменяю чтеньем Толстого, ну хотя бы Воскресенья, что под рукой сейчас у меня. Вы – сестра мне, – и подумайте, с какой болью я закусываю при каждой новой строчке губы, чтобы не дать прорваться этому слову величайшей нашей мужской выразительности, дабы его горячая правда не попала в беду по моей ли малости, или по Вашей молодости, или по чем еще ином, как это всегда почти бывает с лучшими, с наилучшими достояньями человека.
Надо ли Вам, такой сестре, так по-родному хорошо знакомой со всеми секретами породистого и нравственно породистого благородства (субстанция печалящая и усмешливая), говорить, что не Елена книжки[42] – моя жена, что то́ все ушло в катастрофу, в несуществованье, что существованье далось мне ценой перелома, что я учился долго и трудно равно душью, что полюбив, не дал этому чувству расти, а женился, чтобы не было опять стихов и катастроф, чтобы не быть смешным, чтобы быть человеком, – и что я узнал чувства делимые, множественные, бренные и фрагментарные, не выражающиеся в стихах и их не знающие, но как бы наблюдающие человека и его сердце и их безмолвно обвиняющие[43].
После Нового года Пастернак перестал бывать в обществе и засел за прозу. К сожалению, написанное в то время не сохранилось. Он не был им удовлетворен и рвался вон из Берлина, к тому же вскоре об этом заговорила и мама. Она хотела скорее вернуться в Москву. Отец не мог уехать, не побывав хотя бы в Марбурге, где провел такое значительное для него лето 1912 года. Он втайне надеялся, что мама очаруется так же, как и он, старинным средневековым городом, и им удастся там остаться. Но, как он писал в “Охранной грамоте”, не сумел его ей приблизить, в чем провинился “перед ними обоими”. Была зима, и страшный вид послевоенной нищеты и разорения угнетал душу и ничем не напоминал прежнего очарования. Посетив удивительную художественную галерею в Касселе и проехав по Гарцу, они вернулись в Берлин.
В начале февраля мама писала Сергею Сахарову в Париж, сохранился черновик ее письма:
[Сережа, как раз перед получением Вашего письма я думала о том, что Вы вот все-таки в Париже, и завидовала. Я сама виновата (как всегда), но были оправдания, я думала, что все же скоро попаду в Париж. Я долго не работала и боялась после такого перерыва попасть в Париж. Может, все это было глупо и объясняется нерешительностью и растрепанностью, которая на меня напала первое время за границей].
Завидовала я Вам, Сережа, что Вы все-таки в Париже, особенно в последнее время, потому что сорвалась моя последняя возможность туда попасть. Уже хлопотала я о визе и т. д., думала, что в конце января поеду. Но сорвалось и надолго. Вероятнее всего, что через месяц я буду опять в Москве.
Хорошо Вам, побывав, говорить, что можно было бы и не ездить, но хуже вернуться не доехав. В Дрездене, я Вам говорила, много очень хорошего, особенно Веронез, была я еще в Касселе, галерея маленькая, хороший Тициан (герцог какой-то с собакой, собака очень хороша).
Когда Вы уезжали, писала спину, потом месяца полтора ничего не делала, теперь пишу мужской портрет трудно и плохо.
Напишите, Сережа, только поскорее, потому что недели через три или раньше меня может не быть в Берлине, думаете ли Вы оставаться в Париже, хотите и есть ли у Вас возможность вернуться в Россию. Может, хотите, чтоб я что-нибудь передала вашим в Москве.
Вскоре пришел ответ:
Paris 26. II.23.
Дорогая Женя!
Только что, на ходу, получил Ваше письмо и на ходу же отвечаю. Сначала очень обрадовался, узнав еще по конверту, что это от Вас, а потом удивился, почему уезжаете… Очень жалею, что Вам не удалось добиться визы. Конечно, Вы правы, что лучше побывав придти к выводу, что это не так важно, чем “не доехать”. <…> Вернуться домой, побывав в Берлине или Германии, это значит не побывать за границей в “нашем” смысле. Вы спрашиваете – насчет моего возврата домой. Да, я думаю, но только не знаю, как быть. Ведь там опять потянут на военщину или вообще что-нибудь вроде этого. Это мне не улыбается. Лучше метаться, как щепка в проруби, в Париже, чем служить в Москве. Когда будете там, напишите мне относительно этого то, что удастся Вам узнать, но только по-настоящему. – <…> Очень благодарю за Вашу готовность исполнить мои просьбы – но единственно, что может быть – это повлиять на “моих”, которые страшно скучают и зовут, и беспокоятся. Вообще же если что будет, я Вас попрошу.
Старайтесь больше работать. Не падайте духом, дабы не было “трудно, вяло, плохо”. Я убежден, что еще увидимся и, может быть, скоро. Итак – моя просьба – узнайте о военщине.
Ваш Сергей.
Переписка на этом оборвалась, через сестер Сахарова мама узнавала, что он некоторое время выставлялся на “Осеннем салоне”, а потом внезапно бросил все и уехал на Афон, где подвизался под именем Софрония. Мама часто вспоминала его, но ничего не знала о его судьбе. А судьба его была удивительная, в 1930-е годы он вернулся в Париж, где окончил Духовную академию в Свято-Сергиевском подворье, и священником был направлен в Англию, где в Эссексе основал православный монастырь. Мы решились привести эти письма, потому что он стал видной фигурой в Церкви. Он скончался в 1993 году, и ведутся разговоры о его канонизации, и нам хотелось осветить этот эпизод маминой биографии.
Мама торопила отъезд домой. Она очень плохо себя чувствовала.
В ответ на вопрос Боброва о причине внезапного возвращения в Москву, отец писал:
Пускай кажется тебе это решенье беспричинным и опрометчивым, – ехать я должен, – причины его скажутся и станут тебе известны. Без крепящей и довольно сытной порции некоторого ужаса я об этом возвращеньи не думаю. Не говоря уже о том, что как не хочется уезжать мне отсюда после моего недавнего наезда в Марбург, я еще вдобавок и издержался почти что в конец (только-только на поездку хватит). Как это ни странно, последнее обстоятельство привязывает меня к Германии еще более ее уездной готики: здесь все-таки можно себя оправдать и русскому писателю, даже и писателю, несколько на это обозначенье походящему.
Состоянье в героях “Тружеников моря” не навязано тут каждому несогласному с Гюго[44].
Последние слова отчетливо говорят о тех трудностях, которые он сопоставляет с тяжестью жизни “тружеников моря” из романа Гюго и которые ожидают их в Москве. И здесь главное не только та одна комната, в которой они будут вынуждены жить еще многие годы, но и понимание того состояния “неизбежного самоугнетенья” в ответ на неуклонность казенного однообразия, о чем он пишет Боброву.
Родители не решились плыть на пароходе, что сильно сократило бы им расходы, и 21 марта 1923 года уехали поездом, отправив вещи морем.
Яков Захарович Черняк 10 ноября записал папин рассказ о получении книг.
Книги долго лежали в подвале у З. И. Гржебина в Берлине… Прошло восемь месяцев. Теперь Пастернак эти книги получает – расползшиеся, размытые сыростью и водой, отсыревшие, разбухшие. “Когда я их увидал, у меня слезы подступили к горлу… Не потому, что это мои книги, жалко и т. п., нет… ведь это просто больно, когда так обращаются…” Часть книг находится в цензуре. Цензор их забрал, что называется, на вес. Безобразие и анекдот. Им забраны книги с пометкой Р<азрешено> Ц<ензурой>, изданные во время революции в России, увезенные Пастернаком из России года полтора назад и возвращающиеся теперь. Среди книг, задержанных цензором, например, русский старый перевод Диккенса, современные революционные издания и пр. Пастернак пристыдил цензора, и тот, кажется, на днях выдаст ему все. По поводу этого Пастернак говорит: “Цензор меня знает, заявляет: вы человек известный, вам все будет выдано, – а что, – прибавляет Пастернак, если бы я был менее известен, не получить мне тогда книг?[45]
Летом родители сняли дачу в Братовщине по Северной железной дороге. Позднее, в письмах 1924 года, отец вспоминал предыдущее лето и козочку на соседнем участке, чем-то похожую на маму. Она была беременна.
Я родился 23 сентября в частной лечебнице А. Эберлина в Климентовском переулке. Мама рассказывала, что назвала меня своим именем, потому что чувствовала такую неразрывную связь со мной, как со своей собственной частичкой, к тому же ей хотелось, чтобы в сочетании с отчеством в моем полном наименовании присутствовали бы оба – и мать, и отец.
Отец объяснял выбор моего имени в письме родителям: “Он такой крошечный – как мы могли дать ему новое, незнакомое имя? Поэтому мы выбрали самое близкое для него имя: имя его матери, Женя”[46].
Первые впечатления отцовства и обстановка больницы нашли отражение в главах “Доктора Живаго”, посвященных рождению сына.
Мама вспоминала, что это был ясный, солнечный день, и когда через две недели она вернулась домой, нас ожидали Шура и Ирина Николаевна Вильям в убранных коврами и цветами комнатах. Но вскоре по приезде мама надорвалась, подымая ведро с водой, когда мыла пол. Это стало причиной ее частых последующих болезней. Найденная тогда няня оказалась практически бесполезной. Я помню рассказы о том, как Евдокимовна, поскользнувшись зимой во время прогулки со мной, уронила меня на рельсы перед носом подходившего трамвая. После тяжелой зимы, усугубленной нездоровьем, вымотанная вконец кормленьем и заботами обо мне, мамочка в начале мая уехала в Петербург к родителям. Она надеялась поправиться у них и рассчитывала на обещанную матерью помощь летом на даче, которую собирались снять совместно.
Осенью 1923 года отец написал большую “отчетную”, как он ее называл, – вещь под названием “Высокая болезнь”, в которой стремился показать причины исчезновения лирики из современной жизни. Маяковский напечатал ее в “ЛЕФе”, несмотря на протест своих сотрудников.
Написанная в феврале 1924 года повесть “Воздушные пути” была послана в Берлин для организованного Горьким и Ходасевичем журнала “Беседа”. Одновременно повесть была взята в журнал “Русский современник” вместе с некоторыми из стихотворений берлинского цикла. В повести на материале современности была заявлена тема трагической противоестественности насильственной смерти, что вызвало цензурные сокращения в “Русском современнике”, а “Беседа” по требованию Ходасевича выкинула повесть из очередного номера. Полный текст повести теперь невозможно восстановить.
В письмах отца маме содержатся прозрачные намеки на грустную судьбу публикации в “Современнике”.
Проводив нас на вокзал, отец сразу сел писать письмо.
8. V.24. <Москва>
Дорогая Гулюшка! У тебя сегодня вероятно страшно трудная ночь. Я себе живо с болью рисую, как ты с трудом над Женичкой ворошишься, колдуешь, тихо и мучительно хлопочешь. Если ты не перешла в другое, двухместное отделение, то много ты муки примешь за этот переезд. В конечное благополучие его я горячо верю, улыбку вы довезете оба, чудесное ваше сходство страшно усилилось в купе, когда и ты вдруг стала беленькой маленькой девочкой, чуть, чуть старше Жени и много худей. Так в деревнях сестры подростки няньчат маленьких братьев.
Трудностей дороги мы все-таки не учли, и слава Богу. Как ни горько такой вывод делать, надо все же сознаться, что при меньшей решительности и наивной смелости с твоей стороны ты бы не уехала. Удивительное чувство я испытываю, думая о вас или лучше сказать живо вас в окошко купе видя. Точно вы впервые стали реально существовать. Вы отделились, стали в стороне, и разлука, как закатывающееся солнце, ровно и мягко осветила вас, сбоку и как-то снизу; в таком свете я вас никогда не видал. Ну и что же. Осязательно подлинные. Настоящая женщина и настоящий ребенок. Мои. Вот именно эти и такие. То есть на моем языке (на котором, когда-то начав лепетать и проговорив всю жизнь, я когда-нибудь прощусь с нею) – эти два слова: жена и сын – ничего лучшего и полнейшего означать не могли. За окошком сидели идеальные образцы этих слов, единственные их изображенья. Не знаю поймешь ли ты, что мне невозможно вообразить себе других моделей этих двух слов и для других мужей и отцов. Напиши мне поскорей о переезде и как ты себя чувствуешь.
Когда мы вышли с вокзала в город, стало внезапно как-то прохладно (как летом) и темно. Няня мелкой дрожью дрожала говоря о мальчике. Все же она видно очень привязалась к нему. Доехав до Почтамта, решил я с Мариечкой к Брику[47] завернуть. Насчет денег и видов всяких на будущее журнала. Брик уходил, комната ярко освещена, заведен граммофон, по комнате перекатывается шотландский терьер и грызет изношенную калошу, в горшках цветы, Лиля в кимоно, Оля Третьякова[48], потом входит Маяковский, потом мы с Мариечкой и Третьяковой уходим, по дороге встречаем Асеева, Коля говорит, что в четверг через неделю я и он назначены читать в Кубу, доходим до Колиных ворот, расстаемся, Третьякова предлагает зайти к какому-то японскому журналисту, который поблизости от нас будто бы живет. Я вдруг вспоминаю, что шкафы все еще отперты, тогда выясняется, что японец в Княжьем дворе квартирует, я забегаю к себе, к своей радости узнаю, что няня еще не возвращалась, запираю все у себя и у Шуры, отправляюсь в Княжий двор. Разговор происходит по-английски. У журналиста в гостях молодой лощеный и разутюженный дипломат из нашей японской миссии.
На стене огромная карта Токио. Несколько цветных полос, и они покрыты густым дождем завивающихся стрелок, крестами и цифрами. Цветные полосы обозначают, в какой из шести дней, что длился пожар, сгорела территория, данным цветом закрашенная. Стрелки показывают на направленье ветра. Он образовывал смерчевые воронки. Смерчей было несколько. Цифры (в тысячах) говорят о числе обугленных и неиспепеленных трупов. Страшно видеть, на каких ничтожных клочках земли гибла такая тьма народу.
Всего в городе сгорело 250 000. Очевидец (русский дипломат; он был в Токио во время землетрясенья и последовавшего пожара и чудом уцелел) рассказал нам о неописуемо жутком, прямо сверхъестественном по ужасу явлении. Дело в том, что ветряные воронки образовывались от раскаленности воздуха. Сила же тяги была так велика, что на воздух, кружась, поднимались горящие люди, давно уже удушенные. И чем больше они обгорали, и чем больше становился жар, тем выше и тем в большем числе они взлетали. Их было множество и болтая руками и ногами, они производили впечатление живых. Дико было после этого говорить о “литературе”, о том что мы думаем о “русско-японской дружбе” и т. д. и т. д. Я на два дня взял у них несколько японских журналов. Страшные зрелища разрушений. Зловещее сочетанье поэтичности пейзажа с разрушенными мостами и насыпями железных дорог. Но какая цивилизация и какое трудолюбье! Очень красноречивые картины. Надо это видеть, на словах не передать.
– Сейчас лягу спать в пустой и гулкой комнате. А вы катитесь и катитесь, шибко-шибко и ты возишься с мальчиком, и страшно трудно тебе с пеленками, с кормленьем, с соседями, с криком мальчика и с их куреньем, и негде ведь лечь тебе, такие узкие диванчики, бедная, золотая моя. Но бог тебя не оставит и мучительность перевьется со счастливостью, как именно, не знаю, но верю, верю.
Твой Боря
Сердечный привет самой старой Женичке, твоей маме. Когда будешь моей писать, непременно о поездке напиши. И вообще, поклон всем твоим. Не давай слишком долго Х. и вообще ничему чужому при тебе и мальчике быть.
Все о тебе расспрашивают, все говорят; только японец не спрашивал. А то все и так нежно.
К этому времени Петроград был уже переименован в Ленинград, на конверте папа именно так и писал название города, но в переписке его еще по-прежнему называли Петербургом.
В письме описана первая встреча с Тамидзи Найто, японским писателем, приехавшим в Москву по приглашению ВОКСа.
Гостиница “Княжий двор”, где он остановился, находилась во дворе нашего дома на Волхонке. Сохранилось несколько фотографий, сделанных в те дни во дворе ВОКСа, где изображены названные в письме лица: японец, дипломат А. А. Вознесенский, Л. Ю. Брик, Маяковский, папа и жена Сергея Третьякова Ольга Викторовна. На одном из отпечатков, сохранившихся в Музее Маяковского, Пастернак сделал надпись: “Томитесь и знайте: Тамизи Найто”. На следствии НКВД в 1937 году эта серия фотографий послужила вещественным доказательством обвинения О. В. Третьяковой в шпионаже в пользу Японии. Ее муж, по-видимому, был расстрелян, она сама отсидела 25 лет.
Отца потрясла история страшного землетрясения 1923 года в Японии, о котором он упоминал в “Высокой болезни”. Повторяя мысль о несопоставимости ужасов землетрясения с “литературой” и вопросами “русско-японской дружбы”, которым была посвящена встреча с Тамидзи Найто, он возвращался к аналогии извержения Фудзиямы и гибели Геркуланума и Помпеи. В “Высокой болезни” он возмущался “кощунственной телеграммой” с выражением сочувствия рабочему классу Японии:
Уже я позабыл о дне, Когда на океанском дне В зияющей японской бреши Сумела различить депеша (Какой ученый водолаз) Класс спрутов и рабочий класс. А огнедышащие горы, Казалось, вне ее разбора.В конце письма, называя мою бабушку Александру Николаевну “самой старшей Женичкой”, папа подтверждал некоторое единство моей мамы в трех поколениях – в ее матери и сыне, подкрепленное единством наших с ней имен. Но в то же время он очень ревниво оберегал нас от других членов семьи – чужих. Буквой Х. он обозначает мужа маминой сестры Анны Абрама Бенедиктовича Минца, которого в семье звали Хиля.
В наше отсутствие папа хотел хорошо поработать, чтобы вытащить семью из мучительного и затянувшегося безденежья. Не было денег на дачу, и мама взяла с собой свою золотую медаль за окончание гимназии, чтобы продать, если папа не успеет вовремя выслать ей деньги. Задерживалась выплата гонорара за “Сестру мою жизнь”, отданную в Госиздат, и, не дожидаясь его, отец сразу принялся за выполнение заказанных ему Укриздатом переводов современной революционной немецкой поэзии для антологии, в которой активно участвовали поэты Дмитрий Петровский и Григорий Петников[49]. Книга “Молодая Германия” вышла в Харькове в 1926 году. В переводе Пастернака там представлено 11 авторов и более 20 стихотворений.
Среди неотложных дел, которые должны были облегчить тяжесть коммунального быта, доводившего мамочку до изнеможения, было устройство готовых обедов в столовой КУБУ (Комиссии по улучшению быта ученых), расположенной на Пречистенке. Там можно было обедать и брать еду на дом.
9. V.24. <Москва>
Сегодня жаркий солнечный день, лето, и со двора несет теплой вонью пригретых отбросов. Встал утром с быстротою пожарного, нет действительно, – и в полчаса умылся, прибрал комнату, попил чаю, покрыл наглухо Женичкину кроватку простынями, вообще оголил комнату. – Шура ушел в Муни[50] и в ожиданьи его я вознамерился в том же пожарном темпе, который меня подымает, молодит и избавляет от всех страхов, заняться переводами для Укриздата, которые все же исполню, урывками, на затычку. Как вдруг – Горбунков![51] К сожаленью я не успел предупредить соседей, что на все лето я перестаю бывать дома, и этот хлопотливый и юркий ценитель времени успел ко мне проскочить. Пожарный сбор на нынешнее утро был сорван. В 12 час. пришел Шура и вскоре та дама, которой нужен бандаж. Дала червонец. Между прочим ей и люлька понадобится. Сколько она нам стоила, и что у нее за нее взять? Потом мы занялись зимними вещами и коврами и провозились с ними до 3-х. Все выбито и лежит на диване под старой простыней. Купим нафталину и сложим сегодня же. К няне приехала дочка, славное безмолвное и смущающееся существо. Они внизу сидели и стерегли вещи. Няня попросила позволить ей одну ночь тут переночевать. Я разумеется позволил, что несколько мне испортило отношенья с Шурой, которого ковры, жара и пыль истомили. Потом случилось недоразуменьице с обедом. Я еще с Кубу не сорганизовался, – там надо еще вперед заявленье на обеды подать и разрешенье получить. О нежеланьи Паши и Ю<лии> Б<енционовны> давать свои примусы в пользованье няне я ничего не знал. Вскоре эта тайна всплыла наружу во всей мгновенной остроте и пикантности. Устроились по-студенчески и пообедали тремя сортами хлеба, яйцами и колбасой. К вечеру может быть будут котлеты, но не няниного изготовленья. Сейчас отнесем белье китайцам[52]. Потом займемся начинкой сундуков. Пианина я еще не передвинул в вашу комнату и если не говорить о пожарной прыти, то в остальном все складывается не сразу так, как я думал. Но на чтенье в Кубу я согласье дал. Выступлю с Колей. Женичка, начинаются звонки по телефону, – всякие знакомые и знакомыя[53], то, чего с тобой не бывало. При тебе была другая черная и оборотная сторона, нежели это. А теперь, как когда-то, когда я был одинок и что-то делал: тогда, до встречи с тобой, главная трудность и опасность (я их боялся) была в этих вдохновенных звонках. Целую.
<11 мая 1924. Воскресенье. Москва>
Женичка! Набрасывая сейчас ночью переводы идиотских немецких стихов, я прихожу в волнение и тянет меня к настоящей работе. Но эта неизвестность насчет дома тучей повисает надо всем. Как это возмутительно! Я хочу пойти к К<аменеву>[54], но ты знаешь, как мало сбыточно это желанье. По-настоящему мне бы взяться сейчас за самое архифантастическое что-нибудь, прописать часов до 3-х, с тем чтобы завтра это начало на меня со всех деревьев глядело, глазами всех домов, жаром накаленного сквера. И так бы утро встретить, и утром бы продолжать. Ан не тут-то было. Завтрашний день надо будет начать с записи няни (на Петровке) и что всего противнее, с заготовки приема у К. Хочу через Левина[55] как-нибудь. Горько, горько. Боюсь, что во все лето положенье не изменится и все-то будут деньки такие во власти и в веденьи у немыслимейшей и бездарнейшей ерунды, и ни одного своего. Сегодня обедал у Л<ьва> С<оломоновича>[56] и на сладкое три битых часа слушал его произведенье. Оно обнаруживает в писавшем хорошие качества, человек этот с головою и с сердцем, но литературой эта вещь не отдает и отдаленно, хотя и не окончательно безграмотная. Мучительно было все это ему выкладывать. Я ему сказал, чтобы он остерегся обольщаться такими “надеждами”.
Понедельник утром.
Носил в Наркомпрос Столяровское ходатайство[57]. Вероятно Наркомпрос людей своего ведомства выселять не будет. А что соседи делать будут? Просил Левина о К. Неудобно это видно ему, но говорил не об этом, а о том “Что получилось бы, Боря, если бы К. всеми квартирными делами занимался?” И его правда. Посоветовал написать К. письмо. По дороге домой встретил Бруни и Осьмеркина[58]. Посплетничали, поныли, позубоскалили. Кланялись тебе. Вышел журнал “Русский современник”, но я его не читал, получу только в среду. А знаешь что, ты б его может быть купила, или расхвалила кому-нибудь, пусть купят, а ты почитай. Там про нас с тобой что-то написано, одна статья специальная, в другой, Тыняновской, – между прочим. Боюсь рекомендовать, а ну как ругают. Но если ты действительно моя девочка и меня любишь, тебе любопытно будет. Женичке, верно понравится, ведь он еще покудова не соперничает со мной. Однако как понять, дорогая моя детка, что ни слуху от тебя ни духу? Все ли у твоих благополучно. Ну а сама ты, отоспалась ли ты уже за бессонный этот год, и стала ли прибавляться в весе? Мне это лето много даст. Надеюсь, поработаю. Надеюсь, что и музыкою полечусь. Во всяком случае, и наверняка знаю, – исправлюсь. То есть зиму встречу как примерный отец, на службу поступлю, каждую минуту стану употреблять с пользой и когда-нибудь, когда-нибудь впоследствии вас в Англию перевезу. Пиши же, родная моя.
Женичка, пиши мне милая, я прямо не понимаю, как это ты можешь не писать мне?
Много сил и нервов отнимали угрозы выселения. Нижний этаж дома занимал Институт народного образования, который расширялся и забирал в свои руки одну квартиру за другой. Отец писал маме о хлопотах Михаила Павловича Столярова, которого коснулась уже рука Наркомпроса, и он тоже занимался отстаиванием своей квартиры. Письма и ходатайства, рассылаемые в разные инстанции, давали некоторую надежду на то, что к ним прислушаются. Но через несколько дней забота снова вставала во всей своей неизбежности, стучась в дверь кулаком встревоженного соседа, если не Столярова или его жены Веры Николаевны, то старика Василия Ивановича Устинова.
Затем папа писал о том, что в первом номере журнала “Русский современник” вышла статья Софии Парнок “Борис Пастернак и другие”, посвященная современной поэзии. Там же в статье “Литературное сегодня” Юрий Тынянов одобрительно отозвался о “Детстве Люверс”. Журнал издавался в Ленинграде, и папа думал, что мама его купит и почитает, но это было слишком дорого.
<12 мая 1924. Москва>
Дорогая Гулюшка! Если бы у меня не было других путей к тебе, кроме этого, распространеннейшего (пути опасений и беспокойств), то я стал бы уже беспокоиться.
Но я не боюсь за тебя и за мальчика, а просто мне грустно, что нет еще никакого знака от тебя, а ты ведь так полно и непосредственно умеешь в них сказываться. У меня такое чувство, будто мы всегда были втроем. И когда нынешним вечером я шел по улицам уже совершенно летним, разгоряченным, умащенным горьким запахом тополя и бульварной волною пота и дешевых духов, и мне взгрустнулось, и перенесся я в далекое-далекое прошлое, раннее, студенческое (в то время эти огни и запахи так меня электризовали), то казалось мне, что и вы были тоже тогда и что и тебе и мальчику должно быть так же грустно и по тому же поводу. Сегодня сам того не желая, Дмитрий обставил меня не менее, чем на 4 червонца. Я решил этих бездарных немцев все-таки перевесть, всякая копеечка дорога, вот я и засел с утра за них и трудясь над ними, загодя воображал, с какой руготней и настойчивостью в требованьи денег я их сдам. Оказывается в то же время (утром) Дмитрий был в Укриздате и нерезонно горячился по моему поводу. Но об этом я узнал вечером. Он пришел ко мне и рассказал, что произошло с ним в Укр’е. Его спросили, что с моими переводами. Он ответил, что я ими сейчас занят. На это секретарь издательства будто бы сказал: “Что за нахальство! – Делает?! Он давно уже должен был их сделать!” Тут Дмитрий за меня страшно оскорбился, потребовал взятья слов обратно, стал на говорившего наседать, на его крик сошлась публика, и по словам Дмитрия немного до драки недоставало. Там легко конечно сообразят, что Дмитрий своего рыцарства от меня не скроет и что мне инцидент известен. Это-то и связывает меня; я от работы откажусь. Что же до самих слов, то на мой взгляд слово “нахальство” при современной выразительности словаря ничего не значит, и само по себе (конечно не в глаза сказанное) меня не обижает. Вот смешное происшествие!
Очень жалко что Х.[59] не приехал; от него бы я о тебе узнал. Сегодня были Дм<итрий>, Лев Соломонович, Ник<олай> Ник<олаевич>[60]. Завтра обедаю у Татьяны Николаевны[61] с выслушанием мужниных произведений. Сегодня весь день пошел не так, как надо. Он злой и дурацкий с утра. Открылся он появлением В. Н. Столяровой с известием, что шансы домовые на невыселенье худы. Надо будет похлопотать. Потом пошли посещенья. Теперь сижу Шуры поджидаю, у Вильямов, – собака, и придет с черного хода. Напоминает зиму и я по этому случаю немного раздражен. А уже два часа. Тебя не сердит моя болтовня и не наводит скуки?
Но ты ведь, говоря для мягкости, – настоящая свинка морская! Когда же ты мне напишешь? Крепко тебя целую. Приучай Женичку к шуму, благо тебе это сейчас ничего стоить не будет. А то ведь я его с музыкой встречу.
Сообщи точный почтовый адрес мамы.
Перечисляя знакомых, посещавших его в это время, папа назвал Льва Соломоновича и Татьяну Николаевну Лейбовичей, которые жили по соседству в Ильинском переулке и часто приглашали его к обеду. Лев Соломонович начинал тогда писать прозу, через несколько лет он стал известным писателем под именем Льва Ларского. Татьяна Николаевна, родная сестра Ф. Н. Збарской, была врачом.
Дядя Шура ухаживал в то время за своей будущей женой Ириной Николаевной Вильям, с родным братом которой Николаем Николаевичем папа тогда близко дружил. Шура собирался в скором времени ехать в Германию к родителям, и папа, желая уменьшить его расходы, хлопотал в консульстве об освобождении брата от денежного залога.
В письмах часто упоминается папина музыка, он пишет, что лечится ею и что встретит ею наше возвращение домой. Дело в том, что прошлой зимой он был вынужден сдерживать свои привычки к ежедневной игре на рояле, чтобы не будить младенца. Это, видимо, было ему нестерпимо тяжело. В наше отсутствие он вознаграждал себя за долгое воздержание. Я очень хорошо помню отца за роялем, все мое детство прошло под его музыку. Он любил играть мне, приучая меня слушать. Заставлял понимать значение того, что играет, специально для меня изображая шум московских улиц с трамвайными звоночками, зверей и птиц, виденных нами в зоопарке. Радовался вместе со мной, когда я верно угадывал изображенное.
<10 мая 1924> Ленинград, суббота 11 ч. вечера
Боричка, спасибо, получила твое письмо. И от того ли, что неожиданно, а может, и не потому, но обрадовалась очень и воспрянула духом. А вчера было мне тяжело и мрачно.
Ехали мы чудно, мы остались в том же купе, и столько же оставалось в нем народу. Но когда подняли верх и положили крахмальное чистое белье, стало спокойно и просторно, как просторно и уютно было в каютах парохода. Женя спал, утром разговаривал и пел и гулил, потом опять заснул, я успела уложить и завязать все вещи, потом одела Женю и в порядке, спокойно поджидала Петербург. Проливной дождь, ветер, папа болен, мама измучена, Паня (прислуга мамы) еще совсем маленькая, мне и Жене пришлось быть в одной комнате с папой, потому что другая комната столовая, и через нее проходят во вторую, конечно, было неспокойно.
Мама вряд ли сумеет жить со мной в деревне, да где еще та долгожданная дача, когда во дворе лежит снег, и люди ходят в шубах, галошах. – Но так мрачно было вчера, а сегодня опять стало просторно и спокойно. Урывками между изморозью и продолжительным, осенним дождем, завернув Женю по-зимнему, я гуляла с ним два раза в 10 утра и в 7 вечера. С 12 до 2-х искала коляску. А вечером догадалась, ссылаясь на то, что Женя мешает папе спать по утрам, а по вечерам заставляет рано ложиться, а папа любит сидеть по вечерам и разговаривать, переставить папину кровать в столовую (это не свинство, потому что кроме нас ведь никого в этих комнатах не бывает, а столовая светлее и теплее), и мы с Женей опять вдвоем, опять у нас тихо, диванчик, на котором он спит, смешно прирос к моей кровати. Уже поздно.
Да, вспомнила, мне говорили, что в Петербурге нетрудно в консульстве немецком получить разрешение об освобождении от залога, передай Шуре. Пока узнать об этом достоверно мне трудно, да я и не знаю, как это сделать. Говорил мне об этом сосед в вагоне, рассказывая, что его жена и дочь уезжают скоро в Берлин.
Всего, всего хорошего.
Женя
В деревню решила ехать с Феней[62], может быть, это самое хорошее, потому что опять-таки будет тихо. Спокойной ночи.
В конверт вместе с маминым письмом была вложена нежная записка от бабушки Александры Николаевны:
Боринька родной, солнышко мое, большое спасибо за подарок, который ты мне преподнес, что ты доверил мне такую драгоценность, как сына. Ты мне осветил мой убогий уголок, где так мало света и радости, когда появилось в нем такое лицо, которое освещает как месяц, и глаза, как большие звезды, и по утрам чирикает, как пташечка при виде солнца, – так что мой дом засиял радостью и весельем.
Женюрка, конечно, худенькая, раздражительная, – сын совсем съел свою маму, но надеюсь, что она скоро поправится у меня, нянек много: Нюня и Феня, я и Паня. Скоро, вероятно, достанем дачу, дадим ей Феню и ей будет хорошо и спокойно.
Боринька родной, когда жe ты приедешь ко мне, неужели ты целое лето не приедешь. Ты же у нас тоже сумеешь работать спокойно, и тебе тоже надо отдохнуть. Так что справляйся с делами и приезжай к нам. Я даже думала, что вы приедете вместе с Женичкой.
Будь здоров и спокоен, жду тебя к нам. Целую тебя и люблю.
Мама.
Александра Николаевна с первого знакомства со своим зятем испытывала к нему добрые дружеские чувства. Она называла его “Борку”, не склоняя этого имени по падежам. Ольга Фрейденберг, которую Борис познакомил с Жениными родителями, вспоминала, что Александра Николаевна всегда пекла “разные сладости еврейские, продавала и покупала для «Борку» штаны и т. д. Очень любила его, а ему было тогда не ахти”[63].
13. V. Ленинград
Мне понравилось, я хочу теперь и дальше так – каждый день письмо – здорово. 11 и 12-го было жарко, Женя жарился и прел на солнце. Вчера ездила смотреть дачу, но полная неудача. Два часа езды, то есть 58 верст – сыро – сосновый и березовый кустарник, ягоды – клюква и брусника. Уехала в 4, вернулась в 11, устала. Сегодня холод, проливной дождь, 4 часа ходила по рынкам и магазинам, искала мальпост, только один понравился, 55 рублей, завтра буду опять искать. Продрогла, устала. Ну да, может, завтра будет удачнее.
Меню сегодня: утром горячие оладьи на кислом молоке, яйца, кофе, в два часа – рыба, картошка, яблочные оладьи, какао, обед – уха, котлеты с макаронами, кисель, ужина не дождусь, лягу сейчас спать. Теперь только 9 часов, но Женю уже уложила и сама завалюсь. Люльку продавай, попробуй попросить 2 червонца, если не даст, отдавай за полтора, деньги эти, если можно спрячь на ванночку или на сани и т. д. —
Если буду продолжать так писать, то скоро начну считать пуговицы: умный, дурак, умный, дурак, умный…
Ну так вот, задумалась я вчера: после приезда с дачи сказала я маме, что все-таки неосторожно было с ее стороны выписывать меня с Женей, когда она сама всецело занята папой, погода плохая и дача не приготовлена, и даже со мной жить не сумеет, но сказала я только потому, что под руку подвернулось, а сама знаю хорошо, что несмотря ни на что, вот именно так и должно быть, и это хорошо; даже видимая несуразность моего приезда в Петербург необходимость эту подчеркивает, потому что все причины, которые можно указать другим: помощь мамы, обилие дач и т. д. – отпадают, а необходимость остается. Думаю, что прежде всего мне нужно было расстаться с тобой и подальше уехать от Волхонки, а живя под Москвой, я постоянно бы туда возвращалась. Если не поймешь, переспроси, потому что даже перечитать не в состоянии и перо движется так, как идут часы – без точек, без запятых.
Спокойной ночи.
Женя.
Адрес: Ямская д.11 кв. 14.
Пришли с Хилей мой зонтик, здесь ни одного нет.
Первые письма в Ленинград папа писал по адресу Минцев на Троицкую улицу, тогда как мама жила у бабушки на Ямской, вблизи рынка. Этим объясняется некоторая добавочная почтовая задержка. Мамина сестра Гитта с братом к тому времени уже переехали в Москву, куда к ним по делам наведывался А. Б. Минц.
Мамино слабое здоровье требовало ежегодной летней поправки и регулярного усиленного питания. Ее отъезд был рассчитан в первую очередь на удивительные кулинарные способности бабушки, предлагавшей свою помощь. Поэтому мама подробно расписывает свое меню, вызывающее у нас теперь ностальгические воспоминания. Но удивительно, что и при таком режиме она никогда не полнела, что заставляло папу страдать, он видел в ее худобе не физическую конституцию, а свою вину.
<14–15–19 мая 1924. Москва>
Среда – четверг – понедельник
Милая белая девочка! Я сегодня взглянул на ту карточку, где ты с Бетти снята и не мог без улыбки глядеть на твой большой лоб. Чудное, достойное, непреднамеренно прекрасное лицо. Сбыточна ли твоя поправка, можно ли тебе будет отдохнуть и пополнеть? Об этом я ничего не знаю. Говорил сегодня с Х. (у меня рука не подымается полностью писать это дикое, нечеловеческое имя, придет же фантазия так называться!) Он острил, говоря про тебя и мальчика, – это хорошо, что в природе остроумие не иссякает, но замечательно, как мало наблюдательны все ваши, кроме мамы, и как не успели они по моей сдержанности и подчеркнутой простоте во всех таких случаях угадать, насколько мне эта фамильярность не по душе. И сквозь этот специфический тон ничего я не узнал и не увидел о вас обоих.
Второе от тебя письмо получил. Это хорошо, что ты меню приводишь. Вот мне в этом отношении и легче стало на душе. А мама лучше тебя пишет, расцелуй ее за лирику. Говорю о квартире, об излишках и ненужностях. Неделю об этом не думал, забыл. Сейчас Василий Иванович костяшками пальцев постучал в дверь, и завел речь и напомнил, нехорошо, сухо. Я как с неба свалился. Увы, этими устами старости, боюсь не говорила бы ими сама грядущая действительность. И вновь оглянулся кругом. И струхнул. Это страх чуждого, ненужного. Страх полусмерти. А вот другой есть страх – бессонный, возвышающий, родной. О, Гулюшка, я все эти дни говорю с твоей душой или со своей о твоей. Какая неделя! Все знаю, все вижу, и от непрекращающегося сопутствованья этих духов жизни душа гудит. А ты не захочешь, ты не уверуешь, ты возревнуешь и тогда – тогда что станется с белым моим миром в двух лицах под одним именем? Что станется с Евгеникой[64]. Но я про все тебе напишу, про всех размеров вещи, тут и маленькое велико и великое мало.
Во-первых. В Доме ученых редкостная столовая, с пальмами, с фонтаном, стеклянным потолком, сквозняками и бассейном. Ослепительные столики, на каждом по миске со звонкой свежею красной капустой. Обед из двух блюд стоит 45 коп. Я имею право брать сколько угодно талонов.
Раз повел Шуру с Ириной. Приходят с сумками и набирают по 4 по 5 обедов на дом. Вывод: в будущем году избавимся от кухни. Следовало раньше сделать. Думал о том, как свести все до одной комнаты так, чтобы ты могла работать. Вывод. Буду уходить в Университет или в Исторический музей и работать в библиотеках. Можно хоть целый день.
Получил от Цветаевой стихи. Ах какие стихи, Женя! Вильям, Дмитрий и др. без ума от них. Помнишь, как я тебе и Шуре “Версты” читал? Они изумительны, я их в “Современник” отдал, наверное Коля Вильям о ней статью в журнал даст. В четверг с утра прошел на слух Высокую Болезнь для вечера. Многое оттуда выкинул и сжато сильно получилось. Вечер был назначен Колин (Асеева) и мой.
Вдруг среди дня мне представилось, что Коля не придет, и вечер тощ будет (рассказа я своего из редакции не мог получить[65]). Тогда решил Колей заняться и на всякий случай наготове быть, чтобы самому его прочесть. Ах да, важное упущенье. К вечеру еще вернусь, а теперь расскажу, что сказать забыл, – а важно. Во вторник вечером, после девочек Энгелей и предшествовавших им деловых посещений – странный, сияющий и почти нездоровый по своей светлой взволнованности пришел Коля (Асеев) с виновницей своей перемены. Она похожа на Бубчикову жену Фросю[66], ужасно хорошенькая то есть она того склада и разряда красоты, как ты. Почему-то они находили, что я их плохо принял и не был им рад. Это неправда. Это может быть оттого, что я с ними был прост, как с самим собою. И опять это оттого, что с Жоней, с Месхиевой[67], с тобой, с Фросей (ну, Фросю я тут, ты пойми, ради точности называю, то есть как один из образцов этого разряда сердечно и задушевно прекрасного, исправного облика) так вот, говорю я, в мире этих обликов я чувствую себя родным, товарищем, братом, мужем, тут слушаешь и ждешь, что скажут и слушаешься, тут нет охоты, тут не ловишь случай, нет грозы, нет судьбы, нет неволи. Тут царство доброй воли, широкой, прозрачной, тут нежность и благодарная забота и способность чувствовать за другого. Тут я выбрал тебя и стал жить семьей.
Теперь возвращаюсь к четвергу.
Уже приближалось время в Кубу идти на выступленье. В тот день у нас бездействовал телефон и с нами не соединяли. Вдруг является Коля, в лице ни кровинки, и рассказывает, что с ним в одном учреждении днем случился сердечный припадок, он упал в беспамятстве на пол и очнулся в какой-то амбулатории, куда его из учреждения привезли. Я сейчас же его уложить хотел и разумеется и слышать не пожелал ничего о его выступлении, пообещав все собой покрыть. Он же все-таки мысли о вечере не бросал, хотя у него ничего с собою не было, а у меня все его книжки неизвестно кем растасканы, помнить же своего он ничего не помнил. И вот уже к 9-ти часам, когда начинать нужно было, попросили Дмитрия съездить к Брикам за книжками для Коли. Вечер хорошо прошел, хотя я его провел в полнейшей рассеянности, не помня себя, не видя публики и о своем голосе не думая, а все время неотступно следя за сидевшим рядом Колею, как бы что с ним не случилось. Ах, раскатился я тебе не это рассказывать, а что-то другое, ну да теперь и для рассказыванья оснований нет. Однако если когда-нибудь спросишь, при свиданьи расскажу. Ах как письмо залежалось! Это свинство, что пятый день оно лежит, ведь ты поди привыкла уже к частым письмам.
Женичка, я хорошо соскучился по тебе, но это ничего не значит. Надо нам обоим помолодеть. У Шуры с разрешеньем все устроилось (без залога поедет) и деньги ему переведут. Сегодня пишет Эренбург, что в “ Беседе” (заграничный журнал Горького) рассказ пойдет мой (тот же, что и в Современнике, и с тем кончиком, который…)
Золотая моя, я пишу тебе черт знает как, то есть я дописываю давно написанное и нарочно сейчас, потому что ждет меня на бульваре Вильям, и собственно я должен был бы уже быть там. Таким образом я письмо сегодня же и сейчас отошлю и в переписке не станешь ты для меня Жонею, мамой, папой и теми, которым сердечнейшие письма в запечатанном виде годами лежат у меня на столе. Ну прощай и не обращай внимания на конец письма. Впрочем долг платежом красен; ведь и ты небось носом клевала, мне писавши, и конец твоего письма полон милых, кровно родных, хорошо знакомых зевков. Крепко тебя обнимаю, крепко, крепко, крепко, и по счастию для тебя, без последствий. Ах, скотская наша жизнь! Ну поцелуемся.
Твой Боря.
Упоминание в письме евгеники, науки о наследственной передаче умственных и физических качеств детям, возвращало к их с мамой давнему разговору, начатому еще у мамы на Рождественском бульваре, о чем она как-то вспоминала.
Рассказывая о совместном с Асеевым вечере чтения, состоявшемся 15 мая в КУБУ, папа перечислял нескольких красавиц, аналогичных по облику новой подруге Асеева. Среди них он назвал прелестную Фросю Новикову, жену своего бывшего ученика Ивана Эдуардовича Саломона (по-домашнему Бубчика), с которым лет 10–15 тому назад он занимался гимназическими предметами. В списке красавиц упомянута также актриса В. Алексиева-Месхиева, которая выступала с публичным чтением стихов Пастернака в Доме печати.
После маминого отъезда возобновилась остановленная на год переписка с Цветаевой. В ответ на его просьбу о новых стихах она переписала для папы большую подборку написанного после его отъезда и вдохновленного им под названием “Стихи к Вам” (общим счетом около 40 стихотворений, вошедших потом в книгу “После России”, 1928). Благодаря ее, он писал 14 июня 1924 года: “Постарайтесь с оказией прислать Психею, и все что издано у Вас после Ремесла. Очень нужно. Все присланное замечательно. Совершенно волшебен «Занавес». Спасибо”. И в том же письме он писал, что читал ее стихи на своем вечере в КУБУ: “Между прочим я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, требуя продолженья. Часть Ваших стихов будет напечатана в журнале «Русский Современник». Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас (Вы этого человека не знаете, мальчик, воспитанник Брюсовского Института, исключенный за сословное происхожденье, знающий, философски образованный, один из «испорченных» мною.) Они статьи не поняли и возвратили”.
Свое намерение передать присланные Цветаевой стихи в “Русский современник” отец вскоре выполнил, “Сахара” и “Занавес” были напечатаны в следующем после “Воздушных путей” № 3.
Сахара
Красавцы, не ездите! Песками глуша Пропавшего без вести Не скажет душа. Напрасные поиски, Красавцы, не лгу! Пропавший покоится В надёжном гробу. Стихами, как странами Чудес и огня, Стихами – как странами Он въехал в меня: Сухую, песчаную, Без дна и без дня. Стихами – как странами Он канул в меня…Занавес
Водопадами занавеса как пеной – Хвоей – пламенем прошумя. Нету тайны у занавеса – от сцены: (Сцена – ты, занавес – я). Сновиденными зарослями (в высоком Зале – оторопь разлилась) Я скрываю героя в борьбе с Роком, Место действия – и – час. Водопадными радугами, обвалом Шелка (вверился же! знал!) Я тебя загораживаю от зала, (Завораживаю – зал!) ………………………………… На́те! Рвите! Глядите! Течет, не так ли? Загота́вливайте чан! Я державную рану отдам до капли! (Зритель бел, занавес рдян). И тогда, благодетельным покрывалом Долу, знаменем прошумя. Нету тайны у занавеса – от зала. (Зала – жизнь, занавес – я).В конце письма речь идет об обрадовавшем отца известии, что его повесть “Воздушные пути”, подвергшаяся в “Русском современнике” цензуре, которая сняла заключительную сцену расстрела, будет напечатана в Берлинском журнале полностью. Из нежелания пускаться в известные им обоим подробности, мучительные для него, папа только мельком упоминает об этом. Через год после издания повести в книге прозы он откровенно писал об этом инциденте в письме к Цветаевой: “Последняя вещь в этом сборнике лишена конца. Это была краткая формула, выражавшая психологический тупик смертной казни, и цензура этот кусок запретила”. Этот эпизод стал первым для Пастернака столкновением с советской цензурой, когда он понял ее безаппеляционную силу. Травля журнала и разгон редакции подкреплялись аргументами, выраженными, в частности, рецензией К. Розенталя в “Правде”, который так обобщал позицию журнала: “«Русский современник» не принял Октября. <…> Сегодняшний день не вызывает в нем ничего, кроме равнодушного и снисходительного презрения” (5 ноября 1924).
Издание журнала было прекращено, был арестован причастный к нему А. Н. Тихонов, что тяжело отразилось на Пастернаке и вызвало у него решительное намерение отказаться от литературных занятий. Целый год он не мог ничего писать.
“Пять месяцев я прохлопотал в совершенном забвеньи имен, соревнований, направлений, журнального разврата, журнальных обысков и доносов, которым стал подвергаться перед этим разрывом с литературой (что его и вызвало)”[68], – писал он Цветаевой в том же письме от 2 июля 1925 года.
Повесть не появилась и в “Беседе”, изъятая из журнала по настоянию Ходасевича, дезинформировавшего Горького о публикации повести в “ЛЕФе”. Но одновременно с закрытием “Русского современника” прекратилось издание “Беседы”. Полный текст повести остался неизвестен.
17. V. <1924> Ленинград
Холодно, зимний день, дождь, темно, болит животик. Неужели в Москве солнышко. Ты верно получил мои два письма и не потому ли замолчал?
Когда же Женя нагуляется вволю.
Вчера был сильный ветер, и он уже сегодня немного сипит. Теперь спит, большой, спокойный. Купила мальпост хороший.
<Дан рисунок коляски>
Сшила рубаху, фасон: <Дан рисунок распашонки>
Видимо, я то ною, то дурачусь. Но что же делать, когда толстого (твое обозначение большого), эпического нет, и сил и настоящей предприимчивости пока нет, а есть только энергия, основанная на нервах. Ну да ладно, завтра будет солнце. Бр… бр… бр… как мне надоел дождь, но все-таки будет болеть спина и животик, и я не смогу поехать в Мариенград, около Гатчины искать комнату, но что если Ленинград докажет, что он стоит на болоте, бедный Женя, бедная дырочка на его головке, через неделю ему 8 месяцев, а у него ни одного зуба, и он еще не сидит сам. Смотри, смотри, Боря, не трать дней, их в трех месяцах только 90, если у тебя всякие квартирные дела, то установи для них время, скажем, с 10 до 2–3, а дальше запирайся и гони всех вон, потому что, если будут продолжаться здесь дожди, а в Москве хорошая погода, я, захватив мальпост и Феню, продав медаль, могу устремиться под Москву, и только твоя действительная работа и нежелание ее прервать сделают меня терпеливее.
Хотя мне лично пока легче и беззаботнее, но Женя должен за лето надышаться вволю и поздороветь, а пока здесь дождь, ветер со всех сторон и в районе, где мы живем, ни одного кустика, обилие торговцев и рыба, рыба на каждом шагу и ниоткуда не тянет теплым, весенним.
Всего хорошего.
Пиши.
Покупка закрытой коляски, или мальпоста, как ее тогда называли, была делом первостепенной важности. Мама ее нашла по объявлению, почти совсем новую. Это была красивая открытая, на мягких рессорах коляска, в которой я спал некоторое время, пока не начал вставать. Я ее хорошо помню, она складывалась для сидячего положения и раскладывалась для лежачего. Она вскоре сломалась при переезде на дачу, но тем не менее еще долго служила мне для спанья и прогулок, а потом была передана Чернякам для их младшего сына Бори. Мама нарисовала ее в письме к папе в двух видах – также, как фасон распашонки, которую мне сшила.
21. V. Ленинград
Боря, что же ты мне не пишешь, или адрес я неправильно написала: Ямская д. 11, кв. 14.
Женичка три дня болел, сегодня будет врач. Баландер[69] велел кормить его обедом, но не сказал мне, как его постепенно к обеду приучать, я вероятно, дала ему сразу слишком много, вот его и несет, третьего дня раз 8, вчера 4, а сегодня тоже желудок зеленый, скверный. Боричка, позвони Абраму Осиповичу и спроси, сколько Женичка весил в последний раз, ему было тогда ровно 6 месяцев, и у Абрама Осиповича наверно записано, кажется мне, что 22 1/2, а сегодня я взвешивала, он весит 22 3/4, то есть за 2 месяца 1/4 фунта, но это кажется ему не вредно.
Холодно в Петербурге, ветер, и оттого, главным образом, скверно.
Уже неделя, как ты читал в Академии, почему не написал? “Русский современник” пока не купила, ты знаешь, как трудно мне выбраться из дому, когда Женя болен, и раскачаться написать.
Всего хорошего.
Женя.
Избавился ли ты наконец от няни, где обедаешь и т. д.
Как живет Шура. Кланяйся Ирине и ему сердечно.
Пиши.
<20–21 мая 1924.Москва>
Дорогая Гулюшка.
У нас стоят холода, у меня кончились деньги. Шура приступил к добыванию паспорта, время идет, и один я бездарен. Что у тебя слышно? Я боюсь ты вспыхнешь и рассердишься, но бывают же чудеса: удается ли тебе рисовать временами? Пофилософствуй чуть-чуть со мной. Я сквозь твои мысли положенье вещей лучше увижу, нежели в прямом изображеньи. Я очень хочу, чтобы ты работала, без искусства тебе не жизнь, и ты меня понимать бы перестала. Говорю так прямо и неделикатно как раз потому, что работать ты будешь. Нам надо будет это иначе, не по-мещански устроить, не так, как представляла ты себе (две прислуги). Опереться надо будет на организацию, на Кубу. Потом не мешало бы тебе на короткое время мгновенно и сильно, но только пожалуйста в идее, в какого-нибудь мальчика влюбиться вроде тех, которых столько у тебя было в прошлом. А то ведь до сих пор не знаешь ты, что у меня с тобой, зачем я тебе нужен, и что ты составляешь для меня. Удивительное дело, я мог бы тебе всего этого не говорить, тем более, что фактов никаких нет, но меня так печалит туман, временами похожий на полусмерть, которым ты, неуступчивая и вспыльчивая, по моей уступчивости у меня дышать научилась, что я и о возможностях фактов готов говорить как о свершившемся.
Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой один мир, большой и необходимый, моя жизнь с тобой другой еще больший и необходимый уже только по величине своей, и я бы просто даже не поставил их рядом, если бы не третий, по близости которого у них появляется одно сходное качество – я говорю об этих мирах во мне самом и о том, что с ними во мне делается. Друг друга этим двум мирам содрогаться не приходится, но им часто, если не ежедневно приходится вздрагивать от десятка виденных женских лиц, от безразличия именно красоты, от ее повседневности, рассеянности и бесконечности. То что у нас иногда бывало, тому не пример. Смешны были те лица, которые тебе известны, и может быть нарочито смехотворны. Может быть с бессознательным умыслом я позволял этой третьей стихии грозиться только столь игрушечными средствами, чтобы не причинять тебе боли в себе самом, чтобы роскошью и прихотью являлись те размолвки, на месте которых был бы естественен только смех, заразительный, детский, как на комедии. Но ведь не всегда так будет. В верхнем этаже номеров за окном каждое утро умывается невозможная красавица, я на нее не гляжу, но не видеть ее нельзя, солнце разыскивает ее первую и бьет прямо в нее, она вся крупная, золотисто-темная, и все это о себе знает и это знание заставляет вольно и ровно смеяться всю ее. Я ее не знаю и у нее не был, ничего еще нет и не будет. Но и дальше говорить мне ничего не хочется. Я вдруг перехватил твой взгляд, давний и знакомый, страдающий в гораздо слабейшей мере, нежели просто преступный и убийственный по отношенью ко мне. Ты чудная Женя, такая одухотворенная и белая по существу и замыслу творца, и у него мною добытая, я так бы преданно и просто мог бы любить тебя и люблю, но ты со мной, в моих руках такая самолюбивая, узкогрудая, такая корыстная, такая чужая, такая ненавидящая. И как ты распорядилась мной! Как оскорбительно легко, без пользы для себя. Зачем, Зачем?
Среда
Когда я вчера кончал письмо тебе, Гулюшка, то последние слова прямо со страстью вырвались у меня к тебе, моя тихая без-без-без-без-брежная прелесть.
О радость моя, чего тебе стоит быть такой, какой ты рождена. Милое мое туманящее, колеблющее и к горлу подступающее сокровище, ведь это ты можешь быть и должна быть вечною моей умывающейся красавицей, белой, ясной, большелобой, той от которой я не отступил в стихи. Той, чудная калевушка[70] моя, какая ты есть, какая в Женины глаза вложена, какая в гробу будет и в моем загробном воображеньи. Стань такой, умоляю тебя. Будь собой, не останавливайся в душевном росте, не связывай колебаний, присущих тебе как звуку из звуков и волне среди волн, с тем, что ты среди людей составляешь, и что между ними и тобою делается. Вернешься, давай будем враждовать, давай будем беспощадны друг к другу – но без барабанной дроби и разговоров. Давай будем мгновенны, что хочешь, но будем опять собою. Давай будем знать, кто мы такие. О, это надо знать, Гулюшка, и ты это знаешь меньше, чем я.
Я получил письмо твое с рисунками, милая. Не жалей мальчиковой дырочки. Бог даст все хорошо будет, живи в Петербурге и о приезде сюда не думай. Так надо. Пишу, а за окном какая-то вьюга водяная, дождь со страшным ветром, холодно и у нас. Что с того, детка, что я еще ничего не написал. У меня только еще глаза раскрываются и уши для дела. О чем твержу я тебе все это время. Чтоб не верна была ты мне, а верила в меня и мне верила. Это одухотворяет, а первое мертвит. А ты от меня требуешь обратного. Начал я это письмо тебе почти что плача. Да ведь и доведет до слез ужасное сознанье того, что в твоем лице дано мне, и что́ ты с лицом и дареньем делаешь. Точно вас две. Разве неправда?
Утро. 5 градусов по Реомюру. Следовательно, у вас снег. Хорошенькая погодка. Женичка, подкинь мальчика Александре Николаевне или Оле Фрейденберг, но чтоб не знали, что наш, затем разведись со мной по всем статьям и правилам, и потом скорей, скорей приезжай ко мне, я люблю тебя, и нельзя иначе, ты из этого сделана, да будут на веки вечные прокляты дураки, которые кругом, и это сделали, – детка, мы переживаем социальную драму. Или вдохновись, напитайся в одиночестве музыкой, греческой прелестью и внимательностью христианства и тогда приезжай с мальчиком осенью, но обязательно в сияньи вышеописанного мира, непременно в нем, я волосы осмотрю!
Прощай, подруга.
Твой Б.
В отцовских письмах к маме постоянно возникает и переходит из одного в другое тема чувственного искушения, на преодолении которого строилось его отношение к женщине. С особенной силой эта нота начинает звучать в разлуке, в одиночестве лета в городе. Женская красота легко воспламеняла его лирическую натуру, на чем неизменно основывались все его дружбы с женщинами в жизни и в переписке.
“Я завидую людям, которые родились с готовым различеньем чувств или успели в них разобраться. Я – не то что дружбы, я вниманья без примеси любви никогда не переживал”, – писал он Р. Н. Ломоносовой[71].
Он был воспитан, как сам говорил потом, на крепком нравственном тормозе, но даже его открытое восхищение женской красотой и поклонение ей неизменно доставляли маме огорчения и вызывали ревность. Вероятно, откровенность, с которой папа делился с ней своими впечатлениями, только увеличивала болезненность их отношений. Он искал у нее сочувствия и понимания художника, но получал в ответ “барабанную дробь” обидных разговоров. В его письмах лета 1926 года к Цветаевой есть удивительные слова о душевной борьбе с соблазном, на “стонущих дугах” которой строит человечество рыцарское, “благородство духа”. Удивительным образом подобный подход оказался непонятным также и Цветаевой и больно ее задел, она считала, что надо пользоваться случаем и “срывать сердце”, не смущаясь женой и сыном.
22. V.24. <Москва>
Гулюшка детка, жена моя! Сейчас принес от китайцев белье, а когда поверял и откладывал в шкап, твои рубашечки спрыгнули и затопотали босыми ножками по полу и защебетали, слушать, просто сердце из груди рвалось. Потом они успокоились и теперь лежат в шкапу и не слышно их. Тихие и беленькие ждут, до осени их не тронут. А теперь ужас, ужас и ужас. Приготовься и вынь платок. Вот большое Жонино письмо, которое сегодня получено.
Переписываю его дословно.
“Нет! Теперь уж я больше не могу – теперь я напишу обо всем, что так горько и страшно. Потому что и твое письмо, после Женина и Шурина контроля – про Пахулика, про все лавки по Ленивке – крайняя-крайняя печаль – да ты вот пишешь маме и папе про «Семейное счастье» Толстого – а знаешь, когда я читала его – давно – как я почувствовала – ах это такое содрогание! – про Пахулика и Ленивку – как «описываешь». Да – это так просто. От жизни ждут невероятного – и только разочаровываются. Это описывают романисты – это в русской литературе особенно – но так как это болело-болело – не в мочь было – художественно – то это получилось прямо как направленье в литературе – и уж не трогало – мы смеялись над этим – и над ядром этих произведений «лишним человеком» – а вот в том романе Толстого это-то, именно это не выявлено – а это мастерски художественно написано – и оттого это-то в этом произведении своим невидимым наличием приводило в содрогание: лишний. Но это между прочим потому, что ты сам упомянул об этом и этим сравнением ударил меня по ране, по больному месту, потому что я сама видела и знала – да вот теперь пришло это – ну просто: так ясно чувствуешь это про «лишних людей» – эту тему, на тему эту в гимназии мной сочиненья писались, насмешливые, логические – критикующие антихудожественность тех литературных произведений, где эта марка.
Еще вот. Есть люди, которые несчастны в жизни – просто так вот. Иногда или часто – но это не определяет их сущности. Для меня же это – мое прозвище – мое имя – первое мое прилагательное – не знаю получили ли Вы мое письмо с Semmering'a[72] – думаю нет. Я писала его, не зная о Вашем письме в Берлин – конечно мне показали его, когда я приехала в Берлин, потому что родители уже несколько лучше знают меня, чем Вы меня знаете. И они знают, что скрывать от меня что-либо было бы смешно.
Родные мои! Когда-нибудь – когда мы увидимся – Лида расскажет Вам, что я говорила про Женю и Борю. Я однажды произнесла буквально следующие слова: «Лида, ты чувствуешь, Женя и Боря – единственные – заступились бы за меня, если б были здесь». – И Лида ответила: «Да». – Дорогие, заступаться за меня было нечего – Вы пони маете – слово смешное, и сказано было в отчаянии. Никто не принуждал меня – но все это сложно – не замужество это – а все, что ему предшествовало – и не предшествовавшее ему в моих отношениях с Федей – нет – а предшествовавшая началу этого отношения Федина ко мне моя жизнь, я сама, все мое прилагательное, мой эпитет, кличка моя: меченая, обреченная, несчастная. Я пишу это все как о другом человеке та меня даже как-то не интересует больше – как она раньше – до этого смешного фактеца – моего выхода замуж – не интересовала никого – ни вас, например – тогда же – та была я – и – да. Теперь я так привыкла и к ощущенью, господствующему в этом романе Толстого, и к ощущенью приговоренных к смертной казни людей, что меня интересует только вопрос – так, из любопытства, из физического страха ее – ну – как переходят к загробной жизни? А не гастон[73] и не десятилетье заполняющее время от последнего дня в апреле 1914 года по сегодняшнее 1 мая – я пишу это – я не могу писать – меня душат рыданья. Ты пишешь: рояль, цветы, тишина – все это – когда: дети, семья – но у меня не могут быть дети – это было бы преступленье, грех – ведь это были бы уроды – во мне нет сил для ребенка – ведь во мне только либо горечь, либо смирение – которому не нужно это.
Я пишу все это Вам потому, что ты написал непередаваемо грустное письмо после контроля Жени и Шуры, в котором ты не жалуешься, не пишешь про себя, письмо, «которое они пропустят» – как ты пишешь – письмо ужасней всех трагических писем – и оттого – больному пишет больной. Больные не смеются над чужими болезнями и уродством – с тех пор как я помню себя – с 1913 года я больная – знала, что здоровые будут смеяться надо мной и всегда молчала – и я Вам никогда не писала о себе поэтому – не писала поэтому и о готовившейся свадьбе, – как я могла писать Вам? – писать следующее: в 13 лет я так любила, что во мне сгорело сердце – его просто не стало – сначала оно жило надеждой – потом в агонии – самоубийство не совершилось из-за религиозных убеждений и из-за родителей. Знаете, как говорят: не поднялась рука? Все это длилось не месяцы, не год – десятилетие. У меня было влеченье к искусству – я подавляла его в себе (иногда теперь на стену лезу от – творческого бессилья – или реву от какого-нибудь сочетанья цветов, которое – нужно – нужно – передать – сохранить – зачем? Это – пытка и это начало искусства). – Я все подавляла в себе, воспитывая в себе строгую аскетическую религиозность – я хотела поста – отказа от всего – чтоб все затем сконцентрировать в любви – все существо – все уменье – все данные жизни. Так я ждала – была война – она еще углубляла меня в моем одиночестве, отказе, аскетизме – мне было 14 лет. С тех пор я не знала светлого дня. Ты пишешь: десятилетье – и все…
Да, было десятилетье, но знаешь ли ты, что для меня оно было рядом разнообразных – разнородных мучений, варьяций боли – разновидности – роды, типы – отчаянья, страданий, пытки. Никто не знал об этом. В течение многих лет я боялась произнести имя любимого – чтобы не осквернить его – постепенно же я все больше от темы личной, от любви и себя переходила к философии, религии, христианству – еще крепче стал запрет искусства и творчества – взрывы себя, взрывы желанья проходили внутри – ничто снаружи не выдавало их. Вы все меня считали иной. Ведь я и точно природой задумана иначе. Ведь природа не виновата, что была Столбовая[74] и 1913 год. Я казалась веселой и ребячливой? Это мускулы лица, рта, руки – повадки – а в душе пропасть – а сердце не сердце – груда пепла – и от каждого движенья – от каждого движенья внешнего мира, которое касалось сердца, – пепел этот давил – давил – холодной и страшной тяжестью – и во всем одно спасенье – один свет – вера в Бога – так я жила 2 и 4 года и 5 лет и десять. И всякий мой шаг, мой поступок – в связи с одной был надеждой (потом уже когда надежда и концентрация любви прошла) – с мечтой жить по воле Божьей – говорить о Нем – стать проповедницей учения Христа. Я еще старалась узнать лучшее от мира – философию – я читала и училась – это все только потому, что мне казалось – это нужно – без этого – меня высмеют.
– Но между тем я жива была и грубо, просто – физиология. Я думаю, она виновата в том, что я – вышла замуж. Просто уж не в силах больше была жить без этого – все так элементарно – насколько сложно было до сих пор и беспримерно страшна по агонии моя жизнь до сих пор – настолько внешен, пустяшен, незначителен факт моего замужества. Конечно человек, который бывает почти ежедневно в доме и гладит по голове ласково и как старший и спокойный, человек этот всего больше может рассчитывать на то, что к нему потянешься. Любить я не могу больше никого, и это все равно что сказать, что человек без ног, севший на велосипед и упавший – лучше поедет вот на таком-то велосипеде – а тот мол был просто неважный – наконец – человек этот неопытен – он еще, может быть, научится.
Не Федя виноват в том, что я не влюблена в него – а просто мне это уже невозможно, как человеку без ног поехать на велосипеде – хоть бы ему предоставили первоклассный. Ну вот – когда прошлой весной он мне впервые предложил это – я говорила с ним серьезно – я отказалась – и все последующие разы, когда он говорил об этом и просил – я наотрез отказывалась. Но тогда как человек чужой в таком случае – отдаляется – он, в силу обстоятельств – оставался в доме – и конечно, становился все ближе и необходимее.
Все решил – и закончил незначительный случай – его отъезд в Мюнхен – ах скучно и долго писать – но когда-нибудь расскажу – это очень, очень интересно в психологическом отношении и для характеристики некоторых лиц. Для меня этот отъезд был ужасен – становилось пусто и страшно, что будут воспоминанья – я боюсь их, как больной боится рецидива болезни. Отъезд этот – должен был всколыхнуть десятилетие – воспоминанья – но мои отношения с Федей были вроде оттягивающего пластыря – когда он снимается преждевременно – он отдерет кусочек мяса – это было страшно – я стала опять собой – и думать о монашестве – я решила больше никого не подпускать к себе близко – чтобы потом, как пластырь – не сдиралось преждевременно – я была в меланхолии – как несколько истерические и смешные люди. Люди страшно не чутки – они подумали, что я люблю Ф. – мне не хотелось выходить замуж – но опять тут нужны подробности – тут совпадает неприятность в Университете – мамочка – вообще всякие ингредиенты.
Теперь я живу в Мюнхене и его жена. Какой он милый и добрый, Вы знаете. Но к тому же не чуткий, – поэтому моя душа свободна – так как он мной не интересуется и мне не мешает. Но зачем ей свобода, когда она не жизнеспособна – когда убита, убиваема была – постепенно добита – прикончена в своей смерти. Когда я – настолько себе уже неинтересна – что мне не хочется дивана, чистоты и детей? Когда я до того изуродована своим молчавшим в течение десятилетия несчастьем – что детей иметь мне – преступление? Когда все на свете – и возможности и невероятности – искусство, науку и философию – когда все это покрыло приводящее в содроганье ощущенье из романа Толстого «Семейное счастье»? Но солнце и лезущие в окно почки деревьев и запахи приводят меня в трепет – это лучшее и единственное – я радуюсь этому, как старуха. Но у старухи была жизнь – у меня ее не было, – вместо нее было умиранье – после года любви такой, – о какой разве читаешь в Песне Песней.
Но все равно – никогда бы не написала я Вам этого – если б не последнее Борино письмо в Пасхальную ночь – и если б не Женино – которое я нашла в Берлине. Я думаю, во многом виновато мое происхождение – то, что я русская. Русская двойственность – неустойчивость ее: одна нога на западе – другая на востоке. Рождается на Востоке – в вечности и философии – стремится на запад – в деятельность и жизнь – но не может – но разочаровывается – но… лишние люди – и возвращается на Восток – в успокоенье – в конец, в покорность – в религию. Простите за это ужасное письмо. – Вот написала и чувствую – как многое не сказано – и что сказано – сказано неудачно. Но все равно. Еще у меня к вам просьба – покажите это письмо Боброву – я не писала ему ни о своем замужестве – ни о себе – так же, как и вам – потому что и он бы не понял меня – как здоровый больного – и он меня высмеивал – в моем уродстве: и его бы раздражало все это – как нытье. И не нужно было поэтому ни вам, ни ему писать об этом. Я хочу чтоб он прочел это, потому что он мне близок, не знаю почему. Простите, мои родные.
Шурочка, Женичка и Боря – Господь с Вами. Женичка, никогда в жизни не забуду я, как ты прореагировала на случившееся – никогда не забуду – но ведь я это предчувствовала или вернее чувствовала – я знала, что ты меня любишь, как я тебя.
Вся ваша Жоня”
Читай дальше. Лидина приписка. “Дорогие мои! Это письмо Жоня послала вам через меня, адресовав мне в лабораторию, чтобы оно не читалось дома. Пожалуйста, не пишите о нем нашим – не к чему. Ее сопроводительное письмо ко мне также вам шлю, чтоб вы не думали, что она не бывает веселой.
Ваша Лида”.
Но странно, моя печаль от этого “веселого” письма только еще усугубилась. Сама посуди, Гулюшка. Вот выдержки из него.
“Мюнхен 14 мая. Лидок, родной! Только если ты решишь отослать, только с твоего согласия – отошли это письмо. Мне не видно, но, кажется, оно ужасно глупо написано. Ты припиши, что «по полученным сведениям», то есть попросту мол я тебе писала – что настроенье у меня опять прекрасное, чтоб они не огорчались. И ты тоже – потому что солнце, небо, деревья, погода и запах – непередаваемы, нет слов. Я сегодня с утра пишу, как машина – просто рука устала! И хочется выйти на воздух – вот кончу тебе и пойду, мое счастье. – Что ты мое счастье, ты знаешь… —
Закроют лавки. Надо бежать за салатом. Сегодня к ужину холодный рис, оставшийся от обеда – с вишневым вареньем (в мармеладовой, знаешь, такой баночке, словом, не я его варила). Мне очень выгодно, что Федя любит такую дрянь – во-первых, мне не нужно доедать, во-вторых, ему кажется, что это «очень вкусно», а в-третьих – мне сегодня не нужно готовить особенного к ужину…”
Ну что ты скажешь на все это? Мне несказанно больно за Жонечку, но и Федю мне страшно жалко. Ты подумай, все это происходит на второй месяц этой благословенной стариками абракадабры, он сидит в банке или вернее мечется по нем, а тем временем она пишет это письмо (!) – и ждет его (?!) – но ведь и этот человек, милый и чудесный – он тоже этой каторги не заслужил. Как это у них все происходит.
Как чудовищно. Как фатальна была эта скрытность у нее! Да ведь проговорись она, у меня нашлась бы сотня советов ей и внушений, а у тебя тысяча, вместо этого одного, заверенного всеми этими… носителями цилиндров. Гулюшка, Гулюшка, ну что ты скажешь. Ты напишешь ей? Она тебя так любит, ты видишь. Временами письмо прямо отталкивало меня – что-то есть в нем нехорошее – временами же, то есть по преимуществу прямо – ну да, я плакал, как ты в тот день. Особенно эти черты (тире) у нее между фраз. Точно она вздыхает. Если будешь писать, не забывай о Феде. Чем он виноват? Боброву читать не хочу. А? Как ты думаешь? Читать? Нет, конечно?
Крепко тебя целую. Прямо мне стыдно нежности тебе сейчас говорить, точно я меряюсь с этим несчастием, в богатстве своей жизни.
Итак, до свидания. У нас морозы стоят. Воображаю, что у вас делается.
Переписывая письмо своей сестры Жозефины (с припиской Лиды) о ее недавнем замужестве, отец хотел поделиться с мамой беспокойством за ее судьбу. Узнав о предполагаемой свадьбе заранее, они с мамой написали протестующее письмо, не в силах поверить в любовь Жозефины к Федору Пастернаку, ее троюродному брату, который был старше ее на 20 лет и в качестве директора в совете Баварского объединенного банка был распорядителем всех денежных средств ее родителей.
Это письмо не сохранилось в архиве у Жозефины. Она отвечала им, рассказывая о своей детской любви к двадцативосьмилетнему Николаю Владимировичу Скрябину[75], двоюродному брату композитора, который жил вместе со своей матерью на даче в Молодях в 1913 году.
Вспоминая те далекие времена, она называет также имя Пахулика, столяра-чеха, жившего на Ленивке трогательного человека, который делал подрамки для картин Леонида Осиповича.
Вопреки мрачным предчувствиям, усугубленным этим письмом, Жозефина счастливо прожила с мужем более 50 лет, у них было двое прекрасных детей. Это долголетнее благополучие было плодом любви, верности и неустанных трудов Федора Карловича.
<24 мая 1924. Москва>
Дорогой Женёк!
Ах как это скверно, что мальчик болен. Этот рахит еще более чем огорчает, еще и оскорбляет как-то и обижает меня и тебя (во мне). Ты менее щепетильно и мелочно что ли к нему отнесись, то есть веселее, беспорядочней и хладнокровней. А то я боюсь, что бережно леча маленький рахит в слабой форме, мы придем к большому в сильной, а бережно пользуя от этого, подымемся ступенью дальше. Лечить его ты должна своей молодостью и красотой и их в себе поддерживать, то есть в настроении, в беспечности и уверенности. Ты должна нравиться его судьбе и воздуху, которым он дышит, то есть природе и тогда они будут считаться с тобой.
Горячо обнимаю.
Боря
<25–26 мая 1924. Москва>
Дорогая Женюра, ради Бога не придавай значенья иным моим быстрым словам. Я знаю, бывает только шевельнется чувство или мысль, тут же и брякнешь и часто черт знает что. И ничего кроме огорченья ни для кого не получается. Идиотские мои слова насчет рахита, прорвавшиеся прямо над твоим письмом (я только получил его и читал) удивляли и пугали меня уже через минуту после их написания. Я весь день думал о маленьком страдальце. Я наводил справки, не у докторов, а у матерей. Я так себе дело представляю.
Было ошибкой, когда ты боялась простудить его зимой, перенося в Шурину комнату, и не переносила и не проветривала спальни. Воздух в ней был всю зиму, как в теплице, – неподвижный, рыхло-сухой, и пеленки сушились. Этим он дышал и не умер, и вот он уже у начала большого и тоже не смертельного пути, где добываются непропорционально большие головы, кривые спины, искривленные ноги. Напрасно мы пугались его простуд, если они и грозили смертельностью крошке (не думаю), то во всяком случае не несчастным пониженным прозябаньем средней руки. А ничего нет хуже этого. Надо сказать прямо – эту зиму рахитом страдала ты – рахитом сердца – да и я конечно. И все это было отвратительно.
Спешу утешить тебя, рахит в форме настоящей английской болезни был у Ирины Николаевны, – правда страшных усилий и нескончаемой возни стоило родителям ее вылечить. В легкой форме был рахит и у Глебушки Столярова[76]. Она вот от чего предостерегает. Ни в коем случае не сажать и не ставить до того, как самостоятельно не сядет в кроватке и не пойдет. Не способствовать пробужденью этих способностей и не ускорять их появленья. Это может повести к кривизне. Все время держать на воздухе (причем открытые окна или даже терраса не годятся, тут нужно движенье воздуха, но не на солнце). Это все говорят. Но ты вот пишешь, что холодно, и, вспоминаю, как с погодой считалась. Вероятно надо быть смелее, и я бы тебе советовал в любую погоду, то есть уверуй в воздух, как в бога, доверь ему ребенка, и если он его убьет, что воздух лучше знает, что надо, лучше смерть, но не рахит. Гулюшка, теперь я не на ветер говорю и глубоко чувствую каждое слово. Ты не пугайся их и не сердись. Потом о питаньи. Да, и значит о воздухе: целый день пусть лежит, пускай это законом для тебя будет, порасспроси насчет нянь, возьми себе, чтобы всегда при нем была; Паня и Феня верно не годятся, потому что они через тебя о нем заботиться будут, а это посредство уже вредное: ты ни о ком заботиться с чутьем неспособна, потому что лишена даже простой здоровой заботы о себе, то есть ты жизнь за кого-нибудь положишь, но без проку для кого бы то ни было, если не в ущерб. Мне приходится это прямо говорить, потому что все-таки мальчик и мой тоже и ведь я люблю его и жалко мне.
Ах Женичка.
Потом о питании. Говорят, овощи надо и бульоны, а зимою рыбий жир с фосфором. Но опять не врачи. Баландера я расспрошу и всего бы лучше, если бы ты написала, что Абрамович посоветовал и предписал, а Баландер бы мне по этому сказал, что это у него, в каком градусе и как ему советы твоего врача нравятся. Однако главное (если в твоих это силах), выдели из советов чрезвычайное, существеннейшее от попутного и бей по первой точке неотступно и беспрестанно. И не бойся, главное, решительности в его судьбе. Правда, ведь это лучше одной только скупой и скудной сохранности.
Оставанье на земле само по себе никакой радости не составляет.
Ах, Гулюшка, пишу тебе и все время думаю: ведь это собственные её слова, столько раз мною слышанные. Как я увлечен теперь тем током в себе и кругом себя, который при проверке оказывается тем ритмом, который не только тебя сложил, но еще и в размолвках нынешней зимы просыпался в тебе и свое достоинство от рахитов отстаивал.
Женичка моя, нежная, нежная девочка, и моя прелесть, как привык я отстранять эти простые приливы умиленного восхищенья тобой, оттого верно, что они к добру не приводили и восставали в твоем лице на весь мой склад души, на образ мыслей моих. И теперь, когда одного представленья живого о тебе достаточно, чтобы я всем существом заволновался, я гоню от себя это волненье, тогда как на нем одном, на подобных-то только состояньях и держались все эти влюбленья мои и теперь, дай я этим постоянным, готовым ежеминутно объявиться налетам, свободу и власть над собой – да мы б роман имели неслыханный, чудная моя, изумительная Изольда! Милая моя прелесть, как я боюсь, что ты уже успела мне ответить на одно из этих ежедневных за последнее время писем, начавшихся после перерыва. Как я боюсь, что ответила уже и что твой ответ меня огорчит. Не огорчай меня, не надо, прошу тебя. Думала ли ты обо мне и помнишь ли ты меня?
Понедельник утро.
Боже мой, я вижу капочку как везли его на вокзал в трамвае, когда он потолок разглядывал! Что за сокровище! Дурацкое чудное мурло! И неужели не будет он здоровым, удачным ребенком! Женичка, напиши мне подробно, что доктор приказал. Я уже говорил тебе, зачем мне это надо. Теперь еще вот что. После этого письма я с неделю тебе писать не буду, то есть ты писем не жди и не удивляйся, если их не будет. А это нужно так. А то пишу все то же и, так как несмотря на всю бедность писем содержанием, я все-таки немного волнуюсь за ними, то это отражается на всем дне, и иногда я опять становлюсь мнительным и опасливым под влияньем написанного письма.
Скажи мне слово ласковое, милая моя Женюра.
Твой Боря.
Это продолжение разговора о рахите – ответ на несохранившееся мамино письмо, где она писала о посещении врача. Несмотря на то, что рахитом болело большинство детей, мама со свойственным ей нетерпением желала скорейших результатов преодоления недуга и с первых же писем заражала своим беспокойством отца. Его воображение со своей стороны рисовало катастрофические картины моей будущей неполноценности. Вообще надо сказать, что обостренная впечатлительность была равно свойственна им обоим, что, конечно, роднило и сближало их, но и мешало спокойно переносить неизбежные тяготы.
Здесь затрагивается также папино желание дать мне такой же режим закаливания, какой он получил сам, с детства приученный к обливанию холодной водой. Позднее он писал в письмах родителям, как ссорился с Женей по поводу того изнеженного воспитания, которое она мне давала, и как жестоко обрывал подобные поползновения у своей второй жены по отношению к младшему сыну Лёнечке.
<26 мая 1924. Лениград>
Получила твои три письма сразу. Женя – вот моя реальность. Дорогое, любимое, тепленькое существо. Теперь все еще больное (животик и хрипит). И не по душе пришлась мне твоя шутка о подкидывании. Не радость принесли мне твои письма, целый день навертывались слезы, а ночь не спала, но разбирать – почему да как – не выйдет. Верить тебе не могу, ты два года периодами говоришь обещающие хорошие слова, но никогда мне не было так трудно, безотрадно и мучительно жить, как с тобой, я не говорю, что ты в том виноват, может – разность темперамента и (для меня, увы, бывшей) работы. О необходимости работы знаю хорошо. Папу твоего, которого я уважаю больше всех, с кем приходилось мне встречаться, создала работа. Ты на папу не похож, он сдержанный и собранный и весь построен на заглушенных тонах – у тебя напротив все тотчас же извергается и выбрасывается то, что подвернулось и захвачено порывом, у тебя постоянно звучат высокие ноты.
Женя не дает писать, требует, чтоб его занимали, и когда я губами щекочу его ручку, благодарно хохочет. Авось сам представишь, что могла бы я сказать, и с чем тебе не захочется соглашаться. В твое счастливое время я тебя не знала и не могу тебя представить иным. Что касается веры в тебя – то есть в твою работу – то неужели ты не понял то, что каждый кроме тебя, например, Дмитрий, понял, почему я не советовала тебе поступать на службу и почему иногда (как после стихов Катаева[77]) горячилась. Но и тут, как и во многом, ты оттолкнул меня. Это касается того, что я не читала и не знаю, буду ли читать твои вещи.
О своей работе не думаю, стараюсь не мечтать. Пока я только с завистью думаю о тех людях, которые приезжая в Петроград, ходят по Невскому, по набережным, засматривают в витрины книжных лавок – таким я представила себе Маяка, видела афишу о его вечере.
– Я живу в отвратительном районе вроде Сретенки, окружена измученными больными людьми, а у самой кружится голова, как только выйду на улицу, тошнит и нет сил. В будущем, если не придется работать – буду завистлива, несчастна и зла – в лучшем случае не буду жить, это выйдет как-нибудь само собой. Не могу писать, слезы застилают глаза. О твоем отце часто думаю, о том счастье, какое было у вас, которое вы не полностью оценили и использовали, потому что не знали другого, не боялись гибельной наследственности и влияния среды. Папа все это пережил и всех вас заслонил собою.
Подоплека маминого письма – ее истощение и усталость, о которых она пишет далее в наброске своего письма к бабушке Розалии Исидоровне. Но в нем сказалась и реакция на вечное отцово недовольство собой и самомучительство, на его жалобы, что он тратит время зря, и то, что он пишет, никуда не годится. Мама припоминает, как с верой в его успех с горячностью сопротивлялась его желанию поступить на службу, а он спорил с нею. Вероятно, в одном из таких разговоров он обидел ее, сказав, что ей самой не нравятся вещи, которые он пишет и может написать в будущем, что она сама их не читала и читать не собирается. Неосновательный упрек больно задел маму.
Противопоставляя импульсивность папиного характера и подверженность минутным настроениям – твердой выдержке его отца-художника, мама глубоко угадывала роль дедушки Леонида Осиповича, который каторжным трудом вывел свою семью из узости мещанской среды в артистический круг образованного общества.
Маму обижали папины “обещающие слова”, которыми он пытался убедить ее и себя в том, что завтра все изменится к лучшему. Она больше не хотела слышать об этом, считая, что он не выполняет обещанного. В действительности здесь затрагивались самые основы мироощущения отца и его глубокая вера во всемогущество жизни, не позволявшая ему долго замыкаться в мучительных и тяжелых переживаниях. Эта уверенность воспитывалась им в себе постоянно и спасала в самые страшные времена. Я часто в поздние годы сталкивался с этим, когда приходил к нему с жалобами на свои неудачи, казавшиеся мне безысходными, а он всегда находил слова убеждения и утешения, которым горячо верил сам и умел заразить меня. Это происходило не сразу во время разговора с ним, но его вера в целительную силу времени всегда получала подтверждение.
<27–28 мая 1924. Москва>
Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов, – я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной, и страшно, страшно люблю тебя, до побледненья порывисто. Ах какое счастье, что это ты у меня есть! Какой был бы ужас, если бы это было у другого, я бы в муках изошел и кончился.
Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой, милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, – у тебя чудно щурятся глаза и непередаваемо как-то округляется подбородок, ты знаешь про что я говорю, нет? – Ну как тебе это сказать. У тебя среди документов такая есть карточка.
Женя, Женичка, Женичка!
Ты слышишь? Женичка!
Но, рыбка моя, золотая моя любушка, сейчас эти трамваи пройдут и пароходы отвоют, улучи миг затишья, вслушайся, Женичка, слышишь как я с тобой шепчусь. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетай сквозь него, как наездница сквозь обруч, о сожмись, сожмись, мучительница, ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру?!
Ненаглядная моя голубушка, у меня пересыхают губы от ласкательных слов, скользящих и свищущих по ним. Я беззвучно смеюсь и грущу, и пирую, и нравлюсь дождю, лепеча тебе весь этот вздор, и широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую большую реку держу тебя в руках и дышу тобою. Красавица моя, что же ты все худенькая еще такая! Милое аттическое бесподобие мое, не увечь моей ширящейся, как туман, особенной, высокой, боготворящей тебя, возвеличивающей тебя страсти. Здоровей и поправляйся, толстей, толстей, радость моя! Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде.
За волною этой нежности к тебе был возвращен на землю стуком в дверь. Подали твое письмо. (Это то, где о моем отце и заглушенных и высоких нотах.) Как ты права во всем, моя умница, да разве сам я всего этого не знаю! Но вперед вот о чем. У тебя голова кружится при выходе на улицу и тошнит?!! Как это понять, кровно родная моя прелесть, прелесть, прелесть! Напиши мне толком, что в Петербурге, для чего ты там и как понимаешь смысл и пользу твоего тут пребывания? Не решай опрометчиво, но, если ясно тебе, что для тебя там резкой и полной поправки не будет, то золото мое, какого черта ты там будешь маяться. Или что Сретенку собою красить? Но не стоит она того. Я и не знаю ее, да знаю. Тогда мигом собирайся назад, да дай только заблаговременно знать, надо будет няню сплавить (представь, этот мост вздохов все еще в Венеции[78]). А я тогда выясню насчет санатория хорошего с ребенком, это лучше всего будет, да иначе и нельзя.
Богом заклинаю тебя, друг мой, толком мне об этом напиши, как на то у тебя все данные имеются: глубина и здравость взгляда, сужденья и соображенья. Напишешь? И о работе. Обязательно надо тебе работать. Но вот как с няней быть? Не с этой, разумеется, с Евдокимовной, чтоб ей ни дна ни покрышки, а вообще: как и кого к ребенку искать? разумеется только няню. Никаких этих “одних” прислуг. Приспособлена ли Феня? Если, по зрелом обсуждении, тебе она представляется в качестве няни подходящей, мы экспроприируем ее, и от всех своих страхов я отказываюсь, мы ее просто в плен возьмем, и передачи ей будем допускать только заочные, через сновиденья или же через нас самих. Гулюшка, это письмо твое меня страшно опечалило. Радость моя, неужели ты меня не любишь? Ты так привыкла к словам этим, к мысли самой, что тебе трудно уже отличить действительное от допустимого? Так ли это?
Но как же быть тогда, мой друг? Ты только не грусти и не скучай, лапушка. Ты знай, что я бог знает как способен закапываться в мусор повседневности, жалкий, скудный и бедственный, и тогда я про все забываю, тогда сердце затихает у меня. Ничего я тогда не помню. Я враг тогда себе и всему своему. И говорите вы, милые мои глаза, что я и ей врагом был, душе в вас светящейся, ей, неотторжимо милой моей, моей жене? Грусть моя и прелесть, скорей, скорей хочу сказать тебе, что горячо люблю и всегда любил тебя, и только часто от тебя отступался, и не верю, чтобы вовсе это не нужно было тебе, слишком большое было бы это горе. Я отвезу письмо сейчас на Николаевский вокзал. Теперь уже 7 часов, ускоренный отошел верно уже, но думаю, что и с 9-ти часовым письма ходят. Это чтобы поскорей попасть к тебе, и обнять тебя, и с тобой поговорить. Прости, сам вижу, – письмо бестолковое.
Твой Боря.
В холода я вынул часть вещей из сундука. Сегодня назад клал. Твоя шубка привела меня в трепет. Я целовал ее.
А как ты чудно о папе пишешь. И как пишешь вообще. Умница моя!
Вчера я к поезду опоздал. Они все теперь на час раньше отходят и курьерский отбыл в 8 ч., а не в девять, как я предполагал. Дорогая моя, а зачем ты о смерти своей говоришь? (Я опять все о том письме, где о глухих и высоких тонах, о папе и о Сретенке.) Впопыхах, задумавши с письмом к курьерскому поспеть, об этом не заикнулся, а теперь эти слова меня преследуют. Белая моя Женюрочка, дочка моя, белоножка, сядь на пол, положи ручки в подол, и взгляни, какая ты маленькая еще, только не вставай, сиди, на ковре ты лучше поймешь.
Господи, как люблю я, когда ты дуешься и не то подбородок у тебя чуть-чуть подбирается, не то это в щеках дело, плотнеют они, горделивеют, хорошеют, и губы чуть-чуть поджаты, и на глазах близкие слезы. Но ты с полу не подымайся. Видишь, ведь ты вылитая козочка Маруся, Братовщинская[79], помнишь ее? Ведь твоя смерть кроме горя и слез и потери всех козочек и тоски была бы таким преступленьем, такой слепой, возмутительной и к небу вопиющей жестокостью судьбы и спутников твоих в жизни, людей и вещей, что после нее, как убийцы, ни я, ни Женичка-мальчик, ни стихи, ни цветы, ни травы места бы себе во всей вселенной не нашли и всегда, вечно, во всех мирах этим бы казнились. Ведь это вот как вышло бы: сидела на полу, вся в белом, вся – жизнь и живость, вся – одаренность и огонь, вся в будущем и в обещаньях, неповторимая, исключительно-особенная, вся – нарядный бессмертник, большой, большой, и сколько души было, и ума, глухого, ваяющего, – и сын был, чуть моложе ее, просто сказать, младший ее братец – и вот, не досмотрели, и кто-то спичкой спалил ее, или булавкой проколол, и не звав на помощь, не пожаловавшись, дала случаю сжечь себя, и никто, никто не знал. Гулюшка, к чему слова тратить. Я никому и ничему тебя не отдам. Не отдам и смерти. Я туда вперед тебя отправлюсь и встречу, ты ведь так несамостоятельна. Да пускай я сейчас это сквозь волнение и ласку говорю, но серьезно скажу тебе и в другом роде. Но потом как-нибудь, в другой раз. Эта мысль не уйдет. Я тянусь к жизни с тобой, беспечной, верующей, без теплой воды в душе, без пыли в груди и в мысли. Ты увидишь, Женичка. А сейчас прощай, я боюсь говорить о планах и намереньях.
За письмом незаметно вошел в полосу размышлений, которые пусть лучше пока моим секретом будут. На днях пошлю тебе денег немножко, ты наверное в них нуждаешься, и страшно боюсь, что успеешь в ближайшем письме об этом сказать, мне бы так хотелось предупредить твою просьбу. Получила ли ты мою весточку из Японии и как ее находишь? Как возмутят тебя верно все эти слова (в предыдущих письмах) о мальчике! Золотая подруга моя, разберись в них, они так же искренни, как то, что я тебе о тебе самой говорю.
Ведь я тем и плох, что часто все дела сдаю чувствительности, ведь именно доброта делает бездельником меня. Ведь ты это знаешь. Прикинь и сравни с этими жесточайшими моими словами то, что иногда рассказывала ты мне о своем отце и его капризах, и ты поймешь как все это далеко от эгоизма. Суровые вещи, которые иногда прорываются у меня, не от меня они идут, а через меня.
Я люблю эти проскоки высочайшего чутья сквозь свои склонности, они идут от того, что за мной и надо мною, и им поклоняюсь. Это веянье больших крыльев природы, которую на целые годы забываю я, и которая врывается, красуясь и требуя веры в себя и восхищенья. Одна и та же сила внушает мне, что ребенка надо доверить ей, что она, некомнатная, в ветрах, дождях и солнце, должна стать между нами и капочкой, а про тебя, что я в ветрах дождях и солнце должен стать между тобою и смертью. У ней голос один, а внушенье о яблоновой гусеничке и о тебе – разные.
Гулюшка, отчего я и теперь, в самой полноте и силе чувства к тебе не чувствую в тебе союзника? Детка, прояви и ты хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, что некоторые из слов до тебя дошли. – Что ты намерена Жоне написать, получила ли ты мою копию с ее письма? Напиши папе, отцу моему, хоть половину тех чудесных мыслей о нем и нас, которые у тебя в письме ко мне.
Да кстати, деньги, что я тебе слать собираюсь, часть их подарка: я 50 долл. получил, Шура их у Елиной[80] взял. Ответь на существеннейшие вопросы из вчерашнего письма. Остаточности твоей поправки и пр. В три кольца обвиваюсь вокруг твоей груди и шеи.
Твой удав.
<30–31 мая 1924. Ленинград>
Пятница
Боричка, как я рада, был у Жени профессор Абельман, сказал, что чудный ребенок, никаких признаков (как он говорит) английской болезни нет, что в шутку или насмешку можно было сказать, что у него рахит.
Суббота
Прелестный здоровый ребенок, прелестная головка, дырочка нормальная, зубы – это ничего не доказывает, у кого раньше, у кого позже, сидеть и стоять чем будет позже, тем обеспеченней ровные ножки и спина; пока все прямое и хорошее, а гоняться за ранним вставаньем, говорит, не следует, не на приз же ему. Желудок еще не в порядке, но все-таки велел кормить бульоном (это меня беспокоит, сегодня его еще несет здорово, позвоню по телефону, посоветуюсь еще раз).
Начала писать вчера. Боричка, спасибо тебе за письмо, где ты пишешь о капочке, оно сполна дошло до меня и заботой, и сердечностью, и желанием серьезного и ласки – оно единственное настоящее по тону из твоих писем.
Странно, насколько Жонины слова для меня существуют как вещь, настолько твои только настроение. Жонино, помимо всего там написанного, поразило меня необыкновенной выразительностью, как будто у нее мысль уже рождена в платье (в слове). Я думаю, что это результат большого внутреннего напряжения и правды пережитого и переживаемого (это-то и огорчает больше всего, если б это было твое письмо, оно бы меня не огорчило). Боря, я не утверждаю, но, может, так бывает: – Жоня только смотрит на жизнь и оттого у неё выражение сильнее действует, как будто для того, чтоб дать верный цвет, нужно забыть, что есть воображение и не нужно смотреть на палитру, а до боли перейти в цвет натуры.
Я пишу это, Боричка, только про письма, не говоря о твоей работе, но там-то ты вглядываешься в возможность, в реальность фантазии, может, там настроение сперва создает эту реальность и потом, когда эта реальность перед тобой на бумаге, с ним без последствий и обязательств можно расстаться. Ну расписалась.
Вчера мама сняла дачу, станция Тайцы по Балтийской дороге, точный адрес пришлю, когда перееду. Переехать думаю в четверг, вряд ли удастся во вторник. Я дачи не видала, потому что Женя теперь только меня ест, а за 4 часа туда съездить нельзя. Мама рассказывает, верх – мезонин, две комнаты, маленький балкон, кухня. Дача стоит в поле, около дома садик с терраски видна река, соседнее место Додерхоф, расположенный на горе и т. д., опишу, когда перееду. Стоит 4½ червонца за лето да дрова рублей 5. Боря, нужно мне деньги прислать. 4 червонца стоила коляска, 2 врачи, 1 ушел на носильщиков, извозчиков и чаевые в Москве, три дала маме на расходы, я здесь уже 3 недели, она хочет мне вернуть, но мне это неприятно, да у нее и денег нет, вот и все, было 10. Если сейчас тебе негде достать, напиши, я здесь, может, займу, но тогда придется просить у Хили или его знакомых. За медаль[81] дают только 6, потому что золото не в цене, жаль мало, но если нужно, продам.
Няню непременно выставь, уже 2 или полтора месяца, как мы ей отказали, прибегни к какой-нибудь хитрости, скажи, что тебе нужно уехать на время, и ты должен запереть квартиру. Я с ужасом о ней вспоминаю, она хитра, ехидна и, погляди, как настаивает на своем, прошу тебя очень, избавься от нее, очисти воздух. Потом на нее тебе тоже приходится тратиться, а я с трудом решила дать перед отъездом на дачу Пане 5 рублей. Она чудная девочка, все перешивает и штопает свою единственную юбочку и на все лады завязывает бантик в волосах, чтоб выглядеть наряднее. Получает она 5 рублей и целиком отправляет их своей матери. Она грамотная, училась в школе, знает много песенок, играет, возится и баюкает Женю, и умело и хорошо с ним обращается, вообще смышленая и интеллигентная девочка, которая понимает все с первого слова. Но взять я ее с собой на дачу не могу, я ее там замучаю, ведь там придется варить нам и Жене, стирать, приносить воду. Поеду с Феней, она толстая и здоровая, себя в обиду не даст, попробую ее к Жене приучить, а осенью видно будет. Спасибо за карточку, всего хорошего.
Женя.
Я и не думала, что здесь еще чистая страничка. Получила твое последнее письмо сегодня в 2 часа ночи, когда встала кормить. Паня мне его подала, получилось оно в 7 часов вечера, но мама уходила до 12. Взрывы любви пробегала быстро и недоверчиво, чуть ли не как шутку. Ведь за два года, кроме самого первого, я не видала с твоей стороны активной (не то слово и не могу его найти) может, радости и нужды в моем очаровании, все всегда было затуманено и покрыто грустью, а только удовлетворенность, радость и свет – утверждают.
Пришли Современник (стоит 3 р.) и Идитол.
Научно-фантастический роман Сергея Боброва “Изобретатели идитола”, который мама просит прислать ей, был издан в 1923 году в Берлине при прямом участии отца.
Талон от почтового перевода на 50 рублей:
30. V.24. <Москва>
Дорогая Женичка, сообщи, когда получишь. Прости, что так мало, как только смогу, пришлю больше.
Жалко, что переводом нельзя послать тебе чудесной сирени и кучи других цветов, цветущих и благоухающих на театральном сквере, который вижу в окно (почтовое отделение в Метрополе). Жаркий солнечный день, центр сияет, тени фиолетовые, зелень черно-зеленая, дорожки оранжевые, разносчики в белых передниках продают желтые лимоны.
Боже, какой глупый тон! Так в 16 лет пишут. Обнимаю.
3 <июня 1924> вторник <Ленинград>
Боричка, спасибо, 50 рублей вчера получила. Получила накануне и письмо, где пишешь, что хочется тебе предупредить мою просьбу денег, так это почти и вышло, мое письмо и деньги отправились в путь одновременно, а может, письмо и позже.
Завтра мама и Феня должны поехать на дачу перевезти вещи, а я надеюсь в четверг. Только что складывала чемодан. Женичка еще болен, то есть у него все еще не прекращается расстройство, я ездила опять, то есть это всего второй раз к профессору Абельману и в результате решила сама по-своему лечить. Я напишу тебе весь ход болезни (вообще Женичка весел и по виду здоров) и советы врачей, и буду тебе благодарна, если ты зайдешь или обстоятельно поговоришь с Абрам Осиповичем по телефону и напишешь мне, потому что если пройдет еще неделя, меня это будет сильно беспокоить, во-первых, потому что уж больно долго это продолжается, и во-вторых, потому что Жене уже 8 месяцев и 10 дней, а он кормится только грудью.
Итак, числа 15 мая я начала Женю прикармливать бульоном, причем не приняла во внимание, что, может, надо прикармливание начать постепенно и боясь мешать обед с грудным молоком, я в первый день дала ему немного меньше, чем ½ стакана бульона, во второй ½ стакана бульона и 1 столовую ложку протертых овощей (морковь и брюква) и в третий день ½ стакана бульона и без мерки, думаю ложки 3 полных столовых протертых овощей (мама протирала и поднесла их мне уже в стакане, а Женя ел и я радовалась и кормила). На следующий день испортился желудок, сперва несло овощами, а потом несло просто, на второй день 8 или 9 раз. На третий день заболевания был у меня Абрамович, велел дать касторку чайную ложку, после касторки велел давать перед каждым кормлением микстуру, туда входил бисмут, салол и все это в миндальном молоке (Абрам Осипович, вероятно, знает) и 6 столовых ложек рисового отвара тоже перед каждым кормлением <…> Через три дня, то есть на 12 день заболевания Абрамович был опять и установил прикармливание (очень странное на мой взгляд). <…> больше всего меня смутило постоянное прикармливание перед каждым кормлением коровьим молоком и долгий затяжной подход к прикармливанию. Я на следующий день позвала профессора Абельмана. Про желудок сказал, что зеленый цвет – не важно, что слизи – не много, велел прикармливать: коровье молоко не давать до августа месяца, начать с бульона плюс 1 столовая ложка протертых овощей плюс 1 чайная ложка подогретого масла, все вскипятить и начать давать всю порцию сразу, чтобы не смешивать прикорм с грудным молоком. Когда привыкнет к бульону, приблизительно через неделю, начать давать 10 ложек каши манной, рисовой или геркулес на молоке и тоже всю порцию сразу опять-таки, потому что он против смешения коровьего молока с грудным.
Профессор ушел, а Женю опять (дня три он имел желудок по 2 или по 1 разу в день) пронесло тут же три раза, а на завтра 4, и на следующий день опять 4 или 5. Я, конечно, бульона ему и не начинала давать и опять поехала к нему с пеленками. Это было в понедельник 2 июня. Посоветовал давать один раз в день кашу на воде рисовую с прожаренным маслом, 10 ложек сразу и один раз в день 10 ложек говяжьего бульона с протертой перловой крупой, тоже 10 ложек сразу. Если желудок не успокоится, позвонить ему, а если хочу ехать в деревню, взять с собой касторку. Я решила и сегодня так и делала. <…> Если желудок укрепится, начну опять давать постепенно кашу по рецепту Абрама Осиповича.
Прошу тебя очень все тотчас же передать Баландеру и мне ответить. Все это время с начала болезни Женя получает только грудь. Я надеюсь, что дней через 6 у меня будет ответ, я продержу его на грудном молоке. Вообще же начать прикармливать еще нужно и потому, что меня очень истощает кормление, я, кажется еще похудела в Питере, вообще выгляжу очень скверно. Но вчера мама позвала ко мне врача. Легкие и сердце слава Богу здоровы, истощение, но это, даст Бог, наладится.
Всего тебе хорошего.
Женя. <…>
<7 июня 1924. Москва>
Дорогая Женичка! Сегодня суббота, сейчас 2-й час дня, я только что получил и прочел твое письмо от вторника, с росписью Женичкиных страданий и с просьбой поговорить с Абрамом Осиповичем. Я звонил ему, его дома нет, он только поздно вечером будет дома, вероятно я сговорюсь с ним на завтра утром (воскресенье). Тогда допишу деловую, то есть медицинскую часть письма, а пока набросаю часть здоровую.
Как медленно идут от тебя письма. Правда, вина наполовину лежит на государственной почте, но и ты очевидно не умеешь их отправлять. Имей в виду, что если ты опускаешь письмо в ящик где-нибудь в городе даже среди дня, а не ранним утром, то оно лишь на следующий день отправляется на Центральный Петроградский почтамт, потом в особо благоприятных случаях в тот же день, а иногда и на другой, если опаздывает к почтовому, идет в Москву, где та же процедура с двумя отделеньями (Мясницкой и Пречистенским) растягивается и у нас на два дня. Твое письмо получено 20 минут назад. Сегодня суббота, время – половина второго дня. Написано оно во вторник. Я этого не сочинил. Это факт.
Ну так вот. Когда срок нас не интересует, можно письма опускать, не заботясь куда и когда их опускаешь. В таком случае, как настоящий, когда ты на оба конца (с ответом) кладешь 6 дней, надо было об этом подумать. Что можно в этом смысле сделать. Не говоря уже о “спешной почте”, можно самому сделать именно то, что делает спешная почта. Надо письмо написать среди дня и снести его на Николаевский вокзал к почтовому или даже к скорому и опустить письмо в поезд. Надо тебе знать, что даже из ящика, висящего на вокзальной стене за его дверями, на площади, почта вынимается и увозится в город, на главный почтамт. Остроумно устроено, неправда ли? Задержку на полдня с Баландером я допускаю не только оттого, что это неизбежно (его дома не будет), но еще и оттого, что завтра воскресенье и даже если бы мое письмо пошло сегодня (с вокзала) и завтра было бы в Петербурге, этот воскресный день оно пролежало бы без дальнейшего движения к тебе. Надо надеяться, что таких исключительных случаев больше не будет. Вообще же не мешает это принять к сведению.
Когда ты будешь в Тайцах, письма будут верно идти недели по две в конец. В этом ничего страшного нет, труден только этот первый перерыв, а потом промежутки между письмами будут соответствовать промежуткам между их написаньем и отправкой. Если бы я уже знал твой точный адрес, я заранее бы пустил туда первое письмо, пока ты еще в Петербурге. Вероятно, ты их будешь получать на станции, то есть ходить и посылать за ними? Делай это не чаще двух раз в неделю. Бывает очень больно и грустно среди природы (совсем иначе нежели в городе) и независимо от того дороги или нет письмо и человек, который их пишет, и насколько дороги, – бывает страшно грустно, говорю я, придти под вечер на станцию, пропустить поезд, справиться в сторожке и пойти ни с чем домой, в косом свете садящегося солнца, которое так было похоже на получку письма и так его обещало, пока шла ты на станцию.
Вот ты писала, что я человек настроенья, золотая девочка, в том чудесном своем письме, где столько радостного о мальчике и из которого я впервые об Абельмане услыхал. Если тебе это не близко и ты этого не любишь, что делать мне тогда? Ведь это не то, что я сам, – это больше: это лучшее во мне; то есть это то, что очищает слух и чутье, и делает их отзывчивыми на все подлинное кругом, на все, кроме условности и претензии. Кому и может быть это близко, как не тебе?
Вот я думаю о тебе, не как о той, к которой я тянусь и которую люблю, не как о жене, а просто без зависимости от тебя. Что в тебе главного? То что ты сильно и бесподобно (это источник твоего очарованья) отчеркнута от условности и бесцельного притязанья. Ты отталкиваешься от бережливости и попрошайничанья всех видов всеми неуловимостями своего существа, – кончиком ноги, подбородком, округло угловатой порывистостью своего кокетства (знаешь, когда ты входишь, задорно наклоняясь вбок и смеясь, и вдруг выпрямляясь). Так вот, оставь мне мои настроенья, мои глаза, которыми я вижу тебя и гляжу, и полюби их, они преданные тебе силы, они не ниже той радости, которую ты доставляешь им, гордясь и любуясь тобою, я радуюсь, что оживаешь ты для меня не так, как живут жены для мужей, – да, да, наконец позвольте мне кое-что знать, – нет, но как последовательно, с детства, круг за кругом оживала и открывалась слуху природа и Бог, и таинственно секретничающая тишина поэзии, то есть та неописуемая тонкость, которая трепещет и в самые безветренные ночи, когда не шелохнется и листок.
Но в первый раз ступай на станцию спустя не менее, чем две недели по своем переезде.
Посылай мне письма как угодно, но только часто. В тех же случаях, когда потребуется скорость ответа, опускай не на станции Тайцы, а поручай надежным людям, едущим в Петроград, опустить лучше всего близ Исакия, поближе к главному почтамту, если не в нем самом. И затем сообщи мне не только тот адрес дачи, что на конверте писать (верно до востребованья?), а и точное наименованье дома и места, где будешь жить, люблю в таких случаях услышать имя хозяина, названье места, характер соседства – во всем этом столько неожиданно значительного подчас. Думается, что это письмо тебя уже на Ямской не застанет. Если это так, то наверное дача тебя встретила сразу же холодами, и ты приуныла верно, а теперь дело обернулось опять к теплу, и ты тонешь в грустном богатстве одиночества в природе.
Сообщу тебе вот что. Стелла бедная опасно больна и страшно мучится. У нее – что-то серьезное с почками (камни), и когда бывают припадки, она впадает в беспамятство. Сегодня в четвертом часу ночи бегал в аптеку за морфием, старики и Юлия Бенционовна голову потеряли и ходят как помешанные. – Папа уехал в путешествие свое. Теперь он кажется в Александрии. В Берлине на квартире осталась одна Лида, Жоня с Федей увезли маму в Мюнхен. Папа вместе с ними выехал, но с тем, чтобы ехать дальше на Триест (Италия), где он должен был сесть на Александрийский пароход.
Шура еще в Москве. Он получил спешную сдельную работу какую-то (составление сметы) у Збарского[82].
С деньгами у меня совсем худо, как впрочем и у всех тут, но ты не беспокойся, чувствовать тебе этого не придется. Не беспокоюсь и я, потому что эта моя серьезность с тобой идет рука об руку с какой-то глубокой и ничуть не смеющейся, почти верующей беспечностью, как ты правильно предрекала. Женя, я горячо люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила. Женя, я хочу, чтобы ты вгляделась в меня и нашла свое во мне, в том, что ты так тихо и так издалека называешь настроеньем. Я не знаю, как это сказать тебе, и нужно ли это, но если бы ты изредка перелистывала под деревьями “Сестру ” или “Темы”, то знай, что если книжки эти колеблются между Лермонтовскими и женскими руками и часто надолго попадают во вторые, то единственная в мире женщина, с которой рядом лежит этот поэт и его мир, и к ней льнет и его мучитель, то это ты, Женя, моя, моя Женя, моя Женя. Это и на пригорке, где ты сидишь, и на горизонте, который за тобою, и на том, что перед тобой, но к чему говорить это. Содрогаться правдой этого надо мне. Тебе подлинной этого даже и знать не надо.
<Далее на двух листах приведена моя история болезни>
Гулюшка, ты видишь, я переписал твое письмо, тщательно его расчертив, чтобы ему легче его читать и делать на полях соответствующие заметки. Однако Абрам Осипович просил прочесть его вслух, постатейных замечаний не делал и только в конце сказал очень немного, часть которого я за ним набросал, что успел (лиловыми чернилами). К тому, что там написано, надо прибавить вот что. Мальчик и теперь должен в весе прибавляться, не менее чем по четверть фунта в неделю. Если и при поносе он прибавляется, то это почти лишает понос, как явление, всякой огорчительности или серьезности. Однако если желудок не установится, поезжай с ним в Петербург и пригласи тогда (какой ближе) кого-нибудь из трех указываемых им специалистов по грудному возрасту и живи в Петербурге под их наблюдением, то есть с возможностью всегда их спросить, все время пока не выздоровеет.
Не менять врачей, а то у каждого свой план, и чтобы врач приспособился к данному ребенку. В деревне при отсутствии врача самое лучшее то, что ты решила (то есть грудь и рисовый отвар). Держать на воздухе, но не на солнце, лежанье на солнцепеке вызывает поносы. Хорошо класть согревающий компресс на живот на ночь. В порошки Абрам Осипович и сам не верит.
Советы давать трудно заочно. Прежде всего обратиться к одному из указанных Абрамом Осиповичем специалистов по грудному возрасту.
Это: доктора А. Н. Антонов, женщина-врач Зинаида Осиповна Мечник или Леонид Эдуардович Валицкий (узнай в справочнике каком-нибудь адреса). Тому именно, к кому обратишься, скажи, что к нему (одному) советовал обратиться Баландер. Это располагает и обязывает к сугубой внимательности. Тогда он и приведет мальчика в порядок, причем пока сам не предложит кого-нибудь позвать, не перебивай его леченья приглашеньем другого врача. Если у мальчика желудок установился, он говорит, процедуру прикармливанья ты знаешь сама. Если он весел и с виду здоров (а также и в весе прибавка), все это не так страшно.
Очень тороплюсь, хочу, чтобы письмо сегодня отошло, повезу на вокзал.
Эпистолярная лирика чередовалась с практическими советами по уходу за ребенком. Мы опустили в своей публикации вложенную в папино письмо подробно переписанную им с маминого историю моей болезни, которую он обсуждал с доктором. Она выписана на левой половине листов, справа лиловыми чернилами он набросал ответы доктора и его рекомендации.
Одновременно папа передавал известия, полученные от бабушки и дедушки из Берлина. Дело в том, что в то лето Леонид Осипович был в качестве художника приглашен участвовать в экспедиции в Палестину. Оттуда он привез замечательную серию зарисовок пейзажей и уличных сцен и ярко описал эту поездку в своих записках.
Тайцы. Пятница, 6. VI. <1924>
Вчера переехала. Предварительно куча неприятностей, которые главным образом пришлись на долю мамы. Она в среду поехала с Феней и вещами и опоздала на поезд, Феня уехала без багажа, мама догоняла ее на поезде дальнего следования, в багаже сломали коляску Жени (ручку и боковые палочки) etc. Вчера Женя кричал всю дорогу больше часа, удивляя меня и всех бывших в вагоне (кажется хотел спать и не знал, как уснуть). – В прошлом.
Теперь слушай. Дача вполне твоя до странности. Она вся на поле, вроде того, как твоя комната в Марбурге, видна насыпь, железнодорожные линии, с раннего утра до поздней ночи мимо пролетает поезд и купается в двух озерах, которые тоже видны тут близко, разделенные шоссе. Дальше лес и горы. Верно, не вру, одна гора, покрытая лесом Дудерхоф, может, вру, так мне сказали, другая, кажется, Пулковская обсерватория, покатые невысокие хребты, по которым с совершенно той же скоростью мог бы вползать тот игрушечный Harz’овский поезд. Перед дачей пока Женин (во вторник переезжает вниз пятеро детей разного возраста) садик, сирень, жасмин, розы, яблони, – пока еще не цветут, – где Женя спал сегодня целый день и несмотря на то, что было не жарко, у него немного обожженное личико. Он вырос и стал многое понимать, издали узнает, машет ручонками и кричит у…у, наставляя губки так же, как когда собирался свистеть и так же отбрасывая от себя ноги и глаза.
Только что спросила адрес – улица называется Евгеньевская. Пойду завтра в здешнее почтовое отделение и спрошу, можно ли тебе писать непосредственно сюда. На станции сегодня видела объявление – плакат – подписка на журнал “Леф”, в редакции Асеев и т. д., тебя нет, но все-таки чудно – в Тайцах – Леф. Трудно представить себе все так, как оно есть, потому что несмотря на то, что где-то около станции есть почтовое отделение и магазин, где можно все достать, все пустынно, игрушечно и на курьих ножках, у нас, хотя расстояние от станции только 10 минут, но даже дороги и даже ворот, куда можно въехать, нет, около нашей дачи забор готов обвалиться, и входят через дыру, заставленную доской, пройдя по неровному полю, где пасутся под присмотром двух девочек, читающих книжку, три коровы.
Пора спать, но я почти не сплю, ночи белые, а комнаты (спальня моя и Женина и столовая, крохотные коробочки с низкими потолками) во всю стену стеклянные, в спальне балкон, а столовая – это терраска с стеклянной стенкой.
Всего хорошего. Женя.
Спокойной ночи.
Пошел частый мелкий дождик.
Может, я тебе и местность не так описала, это не горы, нет, две горы, вернее, два длинных холма издали, а здесь равнина и видно у нас сверху все небо.
Понедельник.
Я в отчаянии от своей неопытности и несообразительности. Вчера с 8 часов утра до 11 был ветерок и прохладно, я не закрыла Жене лица, потому что мне казалось, что холодно, а сегодня у него темно-красная маска от солнца по линии чепчика с распухшими глазами, страшно и больно на него глядеть. Не знаю, решусь ли я его оставить на часок, чтобы пойти на почту узнать, можно ли присылать тебе письма на дачный адрес. Солнечный хороший день, но мы сидим дома.
<10 июня 1924.> Тайцы, вторник.
Ленинград. ст. Тайцы (Балтийская ж.д.)
Евгеньевский пер. д. № 3 (бывш. дача Карновского)
Евгении Владимировне Пастернак
Вот где мы живем.
Жене сегодня лучше, щечка бледнее, и спала немного опухоль с глаза.
Нижние жильцы разговаривают между собой по-немецки. Крестьянка приходила предлагать дров и заговорила со мной об Евангельи. Здесь много евангелистов, которые славятся своей опрятностью и честностью, большинство из них финны (чухна, как их здесь называют), раньше были протестантами. Рассказывала, что с тех пор, как ее вновь окрестили и стали они жить по Евангелию, вполне она счастлива. Братья их, довольно многочисленны, друг другу помогают в нужде, есть у них свой молельный дом, где они часто собираются, читают Евангелие, молятся. Икон не вешают, театр и всякие развлечения запрещены, ибо нигде не сказано, что Христос развлекался. Верят они действительно крепко, за год у нее умерло двое детей, она говорит, что сильно тосковала, но что значит так Господу Богу было угодно. Бранные слова, вино, карты, табак строго запрещены.
Снилось мне вчера, что к папе пришли врачи делать исследование (у него опухоль в области мочевого пузыря), я знала, что исследование должны на днях делать, мне стало сперва дурно, но потом, слыша, что папа кричит, я зашла в ту комнату и пристыдила его. Вчера звонила мама по телефону, действительно, исследование было очень мучительно, ввели маленькую электрическую лампочку в область мочевого пузыря и осветили, оказалось расширение какой-то железы и скопление…
Я пишу тебе глупо и больше не буду, потому что хотела только отправить тебе адрес. Три дня хорошая погода, несмотря на волнение и заботу о Жене, мне хорошо, потому что одиноко и приятно скучно, так скучно мне было в Крыму и, когда я часто переезжала еще девочкой заранее одна, в деревне. Даже не хочется прогонять безделья, а только дышать и смотреть. Так бывало, вероятно, с тобой в овраге Бибиков.
Что слышно у Шуры. Кланяйся ему и Ирине Николаевне очень. Пришли книги, если не трудно.
Четверг, 12 <июня 1924. Тайцы>
Жаль, что ты так понял “настроение”. Нет, я говорила совсем о другом, о фейерверке, о безвольной отдаче себя вошедшему человеку, случаю, о частых сменах, опять-таки о темпераменте, о всяких пере, – но не подумай, что я за умеренность, нет, конечно, я за максимум, но не в разговоре с Татидой (нарочно вспоминаю самый смехотворный случай), да ты сам знаешь, когда просыпалась во мне враждебность и когда не доходили до меня твои настроения. Не буду утверждать и защищать себя, но я никогда не признаю, что была неправа. В некоторых случаях, как например, с Гавронским[83], с Богуславской и т. д. мы договаривались, и ты понимал, что и как подступало у меня к сердцу, к горлу, в других труднее было мне даже самой дойти до самого источника враждебности, тем более дать почувствовать другому, что он есть и что иначе я не могу.
Боже тебя сохрани, уступать мне просто потому, что у меня бледное, подавленное лицо, – это потом вновь еще сильнее набрасывается на меня в словах “зачем и что ты со мною сделала”. Умоляю никогда мне не говори: прости, не увидев до конца, что в этом правда, ведь даже твои слезы и рыданье (как в ночь на Новый год в Берлине) приходится считать настроением (я не знаю, поймешь ли ты опять, что я хочу сказать этим словом – это случайно, то есть ты вышел, поговорил с Зайцевым, и оттого такое было настроение, а не прямо от причины). Вот почему до меня не доходят все ласковые твои слова, мне кажется, что не я их вызвала, что случайно в это мое отсутствие у тебя такое настроение. Разве не больно тебе, когда те, кто сами тебя нашли, кто тебе рассказал про тебя, потом говорят, что ты плох. Кто просил их, кто заставлял.
Я боюсь возвращения к московской жизни и не раз воз вращаюсь к мысли о жизни одной. Ты зимой мне несколько раз говорил, что мое желание жить отдельно были только слова. Нет, не слова, ты сбивал меня и тогда своими разными настроениями, сбиваешь и сейчас. Получая твои письма, начинаешь их слушать, забываешь зиму, забываешь, откуда вырывались разговоры о разводе. Боря, для меня все это не было словами, и сейчас, от малейшего повода все всплывает, и когда я получила как-то твое письмо с словами “зачем”, я написала тебе только несколько слов, где говорила, что все мое желание направлено на то, чтобы не жить с тобой и просила при случае не упускать для меня комнаты, где-нибудь в Серебряном Бору и т. д. Письма я не отправила.
Зачем я пишу тебе все это. Вовсе не для того, чтобы сказать, что ты плохой, нет, нет, я этого никогда не думаю. Я только думаю, мне ли это по душе. Я пишу для того, чтоб не повторилось прошлое время. Ведь не я одна, ведь и ты часто говорил, что тебе со мной трудно и мучительно. Не забывай же этого, оставить это в стороне нельзя, надо быть уверенным, что оно не вернется, не повторится, надо знать, возможно ли нам жить вместе.
Хватит, больше не буду не только в этом письме, но вообще повторять все одно и то же, но прошу тебя очень после двух, трех месяцев моего отсутствия опять вместе со мной обо всем подумать, потому что в разлуке забывается очень многое, что потом спустя месяц опять болезненно и больно встает. Возвратясь теперь к маме и своим, я была подавлена тем, с какой силой встало то, что когда-то было мне не по душе. О, Боричка, какие наши все измученные и несчастные, и какой жестокой надо быть, чтобы сознавать и проводить свою отчужденность. За письмо о Жене большое спасибо. Пиши на адрес дачи, будут приносить.
В первых письмах из Тайц, отрешившись от семейной суеты и рисуя дачное одиночество, мама удивительно точно передала отцовское восприятие Марбурга, железной дороги, близости к природе. Упоминаемый в этом контексте Бибиков овраг вызывает в памяти сцену в шестой главе первой части “Доктора Живаго”, когда Юра мальчиком, приехав в Дуплянку, плакал и молился в сырой тьме оврага, взволнованный красотой и запахами леса. Вероятно, этот эпизод был пережит самим папой в отрочестве на даче в Оболенском летом 1903 года.
Мама уточняла также свое определение “человека настроения”, которое отец понял как невозможность полюбить в нем то, что составляло самое существо его характера. Ее огорчало его безволие и неумение поставить предел чужой навязчивости, подчас неприятной для него самого. При этом она напоминала эпизод с Богуславской в Берлине и разговор с Александром Осиповичем Гавронским. Борина давняя дружба с ним уже с 1911 года неоднократно оборачивалась враждой и взаимным раздражением. Из различных писем этого времени видно, как отец сам мучился этими помехами и писал, что “сплошное посещение друзей” было “не последнею причиной” того, что ему так плохо работалось.
В мамином письме точно обрисованы психологические трудности семейной жизни и отчетливо сформулировано ее желание жить одной, чтобы не мучить друг друга разницей темпераментов и устремлений. Но папе верилось, что все можно наладить и устроить, если сильно хотеть этого, еще больше любить друг друга и научиться друг другу уступать.
Понедельник <16 июня 1924. Москва>
Чудный полуангелок, долго же ты не видела от своей свиньи писем! Это оттого, дружок мой, что вся Москва сидит без денег, и что тоже немаловажно, – в африканской духоте, под палящим безоблачным небом. Москва же, Гулюшка, это надо уж навсегда признать – Москва это моя касса. Затем еще и возился я с рассказом, который начал хорошо, но едва три дня продержавшись на высоте, две недели ковырялся в ерунде, с уровня сорвавшись. Вчера опять хорошо записал, и если бы ты меня вчера вечером встретила, даже ты бы в меня влюбилась.
Я был чист, свеж, спокойно взволнован, все то что называется выраженьем лица лежало у меня на дне крови и тяжелило сердце, и ни на что не глядя, я, катя к Лундбергу[84] на трамвае, последовательно видел все, то есть был зреньем предгрозового воздуха до самого горизонта. Но я пошутил, говоря о твоей любви. Этой, такой я научен не ждать и от тебя. Красноречивы признаки: ведь я сам в неподвижном волненьи любил, выдыхал и продумывал тебя, с той печальной полнотой, которую знает любовь безответная, – несчастная, как ее назвали.
Но, – мимо и о другом.
Тебе давно наверное нужны деньги, и опять вероятно как уже раз, разминутся и встретятся эти слова, произнесенные двумя голосами. Мне до сих пор ничего не удалось сделать, и я об этом немало убиваюсь. Но в теченьи этой недели добуду во что бы то ни стало, и если еще не снял купольной облицовки с Храма Спасителя и не продал, то только оттого, что еще надеюсь достать их менее утомительным и обращающим на себя вниманье путем. Ты ради Бога не беспокойся и мне не говори про них. Сделаю, непременно сделаю, для того и живу.
Папа уже в Африке, и если мы тут потом обливаемся, пропитав гражданскими запахами брюки до самых ботинок, то мне легко вообразить, что это меня сыновнее сочувствие прожаривает и парит, сочувствие в сорок градусов, как в этом признаются московские термометры. По улицам ходят млеющие полуобмороки, их лица в мелких капельках глицерина.
Но значит жарко и в Тайцах? Вот это хорошо, пора согреться. Загорай, милая моя, милая, милая. Ты пишешь, что дача на удивленье моя. Как я это знал: я ее родил в том чувстве, с которым гадал о почте, о том как будешь ты справляться, нет ли чего для тебя.
А я про Тайцы неожиданно узнаю тут (как тесен мир) от людей живших там, что чудесная местность. Бедные мы, Гулюшка, бедные. Ах, когда б везли до Тайцев, не высаживая зайцев. Но нечего об этом и думать, дал бы то бог для тебя денег достать. А все же я со своей беспечностью и верой в тебя не расстаюсь. Господи, как я мечтаю тебя увидать.
Может быть удастся к осени выправить линию. И тогда мне бы хотелось заехать за тобой. Но неужели и это не будет возможно. Удивительна иногда судьба быстрых, непроизвольно срывающихся слов.
В этом письме, когда я вызываю твой образ, у меня бьется жилка в глазу, слова, которые я хочу тебе сказать трепещут и волнуются, и то идиотское слово, которым письмо открывается, вырвалось так же. Но даже и я уже не могу прочесть в нем той бьющейся неуловимости, которая так сложила мои губы, как полусонные, полузакрытые… полузабытье.
Обнимаю, падаю и не подымаюсь.
Твой Боря
P. S.
Спасибо за письмо от двенадцатого (карандашное). Это то, помнишь ли ты, где об отдельной жизни, о моих настроеньях, о том, что разлука стирает дурные черты и стороны, глубоко идущее, из глубины идущее, как всегда у тебя, письмо. О Боже, Боже. Сколько в нем верного. Сила разлуки? Ну и пусть. Так давай у нее учиться и на будущие времена. Не думаешь ли ты, что мы постоянно меняемся ролями и моя перешла к тебе?
В продолжение разговора о смене настроений, которая вызывала у мамы недоверие к папиным словам о любви как состоянию данной минуты, отец пишет о мучившей его в течение двух предыдуших недель работе над неизвестным нам “рассказом”. Он собирался его доделать и включить в сборник прозы, договор на который подписал в Ленинграде.
Его душевное состояние всегда зависело от успеха работы, которая поглощала его в данный момент, но быстрые переходы от радости к страданию были слишком мучительны стоявшему бок о бок к нему человеку, совместно переживавшему эти смены. И при том у них не было даже другой комнаты, чтобы смягчить мгновенную реакцию и не наталкиваться друг на друга на каждом шагу.
16 <июня 1924. Тайцы>
Боричка, ты не думай, что я без внимания оставила твой визит к А. О. и письмо. Я была совсем тронута. Но прошлое письмо хотелось поскорее опустить в ящик, вчерашнее задержалось. Женичку приучаю уже к кашке, желудок не образцовый, но гораздо лучше и один или два раза. Опухоль с личика тоже прошла, немножко облупилась кожица и тоже выросла новая, но волнениям моим, конечно, конца не видно, дай Бог, чтоб они кончались только благополучно – сегодня вечером собралась его купать, а он пришел с гулянья, расчихался, потекло из носика, измерила температуру 37,7 в заднем проходе, значит, немножко повышена, верно, ветром продуло, когда он разогрелся ото сна. Ветер тут только изредка спать на ночь ложится (потому что место совсем открытое).
Сейчас мне грустно, и я не прочь поплакать. Вечер тихий, в окно светит луна, мне нездоровится, ж<ивот> б<олит>, потом прошлую ночь не выспалась. Сегодня соседи, снимая группой всех ребят, сняли и Женичку, как он тихо улыбался и важно сидел между ними на моих коленях, жаль только, что крохотным аппаратом, получится ли. Вообще он все время тянется к детям, смотрит, как они играют, тянется и просит у них мяч, что-то им говорит своим непонятным щебетаньем. Он видит поезд, следит, как бегут вагоны. Я несколько раз окликала его сверху, и теперь, гуляя, он иногда подымает головку и смотрит, ищет меня, и если видит, смеется и делает у-у-х или у…
Крепко тебя целую. Спокойной ночи.
Где же Мариечка и Дмитрий. Вообще, что делается в Москве. Приняла ли она уже летний, пыльный и опустевший вид. Мне кажется, что ты на многое в моих письмах не ответил. Может, только кажется.
Всего хорошего.
Дорогая мамочка, я не буду оправдываться, я свинья, свинья и свинья. Я не отвечала на все ваши полные сердца и заботы письма, дорогая, ласковая, серебряная. Но, но мне так было трудно и так все время хотелось спать. Плакать и спать, кажется, это были мои преобладающие настроения, плакать от усталости и беспомощности и спать. Мне очень не повезло с прислугой, на то, чтобы сварить суп и котлеты, у нее уходило по 5–6 часов, на стирку 6 пеленок 2–3 часа, а я день и ночь была с Женичкой, волнуясь и дрожа от каждого крика, да еще покупки и заботы всякого рода. Когда же я вздумала ее отправить, она не ушла, слезами, угрозами говоря, что ей некуда деваться и что пока она не найдет хорошей службы, она не уйдет. Боря не хотел скандала, так она и осталась еще и после моего отъезда.
Теперь мне легче. Правда я здесь живу одна, то есть не с мамой, наши все в городе. Папа серьезно заболел, опухоль какой-то железы над мочевым пузырем плюс сердце плюс ревматизм, почти сплошь все время хворает, лежит в кровати, и раза по три в неделю бывает врач…
Но так нужно было, надо было и мне быстро и сразу уехать из дому и Боре остаться одному. Женичка с виду большой и здоровенький, но так как я сама с ним возилась и очень волновалась при малейшей простуде и нездоровьи, то думаю, что я его изнежила, думала, что с лета я его приучу ко всякому, но лето плохое, холодно и сильный очень ветер, сегодня ночью хлопали закрытые на задвижку окна и двери, и гудела крыша, и в комнате было 12 градусов, так что он еще без пальто и без теплых пеленок на дворе не был. Беспокоит меня, что у него еще нет зубов, ему 23-го исполнится 9 месяцев, и сам он еще не садится, прикармливанье я тоже еще не наладила, потому что недели три, как у него расстройство желудка, и приходится его выдерживать на грудном кормлении. Я пошла все свои горести выкладывать. Даже моя мама не перестает меня ругать, что я так волнуюсь и в шутку говорит: “Ну Женичка, хватит тебе толстеть, пусть теперь мама потолстеет”.
Не снимала Женичку тоже потому, что знакомые все подвели, а нести к фотографу было и боязно и холодно и некогда. Думаю, что скоро сниму. За Ваши чудные ласковые письма и заботу обо всех нас большое-большое спасибо.
Крепко Вас целую.
Жоничку и Федю крепко поцелуйте. Какой папа, какой молодец – поехал. Ах, ни у кого, ни у кого из нас, молодых, нет и маленькой доли его талантливости и энергии, его любви к жизни.
Это все черновик письма твоей маме. Ух, Боричка, какой холодный ветер, сегодня – законопатила в спальне дверь тюфяком и ковриком, а то скатерть на столе и простыни надувались как паруса. Дело в том, что наш верх это постройка из досок, короче говоря, чердак, где здорово продувает. Вниз переехали, и в нашем тихом садике стало очень шумно, человек 10 детей, целый день носятся, обломали всю сирень etc.
Ах, Боричка, как хороши всегда новые места на глаз, когда видно только столько, сколько в глаза бросается, потому что потом обижает незначительность и убогость пространства. Так как сегодня очень холодно, то Женя с Феней были дома, а я пошла побродить и напала на замечательное место в так называемом парке. Дорога укатанная песком, справа огромные сосны и ели на ярко зеленом светящемся ковре, слева поля, железная дорога, в стороне за кустами на пригорке кладбище. Помнишь, Боря, каким хорошим показалось нам место, где так скучно стало, когда там поселились отдыхающие.
Чудно – чем больше людей, тем мертвее. Спокойной ночи.
Вложенный черновик маминого письма к бабушке Розалии Исидоровне с рассказом о трудностях московской зимы и дачных волнениях дополняет наш комментарий ее собственными свидетельствами.
19. VI.24. <Москва>
Дорогая девочка, жена моя и друг! Ведь у меня нет никого родней и лучше тебя на свете, не исключая сестры и отца и Марины. Я не могу видеть тебя как-нибудь иначе, чем поражающе светлой, потому что это чувство не освещать не может. Когда же я перестаю видеть тебя в воображеньи, и думаю о тебе, то и в угашении справедливой мысли ты выходишь из ее скупых границ, и волнуешь качествами, немыслимыми ни у кого другого. Когда я вспоминаю, что ты не любишь меня, то тут же порывисто и возмущенно взвивается твой образ, любящий и преданный, верный тебе во весь рост, с головы до ног тебя повторяющий. Это – ты, живая ты, но до боли связанная со мной, видящая, слышащая, понимающая меня. И почему бы тебе с этим образом спорить? Нет такого недостатка, находимого мыслью в тебе, из которого бы ты в следующее же мгновенье не вырвалась и не выросла на ее глазах.
Это оттого, что чувство, которому бы следовало обратиться к моему воспитанью, не отрываясь воспитывает твой образ. Я сильно люблю тебя.
Эти четыре слова с такой стремительностью и силой оторвались от письма, что пока я наносил их, они были уже неизвестно где. Они прозвучали страшно далеко, точно их произнесли в Тайцах. Они пронеслись мимо меня физически заметные, и потрясающим действием обладала именно их неожиданная и мгновенная самостоятельность.
Неужели есть сейчас, в этот самый миг, темная, нечитанная мною местность, где у подошвы огромной снегами грезящей ночи, полосуя лампою деревья, в их гуще, камушком на краю большого поля белеется твой двухэтажный домик! О какая ты бесстрашная в своей заметности, в добровольности принятых размеров, в невооруженности против тишины пространств и времен, точно знающих, где ты, и всем небом льющихся в твои глаза и уши, между тем, как – жизнь моя, ты согласилась быть женщиной и человеком, то есть быть еще меньше, чем домик, почти теряющийся на горизонте со стороны поля, когда оно напрягаясь всею темнотой простора, тихим ветром на рассвете тянет тебе в лицо, и не видит тебя снизу, и утомляя сердце и глаза, дремлет и просыпается, коротает долгую зарю, а потом увидит, ты встаешь кормить мальчика и, может быть, подойдешь к окошку.
Ты для меня сердцевина этой сказки, страдающее и свежее ее зерно в душной и двойственной скорлупе: скорлупою должна была бы быть природа, как ее чувствует поэт, скорлупою стала колтунная, свалявшаяся, окостеневшая пыль и паутина. О мне кажется, что этот слой распался сам собою. Я тебя добываю из ночи, из собственных гаданий и надежд, из предположительных и призрачных картин, вызываемых звуком Тайцы, я добываю тебя из всего этого, как вынимают орех из пышной оборчатой и плотно сжимающей его обкладки, на пути к тебе, чтобы достать тебя, прижать к сердцу и причинить ему излюбленную его боль. Перетрогаешь чуть ли не весь мир, ты мне упоительно трудно достаешься, ты возрождаешь меня.
Слава, слава тебе, мое счастье, волна моя, заливающая глаза мне. Гордись, смейся и плачь, красуйся, не обращай вниманья на меня и не уходи. Отсутствуй как бог, и как бог будь при мне. Отсутствуй, распростертая рядом, раздетая человеком с твоим кольцом на безымянным, но раздетая им так, как раздела бы тебя рука счастливейшего твоего воображенья, или раздела горячая летняя ночь, как раздевает воспоминанье, – отсутствуй, раздетая мною, потому что недосягаемое отсутствует, а ты – предел и выше высокого и лучше лучшего, лежи закрыв глаза, не гляди на меня и не знай, что я есть, когда я тебя боготворю и целую.
И будь всегда и вечно со мной, холодное мое небо, мечтающий нерв, бессонная жилка лесов и полей, когда они в цвету. Мы оба ходили высоко, откуда все видно, где невозможно скучать, когда сошлись с тобой, прелесть, прелесть, прелесть. О только оттого, что у нас имелись адреса, родители, родные, друзья и обязанности, кольцом обступившие два пустых кружка на земле, могло казаться, что нашего существованья мы не прерывали. Мы держались на окружении, придававшем геометрический смысл пустоте.
Что делали кругом нас люди и обстоятельства битые эти два года? Искали ли они исчезнувших на тех местах, где их привыкли встречать? Или это они толпились на двух могилах? Как же смели они улыбаться нам. О родное мое в горле вставшее имя, о девочка с Евгеньевской, о жена моя, о моя надежда и любовь, о волна, о глубина, о смех, в который я сейчас брошусь, о милосердие, в которое я нырну, о гордая моя ширь, умница, губы, волосы, плыву, люблю, люблю, люблю!
Станем и будем, умоляю тебя. Мерзкое время, ведь во многом виновато оно. Странно подумать, оно мешает желать счастья, есть эгоизм, который внушен богом, как легко забывается его полный, отдаленно трепещущий гул, когда ты с людьми.
А какое людское время! Но приложим усилья. Веруй, моя родная. Ты знаешь, это мое “ты”, что я говорю тебе, оно так непривычно и так волнует! Знаешь, какое оно? Словно оно вторую неделю, насильно сдерживаемое, взрывом вылетает из принятого будто бы между нами “Вы” и содрогается, позволив себе такую смелость и не в состоянии отказать себе в ней.
Кастрюли, червонцы и ссоры, какая неслыханная фамильярность! Как мог я себе позволить такое панибратство с тобой. О как мне хочется сейчас до последних закоулков договориться! Моя любимая подруга, даже Гулюшкой или ведьмочкой я тебя больше не буду звать. Твое имя (Женя ли? или санскрит? или час ночи, место на земле или имя чувства?), твое имя сейчас равно жизни моей, ты его смогла бы прочесть в глазах моих, я буду называть тебя силою взгляда, отяжеленного тобой, нет правда, я говорю серьезно, я даже при людях буду поднимать голову и целовать тебя тягой зрачка, и этот выделенный миг будет звательным падежом, обращеньем, обращеньем только к тебе, к тому, что остается, когда снято за платьями и все, ношенное в жизни и изношенное ей.
Больше не могу. Милая, мне невесело живется тут. И я не жалуюсь. Я так счастлив тобою, – не прерывай меня, я знаю, что ты скажешь, но ты знаешь, что я отвечу тебе, а отвечать я покамест не могу, я дал слово. Кому? Себе, себе, тебе в душе моей, кому же еще. И у меня есть просьба к тебе. Выйди одна с этим письмом куда-нибудь на поле, на лесную опушку и перечти его. Наверное, оно скверно написано, но сердце так бушевало у меня над ним, что если это как-нибудь не сказалось в нем и не передается тебе, то о чем же еще тогда говорить!
И тут хотелось бы кончить мне и лечь спать (хотя время послеобеденное), чтобы увидеть во сне поле и тебя, но надо еще что-то сказать, потому что так, как я зову тебя теперь, мы еще не жили, и тебе молчанье мое может казаться забывчивостью или упущеньем. Я так боюсь судьбы, что не решаюсь ни об одном из дел тебе рассказать, пока они не станут фактами свершившимися. Радость, радость моя, каждую минуту приливает к сердцу нежность к тебе и становится мученьем, совершенной невозможностью разговор о деньгах, о планах. О Боже.
Нигде в Москве денег нет. По жестокой случайности я, уже заполнив переводной бланк и имев 5 червонцев для тебя, их не послал. Вот как это случилось. В два часа дня я в центре (на Театральной площади) чуть получил их, пошел в почтовое отделение тебе их отправлять. Говорят – перерыв до трех. Спрашиваю, как в Главном почтамте, смутно помня, что кажется там присутствие без перерыва. Говорят, что перерыв и там. На этот час, не зная куда деваться (и какая жара!) забираюсь к Гите. Сижу, сижу, слушаю, что-то говорю, удивляюсь, что Гита это слушает, отсиживаю перерыв. Между прочим узнаю, что ты сильно нервничаешь. С Нюниных слов Гита говорит, что как-то ты от меня письма ждала и его не было и ты плакала. Я разумеется не только (из понятного тебе чувства) решительно принимаюсь отрицать возможность этого, но и в душе-то мало этому верю, и страдая, что это все же не так, мысленно говорю тебе по-английски Keep your feelings, что значит, прячь свои чувствованья, а то живо по бабьей улице пойдет, и вот, наконец, иду на Почтамт, пишу бланк, направляюсь к стойке, чтобы деньги сдать и узнаю, что только что прием кончился, и пока я у Гиты сидел, деньги принимали, работая без перерыва. Ну что ж делать, отложил на утро. И тут началось.
Надо ли говорить тебе, что для себя я к деньгам твоим и не прикоснулся. Но это оказался последний день взноса подоходного налога. Если не внести, то позднее – в двойном размере. Потом няня, наконец, ушла. Но слушай, я из-под земли их достану и завтра тебе пошлю. И давай простимся, а то я разревусь от тоски по тебе, от веры в счастье и бед, и неудач.
Весь твой Боря.
Как все-таки жалко, что плакать от отсутствия моих писем ты не можешь.
Женичка моя, Женичка моя, Женя, это ведь я объясненье тебе написал. Боже, что со мной!
<20 июня 1924. Москва>
Милый друг! Мне так тяжело, так тяжело на сердце, словно ты в слезах отчего-то, словно я тебя чем-нибудь огорчил. Это оттого, что вчера написал я тебе письмо, в которое вложил всю душу. Я писал тебе и сидел на окне у тебя, и гуляли мы, и садились по дороге отдохнуть и поговорить. Это таким водоворотом вошло в мой день, что я ждал чудес, чего-то вроде апельсинного дождя над землей, или крылатого ангела в дверях, несущего на руках тебя, или чего-нибудь еще чудеснее.
Вместо этого я столкнулся с кристаллически сволочными фактами, которые всегда меня так возмущают. Это из такого разряда явленья, которые волнуют своим тупоумьем и бесцельностью. Вдруг представители того или иного вида закона требуют с тебя таких вещей, которые доказывают, что вместо тебя они разумеют кого-то другого. И особенно оскорбительно это было в день, когда с неба должны были дождем падать апельсины. Зачем они это делают, я никогда не уступал им, не получат они с меня ничего и теперь и верно удовлетворятся этим. Но к чему эта их потребность в спорах, в разоблаченьи чепухи и в бесплодной трате времени. О бездарная, бездарная посредственность, прирожденная могильщица, призванная отрывать человека в редчайшие минуты от живейших мыслей и дел.
Кажется ведь Микобер (телячьи котлетки в “Крошке Доррит”) без ума был от своей Микоберши? Неужели я, того не замечая, уподобляюсь Диккенсову герою? Но это сравненье ввела ты. Я тебе этих неприятностей (их несколько) не называю.
Говорю же я о них потому, что удивительно складывается мое огорченье. Я тебя так сильно теперь люблю, что все, что со мной делается, отношу к тебе. Точно я душой и телом твой, и когда больно телу или печально на душе, я страдаю за урон, причиненный твоей собственности. Я не могу отделаться от нелепой мысли, что если мне грустно сейчас, то тем более грустно тебе. И людей, досадивших мне, я ненавижу, как твоих мучителей. Знакомо ли тебе это чувство, оно отличается такой определенностью. Словом, я не знаю куда деваться от того, что так огорчают тебя и не дают денег, и требуют их с тебя, и не восхищаются твоим имуществом, и не прощают ему ничего. У меня настроенье лета 17 года[85].
Но странно, вот что я тебе скажу. Только оттого и строится мое прозябанье в средние поры по форме настроений, что в лучшие времена бывают у меня настроенья почти метафизической значительности, то есть такие, которые делают меня в сильнейшей степени доступным действию того, что ты называешь причинами. Так оно и сейчас. Я до боли размечтался о тебе. Ты неописуемо хороша в моей мечте и в нескольких разрозненных и отдельно стоящих воспоминаньях. Я горжусь тобой. – Высотой требований, которые предъявляет твое существо, как краска свету, для того чтобы существовать. Ты можешь быть и не быть. Вот ты есть, и я души в тебе не чаю, заговариваюсь тобой и ты требуешь все большего и большего.
Назвать ли мне точно то счастье, которое я себе обещаю. Ты убедила меня в том, что существо твое нуждается в поэтическом мире больших размеров и в полном разгаре для того, чтобы раскрыться вполне и дышать, и волновать каждою своею складкой. Ты была изумительным, туго скрученным бутоном, когда тебя уловили фотографии твоих детских документов и удостоверений Девичьего поля, и Станевич[86] и еще кто-то. Твоя сердцевина хватала за сердце тою же твердой и замкнутой скруткой, горьким и прекрасным узлом, когда быстро и беспорядочно распустившаяся по краям, ты имела столько рассказать о мастерских и о жемчужинке. Как рассказать тебе о том, что произошло дальше. Мне больно вводить в письмо все дешевые пошлости, которые приходится говорить о самом себе. Я расскажу как-нибудь на словах. Но если бы я просто покорился своей природе, горячо любимая моя, я бы ровным, ровным теплом самосгорающего безумья окружил тебя, я бы ходячим славословьем тебе бродил среди друзей и смешил их или тревожил загадочностью своего состоянья, я бы недосягаемую книгу написал тогда вместо одного того письмеца Кончаловскому[87], и бережно, лепесток за лепестком раскрыл бы твое естественное совершенство, но раскрывшаяся, напоенная и взращенная зреньем и знаньем поэта, насквозь изнизанная влюбленными стихами, как роза – скрипучестью и сизыми тенями, – ты неизбежно бы досталась другому.
О как я это знаю и вижу.
У меня сердце содрогается и сейчас словно это и случилось, от одного представленья возможности того, и я тебя к этой возможности глухо ревную. Ты неизбежно бы досталась другому прямо из моих рук, потому что с тобою в сильнейшей и болезненнейшей степени повторилось бы то, что бывало у меня раньше. Я не боюсь это сказать, как ни смешно и жалко это признанье на обычный глаз. Но этот глаз – предел пошлости, и, говорю я, глаза этого я не боюсь.
Тогда и началось это странное и смертельно утомившее меня прозябанье, при котором я стал учиться сдержанности, так называемому здоровью и, как это всегда бывает, от производного, от ассистентов перешел к руководящему, к основанью этой чуждой и вначале страшившей меня науки. То есть я стал стараться успевать в бесчувственности, в холоде, и приобретая объективность воззренья, стал переставать видеть тебя или видел искаженною, опороченною этим наблюдающим и судящим глазом. Я совершенно безбоязненно говорю тебе об этом и сейчас, в апогее смеющейся нежности к тебе, потому что это рассказ о моем горе, теснейшим образом связанном с тобой. Пускай все это было глупостью, вроде неизвестных мне Жониных тайн, но дело было сделано. Это делалось полгода, до 26-го февраля, и мои слова о смысле свершавшегося никак не отвлечение, то есть я не строю схем и не предаюсь их плетенью теперь, а наглядно вспоминаю свои состоянья и привожу решенья и мысли, точно так же звучавшие и тогда.
В те полгода мне казалось необходимым отказаться от музыки и стихов, от мира, рвавшегося раскинуться над тобой и вокруг тебя волною поклоненья, постиганья и одухотворенного ухода, и как ни странно, я в этом преуспел. Размах этого горького и мертвящего усилия, развиваясь все дальше и дальше продолжал действовать и тогда, когда и мнимой, воображавшейся надобности в нем не стало. Те вещи, которые я с таким идиотизмом постарался усвоить, были усвоены. Лень, невнимательность, глухота, пониженность страсти душевной, ослабленность эгоизма и порывистости, все эти сокровища, вселяясь в меня, помогли инерции затянуться на чудовищный срок. Я пока говорю о себе. Я знаю, что с тобой сделалось. Но вперед покончим с этим.
Я опустошил себя неслыханно. Прямо хоть плачь. Я любил тебя так, как сейчас. Когда ты была у меня с Мишей[88], предчувствие и предвосхищенье готовы были у меня политься с губ и с пера. О, не недооценивай последнего слова. Оно обладает могуществом, мало кому известным. Я знал, я мог сказать, как будет. Я вглядывался в тебя и убеждался, что в тебе очарованья и действительных данных (души, талантливости и ума) более чем довольно, с лишком и с каким (!) довольно, чтобы эта неподвижная буря тронулась и пошла обреченнокруговым, до слез торжественным движеньем, хоронящим и отпевающим себя, как вращенье неба. Я знал, что согрею и расправлю тебя, что ты вольно и без боли распустишься под бережным дыханьем поэзии, я знал, что ты ее и меня полюбишь, что только я буду тем единственным, кто не причинит ни малейшего вреда тому в тебе, что прекрасно и чем в тебе любуется бог. Я знал, что это само себя подтачивающее обожанье способно стать вторым рожденьем для тебя, и конечно оно больше матери, нарочно данной каждому человеку богом, чтобы быть внимательной к тому, на что бог не обращает вниманья. Я знал, что ты полюбишь меня и скоро запечалишься и станешь недоумевать, узнав, что с этим перегретым и благотворным миром жить нельзя, что о нем Шекспиры пишут “Сны в Летнюю ночь” и не более того. Я знал, что, огорченная и оскорбленная, ты уйдешь от меня, отдохнувшая и оправившаяся на таком воздухе, вдесятеро прекраснее и моложе, чем была, с раскрывшимися на себя глазами, с душой моей и мукою на кушаке, как с дорожным подарком. К другим.
И тогда я предпочел ужаснуть тебя всеми пошлостями, которые были неизбежны. Я отмел весь мир, который хоть ценою страданья, но скрашивал смехотворность и стыд открытья. Ты поэзии и поэта не видала. Я спрятал их от тебя, а потом и прятать стало нечего. Ты не полюбила меня, ты не прибыла, не расцвела, не согрелась, не отдохнула, ты замерла, ты свернулась, ты вобрала и те лепестки, что трепетали и топырились на тебе, раскрывшиеся проще и хуже и болезненнее, чем твоя прелесть заслуживала, но все же раскрывшиеся, сложились и съежились и они, ты попала в полосу, когда раем тебе мог и должен был казаться Леонардо[89], но ты не ушла. Ты должна была бы знать меня таким, каков был я раньше, чтобы поверить мне, что превращенье, случившееся со мной, твои страданья уравнивает.
О, Женя, что сделал я с собой. Для того, чтобы заморозить тебя, как это случилось, я должен был убить весь свой смысл. О теперь послушай. Мне гнусно и мерзит копаться в этом. Слушай, родная сестра моя по страданью, слушай самопожертвованье, два года делившее со мною могилу, о скажи мне, может ли этот мир мне изменить? Верится ли тебе, чтобы я навсегда разучился жить стихами?
О, ведь это невероятно, ведь мне кажется, что возвращается этот мир. О любимая, любимая, где слова взять, чтобы сказать тебе, какими застает нас эта, кажется согласная возродиться, стихия. Если сказать не смогу, положи руку на эту часть письма, закрой ее, замени слова своими, лучшими, но улови смысл. Если я скажу тебе, что ты возвратилась к ранним воспоминаньям, ты рассмеешься. Если я скажу, что в моих глазах в напряженности пробужденья ты еще более затянутый, весь в будущем, тугой и плотный бутон, если я скажу, что только твоя девическая фотография жива в тебе, если я скажу, что жаркий и грезящий мир вниманья и постиганья налетает теперь на меня, чтобы взять свое, ему принадлежащее, тебя, чтобы выхолить, взлелеять, взрастить, зашептаться до смерти, заглянуть во все закоулки души и мира, если я тебе скажу, что эта первая действительная его любовь приходит ко мне, как к сторожу, и хвалит, что я сберег тебя на льду – о ради бога не смей смеяться тогда, о ради бога не смейся. Или ты вдруг вспомнишь о времени, о годах? Но не с ними ли попробовали мы ужиться по добру, по соседству. Время? Оглянись, и ты не найдешь его там, где на тебя из прошлого глядит печальное счастье. Ты его откроешь лишь в тех пустотах, по которым ходит скупая, разумная безотрадность. Что нам время. Упаковочный материал. У нас его не будет. Слушай ангел мой: жизнь, моя жизнь однажды выставленная мною за дверь, близится и возвращается ко мне. И за кем, думала ли бы ты, она идет? За мною? Ничуть не бывало. Она возвращается за тем, что ей принадлежало, в чем ей было отказано. За тобою! За тобою!
20. VI
Родная, родимая.
Тебя еще не тошнит от патоки, изливающейся на тебя? А я только сдал письма к тебе и деньги, и опять готов. И опять мне печально, и страшно за тебя, не грустно ли это тебе на самом деле, и только отраженно – мне. Большое настроенье нашло на меня, рыданье мое во плоти, и видя силу настроенья, я больше всего, – мне даже кажется больше действительного здоровья озабочен тем, не грустно ли тебе. Но зачем грустить тебе? Вертись, радуйся, бедокурь, – ты победила.
Ты шла по проезду Тверского бульвара, и вдруг потребность в поручнях, в наплечниках, в большой страсти, объявляющей тебя арестованной и берущей в железа, остановила тебя и преградила нам дорогу. С порывистою уклончивостью ты повернулась, мы стояли на мостовой и рядили извощика.
Как это всегда преображало тебя! Красавица моя, горячая моя девочка, сколько в тебе высокого благородства в эти минуты и грации и греции. Несчастный мальчик. Он не меньше любил тебя тогда[90].
Помнишь ты? Шел снег, это мы у Б. кажется были, на Смоленском бульваре.
Помнишь “Екатерину”[91] в драматическом театре в страшный, страшный мороз? Помнишь чтение Пушкинских писем, чтенье дальнейшей Люверс, диван поперек комнаты, прогулки по каркавшей надо мною зиме, пока там у меня, ты раздевалась. Ты, девочка моя. Ты – и наступал вечер. Жестокий, безысходный.
Но сердце было так полно тобой, твоей высокой аристократической простотой, твоей, – чертою самоубийства перечеркнутой близостью, что – клянусь, и тогда я был счастлив. Это счастье было похоже на снег и на сумерки, по этому счастью с карканьем носились вороны, под ним в другом городе и позднее, – чернелась Фонтанка, – но я дышал им – и все оно отдавало тобою. Я не меньше тогда любил тебя.
Помнишь? Давали Валькирию[92], ты была в черном бархате, ты уже была моей женою.
Помнишь, что музыка делала со мною? Помнишь, как положила она мою голову к тебе на плечо и лилась и заливалась, там и на сцене.
Помнишь, как, когда Х. или мама удивлялись, отчего я такой грустный, как содрогался я от вопроса, как думал: да, они правы; о если бы они знали причину.
И теперь знаю я. Они не были правы. Причин теперь нет, а я пишу и плачу, как тогда (действительно Женя, плачу и утираю глаза, и дальше пишу), и как тогда люблю тебя. Нет, тогда еще я был нормален, как и сейчас. Тебя любить можно только сильно. Сильно любить значит любить по-гречески, по-христиански, под трагедию, под орган, под жизнь, посвященную Гофмановой сказке, заряженному грозою стиху. Помнишь вдоль канала, над санками крупно-кружевную вырезную раму из белых, заиндевелых жестких берез и вязов и черно-синее небо и лебяжью гладь снежного пути. Помнишь, как в эту ночь в Петроград пришли поглядеть на тебя улицы, которых в нем никогда не было, и пропустив наши санки, убирались откуда пришли, и за нашей спиной все приходило в порядок.
Помнишь, ночь в Серебряном Бору у Буданцевых[93], на полу. Помнишь другую, после длинного дня, когда ты вся была, как шиповник на сквере, окно вдыхало тебя, розовую, сквозную, неподвижно движущуюся, на грани беспамятства, сладкую, золотую. О Боже! Помнишь?
Потом была одна ночь в Берлине. Как это я не понял, что это все в тебе было, а не во мне? Но любил тебя я, и не знал, вся ли ты отвечаешь мне, как будто в этом чувстве дело, а не в “счастливой случайности” полной красоты, и вот, переоценив сердце и недооценив зрелища, я стал требовать у тебя абсолютной свободы для себя, господства. Помнишь? Знаешь зачем? Чтобы ночь осталась не единственной, чтобы еще не раз так тебя любить.
Бедная пятая страница. Несмотря на шиповник и Берлин, я не плакал над ней. Я не исходил над этими воспоминаньями кровью сердца, как над предыдущими. Странная мысль пришла мне в голову, тихая моя и далекая, – странная мысль. Тут аборты дотронулись до нашей судьбы и до твоего тела. Если бы это было у других, чем я и ты, людей, что бы это изменило? Тут не только в болезненности твоей суть.
Но не следовало ли уже и тогда нам впустить капочку к себе? Прямо за валькириевыми улицами? А? Да, разумеется, вина моя. Надо было быть сильнее и смелее. И вот, мы несли наказанье за малодушие свое, за то, что —, за коммивояжерство. Несли два года. Это было низостью с моей стороны.
Ты говоришь, что я не на все отвечаю в письмах. Я слишком слушаю и люблю их, чтобы понимать их отдельные мысли. Ты чудно пишешь. Вероятно я только подражаю тебе. Ты шевелишь словами и фразами, как ветер занавесками, ветвями деревьев. Я читаю твое письмо и слышу, – Женичка веет, тянет, дышит.
Я закрываю глаза и отвечаю встречным дуновеньем. Зачем говорить, что подражаю тебе. Нет, это и у меня прирожденное. Я три раза перечитывал твое письмо. Помню место в парке, чердак, желанье плакать и спать в письме к моей матери, то что она серебряная (а ты золотая).
Помню поразительную преисполненность молодой матери ребенком, которого она носила в животе, а теперь осуждена носить в земном полушарьи. Я перечту его и опять впаду в забытье, в полуобморок по отношенью к частностям, – это и есть прямой на них ответ – как полусон ответ на пенье петухов, на их ступенчатое, поочередно удаляющееся кукареканье. Для того, чтоб точно ответить тебе, мне пришлось бы письмо переписать и разграфить, как с Абрамом Осиповичем. Ненаглядная моя радость, неужели не найдешь ты ответов на все в этих последних письмах?
Как отвечать тебе, когда твои письма действуют на меня, как летний вечер? Мне иногда слышатся вещи, которых ты не писала. – Пыльная ли Москва? Не так, как в прошлом году. Введена обязательная поливка. Петровские еще тут, – денег нет, как и у всех.
Спокойной ночи, мой вневременный друг. Горячо, всей жизнью и смертью своей тебя люблю. Поцелуй капочку и не мытарь себя так из-за него. Вспомни, что и я в нем представлен, не ты одна. Значит он твоих жертв не заслуживает.
Все, к кому меня не несет поэзия и природа, кажутся мне случайными.
Посылаю тебе деньги. Это письмо пробеги хоть при всех. С другими уйди куда-нибудь одна. Они плохи тем, что страшно длинны.
Ты заскучаешь, их читав. Ах, я об этом не подумал вовремя. Но теперь поздно. Не читай их тогда сразу. Я дрожу за их судьбу, словно познакомился с тобой и написал тебе объясненье. Ужасно волнуюсь, ты не поверишь. Что со мной делается? Я умопомрачительно люблю и предан тебе.
Гляди на меня, если хочешь с любопытством, но не разрушай естественности движений временным недоверьем. Пожалуйста, умоляю тебя, ты ведь мне дороже, чем сама себе.
Я хотел послать тебе такое письмо, которое бы ты на себе носила, которое бы тобою пропитывалось и мучилось, когда тебе жарко. Я хотел набрать тебе полосатого (в дымно зеленую по белому полосу) маркизета и хорошо (в желтую бумагу, вот образец) завернуть и запечатать лиловым сургучом, огромною слезой темного расплавленного обожанья (не маркизет, Боже упаси, а обертку) – но – как – мы – бедны! Не придется. Я думал 6 червонцев достану, 5 тебе, а 1 себе, на полосатое письмо к тебе, для нательного ношенья.
Достал только 5. Не четыре же тебе посылать. Так что дымчатое письмо дошлю, когда можно будет. Ангел мой, как я – – – ну – – —!
Люблю.
Боря.
Прости, что такой маленький образчик бумаги[94]. Надо же для конверта оставить. Чудная, чудная моя, правда мы бедные и золотые оба? Ам-м.
О Боже мой!
Любушка.
Поблагодари маму за письмо, которое в данную минуту подали, я его еще не читал. Также и от тебя, с черновиком к моей маме. Но надо скорей ехать Гите передать. Хочется мне заказные по почте послать, но ведь заждешься ты тогда!
Эти письма были переданы с маминой сестрой Гиттой, которая ехала в Ленинград к родителям, и сильно задержались в пути. Они были надписаны на конвертах как “Заказные № 1 и № 2” и заклеены сургучом. Их опоздание вызвало целый поток удивления и упреков.
Лирические страницы любовных объяснений в этих “заказных” подчас перекликаются с уже написанными стихами, повторяя и уточняя встречающиеся в них сравнения и ассоциации и тем самым приоткрывая основы построения поэтического мира Пастернака. Мы упоминали ранее образную близость одного пассажа со стихотворением “Чирикали птицы и были искренни”, а слова: “широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую и большую реку держу тебя в руках и дышу тобою” – из письма от 27 мая, невольно напоминают стихотворение из “Сестры моей жизни”: “Лицо лазури пышет над лицом / Недышащей любимицы реки”. “Потребность в поручнях” страсти, “объявляющей тебя арестованной и берущей в железа”, соотносится со стихами из “Поверх барьеров” – “Вслед за мной все зовут вас барышней, / Для меня ж этот зов зачастую, / Как акт наложения наручней, / Как возглас: я вас арестую”. Позже этот образ вновь появился в “Охранной грамоте”, в том месте, где речь идет о марбургской влюбленности в Иду Высоцкую: “…вне железа я не мог теперь думать уже о ней и любил только в железе, только пленницей”. На следующей странице письма к маме слова: “Полусон – ответ на пенье петухов” вызывают воспоминания о бессоннице и утренних петухах из “Отрывка из поэмы” 1917–28 годов и недавнее стихотворение “Петухи” из цикла 1923 года.
Здесь же мы встречаем образ из стихотворения “Я вишу на пере у творца / Крупной каплей лилового лоска”, вошедшего в “Темы и варьяции”. Заметим также, что соседство светло-желтого и темно-лилового было любимым у отца сочетанием цветов. В таком оформлении вышла книга “Темы и варьяции”, в приверженности этим цветам он признавался в письме от 2 августа 1959 года к Жаклин де Пруайяр: “Это был темно-лиловый (почти черный) цвет в сочетании со светло-желтым (цвета чайной розы или кремовым)”[95].
Из светло-желтой бумаги, судя по его словам в письме маме, был им склеен конверт, запечатанный “крупной каплей” лилового сургуча и отправленный в Ленинград с Гиттой. Этот конверт не сохранился, но следы сургуча видны на двух других, посланных в это же время.
Удивительны переданные несколькими штрихами картины первых месяцев их знакомства и близости, потом всегда встававшие перед отцом во время маминых отъездов. Он писал об этом летом 1926 года в письме к Цветаевой:
В разлуке я ее постоянно вижу такой, какою она была, пока нас не оформило браком, то есть пока я не узнал ее родни, а она – моей. Тогда то, чем был полон до того воздух, и для чего мне не приходилось слушать себя и запрашивать, потому что это признанье двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображеньи, ушло в дурную глубину способности, способности любить или не любить. Душевное значенье рассталось со своими вседневными играющими формами. Стало нужно его воплощать и осуществлять[96].
В летних письмах 1924 года звучит лирический порыв, который отец приравнивает к “настроению лета 17 года”. Это было лето его любви к Елене Виноград, выливавшейся стихами “Сестры моей жизни”. Оно стало для него обозначением высоты поэтического вдохновения. Но “напоенная и взращенная зреньем и знаньем поэта” Елена вскоре вышла замуж за другого. Трагедия оборотной стороны любовной поэзии стала для отца тяжелым уроком, которого он суеверно избегал в своих отношениях с мамочкой. В этом приучении себя к сдержанности и бесчувственности “так называемого здоровья” он увидел причину того, что мама не сумела почувствовать в нем поэта и поверить ему. И теперь ему внезапно показалось, что заглушенный в нем мир поэзии и музыки возрождается и готов его возродить.
Но вдруг испугавшись своих восторгов, отец вспомнил о влюбленном в свою жену герое Диккенса мистере Микобере, о котором они вместе читали в Берлине. Ошибка соотнесения персонажа романа “Давид Копперфильд” Микобера с “Крошкой Доррит” объясняется тем, что Микобер сидел в долговой тюрьме, подобно семье Доррит. Сравнение себя с Микобером отец приписывает маме, вместе с которой они читали Диккенса в Берлине. Микобер тоже, как и они, испытывал денежные затруднения, но вследствие “эластичности” своего характера это никогда не мешало ему весело уписывать по вечерам свою телячью котлетку.
23. VI.24. <Москва>
Мне казалось, что я тебя скоро увижу. Эта мечта, которую я от тебя скрывал, определяла все мои письма. Когда она мне казалась сбыточной, я писал тебе с кажущейся небрежностью и наспех. Когда осуществимость ее становилась сомнительной, мои слова к тебе наполнялись мыслью и кровью. Все силы соединились в последние дни, когда я стал запечатывать письма сургучом. Сила надежды и сила отчаянья. Я видел тебя ясно перед собой и почти уже знал, что не скоро увижу.
Теперь, когда невозможность близкой нашей встречи стала достоверною, я раскрываю тебе свои карты. Мне сейчас уезжать не только не на что, было бы непозволительною легкостью по отношенью к тебе поддаться чувству, и побросав дела, когда они только завязываются, оставить Москву.
Как я тут живу? Охочусь за мелкою дичью, – о суммах больше двух-трех червонцев даже заикаться не приходится. Однако все уладится, обойдется. Сегодня утром сидел у Мещерякова[97] в Гослитиздате. Окна комнаты выходят во двор. Внизу визжал, рокотал и заливался точильный камень. Каменная коробка подхватывала и удесятеряла этот скрежещущий гул и кабинет редакционной коллегии был им полон. Мне было трудно говорить с заведующим, так как временами я терял уверенность в том, что отвечаю человеку, а не камню. Вероятно завтра внизу точить ножей уже не будут, и я опять туда пойду. Может быть переговоры приведут тогда к лучшим результатам. Сплошь и рядом слышишь и узнаешь много лестного для себя, но все это ни в малой мере не уравновешивает вражды, которая живет ко мне в разных углах и закоулках, а также не смягчает и опасности, заключающейся в утрате полного голоса, в возрасте, во власти парализующих безотрадных мыслей и тому подобном.
Я даже не столько утерял свой тон, сколько добровольно от него отказался, не сразу, правда, но путем ряда уступок обстоятельствам и духу времени, на взгляд которого мои особенности и впрямь должны казаться чудными, оскорбительно ничтожными, обидно “сверхчеловеческими”.
Но полно об этом, тебе скучно станет, этой песни ты вдоволь наслышалась. Я надеюсь на тебя. Я надеюсь на какую-то твою помощь, но ближе оформить этого смутного чаянья не берусь.
Иногда мне кажется, что вдруг на этой неделе я получу что-нибудь от тебя, чего получать не привык, когда же я пристальнее всматриваюсь в это ощущенье, то нахожу, что я просто жду очередного твоего письма, что и предшествующие твои письма были непривычны, что непривычна ты, что я привык к необычности и ею избалован. Слабых напоминаний о тебе не бывает. Тебя подсказывают всегда внезапные и острые ощущенья неудовлетворенности, – среди людей, за работою, на улице, в учрежденьях.
Обедая в Кубу, я часто встречаю множество милых людей из литературного, критического и историко-словесного мира. Сюда с Кавказа приехал Вячеслав Иванов и остановился в Доме ученых. Он собирается за границу, в Италию. С ним очень славный мальчик, его ученик, в морской форме[98]. За супом и котлетами часто вижусь с Майей (помнишь, с волосатым Ланном[99] однажды приходила приятельница Эренбурга, настоящее ее имя Мария Павловна Кудашева[100]). Она простая и по-хорошему экспансивная женщина, пишет французские стихи и состоит в переписке с Ромен Ролланом и Анри де Ренье[101].
Вера Оскаровна (жена Анисимова[102]), уехала в Крым, в Коктебель, к Волошину, куда перебралось пол-Москвы. Она давно собирается написать статью о моих книжках, я должен был их занесть к ней в канун отъезда, зашел, но разумеется без книг, пообещал на другое утро, не сдержал обещанья, пообещал надослать Сестру и Темы по почте и тогда обнаружил, что у меня ни одного, и своих экземпляров не осталось. Там же и Андрей Белый.
У Марины Цветаевой есть сестра Анастасия[103], после вечера, на котором я читал Маринины стихи, она мне позвонила, прося позволенья познакомиться со стихами, у ней почти все собрано, написанное сестрой. Я у ней бывал несколько раз, теперь она в санатории в Болшеве. Она большая умница. Она сама писательница, только прозу пишет. У ней две книги напечатаны, в характере дневников (вроде дневника Марии Башкирцевой[104]). Третью, афористическую, собранье хороших и образно слаженных мыслей она предлагала Современнику и в рукописи дала мне почитать. Она заряжена долей взрывчатости, дарованья и темперамента, как и сестра, и вероятно была хороша собой, что у нее и сейчас еще в голосе и в улыбке осталось, но они очень рано начали жить и жили не щадя себя и очень бурно. Теперь она ударилась в набожность и смотрит как на грех, даже на поэтическое творчество Марины. Она с большим треском и красноречьем возражала мне на самые скромные мои утвержденья. Я никогда не встречал человека, который бы быстрее, увереннее и утомительнее говорил. Ее фразы раз в десять длиннее моих, и при этом она ухитряется не растерять ни одного из членов предложенья.
Как-то случилось, что были у меня Ланн (приятель Кудашевой), потом Антокольский. В Ланне есть что-то отталкивающее. Антокольский очень настоящий человек, с подлинным дарованьем, голосом и глазом. Жалко, что он ничего не пишет, то есть я говорю о лирике и вообще о литературе. Он занят театром. Он написал для третьей студии пьесу по трем романам Уельса[105]. От Уельса там очень немного осталось. Есть энергические и даже вдохновенные места, но в общем он лучше мог бы. И затем я не понимаю, как, говоря о “Машине времени” или ею пользуясь в заимствованьях и переработках, проходят мимо того, о чем я в темноте однажды у тебя на Рождественском в передней говорил одной Шуриге[106], потому что я не тебе, а тобою говорил.
В нашу семью (Мясницкая, Петровский)[107] вошел новый человек. Это Н. Тихонов. Ему моя “Высокая болезнь” не нравится. Он тут читал нам прекрасную вещь, которую отказывался принять Казин[108] (Красная Новь). Он раза два был у меня, по утрам. Радость видеть такого человека. Он единственный, с кем я говорил о тебе. Тогда он преобразился, полез в кармашек своей куртки военной, порылся, помычал, ничего не нашел, что-то пробормотал ничего не сказавши. Это было в первое посещенье. На другое утро я просто спросил его, нашел ли он карточку жены.
Он звал к себе, я объяснил ему, что́ нужно для того, чтобы мне попасть в Петербург. Просил кланяться тебе, как давно мне это поручили Петровские, Брики, Асеевы и Маяковский, постоянно о тебе спрашивающие.
Тебе наверное не нравится это письмо. Как сделать, чтобы жизнь была непрерывно наряженной и напоенной звуком? Как тягостны эти срывы в пустые часы, часы, дни недели. Неизбежны ли они?
Весь твой Б.
25. VI.24. <Москва>
Моя дорогая, тысяча лиц, виденных мною сегодня, воздух, которым я дышал поутру, жизнь моя, еще верная мне, и которой не станет!
Итак все это неосуществимо. Несбыточна поэзия, недоступна и недостижима ты, и дозами, изматывающими своей микроскопической ничтожностью, расходуются силы, рассаривается мысль, расточается время. Оно идет, идет издалека, оно говорит, что так же точно шло и в твои ребяческие годы, так же и до тебя. У него есть доказательства своей дальней дороги и, когда обращаешься к ним, записям и воспоминаньям, становится жутко. Все они всегда моложе тебя, всегда в пыли, всегда обнаруживают поразительную музыкальность и поразительную изобиженность. Они оскорблены забвеньем и тем, что ими пренебрегли, оставили их, загнали в прошлое. Как же кончилась вдруг их порода! Неужели этого лета мы не будем когда-нибудь вспоминать. Как страшно. А я ведь будущее люблю только за то, что оно похоже на прошлое, что ему еще можно стать прошлым, что оно – как ребенок малый.
Вырасти из-под земли, откинь волосы со лба, будь тут, будь в руках моих, закинь голову назад, смейся, пойдем с тобой куда-нибудь, все равно куда, проведем день и другой, и это уже очень много. Как чудесно, что заработки так мало зависят от моего труда и что не в моем существованьи нуждаются обстоятельства, чтобы щадить нас и поддерживать.
Я могу с полной беззаботностью обращаться с собою, думая о тебе, может быть, ты на моей смерти больше заработаешь, чем на этом омерзительном черствящем корпеньи.
И на что оно, чуждое мне, все сплошь – искаженность, пораженье и отчаянье. Зачем обольщаться мечтами, по привычке преследующими меня иногда. Мира, в котором я был свинчен, приготовлен, выпущен и снабжен клеймом – не существует. Было сердце. Назовем его как угодно. Хоть болотным. Болото осушили. Просто вредно думать, чтобы оно билось и толкало поэтическую кровь на осушенном свете.
Оно ведь даже пузырей не пускает. В борьбе за существованье оно пытается превратиться во что-нибудь из того, что его окружает. Но его способность к оборотничеству сомнительна. Его окружает жестокая флора пустыни. Куда ему меряться с ней в ее жилистости, мясистости и буйной выносливости. Какая бессмыслица.
Хорошо, она временна, она призрачна, она далеко не все еще. Болота мыслимы в возможности. Пускай его бьется и сжимается, работа его скажется нежданно-негаданно. Но когда оно полумертво! Осушка прошла и над ним. Ведь с ним сделалось же что-нибудь по спаденьи воды по всему пространству.
Но это не относится к тебе. Отчаянная, заговаривающаяся нежность где-то еще прячется, пропадает, появляется, водится, обманывает внезапными чудесами.
Я люблю тебя и не знаю, на чем стоит это чувство. Хорошо, что не знаю этого.
Боюсь, что жажда большого искусства, льющейся через край душевности пересилила бы, и знай я, какая почва под моею тоской по тебе, я бы чувство с этого места столкнул и сам стал бы на нем, истосковавшись по болоту.
Но я не знаю этого, не знаю.
А мальчик растет, улыбается, воркует и плывет по времени, как облако по небу?
Снимись и пошли мне карточку, умоляю тебя.
Давай поцелуемся.
Твой Б.
Отослав с Гиттой письма высокого лирического напряжения, “письма из-под вольтовой дуги”, как он их назвал, отец ждал равного по силе отклика, подобно тому, как если бы он сам прочел их маме, чтобы увидеть ее непосредственное впечатление. Но шли дни, и ответа не было, росли мука и чувство обиды. Это было тем более незаслуженно, что его не пускала к нам бесконечная задержка денег за отданное Госиздату второе издание “Сестры моей жизни”. Договор был подписан еще весной, и положенные по нему 80 % авторского гонорара должны были быть выплачены в течение 14 дней, но отец не получил их и за те полтора месяца, что пробыл в Москве. Не платил деньги также “Русский современник”, где печатались повесть “Воздушные пути” и цикл стихов. В журнале “Россия” публиковались “Белые стихи”, и А. З. Лежнев[109] тоже задерживал выплату. Так что надежды на скорый приезд в Тайцы оказывались тщетными.
Нетерпеливое ожидание ответа от мамы и денег из Госиздата вызывали болезненные мысли, толкали к неутешительным обобщениям о неуместности лирики в бездушной, лишенной отзвука среде современного общества. Для отца как лирического поэта, каким он чувствовал себя в дореволюционное время, это было катастрофой и крушением мира, утерей естественного оправдания жизни и призвания. В письмах мы находим самое раннее изложение этой темы, получившей развитие впоследствии в статье о кризисе лирики 1925 года и переписке. Отсутствие отзвука и подхвата, в котором нуждается лирическая поэзия, рождали грустные мысли о конце молодости и потере собственного голоса.
26. VI.24 <Москва>
Может быть, когда ты прочтешь этот упрек, он уже будет незаслужен. Всю эту неделю нет писем от тебя. И как раз когда я их так жду. Что это, зачем? Что с тобой, здорова ли ты?
Хотя я жары не переношу, и родился и всегда жил в Москве, что-то все же у меня в крови африканское. Сегодня, надо полагать, на короткое время тут наступила осень. Даже холодно. Вспоминаю знойную неделю, после которой я разродился таким градом страниц к тебе, и мне становится грустно. О солнце, солнце. Сколько пошлостей наговорено и наделано ему в угоду. И одних ли пошлостей.
И прекрасно! И мало еще, мало. Как оно жарило тут!
Оно раздевало меня до пояса, уподобляло мешку со щепками или углю в рогожном кульке, оно надставляло свою самоварную трубу прямо на легкие, пропустив ее через рот и горло, оно до ослепительности ярко освещало мою душу, что было очень невесело, потому что на его свету я ясно видел, что мне не двадцать два года, и много другого, еще более безотрадного.
Но ото всех чувств, и самых тоскливых, ложились черные резкие тени, такие же черные, как буквы в хороших стихах, когда они печатаются третьим изданьем. Я сновал глазами по этой сетке душевных теней. Когда я стал их срисовывать, стали выходить письма к тебе. Это были письма из печки, письма из-под вольтовой дуги. Как себя, так точно я и тебя увидел, и свою тоску по тебе. Теперь его нет, теней не видно даже на тротуарах, ты мне не пишешь.
Спасибо, товарищи! Значит все пойдет по старому в безболезненной и прохладной неясности? Чудно, чудно. Что ж, мне наниматься на Рублевский водопровод что ли?
Ведь только поначалу трудно. А как начать, так я бы таких озер наплакал! Все это значит были бессмысленные мечтанья. Чудно, чудно, хоть удавись. Пощади, родной друг, прошу тебя. Один я всего этого держать и нести не в состояньи. На одних нервах. Откуда такая жестокость. Кто это тебя надоумил не писать мне как раз теперь? Больше ни о чем говорить не могу. И черт меня дернул купить пару пирожных. Я положил их на стол, и вдруг все увидел. Если завтра не получу письма, я тебя возненавижу. Нет, нет никогда, конечно нет, прости. На днях я постараюсь опять послать тебе денег. Их было бы достаточно, чтобы приехать к тебе, но недостаточно будет, чтобы отсюда уехать: подоходный налог не внесен, квартира неоплачена с апреля, не говоря о долгах, Шура Штих и Абраша давно просили отдать.
Но я со всею страстью прошу тебя привести свое здоровье в полный порядок.
Трать их, питайся хорошо и вкусно и ни о чем не думай. Пусть даже Феня пишет письма ко мне под твою диктовку.
27. VI.24 <Москва>
Утром получили письма соседи, темный хмурый день, низко нависшие тучи, холодно и ветрено, сквер в цветущих кустах и деревьях разговаривает по-шотландски, я настолько позабыл язык, что с трудом понимаю его.
Кажется он говорит, что Марина давно бы ответила, что жизнь полная ошибок, грустна и списана в расход. Он полагает, что ничего не может быть смешнее, чем давать сыреть пороху и потом удивляться, что он не рвется. И еще смешнее и безрассуднее забивать на шпингалет двери, стоявшие настежь, и заложив их болтом, безуспешно ломиться в них.
Когда ты мне напишешь?
Не случилось ли чего с мальчиком? Но тогда тем больше оснований написать мне. Хотя не о таком письме я тужу.
О как я стал бы читать его! И его не будет?
Я устал качать из себя слова и мысли, чувствовать, чувствовать, чувствовать до изнеможенья, до тупости, без пользы и прока, без радости для кого бы то ни было, без смысла.
Я устал бегать мест, где дают, где получаешь мысль за мысль, где можно глядеть и слушать, потому что другой так же не щадит своих сил, как и ты, и так же, как ты, устроен и тем же несчастен. Я устал отказываться от родства, от свободы и прочего, что перебрать и припомнить мне сейчас мешает огорченье.
Усыпи меня глубоко, чтобы спало во мне все, кроме того последнего волоска, который отделяет жизнь от смерти, одари речью волосок и он скажет: жертвы, уступки, ошибки.
Но только проснется все остальное, оно покроет своей музыкой эти три слова, волоска не станет слышно, и однако вся эта пробудившаяся музыка будет сама сплошь: жертва, уступка, ошибка.
Как ты легко негодуешь и отшатываешься. И как редко и как трудно ты даешь. Родная, я люблю тебя, пожалей меня и напиши.
28. VI.24. <Москва>
Новый день и опять от тебя ни привета ни ответа. Даже из Владивостока что-то доходит. А из Тайц ничего. Пода ют книжки стихов с Тихого Океана.
Почтовая бандероль, Арсений Несмелов[110], хорошие стихи. Звонил к Сене и узнал, что в Петербурге все благополучно. Это у них. Но если бы у тебя что-нибудь было, знали бы и там. Убежден, что кто-нибудь у тебя гостит, Нюня или мама, и с ними тебе ни весело, ни одиноко, ни хорошо, ни плохо, и во всяком случае не до меня, не до судьбы, не до роз, не до всякой этой, как в таких случаях говорят – фантастики. Очень печально и обидно. Черт их дернул загостить как раз в эту неделю, когда я спиритизмом занимаюсь и твой дух вызываю. А они его держат.
Виноват, pardon, ба. Да передала ли тебе Гита мои письма? Или лучше сказать, когда она их тебе передала?[111] Ну не томи же меня и пиши. Ну? Милая, милая, милая.
* * *
Будто у меня мало неприятностей и печалей. Как на грех я еще этим нетерпеньем зарядился. И оно растет. День, другой, третий. Это как три части большого романа. И ты молчишь в трех частях. Невозможно растянутые части, без главного лица, тоскливые, пустынные, читать нельзя. Главное лицо, главное лицо, явись, стройная боготворимо-своя, наполни мне день. Главное лицо! Ты видишь, я уже тоже не пишу тебе. Это одна видимость. Как разговаривать с воздухом.
Речь идет о получении стихотворного сборника “Уступы” поэта Арсения Митропольского, писавшего под псевдонимом Несмелов. К сожалению, ничего не удалось узнать о его знакомстве с отцом. Через Дальневосточную республику Несмелов вскоре уехал в Харбин.
Среда. <25 июня 1924. Тайцы>
Пишу и страшно хочу спать и плакать. Я получила в понедельник утром письмо по почте (письма получаются быстро и аккуратно) и в понедельник днем Нюня привезла мне два заказных и деньги с желтой бумагой. Я, вероятно, не успею обо всем сегодня сказать и даже не могу говорить о главном, буду писать о том, что первое подвернется под перо.
Так вот, в этих письмах во всех ты начинаешь с того, что, верно, мне от чего-то грустно. В день их получения слезы навертывались и подступали, все нарастая к ночи. Капочка с тех пор, как я тебе написала, простужен, то есть у него насморк, в понедельник было тепло, но ветрено, я вынесла его погулять и посадила в коляску за дом (где ветра не было), когда прошел поезд, оставила Феню с ним и побежала встречать Нюню.
С утра Женя был почти здоров. Приходим, течет у капочки из носу, чихает раз за разом, случились с ним у Фени всякие маленькие недоразумения, но это не важно. Позже, часов в 5 даю я ему кашу, чихнул он и вдруг стал задыхаться, началась рвота, полилась обратно каша, а потом опять, уже слегка окрашенная кровью. Феня кричит “ай, ай, ай, что с ребенком”, Нюня “где взять врача, едем в город”, вероятно, от очень сильного испуга я забыла растеряться и наделать глупостей, я приложила его к груди, его опять вырвало, положила его на бочок и постаралась отвлечь от раздражения в горлышке, потом дала сладкой водички, через некоторое время он успокоился, а спустя полчаса пососал и все еще слегка капризничая, усталый, потненький заснул.
Нюня уехала вечером, он сильно еще чихал и из носика лилось. Одуревшая, не успев раздеться, еще до ужина уснула и я. Вчера и сегодня ему лучше, насморк не такой острый. Но погода ужасная, опять снят тюфяк и коврик и гвоздями и досками прибиты и прижаты к двери на балкон, в который врывается ударами ветер, и бьется дождь, конечно, тревожно за капочку, как бы не простудился хуже.
Боричка, когда все проходит, кажется глупой тревога, теперь конечно понятна и рвота, – каша от чиха попала в нос, и он задохнулся, кровь была от насморка, как у взрослых, когда они с силой утирают нос. Но ведь я с ним одна, совсем непонимающая, а он не прощает мне ни малейшей неосторожности.
Ты пишешь в письме о том, что капочку ты должен был впустить к себе раньше. Знаешь, Боря, капочка это пулька, которая попала мне прямо в сердце. Удалить ее – верная смерть. Жить с нею можно, но бегать, быстро ходить, волноваться, не чувствовать ее, принадлежать своим желаниям нельзя. Я никогда не буду здоровой. А капочка чудный, хорошенький, благородный, у него отросли волосики, окрепли ножки, он сидит, и кажется мне, что сегодня треснула внизу десна и я жду со дня на день, что покажется беленький зубок. Ох, Боричка, как трудно мне и тревожно.
Твое желание прислать мне “нательное письмо” и желтая бумага, и лиловый сургуч, один из тех, которые тебе так нравились, и так хотелось их тебе употребить, и ты тогда еще не знал, когда и где, – большое, большое тебе спасибо. Но, Боричка, слушай, лучше приезжай летом, а не осенью. Осенью переезд с дачи, значит жизнь в Петербурге, надо будет кое-что Жене пошить (шубку, пальто, платье теплое) всякие хлопоты – я не хочу с тобой встретиться опять в присутствии заботы. Не покупай мне маркизет, а приезжай на этот червонец (дорога в один конец стоит 8 рублей) летом, когда хочешь, лучше, когда поспеют ягоды, будем собирать наперегонки, думаю, через недели две.
Но не страшно ли тебе. Ведь я от искусства за много верст, я худа и в веснушках и думаю, что стара. Хотя в лучшие дни, если б не постоянная озабоченность моим мучительным дорогим крошкой и боязнь его оставить на полчаса, я вот-вот готова поверить, что мне пятнадцать, потому что безделье, деревня, одиночество и Феня, бывшая уже и тогда и никогда и теперь не спрашивающая у меня, что купить, что сделать, а только говорящая: “Ну, Женя, пора Вам молока выпить” или “Идите обедать”.
Но, Боря, я и сама страшусь твоего приезда. Ты чувствуешь себя изменившимся, я – нет, и тебя другим не вижу, а все по-старому – со слабой охотой соглашаешься ты в моем воспоминании выйти со мной погулять etc. За себя же я боюсь, что в одиночестве сдерживаемая нервность обрушится на того, кто не раз уже сносил ее проявление. Но самое ужасное, Боря, – если я поверю, если я замечтаю, если я увижу сказку – и если ошибусь, я возненавижу тебя с такой злобой, слабые отблески которой ты замечал. Будь, Бога ради, осторожен. Твои письма для меня пока книга. Я не знаю, поймешь ли ты, что я этим хочу сказать. Помнишь, как ты говорил мне про письма и стихи Цветаевой, что они написаны поэтом и это дань поэтическому темпераменту, а не реальному чувству.
Спокойной ночи.
Не буду скрывать, даже вскользь употребленное имя “Цветаева”, “Марина” скребут по сердцу, потому что с ними связаны горькие воспоминания и слезы.
Еще несколько слов относительно приезда. Ты потратишь на поездку неделю – это не оторвет тебя от дел и Москвы. На обратный путь, верно, сумеешь получить за что– нибудь в Питере, и если нет, из предназначенных мне. Недельные твои расходы тоже отпадут.
Быть может, до скорого свиданья. Если приедешь, я попрошу тебя привезти клей (лучше кроличий), лак или очищенную нефть и цинковых белил в порошке. Я даже за этим не могу отлучиться в город.
29. VI.24. Воскресенье <Москва>
I
Сейчас получил и прочел твое письмо. Спасибо. Теперь тороплюсь это написать, и буду писать, как ты говоришь, – что под перо подвернется, потому что хочу его скорей на вокзал отвезти.
Таким путем оно, может статься, обгонит целый поток тех несправедливых писем, что я успел написать тебе в последние дни. Но я так скучал по тебе, так ждал сегодняшнего! Я хандрил, я раздражался, и главное, только в последнем я умудрился подумать о том, в субботу ли ты (в день приезда Гиты в Питер) получила мои письма, как все время был в этом уверен. И вот теперь из сегодняшнего узнаю, что только в понедельник. Я же рассчитывал, что в субботу, и твое молчанье томило меня, мучило. Теперь прости.
Как печально. Твое сегодняшнее письмо останется единственным. Так тепло и ласково ты со мной уже больше не будешь говорить всю неделю. Потому что по своему обыкновенью ты будешь ограничивать себя тем, что от меня идет, то есть зависеть от моих слов, от чувств и их выраженья. Как странно, в эту позу, оборонительную и выжидательную, ты ведь собственно встала из оскорбленной гордости, то есть от избытка силы, от того, что от природы тебе дана абсолютная своя наступательная первоначальная роль и тема. То же самое случилось и со мной. Ничего не может быть нелепее. Давай же вернемся к самовольным и неосматривающимся движеньям. Станем дышать, не думая при том, теряем ли мы или приобретаем. А то ведь поприщу относительности конца нет, нет той мелочи, которая была бы на нем достаточно мала. Вот и совершенствуешься, то есть мельчаешь, что дальше, то больше.
Мы скорее совпадем друг с другом, если не будем друг с другом считаться, если не будем стараться попасть в ногу. Так мы будем перебивать друг друга, или нет, это неверно, а лучше сказать: так мы, каждый порознь отравим себе радость естественного и вытекающего из нашей природы шага, между тем, как вверившись одной своей походке, мы иначе, чем в ногу, пойти не сможем. Это случится само собой.
Сколько таких доказательств дали мы друг другу в переписке. Заметила ли ты их. Поразительные примеры. Как часто натыкаясь на какое-нибудь место в твоем письме, думалось мне: теперь она об этом прочтет в том письме, что отошло к ней вчера или третьего дня. Так было с деньгами. Так это теперь с моим приездом, с твоими словами о твоей удаленности от искусства, о худобе и о веснушках. О сургуче. Все что ты о сургуче говоришь. Я сдерживался. Сказать или не сказать? И прекрасно – не надо было, ты все насквозь видишь. Ах, ты того не зная, часто видишь меня и мое не только потом, когда оно получается тобой, но и в миг самого возникновенья этих вещей. Ты живешь со мной и часто твой глаз погружается в мою мысль, в то, что со мной делается или меня окружает. Он погружается в эту среду, и ее волнует. И тогда я волнуюсь, привожусь в движенье под твоим взглядом и благодарю тебя и люблю. Ты знаешь все или могла бы знать, если бы не ленилась, в том же смысле, в каком я могу все вообразить и был бы готов, когда бы не лень.
II
Ты знаешь, я воображаю.
Меньше ли мое твоего? Ты об этом часто пишешь. Нет, нисколько. Даже и в смысле прочности, верности. Вот в чем разница. Твое знанье, твоя феноменально свежая, неиссушенная интеллигентностью, синтаксисом и “философией” интуиция оставляет для тебя всегда открытым выбор: действовать ли тебе или нет. За твоим знаньем тут же, сейчас же, как за площадкой лестницы открываются два водопада ступеней, и ты обладаешь волей и порывистостью, нужными для полных, безоговорочных поступков. Ты вся в движеньи. Вот ты и разбегалась по жизни, вниз и вверх, всегда быстро, всегда решительно, гулко, полно, с опасностью. Теперь если ты возьмешь вот это свое знанье (площадку с мгновенной задержкой перед прыжком вверх или скачком книзу) и вберешь в него все ступени, впитаешь их как бы в площадку, – ты получишь мое воображенье. Оно обладает такою силой, что отбрасывая несущественное, можно сказать, что я нерасщеплен, что у меня нет противоречий, то есть что в противоречиях я – не я, не человек, меньше ничтожества. Как человек же я целиком подчинен ему.
Что же это такое? Это знанье, без четкого, гулкого и электризующего соседства шага, действия, поступка. Оно само наэлектризовано. Поступки и шаги втянуты им в себя и растворены. Это знанье, изнутри пропитанное электричеством, опасностью, чувством, самопожертвованьем, движеньем. Это знанье, которое историей и культурой признается за дело. Если я скажу еще одну вещь про него, оно будет охарактеризовано полностью и сказанного будет достаточно. Немногими случаями действительного движенья и настоящих поступков, имевшихся у меня в жизни, я обязан только ему.
Если ему довериться и отдаться, оно развивает какие-то движущие магнетические силы. Видишь вперед, предвосхищаешь, и вдохновенье так пропитало тебя, что даже можно и предпринимать что-то, двигать руками и ногами, – поступать, потому что подымая руку, подымаешь руку, отяжеленную и проспиртованную им.
Я не могу переделать себя в главном. В мелочах можно перевоспитывать себя сколько угодно. Я делал попытки. Мне часто казался неказистым, второразрядным этот мой склад.
Ну что же. Двухтактного человека, находящегося постоянно в знаньи и движеньи (как ты), что меня пленяло и чему мое воображенье поклоняется, – я бы создать из себя не мог. Для этого нужно вновь родиться. Но удавались мелкие пробы: быть как все.
Однако, какой безотрадный мир открылся мне тут. Я остался ни с чем. Теперь я опять убедился в жизненной, житейской, элементарно правдивой и положительной ценности этой силы. Я с ней прожил лучшую часть своей жизни, с ней и умру. Только она свела меня с тобой и тебя мне возвращает.
Я сделал ошибку, заговорив с тобой о ней. Этого не следовало делать. На будущее время воздержусь. Она являет себя сама, ее лучше не называть, не теоретизировать. И потом, все равно ни к чему. Своими частыми словами о настроеньях и причинах ты обнаруживаешь высокое и приковывающее меня к тебе качество: ты не знаешь своей лучшей союзницы. Так это и должно быть. Ты говоришь о том, что сама называешь фантазией, книгой, и что по существу есть дух верности и преданности, и попрекаешь призрачностью то, что только и не призрачно: это-то и есть сила любви, которая только тогда и жива, когда ей тесно, когда она разбрасывается, отливает назад – и видит тебя в прошлом, забегает вперед и говорит о тебе, встреченной там, где тебя еще нет, и дразнит и раздражает тебя этим виденьем.
Пускай это называется фантазией. Qu’importe?[112] Таков я, ты не сможешь с этим не подружиться, когда увидишь, как эта сила следует за тобой и тебе служит.
Приезд. Вот еще удивительное совпаденье. Так же точно как и все, связанное с дачей: “мой дом” (помнишь), мои расспросы о местонахождении дачи и т. д. – и Евгеньевский пер.
А знаешь, зачем я так о точном адресе просил? Я уже и тогда рвался к тебе ехать и казалось – завтра-послезавтра увижу тебя.
Теперь, когда ты об этом заговариваешь, не ясно ли, что ты мечту об этом вычитала из сургуча. А что другое сургуч, как не новый приступ был надежды: сегодня же, чуть только “Современник” или, завтра, когда Лежнев…
Но нет, невозможно покамест.
Я уже сказал тебе вчера.
Доехать до тебя легче вдесятеро, чем выехать. А если на все плюнуть, слишком большой козырь получат домоуправленье, фининспектор и пр. и пр. в свои руки.
Пожертвовать квартирой? А не слишком ли жирный для них будет кусок. Нет, скрепя сердце, добьемся своего.
Целую пульку в сердце твоем, хорошенькую, благородную, тихую.
Воскресенье 29 <июня 1924. Тайцы>
Я получила уже сегодня твои письма от 23 и 26, как быстро – штемпель Москва 26, Ленинград 27, Тайцы 28. Опять встретились и разминулись наши письма об одном и том же – о твоем приезде сюда. Ты опять озабочен и чувствуешь себя в оковах, а между тем я утверждаю, что изменилась только погода. Для меня это только – все. Это смысл всего лета – это здоровье Жени, моя поправка, весь замысел дачи, отъезда.
У нас очень холодно и ветрено, и так как Женя был простужен и теперь сопит, то и жду хорошего дня, чтоб вынести его опять на улицу. Пока мы сидим в маленькой комнатке, где вечером 18, а утром 15 градусов, и где Женя перетрогал все стенки, где он тянется и просит все, что бросается в глаза, и ни секунды не сидит спокойно, с трудом укладываем мы его в 10, а уже в 6 часов он встает и опять живет быстробыстро и широко открывает глаза и забывает закрыть рот. Он безусловно похож на тебя, особенно, когда удивлен, а это с ним бывает часто.
О, я очень боюсь, что лето будет плохое и тогда, увы, еще более трудная зима, трудная невероятно, потому что страшно подумать, как я не оправившись, а ты еще больше устав, будем существовать. Я ем много, но пока абсолютно не потолстела, а может, даже похудела – вся надежда на жаркое лето. Со страхом я еще думаю о том, кого я на зиму возьму к Жене. Феня хороша по хозяйству и может меня от него абсолютно избавить. Няня она – никудышная, она неряшлива в том смысле, что противоположно китайцам и твоей укладке чемоданов, потом от нее сильно пахнет потом, и на нее нельзя и на час оставить ребенка – она несообразительна, тяжела и тупа. Вполне доверяла Женю я Пане, к тому же она грамотна, весела, но у нее заболела мать, она уехала в деревню, и не знаю, вернется ли. Но это все на потом.
А хотела я сказать тебе вот что. Оставить Москву на неделю безусловно можешь, можешь даже никому не говорить о своем отъезде (кроме Шуры), а скажи, что на неделю уезжаешь в Пушкино. Я знаю, что неделя проходит так быстро, что твоего отсутствия не заметят. Но пусть тебе не кажется, что это необходимо, нет это было бы быстро, освежающе. Я больше не буду писать об этом и тебе не советую, потому что может показаться, что это очень долгое и трудное путешествие, о котором надо сперва серьезно подумать.
Боричка, у меня к тебе просьба. Достань и прочти “Путь к славе” (перевод М. Славинской) Роберта Уитгенса. Я это читаю теперь в журнале Вестник Европы за 17 год – январь и февраль – хорошо. Прочла я пока только до Продолжения. Достань поскорее, прочти и напиши. Очень может быть, что сильно на меня подействовало, потому что я очень давно ничего не читала. Если я успеваю написать тебе письмо или почитать – это уже страшно много для меня.
Боря, вспомни, каким ужасным тебе всегда кажется связанность, например, необходимость оставаться дома, когда я бывала больна (в Берлине, помнишь, да и в Москве, уже на второй день после операции первой), и ты должен сильно меня пожалеть и понять, что я не могу не быть бледной, сжатой, безразличной ко всему. Как хочется мне быть веселой, беззаботной, здоровой, спокойной, главное, беззаботной и свободной, и я знаю, что это невозможно так же, как вернуть время. Моя привязанность и связанность Женей (о, Боричка, как крепко я его люблю) так болезненна, как будто я вся окружена иглами, готовыми вонзиться, как только я неосторожно пошевельнусь.
Я и об этом больше не буду писать, – так уже отпали темы “твой характер”, “твой приезд”, “моя связанность Женей”.
Всего хорошего, целую, не грусти.
Я просила тебя как-то прислать книги, ты не ответил, трудно ли это. Сургуч в дороге с писем срывают и остается только след.
30 <июня 1924. Тайцы>, понедельник
Я написала тебе вчера письмо и вложила лепестки розы, дойдет ли оно. Я получила сегодня два твоих письма от 27 и 28. Мне грустно, что тебе тяжело, и что я не могу ответить тебе на твои заказные так, как они того хотят. Я не помню теперь, вырывались ли у меня в жизни горячие слова любви, даже слова уважения (как к папе) или горя и сочувствия (как к Жоне) должны дойти до невероятного обострения, чтоб быть сказанными. Но ты, конечно, прав, я отсырела, теплота моего непосредственного чувства меня не согревает. Ушла ли она, бесплодно поглощенная тем “искусственным льдом”, о котором ты пишешь? Нет, Боря, я думаю, что не было этого льда.
Самое близкое, что я помню, это зима. Ведь еще прошлой осенью у тебя были мечты, правда, мне казалось и тогда, что они едва меня касаются, а обращены на возрождение твоей работы, краешком они захватывали наши отношения, как условие и настроение. Эх, Боря, о чем толковать, щедро лилось масло в огонь враждебности. Мы шли по дороге, и камни, подставленные жизнью, принимали за ногу рядом идущего. Мы оба жадные, мы боялись дарить друг другу минуты, часы – и оба вне работы, вне радости, вне свободы.
Помнишь ли ты, с каким негодованием ты вспоминал поездку в Веймар и дни, исключительно для меня там проведенные. А теперь, Боря, это желание (которое возникло в отсутствии) меня видеть, быть со мною, говорить, дышать, оно пройдет еще прежде, чем ты насытишься, пройдет после первых двух-трех дней, когда ты в оправдание скажешь “надо работать”, “дни уходят”. И слова эти будут правы, но не право будет настроение, ощущение неполноты и где-то только краешком задевающая мечта.
Быть может, если бы я, подобно тебе, получила сейчас возможность тратить целиком весь день на работу, я почувствовала бы острую необходимость любить. Теперь любовь у меня, отраженная от твоего чувства, от твоего сердца, и много надо ему тепла, чтоб гореть на двоих. И кажется мне, что не осилить тебе. И что реальная ежедневная жизнь вместе это не замедлит доказать, и я страшусь ее, боюсь опять, как прошлую зиму, взять на себя год испытания. Помнишь, я говорила “Зима покажет”. Я не хочу, мне слишком больно. Упреки, хотя причины их получать сейчас нет (я получила письмо в понедельник, во вторник ответила, в среду письмо ушло), я принимаю по адресу с большей уверенностью, чем заказные.
Женя
Не жди скоро письма, мне трудно писать, трудно смотреть в будущее.
Вторник, 1 июля <1924>
Уже сегодня получила твое письмо, посланное вдогонку. Ты во всем совершенно прав. Уже в том письме, как ты его назвал, карандашном, когда я писала тебе “Бога ради, не говори: прости, не зная до конца свою неправоту”, я хотела, но не помню, почему не написала о том, что не дай Бог тебе от себя, от своей сущности отступиться, хороша ли она или плоха, близка ли мне или враждебна. Зависимость в творчестве, ты знаешь, как для меня противна, но в жизни, я даже к совершенно чужим, как например к Стелле, чувствую сильную вражду за то, что она не своим нутром живет. Что касается моих писем, то ты опять-таки совершенно прав – я не пишу, а отвечаю, а отвечать мне тоже скучно, кажется, что я под диктовку пишу и что ты, действительно, все знаешь, и я с удовольствием ликвидирую тему за темой. Не сердись и не огорчайся, но я, вероятно, буду писать редко, и когда в том будет явная необходимость.
Не проси меня писать и постарайся не связывать желания (если оно будет) мне кое-о-чем рассказать. Если ты будешь спрашивать о том, на что сам, действительно, не сумеешь ответить, я напишу, если тебе захочется просто говорить – я буду слушать внимательно.
Женя
У Женички внизу два зубочка. Он с таким удовольствием и удивлением стукает ими о стакан, о блюдечко, о ложку. Два дня, как мы в перерывах меж дождем и ветром на полчаса, на десять минут, зависит от погоды, выходим и опять бегом возвращаемся домой, повернув Женю спиной вверх к дождю, а он принимает это за игру и хохочет.
2 июля
Боричка, я наспех, уже в темноте пишу тебе. Мне хочется провести рукой по твоим мягким волосам. Теперь ночь, и мне уже давно пора спать. А что если наплевать на нездоровье завтрашнего дня и придти к тебе. Боря, мне не спится, можно? Какое счастье быть животным или ощущать так вдруг первобытные инстинкты. Подошла к корзинке, где спит Женя. Какое счастье, это маленькое тепленькое мое тельце, мой ребеночек, Боря. О, если б можно было стать просто кошкой, лечь около него, отодвинуть его бочком, чтоб он со сна с закрытыми глазами потянулся к твоей груди и замурлыкал по-кошачьи сладко. Ты представь себе, Боря, если б это был первый ребенок, если б никто никогда не видал их кругом на каждом шагу. Что должна была бы чувствовать мать. О, как хорошо быть кошкой или львицей, которая уверенно, гордо трется боком (помнишь как в Тиргартене[113]), кладет морду на шею льва и отдается марту, и сливается с природой, и себя и свое дитя знает, как единственное – вне сравнений и опыта других.
Как странно, это только что пришло в голову, что животные, которые нам кажутся стадными, которые все в своей жизни похожи, на самом деле единственны, потому что у них все через свою единственную природу и опыт. Я не знаю, поймешь ли ты меня. Я хочу сказать, что отсутствие человеческого ума и опыта через понимание делает их подлинными индивидуалистами.
3. VII.24. <Москва>
Золотая моя умница, получил воскресное и понедельничное твои письма. И опять в разминувшихся письмах речь об одном: о том, что у нас в разминающихся письмах об одном говорится. Спасибо за благоухающую фотографию, вложенную в воскресное письмо. Ты знаешь, запах ее так силен, что конвертом надушился ящик стола, честное слово, не преувеличиваю. Вот как это было. Я положил оба письма ко всем твоим остальным, в ящик. Сейчас хотел перечесть. Вынимаю конверт за конвертом – все не те, старые. Стало быть, я их в ящик не положил, только показалось, может быть, на печке близ постели? Нет, ящик неуловимо и расплывчато отзывается розой, то есть тем, что я тебе в заказных писал, то есть твоей готовностью принять это все на себя, то есть Тайцами, лицом Тайц, еще немного отдаленной, но уже близящейся радостью. И действительно, письмо нашлось, только я его меж других засунул. Ты все видишь, ты все знаешь, роза меж двух половинок желтого, загнутого листочка это ты сама, и ты ее вкладывала, чуть-чуть волнуясь, в полном сознании того, что ты делала, и что это значит, и опять опередила меня.
Но сделай усилие, милая подруга, и стряхни с себя эту печаль. Правда, печалиться незачем. Ты думаешь, мне тут очень сладко? Ведь я ничего существенного не наработал, и в этом отношении (в отношеньи работы) никаких перемен по отношенью к зиме нет. Но я внутренне переродился.
Драгоценно своим и достойным стали для меня опять, мое стремленье ко благу, к правде, к совершенству, то есть мое искусство и моя любовь, то есть божий мир и ты в нем. И вот, достаточно было надышаться, хоть пассивно, всем этим, как и у всего окружающего изменилось лицо.
По счастью проявлений просто-напросто любви ко мне несравненно больше, чем знаков недоброжелательства и вражды. И слава Богу, что к обеду моему подаются перец с горчицей. Как бы стали мы есть лучшее, что может дать земля, не ставь судьба к нам на стол этого горького судка? Крест<оянские> и пролет<арские> поэты словно нарочно созданы, чтобы было у нас, чем обливать и посыпать салат, огурцы и редьку. Ты скажешь, что я слишком о себе много говорю. Ну прости, а мне казалось, что о тебе, я нас друг от друга не отделял. Но если вспомнить, что и пастернак существо огородное, а также и оглянуться на сказанное в первых строках письма или просто сунуть нос в выдвижной ящик, то надо будет признаться, что письмо совсем ботаническое. И слава Богу.
О чем тебе убиваться? Выйдем, выйдем на дорогу, родной кусок меня самого, правая моя рука, межреберное мое чудо. Выйдем, не беспокойся. И в той мере отдельности, какая нужна, я и тебя на дорогу выведу, то есть помогу выйти, то есть хочу помочь.
И потом одну еще вещь я узнал. Что у тебя нет другого никакого мужа, нежели тот, что я теперь, то есть что только в поэте ты найдешь человека, и совесть, и прозу, и помощь, и пользу, и толк. И скверно, что эта сила сейчас бездействует во мне.
Теперь о деле. Я опять твердо знаю, что раньше десяти дней мне никоим образом к тебе не собраться. Но думаю, что и не позже, чем через две недели соберусь. Я нарочно ничего тебе не пишу о разных фактах и делах (хотя все они незначительны), чтобы иметь о чем за столом при Фене с тобой говорить. Но иногда мне кажется, что – не в письмах даже, а в воображаемых обращеньях к тебе за это последнее время я выговорил все, весь выговорился и часто с робостью я думаю о том, каким бессловесным я к тебе приеду. И действительно, я не слышу себя разговаривающим с тобой. Но я вижу наплывы густой зелени, опускающееся и поднимающееся пространство, извилины и неожиданности дорог, и тебя и себя, глядящего на тебя и кажется сутки сплошь целующегося и сросшегося с тобой, и вот мы с тобой цветем, пахнем, ослепляем или дышим тенью, закатываемся и восходим.
8. VII. <1924. Тайцы>
Вчера получила твое письмо. Захвати, Боря, на всякий случай, потому что я слабо надеюсь, что сумею поработать, один маленький подрамок из тех, что в большом шкафу, работу с него сними и приколи к двери шкафа, а подрамок сложи и вложи в чемодан, холст, не приготовленный, то есть просто полотно, у меня здесь есть, клей хорошо бы кроличий, листика два, не помню, есть ли у меня дома, где-нибудь поищи в нижнем ящике бельевого шкафа, того, что около кровати, потом 1/4 или 1/2 фунта цинковых белил в порошке достанешь в москательной лавке на Арбатской площади, и немножко обойных гвоздиков. Хорошо бы еще листа три бумаги для рисования, тоже у меня в нижнем ящике возьми, можешь взять вместе с папкой, она тоже, вероятно, в твой чемодан влезет. Если это тебе не трудно, то сделай. Если покажется неприятным, то брось, обойдусь.
Видишь, Боря, ты в письме пишешь, что тебе не сладко, а мне так кажется, что всю тяжесть я взяла на себя, уехав с Женей. Правда, у тебя осталась забота о деньгах и квартире, но это несравнимо – бывает же у тебя все сплошь 24 часа твои – о какой ты счастливый!!! Если ты приедешь 20-го, и приедешь только на неделю, то попадешь в плохое время, вероятно, это будет время моего нездоровья, когда я раскисшая буду, как сонная муха, ползать или лежать. О чем я тебе еще хотела написать – вот: здесь все время ужасная погода, дождь, ветер, холод.
Если так будет продолжаться, то может, придется уехать, – об этом мы потолкуем, когда ты будешь здесь. Увы, я потеряла свою решительность и быстроту поступков и собираюсь учиться терпеливости, я бы уже сбежала – но как подумаешь, что опять ехать, что-то искать (то есть если в Москве хорошая погода, то под Москвой комнату), опять перебираться и потом денег-то опять сколько тратить, и решаю, что надо быть терпеливее и жить не так, как хочется, а как можется (увы, когда-то Хиля меня хотел приучить к этой отвратительной пословице).
Ну вот так, жду тебя с нетерпением по-разному и по-всякому. Хотя ждать терпеть не могу. Помнишь, как ты ждал в Братовщине приезда и как проходил у тебя такой день. Правда, мне дней считать не к чему, но от ожидания сосет под сердцем. Может, ты напишешь точно, когда выедешь, приедешь в Петербург ты часов в 12, а в 1.40 с Балтийского вокзала поезд в Тайцы, если напишешь, буду встречать.
Всего хорошего, ответь поскорее.
Женя
Почему ни ты, ни Шура мне не напишете, как он живет и как Ирина, занимается ли, отдыхает ли. Крепко их целую. Женя
9. VII.
Только что получила твое об ангине. Боричка, выздоравливай и приезжай поскорее. По правде сказать, я тоже сильно соскучилась, крепко тебя целую. В комнате у меня стоит целый горшок красных и маленьких бледно-розовых роз, я бы с радостью тебе их отправила, а пока отправляю их всем сердцем.
Твоя Женя.
Из приписки можно судить, что было несохранившееся письмо от 4 или 5 июля, в котором отец сообщал о том, что заболел тяжелой ангиной. Вскоре у него начались сердечные осложнения, что задержало его отъезд в Тайцы еще на целых три недели.
9. VII.24. <Москва>
Милая подруга!
Завтра я уже выйду наверное и думаю, что у меня весь день продержится нормальная температура. Какие скоты в Госиздате! Неделю назад они клятвенно пообещали заплатить мне 8-го (вчерашний день). Так как я еще не выхожу, а Шура опять занят таинственной работой в острой и скоротечной форме, то попросил Абрашу[114] сходить с доверенностью. И вот оказывается отложили платеж больше, чем на неделю. Когда же я наконец к тебе попаду! Мне трудно теперь писать, я понять не могу, откуда на меня напала такая слабость. Словно я кровью истек. Господи, как я тебя люблю и как всеми помыслами и каждою жилкой к тебе тянусь. Неужто опять обманут?
Они обещают теперь дать денег в четверг через неделю. Если не случится чего-нибудь непредвиденного, выеду в пятницу. В будущую, стало быть субботу буду у тебя. Ты не огорчайся, дорогая, что все это становится непохоже на то, что нам раньше представлялось и желалось. Это только так кажется. Это оттого, что тон писем стал у меня другой. Да как ему было и не измениться. Я пишу тебе, как из тюрьмы, из самой гущи безысходно пустого и скучного дня. Я вынужден воздерживаться от чувств и впечатлений, вызываемых посещениями друзей. Одни, исходящие от их рассказов и от разговоров с ними, я подавляю, чтобы температура у меня не поднялась, сильно, как оказывается, отзывающаяся на всякое волненье.
Другие, идущие из глаз в глаза, я отвожу оттого, что тебя люблю и что ты самолюбива и ревнива. А безразличной пестроты, то есть улиц, незнакомых людей и пр. и пр. я не вижу, под дождями и под солнцем не бываю, не пишу, и только может быть сегодня за чтенье возьмусь. Мне стоило бы большого и мучительного напряженья вновь вообразить Тайцы и тебя, и я этого соблазна избегаю. Нет, нет, любимая моя, ты ни о чем не думай и ничего ни с чем не сравнивай.
От наших (от мамы и Лиды) получилось письмо с ответом на то твое, о котором я тебя недавно запрашивал. Я тебе пересылать его не буду, а с собой привезу. В мамином много чувства, в Лидином много ерунды, но будто все это мимо, чем-то не понравилось мне письмо. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что для меня искусство в целом, его мир, тип человека, который оно вырабатывает, его историческое прошлое, трудности, им преодолеваемые в наше время, его будущее, о котором можно гадать, вся его семейная хроника – кровно нужны мне, как воздух, которым я всегда дышал и дышать буду. У меня были родители и сестры, пока они определялись тем же свойством, пока они, сами ли качаньем этого воздуха занимались, или просто находились в нем, косвенно с ним связанные. Я любил своих только так и только в этом отношеньи. Читая Лидино письмо, я пришел в раздраженье оттого, что этого там нет. И не отходя от стола написал им резкое, нехорошее письмо. Сейчас, разумеется, каюсь и сегодня же буду у них просить прощенья. Засыплю их ласковыми словами, но почувствовать без этого возвышающего фона у них за плечами не смогу. Это не относится к папе, который с ума сходит от красок в Палестине.
P. S. Милая Гулюшка, я тебя крепко люблю, крепко целую, крепко обнимаю. Я совершенно не знаю, как с тобой буду жить. Я тянусь и рвусь к этому, как к предельно глубокой, неповторимой по тонкости, нечитанной мною и мною несочиненной книге, где все достигнуто и выражено с тем совершенством, с каким в полдень спит послеобеденным сном солнце, и сквозь сон говорят петухи в бездонно тихом и голубом море прожитого; – человеческих воспоминаний, из которых состоит летний неподвижный воздух в тридцать лет.
Прости. Этого вкуса бытия, вяжущего, захватывающего и усыпительного я передать не в состоянии. В выраженьи это становится чепухой.
Свет в твоем присутствии представляется мне тем белым светом Ван Гоговского созерцанья, при котором от зрачка художника, страстного и повествовательного, падает тень на луг и на полотно. Звук – таким сильным и еле уловимым, словно это звук слова, произнесенного год назад и каким-то чудом задержавшегося в своем долгом пути. Страшная отдаленность заряда и зарожденья. Страшная сила разрыва, преодолевающего громадные расстояния. Тонкость и неуловимость проявлений, победивших огромные расстоянья. Тишина, залитая солнцем, в которой уголь и гром.
О прости, такие вещи пишутся не так и не второпях.
12. VII.24. <Москва>
Дорогая моя!
У меня теперь с температурой то же самое, что у тебя с кровотеченьем бывало. Сегодня опять будет Левин. Но это все пустяки. Печально, безысходно, непоправимо печально то, что тем временем, как меня томили и томят с платежами, мелькают дни, проходят недели, и вот уже лето кончается, и я у тебя не побывал. Как всегда в таких случаях, я совершенно пал духом.
Был день, когда я прощался с тобой, не с тобою вообще, но с тобою в Тайцах, с тою тобой, к которой душой несли заказные письма, прощался и плакал. Потом я узнал, что прощаться и плакать мне нельзя, потому что это подымает температуру на 0,5. По той же причине мне нельзя и работать, и читать, и, вероятно, и письма писать вредно. Вся разница между моим теперешним и твоим берлинским положеньем, отбрасывая просто несравненно большую серьезность твоего, заключается в том, что все то, чего мне нельзя, мне в то же время обязательно нужно. Обязательно надо достать денег, ты наверное давно без них сидишь, квартира уже третий месяц не оплачена (не из чего было платить), и на нее нарастает чудовищная пеня, то же самое и с подоходным налогом.
О, что за каторга! Мы должны чудом откуда-то доставать деньги в то самое время, как всякие издательства, в том числе и государственные, и всякие люди, в том числе и государственные, вправе месяцами отказывать нам в гонорарах, расплатах по договору и пр. и пр. Это оскорбляет и доводит до отчаянья. Но ради Бога, не поддавайся моему настроенью. На этот раз это одно из тех, с которыми надо бороться. Одно их тех, что ведут вниз, а не вверх, – вот в чем вся разница, и вот в чем его осужденье. Пускай настроеньем была и первая половина лета. Его оправданье было в том, что оно подымало и прибавляло жизни. В таком настроеньи производятся открытья и делаются завоеванья. А это – смертоносное. Оно еще ниже действительности, то есть того, что подметают дворники с мостовых.
Напиши мне ласковое письмо, посмейся надо мною, скажи, что все это пустяки, замедли течение времени, мне хочется еще в июле попасть к тебе. А я все силы приложу к тому, чтобы вернуть себе то настроенье, которое залило мне светом сердце и позволило мне прочесть в нем много такого, чего я в целом никогда в нем не читал, а частями читал очень, очень давно. Этому моему письму значенья не придавай. Все уладится. С осени обязательно надо будет избавиться от проходной комнаты, сейчас у меня решимости на это нет. То есть просто нет сил. И вдруг выйдет, что я какую-нибудь глупость сделаю. Без тебя этого нельзя предпринимать. Пиши же мне, родная моя, утешь и поддержи.
Твой Б.
Пятница 11. VII. <1924. Тайцы>
Боричка, конечно, я твоей маме письмо отправила на адрес Жони, но своего адреса не дала.
Я бы все-таки хотела точно знать день, когда ты выедешь, хочется тебя встретить.
Это, конечно, случайность, но почти в тот же день или днем позже, когда ты заболел, снился мне страшный сон, до того, что и теперь вспоминать жутко, а тогда я долго ходила напуганная, рассказала его Фене, хотела тебе написать.
Вечер, у тебя собралось много народу, почти все совсем молодые, то есть вроде Вильяма и Куниной[115]. Помню мельком, но определенно, я что-то живо, но с робостью говорила и вдруг поняла, что все они еще очень молодые и наивные, потому что слушают меня еще с большой робостью. Ты был оживлен и взволнован, много говорил, кажется читал, кто-то играл. Комната, терраса, пейзаж не русский. Серый камень низкого широкого крыльца, окно в глубине ниши, сумерки, рояль.
И как бывает во сне, все сосредоточилось в той полосе, едва достигая рояля и чуть-чуть повыше голов на фоне очень широкого окна. Аэропланы, целая стая от выстрела сорвавшихся диких уток, с резким звуком стали разрезать воздух (я не знаю, как тебе объяснить, был ли то звук мотоциклета или низко очень быстро пронесшегося аэроплана, или образ свистящей над головой сабли). Все мы выбежали на площадь перед домом, думая, что видим гонки, состязанье.
Дальше я никого не видела. Около меня, как коршун, опустилась громадная птица (все еще казалось, что это машина, хотя аэроплан машиной трудно назвать) и все с тем же оглушающим звуком впилась стальными когтями в землю. Грудь и обращенные на меня крылья были темно– розовые (но “розовые” ничего не говорит – это был жуткий розовый цвет, по силе и матовости – красный, по тону – розовый), поджатые во время спуска, покрытые серыми перьями ноги потом впились в землю стальными когтями. Но я, все еще пораженная, любовалась этой птицей, опять поднявшейся в воздух, когда другая камнем слетела рядом, но промахнулась и задела меня только крылом. Я все поняла и бросилась к дому, громко зовя всех опомниться и вернуться, думая о тебе и зная твою рассеянность. Было поздно, окровавленных внесли двоих. По ощущению, один из них был ты.
Дальше уже сон лишен ясности. Лазарет (как во время войны) и много раненых ужасными птицами, всех перевязывает уставшая, измученная сестра. Приходящие люди исполнены каким-то религиозным подъемом и даже не горюют. Уже совсем смутно помнится какая-то женщина, славословящая над останками, и я, умоляющая сестру, которая, наконец, дала мне льду, который непременно надо было завернуть в марлю и заполнить им раненую грудь.
Жду с нетерпеньем.
Женя.
Суббота.
Просьбу не говорить о твоей болезни не могу исполнить, потому что уже сказала. Сегодня я совсем кислая, нездоровится. Три дня у нас жарко, но все-таки ветер.
14. VII.24. <Москва>. Вечером
Моя родная, я облился слезами, прочитав твой сон. Это сон в руку и слава Богу, что, кажется, миновал, ото снился. Ты и не подозреваешь, сколько в нем правды, и как поразительно, что я сегодня как раз про него узнал. Увидимся, расскажу. Но как мне сказать наверняка уж и теперь, когда я приеду: я сегодня в первый раз вышел на несколько минут. Пришлось скоро домой вернуться, пошел дождик. Какая не удачная карточка, но что за чудесный мальчик на ней! Какой-то задорно-созерцательный, настороженный и грустный. Страшно милый и удивительно, что наш. Слава Богу.
Письмо, которое сопровождало карточку, если исключить приписку насчет роз, огорчило меня. В нем в первый раз за все лето сказался незаслуженный холод, и счастливцем ты назвала меня некстати, не вовремя, я тебе и про это расскажу.
Однако я знаю, как действуют такие сновиденья; и чего стоит физическая подоплека повышенной чувствительности теперь также узнал. Так вот. Лучше уж огорчай меня, но да минуют тебя такие сновиденья. И лучше будь безжалостной, чем жалостной, потому что у жалости есть свои медицинские причины. Но мы скоро увидимся. Какое счастье! Это тоже представляется мне сном. Дай Бог, чтобы не был он кратковременен. Ты все боялась моей изменчивости. Я не этого опасаюсь.
Шура все еще не уехал, хотя у него уже больше трех недель заграничный паспорт в кармане. Пепа[116] привлек его к работе по мавзолею, и по обыкновенью, он работал сплошь, дни и ночи. Мы немного ссорились с ним, потому что в дни, когда я так нуждался в его помощи, он не оказывал мне ни малейшей, раздражался и плохо себе представлял, что со мной.
Теперь горячка рабочая у него миновала, и сегодня он будет в Госиздате по моему порученью. Если ему дадут денег, я завтра же тебе пошлю по Петербургскому адресу. Прости, что так задержал, не моя вина. Оставлять дачу и не думай. Никогда вперед нельзя знать, какая будет осень. Особенно нужно это сказать тебе в эти дни, которые и у вас, вероятно, дождливы. Здесь тоже ветер и дождь.
Ах Женичка, Женичка, вчерашнее твое письмо со сновиденьем! Какая близость, какая сопряженность в судьбе. Мы рядом с тобой – и кругом опасная стихия случайности.
17. VII.24. <Москва>
Дорогая Женичка!
Ура, ура, ура! Я уже совершенно здоров, третий уже день как выхожу, и постепенно начинаю себя самого и дела в порядок приводить. Мы еще поживем с тобой, именно так, как вначале предполагали. Приехала Гита и кое-что рассказала. На карточке ты ужасно худа. Это и она подтверждает. Гулюшка, надо тебе самой своим здоровьем заинтересоваться, это во власти человека, ты обязана поправиться и это задача выполнимая, – я это на себе проверил. Я именно оттого так убежденно об этом говорю, что у меня очень капризная разыгралась вещичка на почве ангины, с которой казалось бы нет никакого слада, потому что она не от одного питанья и режима зависит, и вне человеческого контроля. И все же, мне так хотелось выздороветь и к тебе попасть, что я с ней, слава Богу, совладал и вполне здоров опять. У меня температура держалась оттого, что налеты очень медленно с горла сходили. А это было вызвано слабостью. Слабость же зависела оттого, что сердце у меня сплоховало. Левин нашел у меня какую-то ослабленность сердечных мышц. Это наверное оттого, что я тебя слишком крепко люблю. Выражалось это в том, что у меня около двух недель был пульс, по частоте не соответствовавший температуре. Температура была уже ниже тридцати восьми, а пульс такой, как бывает при очень высокой. А я себя считал человеком искренним и правдивым.
Мне не хотелось тебе об этом писать, чтобы не волновать тебя зря, хотя тут собственно нечего было волноваться, но ты бы, может, к этому всему придралась и заволновалась. Сейчас же говорю потому, что все это миновало, не оставив ни следа. Но я и теперь бы болел, если бы не хотел так сильно выздороветь. Прости, дорогой друг, что я так много об этом говорю. Но мне так радостно, что я опять в полном смысле слова на ноги встал! Я нарочно ничего не делаю, и слава Богу, мне это ничегонеделанье не в новость и не в тягость. Поработаю у тебя, на даче.
Я все привезу, о чем ты просишь, но зачем тебе было меня дожидаться, ведь это, верно, не бог весть каких денег стоит (подрамок, кроличий клей и т. д.). Когда приеду, сказать не могу. Но можешь быть убеждена, что без причины откладывать не стану. Наверное извещу. Все-таки я еще и слаб и совсем без денег. Письмо отправлю с Николаевского вокзала. Мне захочется, вероятно, расцеловать зданье. Это было последнее здоровое впечатленье и теперь – одно из первых. Обнимаю тебя и мальчика. Верно, он препотешный и трогательнейший.
<22–23 июля 1924. Тайцы>
Боричка дорогой, прибежала с телефона. Я слышала, как ты готов был расплакаться, и сама не могла тебе от волнения ничего сказать. Слушай, Боря, не волнуйся – это главное. Не пиши, если тебе нельзя, письма на вокзал не смей возить, ты, верно, по дороге опять простудился, а в Тайцах не раз они лежат лишний день или два. Я узнаю, можно ли в Тайцы телеграфировать, и терпеливо буду ждать твоей телеграммы о приезде, если ты не сумеешь выехать во вторник, как мы условились.
На всякий случай знай, что в Евгеньевский переулок надо идти вдоль линии обратно, если пойдешь обратно, то значит с правой руки, а если с поезда глядеть, то с левой, с той, где станция. Пишу об этом на тот случай, если тебе самому придется искать дачу, потому что переулок редко кто знает, скорее знают дачу Карновского. Так вот, пойдешь, значит, обратно, минуешь сломанные вагоны на линии и увидишь три домика, первый с красной крышей забит досками, второй тоже с красной крышей – это и есть наш.
Боричка, сколько же тебе, бедному, надо денег достать? А главное, что с твоим здоровьем. Когда я получила твое письмо (ответ на сон), то меж строк прочла, что ты болен и боялась, не порок ли у тебя сердца, потому что ты в письме все говорил о “физической подоплеке”, потом ты написал, что здоров, что же опять?
Но Боричка, если тебе даже писать нельзя, то не пиши, я подожду твоего окончательного выздоровления, смотри не выезжай больным, чтоб хуже в дороге не простудиться, а только тогда, когда позволит Левин, ведь он и сам понимает, что тебе хорошо в деревне. Погода уже вторую неделю хорошая, я сегодня лежала час на крыше, и лицо еще теперь саднит и горит от солнца.
С субботы я тебя ждала, убрала и каждый день выбегала в 3 часа к линии, ища тебя на площадке.
Среда.
Вчера не дописала. Боричка, может, если тебе нельзя, Шура напишет мне толком о всех твоих горестях. Боря, а может, если ты ко вторнику или раньше будешь здоров, а денег не будет, ты оставишь Абраше или Стелле (если Шура занят) доверенность на получение денег, а сам займешь хотя бы у Левина, расплатишься и приедешь. Тебе, конечно, виднее. Неделя пройдет быстро, ты не огорчайся, только бы погода подольше постояла. Теперь сенокос, жаль, что ты не увидишь лугов, сплошь покрытых ромашкой, колокольчиками и высоким красным клевером (кстати цвет клевера близок к цвету птиц), рожь уже тоже желтеет, вообще уже в Тайцах иначе, сперва была весна – большие пространства, полное одиночество, однообразие свежей молодой зелени, потом лето – деревья закрыли простор, люди прогнали тишину, исчезло однообразие, но с ним и ширина, но как хороша была рожь и луга, при наших ветрах у нас было, как на море. Теперь стоят стога.
До скорого свиданья.
Женя.
Пятница 25 <июля 1924. <Тайцы>
Телеграф есть, Боричка, за это письмо заранее прости. Тебе и так по горло надоело получать всякие удостоверения, а мне приходится тебя просить получить о том, что ты сотрудник с постоянным окладом, вчера был декрет, я его не читала, но мне говорили, что служащие (отдыхающие) платят в дачный совет 3 рубля с семьи, а все остальные 15 рублей с человека, так что если у тебя на то хватит сил, захвати удостоверение. Я знаю, что тебе это неприятно, но по 15 руб. с человека.
В городе задержалась я лишний день, ужасно хотелось тебе опять позвонить, но никто не мог мне подарить 3-х рублей. Сняла я Женю у Наппельбаума[117] (он сам в Москве), снимала дочка, кланялась тебе. Это я эксплуатировала “Звучащую раковину”[118]. Они берут 10 руб. за три карточки, а я сказала, что могу 1 руб. за 1 карточку, если тебе неприятно, то прости, мне уж очень хотелось снять Женю, ему как раз в среду исполнилось 10 месяцев. Но все было мило и весело, она очень просила нас (если ты приедешь) зайти к ним осенью, обещаясь бесплатно снять всех троих.
Позвала я к Женичке врача того, что советовал А<брам> О<сипович>, Валицкого. Кстати, Абельман, уезжая, всех своих больных просил к нему обращаться. Он удивительно симпатичный и обладает тем, что необходимо врачу, к которому мне обращаться – категоричностью и строгостью. Женей остался недоволен. Есть признаки рахита: большая дырочка, увеличение печени, шишечки на головке, прописал строгий режим: соленые ванны, пребывание на солнце не меньше, чем в тени, даже сиденье на горячем песке, овощи и компоты. Ты Жениным рахитом не огорчайся, врачи почти у всех детей находят его признаки, которые при хорошем уходе за ребенком годам к двум исчезают. Валицкий мне сказал, что если я при благоприятной погоде буду следовать его советам, то к году Женя станет на ножки, пока же ножки у него слабые и слаба даже еще и спинка, я обо всем этом тебе писать не думала, думала рассказать, когда приедешь, да подвернулось под перо.
Крепко тебя целую. Жду.
Женя.
Врача позвала, потому что не могла сама распределить часы кормления, у меня в сутках оставалось 2 часа лишних, потом у Жени запоры и т. п. Рада, что врач был, потому что я увереннее буду с ним обращаться.
Всего тебе хорошего. Кланяйся всем.
Итак “на всю жизнь в Тайцы”, я это расслышала, и расслышала, что ты плакал, и видела, как ты стоишь за шкафом у телефона, думала (как часто ты обо мне), что ты маленький, что тебе хочется ко мне под крылышко, как Жене сонному в подушку.
Папа выехал 29 июля и на следующий день мама встречала его в Тайцах. В письме к Ольге Фрейденберг он просил прощения за то, что не повидался с ней в тот день, хотя три часа провел на вокзале и “физически это было возможно”. Он не мог заехать к ней, будучи не в силах видеть кого бы то ни было до того, как побывает у своих. Тетя Оля вскоре приезжала к нам, может быть, она даже провела у нас несколько дней. Потом мы ездили к ней и бабушке Асе[119] на Грибоедовский канал. Они очень привязались ко мне и называли Дудликом. Мама рассказывала, что это прозвище я получил потому, что я произносил “тудль-дудль”, когда мне давали яблоко, потешно поворачивая его туда-сюда в руке. Отец писал Оле уже из Москвы, что мальчик очень привязался к ним и ежедневно выводил на разные лады “тотя Уоля”, глядя на тети Асину фотографию на стене или играя яблоком.
“Тетя Ася смотрит на тебя, – писала мама папиной сестре Жоне, – большими светлыми глазами, немного прищурясь и наклонив голову, и сама создает о тебе легенду, это понимаешь сразу, и тебе уже необходимо стать героиней этой легенды, хотя бы не реально, внутренне быть достойной”.
Мы провели в Тайцах с папой чуть больше месяца. Родители часто ездили в Петербург, бывали у Мандельштамов на Морской, у Николая Чуковского[120], Тихонова. Меня снова возили к Наппельбауму сниматься, и, как обещала маме его дочь Ида, она сделала бесплатно великолепную фотографию нас всех троих вместе. Папочка очень любил этот снимок и часто использовал его фрагмент со своим лицом в качестве официальных фотографий на документах и в журналах.
Мы бывали у бабушки на Ямской. Она пекла нам удивительные торты и радовалась, когда я влезал прямо своей лапой в крем, разрушая красоту ее произведения искусства. Но как-то раз она полезла на шкаф, чтобы достать для меня игрушки, и, оступившись, упала на спину. Папа был при этом и в испуге бросился ее подымать, она его успокаивала. Ушиб стал причиной опухоли позвоночника, сведшей ее в могилу осенью 1928 года.
Этот случай был использован отцом в “Докторе Живаго” при описании рокового падения со шкафа Анны Ивановны Громеко.
В тщетных надеждах получить деньги, причитающиеся ему по договору с Госиздатом, отец обращался в Ленинградское его отделение, но так же безрезультатно. Пришлось продать мамину золотую медаль, чтобы выручить хотя бы шесть червонцев. Их остатки были потрачены уже в Москве, куда мы вернулись в середине сентября. Отцу казалось плохой приметой встретить мой день рождения 23-го числа без копейки в кармане. Накануне утром ему обещали выплатить в Госиздате, и снова обманули, вечером он ходил к агенту Общества драматических писателей, чтобы получить гонорар за постановку “Алхимика” Бен Джонсона в его переводе. У агента тоже не оказалось денег.
План предстоящей зимы сам собою сложился этим летом, – писал отец в Берлин. – В нем нет ничего особенного или незаурядного, он для меня нов только тем, что он трезв, суров и серьезен. В той его части, которая касается меня, он подготовлен давно рядом причин широчайшего и общего порядка, того порядка, где кончаются имена и начинаются социальные разряды, типические и массовые явленья и прочая и пр. В той же части, которая касается Жени, он своей ясностью и точностью во многом обязан тете Асе, которая с обычной для нее страстностью с вечера на третий (мы часто у нее бывали) говорила о том, что нам надо жить так, чтобы Женя поправилась и, главное, могла поработать, чтобы уяснить себе, человек ли она или нет, так как в жизнь она вступила, не успев себя полностью узнать и обнаружить…
Я уже писал папе, как выделяет она Женю из всей семьи и как ее любит. Она ей подарила выездной театральный капор (или башлык) своего вязанья, парижский веер и белую голландскую кофту с оторочкой и распахнуто-стоячим воротом старинного покроя (в XVI веке так носили) – прямая копия той кофты, что на одной краснощекой крестьянке– невесте у Иорданса, может, помнишь. Она ее себе в Париже или в Бельгии купила или сделала, намеренно копируя этот стиль. Кофта эта сущее загляденье. Потом она еще подарила брошку с аметистами Фене, – прислуге, водившей Женю в гимназию в Могилеве и теперь состоящей нянею при мальчике у нас…
Без регулярного заработка мне слишком бы неспокойно жилось в обстановке, построенной сплошь, сверху донизу, по периферии всего государства в расчете на то, что все в нем служат, в своем единообразии доступные обозренью и пониманью постоянного контроля. Итак, я решил служить[121].
Отец согласился на предложение Якова Захаровича Черняка заняться просмотром иностранных журналов в поисках упоминаний о Ленине для библиографии, составлявшейся в Институте В. И. Ленина при ЦК РКП(б). Картотека просмотренных им материалов была напечатана в “Ленинском сборнике” № 3 за 1924–1925 годы.
Через несколько лет эта осень была описана им во вступлении к роману “Спекторский”, который он вскоре начал писать, – с горькой иронией по поводу своих тогдашних неудач:
Привыкши выковыривать изюм Певучестей из жизни сладкой сайки, Я раз оставить должен был стезю Объевшегося рифмами всезнайки. Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши косым, Я первую на нем заметил проседь. Но я не засиделся на мели. Нашелся друг отзывчивый и рьяный. Меня без отлагательств привлекли К подбору иностранной лениньяны.Глава II (1925–1926) Преодоленное испытание
Для меня, не знавшего довоенного уклада и быта, его остатки были началом отсчета последующего волнообразного распада Москвы, ее красоты и своеобразия. По утрам было видно, как ко входу Храма Христа Спасителя, расположенного в центре площади, на которую выходили наши окна, подъезжал митрополит в карете шестернею цугом. Няня иногда водила меня на службу в этот огромный собор. Митрополит стоял в центре на малиновом возвышении – кафедре – и благословлял молящихся. Свечи, белая одежда, темное лицо с горящими глазами, жесты рук, как взмахи крыльев. Внутренняя роспись собора была масляно-плотной и монументальной. Снаружи мы часами рассматривали мраморные барельефы по стенам.
Я помню себя уже в то время, когда дедушкина мастерская была разделена дощатой переборкой. До этого комната перегораживалась шкафами. В проходной половине за занавеской и спинкой буфета я спал.
Отчетливо помню, как я просыпался солнечным утром от маминого звонкого смеха и, не спрашиваясь, бежал за перегородку к родителям. Мама лежала в постели и смеялась, а папа Боря стоял в большом тазу, поставленном на сложенные на полу старые холсты, и обливался из кувшина холодной водой. Пожалуй, это первое и самое счастливое впечатление из того, что мне запомнилось. Так начиналось каждое утро.
Ванная комната была заселена бездомными молодоженами, которых папа пустил переночевать, и они так и остались там жить, а вскоре у них родилась дочка. Воду для умыванья он приносил из коридора, где стояли запасенные с вечера ведра, иногда в морозы покрывавшиеся за ночь корочкой льда.
Наша кухня располагалась на окне холодного коридора – примус или керосинка. У нас была прислуга, иногда она же и няня, которая со мной гуляла. Это было далеко не всегда удачно. Дольше других прожила у нас няня Феня. Она жила еще в бабушкином доме в Могилеве и водила в гимназию маму, когда та была девочкой. Феня была больна, что временами страшно и неожиданно проявлялось, потом сошла с ума.
Занимался отец в той комнате, где я спал. Там стоял его письменный стол, рояль, буфет, обеденный стол, большое кресло с резными зверями, которые мне очень нравились в детстве и с которыми я играл.
Вторая половина мастерской была спальней родителей. В ней находились огромный дедовский стол, мольберты и шкафы со множеством интересных вещей – Бориными и Шуриными коллекциями марок, окаменелостей и ракушек из Италии и образцовым гербарием, который отец собирал в гимназии под руководством географа А. Н. Баркова[122]. Кроме того, там был склад художественных материалов и этюдов, оставшихся после отъезда дедушки, и маминых работ. В этой комнате за маленьким столиком я играл, рассматривал старые открытки и дедовские художественные книжки с картинками. Меня отправляли туда, когда у родителей были гости.
Смутно вспоминается, с каким трепетным вниманием наблюдал отец за моими поступками и словами, поправлял сказанное, не давал тянуться к окнам даже тогда, когда они были закрыты. В коридоре на широких подоконниках стояли два тяжелых мраморных бюста, оставленные дедушке уехавшими в Германию друзьями, и Боря боялся, что я их на себя свалю. Как я вспомнил эту его боязнь, когда мы жили в Переделкине последним его летом 1959 года со своим маленьким Петенькой, и он попросил Зинаиду Николаевну вынести эти бюсты, стоявшие в столовой на специально заказанных подставках, на террасу, куда Петенька не заходил. Мне казалось, что с течением времени трепетность внимания отца ко мне ослабевала, хотя я часто чувствовал на себе его взгляд и понимал, как ревниво он следит за моими шагами и действиями, сдерживая желание вмешаться.
Спальня родителей в то же время служила маме мастерской, куда приходили позировать натурщицы.
За февраль и март 1925 года была написана первая глава “Спекторского”, начиная работу над второй, отец сделал дарственную надпись маме на только что вышедшей книге “Рассказов” (изд. “Круг”):
Золотой девочке, обожаемой моей, чтобы не умничала. Чтобы не умничала, не воображала, не судила. Купалась, улыбалась, восхищала, писала красками и рисовала лучше всех, и делила жизнь без вспышек преходящей старости (озлобленья), всегда молодая, какой я ее узнал, какою знал и какою люблю и жду от Синяковых[123] в это мгновение, в 2 часа 10 минут пополудни 31 числа марта месяца 1925 года.
Солнце, мальчик спит, она пишет[124] натурщицу, у нас денег на неделю, я начинаю вторую главу Спекторского.
Дай бог всегда так.
Боря
К сожалению, вторую главу “Спекторского” пришлось тогда оборвать и срочно изыскивать способы напечатать отрывки. Кончился оплаченный досуг, посвященный писанию романа и возвращавший то счастливое творческое состояние духа, которое поддерживало одухотворенную обстановку в семье и гармонию между родителями. Нужно было думать о лете, расплачиваться с долгами.
Мама возобновила занятия во ВХУТЕМАСе и стала помногу заниматься живописью. Деканом факультета был тогда Роберт Рафаилович Фальк, который с удовольствием вспоминал свое учение у Леонида Осиповича, а мамиными сокурсниками – молодые художники с сильной волей и стремлением к самоутверждению: Н. Ромадин, Г. Нисский, Соколов-Скаля, Е. Малеина, С. Чуйков. Впоследствии они составили славу советской живописи. Маме после перерыва приходилось очень трудно, на работу не хватало ни времени, ни сил, отчего она страдала и нервничала.
Когда к маме приходила натурщица, папа иной раз брал меня с собой на прогулку. Как-то мы с ним отправились в Сокольники, где катались на каруселях, раскинутых на поляне, в другой раз – ездили на трамвае в зоопарк. Там продавали вафли трубочкой, по кругу за прудом возили детей на осликах, пони и двугорбом верблюде, засовывая их в корзины, висевшие у него по бокам. На спине между корзинами сидел погонщик. Папа шел рядом и держал меня за руку. Мы шли от клетки к клетке, и я, вероятно, больше спрашивал, чем смотрел. Мы решили с папой, что уточки-мандаринки очень похожи на маму, и хотели понять, какая же из них – больше всех. Дома мы без конца обсуждали с ним виденное.
В поисках заработка отец обратился к помощи Николая Чуковского, и тот заручился обещанием Самуила Яковлевича Маршака напечатать детские стихи, если отец их напишет. Папа описал наши совместные с ним прогулки за город и в зоопарк, и получились два больших стихотворения – “Карусель” и “Зверинец”. К сожалению, не сохранился отзыв на них Корнея Чуковского, который помогал их публикации. Они вышли сначала в журналах, потом первое из них – отдельной книжкой с иллюстрациями Д. Митрохина[125], второе, более значительное, задержалось на четыре года.
Помню, как приходил к нам художник Николай Николаевич Купреянов[126] с пробными рисунками к папиному “Зверинцу”. На картинках был изображен знакомый зоопарк, но вместо нас с Борей – художник в берете со своей маленькой дочкой. Замечательная книжка с иллюстрациями Купреянова вышла только в 1929 году.
Это лето было особенно тяжелым в материальном отношении. Пастернак подробно описывает свои трудности 2 июля 1925 года Цветаевой:
Мне живется очень трудно и бывают времена, когда я прихожу в совершенное отчаянье. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов… Жена и ребенок в деревне, на даче. Теперь крестьяне стали строить большие светлые избы и сдают их на лето. Там очень хорошо. Я приехал в город доставать денег, и это мне не удается. За квартиру не плочено три месяца, а это по нашим законам предельный срок, после которого подают в суд и выселяют. Тем же самым грозит мне неплатеж налогов…
Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что делать. Это очень унизительная процедура. Поведенье людей лишено логики… Они привыкли к грубостям и запанибратщине, и к тому, чтобы на них действовали нахрапом. А мне это претит… О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать! Как трудно, как трудно!
Я взялся за писанье детских вещей, на которые тут большой спрос, все пишут. Написал веселую, хрестоматийного рода “Карусель”. Сошло. Тогда, по просьбе Чуковского и как бы для него, написал более серьезный и содержательный “Зверинец”. В чаяньи удачи с ним перевез семью в деревню. И вот я никак не могу его пристроить. Удивительно, что я Вам об этом так подробно пишу…
Вот я завтра поеду к жене и сыну. Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора[127].
Чтобы раз и навсегда покончить с “мелями”, которые тормозили творческий разгон и подъем, отец взялся за “откупную” тему, как он назвал ее в письме к Черняку, – революцию 1905 года, чей двадцатилетний юбилей отмечался в этом году. Эта работа отняла у него почти два года, но зато позволила ему выбиться из нищеты и укрепила его положение.
Мучительный переход от лирического мышления к эпическому помогала ему преодолеть интенсивная и одухотворенная переписка с Мариной Цветаевой. Намеченная на лето 1925 года их встреча в Веймаре не состоялась и была перенесена на год. Ожидание этого, как Дамоклов меч, висело над мамиными отношениями с отцом и лишало ее душевных сил и доверия к нему. Она была в курсе этой переписки, отец читал ей полные страсти письма Цветаевой, у которой той зимой родился сын. Она посвящала его Пастернаку как божеству.
Особенно тяжела была весна 1926 года, когда отец прочел “Поэму конца”. На него всегда с особенной силой действовала безбрежная одухотворенность искусства, выбивала его из колеи и работы и требовала лирической отдачи. Он обрушил на Цветаеву поток писем, этот подъем сказался также в его письме к Р. М. Рильке, которое он написал, узнав, что тот читал в Париже его стихи. Возник план совместной с Цветаевой поездки к Рильке в Швейцарию, который разрушал папино обещание поехать летом с нами втроем за границу, куда звала нас Жоня. “Вы приедете к нам на лето, – писала она, – а потом, если Женя захочет, она уедет на время в Париж, оставив нам Женичку”. Перемена планов возмущала мамочку и вызывала тяжелые и мучительные объяснения. Возникли разговоры о необходимости расставания. Но мама остановила “взрыв категоризма” и попросила отца остаться. Эти слова он воспринял как обещание и надежду. Их серьезность дала толчок новой работе. Он начал большую поэму “Лейтенант Шмидт”.
Отец писал об этом Цветаевой:
Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер. Когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то, и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружья. Поэтому в сценах – громкая роль отдана ей, я уступаю, жертвую, – лицемерю (!!), как, по либреттному чувствует и говорит она. Но об этом ни слова больше. Ни тебе, ни кому другому. Забота об этой жизни, мне кажется, привита той судьбе, которая дала тебя мне. Тут колошмати не будет, даже либретной[128].
На мамином душевном состоянии в то время сказывалась также тяжелая болезнь бабушки Александры Николаевны, у которой развивалась опухоль позвоночника. Дядя Сеня перевез ее в Москву, чтобы показать хорошим врачам. Двоюродный брат Зиновий Давыдович Лурье был знаменитым хирургом. Шел разговор об операции, которую брался делать Бурденко[129]. Дедушка оставался в Ленинграде на попечении старшей сестры Анны Владимировны. Папа постоянно снабжал его уротропином, прибегая к помощи Льва Григорьевича Левина, который работал в Кремлевской больнице.
Внезапно выяснилось, что введен новый порядок получения заграничных паспортов. Вместо 30 рублей, как это было раньше, он стоил теперь 200, не считая виз и прочих сборов. Но кроме того, и вообще получить паспорт рядовому человеку стало практически невозможно. Отцу тут же отказали. О разрешении поехать нам с мамой он обратился к помощи влиятельного человека, каким теперь стал друг семьи Борис Ильич Збарский. “Паспорт получен благодаря Пепе, – писал отец родителям, – случай исключительный за последнее время, когда в них отказывается всем, и чем официальнее лицо, тем скорее”[130]. Збарский поручился, что выезжающие не везут с собой денег, в чем родители дали ему расписку. Хлопотали также о том, чтобы вывезти некоторое количество дедушкиных работ для выставки в Берлине. Получив разрешение, заказывали для них ящики и упаковывали пастели, рисунки и масло. Как всегда, это было связано с волнением по поводу того, как они доедут, не осыпятся ли. Картины надо было посылать отдельно от нас, по другому маршруту. Обо всем этом папа писал родителям, выражая надежду на их помощь в этот трудный для него период житейских неурядиц. Пробудившийся этой весной творческий подъем требовал выхода, с особой определенностью вставала необходимость дописать задуманный роман о Спекторском, начатого “Лейтенанта Шмидта” и осуществить бродивший в нем замысел книги об эстетике.
Мы уезжали утром 22 июня. Нас провожали на вокзал папа, дядя Шура, Ирина и дядя Сеня. Ехали в такси – Рено, которое состояло из трех отделений: впереди сидел шофер, слева от которого наружу торчал большой счетчик с флажком, за ним было двухместное закрытое отделение вроде кареты со стеклянными окошками в дверях, а сзади – открытое, тоже двухместное отделение, над которым в плохую погоду натягивался кожаный верх.
Международные вагоны, в купе одного из которых мы вошли, сохранялись на железных дорогах еще в конце 40-х годов. Они были желтого цвета с латунными рамами окон и отделкой дверей в стиле модерн. Купе на двоих человек и между каждыми двумя – умывальник с клозетом. Зеленые плюшевые диваны.
Папа ходил со мною смотреть, как к поезду подают паровоз, сцепляют, проверяют тормоза.
Вернувшись с вокзала, он получил письмо от Раисы Николаевны Ломоносовой, жены известного инженера, главы железнодорожной миссии в Берлине. Юрий Владимирович Ломоносов[131] играл видную роль и во Временном правительстве, и при советской власти в Министерстве путей сообщения. В прошлом году, когда отец находился в стесненных обстоятельствах, Корней Иванович Чуковский порекомендовал его Ломоносовой. Она интересовалась авторами, которые могли бы сотрудничать в американских газетах, давая туда обзоры литературных журналов. Отца увлекла также возможность перевести посмертные произведения Оскара Уайльда, подо что Ломоносова выслала ему аванс.
22. VI.26. <Москва>
Моя дорогая, я смертельно устал, хотя по вашем отъезде ничего особенного не делал. Прямо с вокзала я сел на 6-й автобус и слез на Театральной. Тут в уголку есть почтовое отделенье, под той квартирой, где я получал Ломоносовский шоколад. Тут отправил телеграмму “бабушке и дедушке”.
* * *
Замечательно, что как раз в сутолоке этой площади, среди бешеного движенья, цветов, нарядов и фруктов всего сильнее стало подкатывать к горлу и плакать хотелось не от жалости или тоски по вас, а оттого, что представилось, как вам может быть хорошо, чисто, привольно, как совершенна скорость, с которою вас пронесет через ночь на запад, как неожиданна и чиста, вся в краску, без пыли, вся окаченная мгновеньем будет заграница и встреча с моими. И многое, многое о тебе и о нем, точно я это сочинил или прочел по книжке. Это лучшее волненье, на которое я способен.
По пути домой зашел в ту же аптекарскую лавочку, что, двумя часами раньше, с тобой. За нафталином. Потом угля прихватил, рядом. Задумал два излюбленных дела. Уборку, умыванье, самовар.
Стоял, расставя ноги, в твоем халате, среди сдвинутых с мест вещей, с тряпкою в руке, когда почтальон подал пакет в лист форматом из-за границы. Несколько больших видов Венеции останутся у меня; вложенное же письмо тебе пересылаю, а ты мне его потом со своим возврати. Сходи к ней обязательно и опиши мне[132]. Если тебе понравится и покажется нужным (самой тебе), сведи с Жоней. Я серьезно хочу осенью деньги ей вернуть[133]. Да, напомню на всякий случай. Она – приятельница Корнея Ивановича Чуковского, и это он меня к ней письменно направил. Муж ее – известный инженерпаровозостроитель. Есть несколько высших технических училищ его имени. Просимую прозу, то есть книжку, перешлю тебе и это ты ей ее надпиши, после того как вживе и въяве увидишь, если она тебе по сердцу придется. Чрезвычайно фантастическая история. Расскажи нашим (день твой в городе, Земля и Фабрика и пр.[134]).
Чистота и мрачность моей комнаты такие же, как курьерская скорость вашего движенья. Каковы твои попутчики? Так ли страшен был черт (Столбцы), как ты его “себе” малевала?
Сейчас ты, впрочем, где-то под Смоленском. Несетесь, изрыгая огонь и пугая лесных птиц. И в этом участвует Женичка!
Женёк, читай ему медленно, медленно с паузами в век после каждого слова. С выраженьем.
Милый мой мальчик Женичка! Прибрал я твою комнатку. Обтер слона и лошадку, и столик твой и стул. Все белье из постельки вынул и даже подушку и тюфячок в сундук уложил, чтобы не пылились, и кроватку кругом обтянул скатертью с круглого стола и простынями.
Скажи маме, что все что надо было, нафталином пересыпал и даже кисточки. Хорошо ли тебе ехалось? Дорога тебе верно очень надоела, далекий путь, долгий, два дня было ехать.
Хорошо ли ты себя ведешь у бабушки и дедушки? Не шуми тут и тете Лиде не мешай работать. Больше рассказывай дедушке Леониду Осиповичу и бабушке Розалии Исидоровне про Москву и как ты тут жил на Волхонке. Они давно из Москвы уехали и много забыли. Им послушать тебя будет интересно. Помнишь ли ты еще, как на вокзале в буфете чай пил с Иринушкой, и как папа водичку с пузырьками глотал? Ну прощай, крепко, крепко тебя обнимаю, а ты так же крепко мамочку обними и дедушку и бабушку и тетю Лиду. Расти большой. Будь здоров. Смотри за мамой, чтобы поправлялась она.
Твой папа.
Феня пришла от мамы к вечеру. Маме было хорошо сегодня. При Фене приехал Сеня с вокзала и рассказал, как вы уезжали.
Обязательно напиши мне, Женичка! Расскажи, как встретили, как впечатленье: их и твое по этому поводу.
Звонил Левину насчет уротропина, но верно никого дома нет: не отвечают. Позвоню завтра утром. Звонил Коля Асеев. Несказанно удивлен твоим отъездом, думал, что завтра, сердился, что не сказал, проводил бы. Просил передать поцелуй. Очень доволен “Письмом к сестре”.
Примерно через сутки мы проезжали пограничные станции: нашу – Негорелое и польскую – Столбцы. Мама боялась произвола таможенников, которые могли без всякого повода снять с поезда. Но все прошло благополучно. Мы пересели в другой поезд, из которого уже не вылезали до Берлина. Бабушка и дедушка встречали нас на вокзале “Zoo” и повезли к себе.
Занятый поэмой “Девятьсот пятый год”, отец не смог выполнить заказ Ломоносовой на переводы. Вторая часть книги, посвященная лейтенанту П. П. Шмидту, строилась на документальной основе недавно изданных писем Шмидта. Одно из них, обращенное к сестре, А. П. Избаш, составило главу “Письмо к сестре”, отец писал маме об одобрении Асеева.
Маме была послана для Ломоносовой только что вышедшая книга отца “Рассказы”. Наша первая встреча с Ломоносовыми состоялась 27 июня 1926 года в Берлине, они с первого взгляда привязались к мамочке. Вероятно, тогда же мама надписала им книжку: “Дорогой Раисе Николаевне и «Черничному Дедке» от уважающей и любящей Жени Пастернак”. Прозвище Ю. В. Ломоносова “Черничный дедушка”, вероятно, было связано с каким-нибудь его разговором со мной, после чего он стал называть меня своим приемным внуком. Мама тоже получила от Ломоносовых прозвище мадам Рин-Тин-Тин в честь героини американских фильмов – немецкой овчарки. Описанию знакомства с Раисой Николаевной мама посвятила свое первое письмо папе.
26. VI.26. <Москва>
Милая девочка, как порадовала меня вчерашняя телеграмма! Я всегда смеялся над обязательностью волненья в подходящих случаях у чувствительных родственников. Я не оказался в этом разряде только оттого, что меня обуревали мученья другого рода, безмолвные и настойчивые, как мигрень. Нет, нет да и набегали представленья возможностей, как люди, едущие в Берлин, до Берлина не доезжают. И не непременно катастрофические возможности. Фабуляторные и очень вероятные.
Мне грозит, как далекая крайность, никогда не вопль боли, не взрыв горечи. Я боюсь в жизни не горя, а путаницы и хаоса – бесформенного страданья.
Вот опасность, сужденная характеру моего склада, может быть, и тебе, если бы женский акцент, лежащий на всем твоем существе, не перевешивал остальных твоих качеств. В состоянии кризиса, накануне гибели или на пороге ее возможности, в борьбе с нею я наверно уподоблюсь сумбурности Волхонской квартиры: какой-нибудь бок души, давно отсырев, будет сохранять подобье устойчивости, по извилинам пыльного и теплого мозга будет роями кружиться моль, проносясь вихрем бледности по затканным пауками углам. Когда-нибудь каждый из нас осядет и рухнет. Я же именно так: не от молнии, ни от пожара, ни потрясенья. Не от внешних, не от мировых причин. Но по своей собственной вине. По вине запущенья, вопившего годами о ремонте, о вскрытьи рам, об обновленьи. По той причине, что вопль этот постоянно подавлялся. Пренебрег я им и теперь.
Ты порешила мне не писать. Доброе намеренье, что и говорить, а главное – ведущее к добру. Печальней всего, что это то именно, чего я не понимаю.
Мне же думалось, что на досуге, отойдя от специально-здешнего сумбура, окруженная вероятным (?) уходом, и во всяком случае в условиях более легких и более охлажденных, чем тут, ты и сама во всем осмотришься и рассудишь, сердечно и глубоко.
Суди меня справедливей, чем это у тебя в обычае. Надо чтобы в твоих построеньях близкий тебе человек не только был похож на себя, хотя бы отдаленно (естественное требованье). Надо, чтобы этот воображаемый образ был способен благодарить твою фантазию за то, чем ты его обставила и что ему приписала. Надо, чтобы жизнь, которой ты одаряешь этот образ, была достойна зависти.
Я же играю только служебную роль в твоей жизни: в твоей, горькой по этой причине жизни, и в возмущенном требованьи счастливой. Я в твоих понятьях не похож на себя. Резче всего из твоих рассуждений обо мне выпирает пренебреженье требованьем сходства. Видов эгоизма на свете много. Это один из них, самый для меня огорчительный. Твое решенье не писать мне так и дышит этим свойством.
Не знаю, насколько я сам отвечаю требованьям, которые только что выставил. Но я думаю о тебе настолько объективнее, теплее и богаче, чем ты обо мне, что относительной разницы этой достаточно, чтобы она казалась абсолютной. И вот, зная так хорошо, кто́ ты в основе, и каковы твои особенности, я и говорю: без намеренно допущенной слепоты ты не могла бы сложить этого решенья.
Ты не будешь писать мне. “Я” для тебя в данном случае точка скрещенья поставленных условий. И это я! Такова твоя уступка ложному чувству гордости, плохо примененному самолюбью, все равно чему: тому, что меньше тебя. Но довольно на этот раз о сернокислом хинине. Заведем разговор полегче. Мне бы очень хотелось узнать, как вы ехали, как доехали. Каковы в жизни, в осязательных положеньях психологические биномы: ты и наши; Женичка и наши; наши и Женичка в тебе и пр. И точно: как и где что происходило, что мальчиком сказано, как мамой принято и ее нездоровьем, и папиной мудростью, и вкусом к формам жизни, и новизной его роли: большого и бодрого дедушки. Мне ничего так не хотелось бы знать, как это, и я не знаю, кого мне об этом просить. Вероятно, ты станешь счастливее и здоровее, и это счастье и здоровье придет от меня, если ты меня будешь держать на строгом голодном режиме.
Я достал пока 250 рублей (100 в Молодой гвардии и 150 в Огоньке). Тотчас выплатил Фене все 18 червонцев. Да, кстати, сегодня Юлия Бенционовна со слов рано ушедшей Фени, которой я, проснувшись, уже не застал, передает, будто, перетряхая какую-то старую свою простыню, она нашла те 20 рублей, которых она не досчитывалась, затаив в глубине души предположенье, что однажды, когда ты ей, по твоим словам, выплатила 90 рублей, их на самом деле было 70. Она порадовалась, передает Юлия Бенционовна, что в споре с тобой уступила тогда и не довела легкой размолвки до конфликта. Твоя правда вышла наружу. Может, так будет когда-нибудь и с тобой в отношеньи меня: перетряхая старое, ты уронишь на пол какую-нибудь упущенную мелочь, которой вовремя не заметила, и тебе станет ясна моя запоздалая правота. Может быть и то, что это случится со мной в отношеньи тебя.
Вчера я был у мамы. Профессор Бурденко хочет ее поместить в больницу им. Семашко, что требует хлопот. Когда это удастся, он начнет там свои предварительные исследованья. Всего вероятней – ее придется оперировать. Днем она по-прежнему бодра, шутила и была гостеприимна. Ночами страдает и плохо спит. Жаловалась же она однако не на ночные боли, а на клопов, которых не выносит. Пьянеет, готова уснуть, и тут-то все расположенье ко сну разрушает ползущий по руке мучитель, и разыгрываются нервы. Она написала тебе несколько слов. Прилагаю их.
Я заплатил за квартиру, но ни бабушке[135] ничего не отправил, ни в портняжную еще не заявлялся, так как остатка на все это мало, у меня на руках 30 с чем-то рублей. Бабушке во всяком случае отправлю самое позднее в понедельник (сегодня суббота, и рассчитываю к концу дня что-нибудь получить у Тихонова). О переизданьи детства Люверс говорил Бескин[136] в Госиздате кажется в твоем присутствии. Помнишь уверенность, вселенную им в нас обоих? Я рад, что это так случилось. Не наведи он тогда туману, я бы вторично в банк с тобой не пошел. А я торжествую, что пошли. Теперь он говорит, что дело с Люверс провалилось, но есть еще надежда устроить одну из книжек стихов. Он дал мне честное слово, что “в теченье 1 месяца я что-нибудь в Госиздате получу”. Таким образом, эти дни, пока что, я живу в чаяньи прожить месяц на его честное госиздатское слово. Отвод Люверс старый и по-старому возмутительный: дескать для избранных 3-х – 4-х тысяч, а не для 15-ти, как их Универсальная Библиотека. Спрашивается, для 15-ти ли тысяч Буданцевы, Петровские и пр.?
Вынужден не называть друзей, так как ты ведь никого другого не знаешь и получается некрасиво. Названные еще лучше, недаром я с ними знаюсь, тоже где-то около трех, но похуже. Когда же запросили бюро культурной связи с заграницей, кого переводить на иностранные языки, чтобы дать понятье о современном русском искусстве, Книжная Палата дала справку, в которой между прочим числится моя проза, но нет ни Гладкова, ни кого из тех, на ком выезжает Универсалка. Сообщил Коля. Сегодня веду к нему Эренбурга знакомиться.
Сказанному о деньгах не придавай значенья. Обязательно как-нибудь выкручусь. Настали страшные июльские жары. Совсем по Алешиному: Шшара́а! Аффрика. Мессинский лимончик усох![137]
Ад, кровь кипит, плохо сплю, никаких радостей, боюсь, что ничего не сделаю. Ах, Женя, Женя.
Но страшная, единственная радость: что вы там, что вас любят, что вас должны и будут любить. Что тебе можно при желаньи пополнеть и окрепнуть.
Будь умницей, стань красавицей.
Мамина телеграмма о благополучном приезде в Берлин и радостной встрече с родителями оканчивалась словами, что она не будет писать отцу. Это было следствием усталости и обиды на его отказ от совместной поездки, о которой мама так мечтала. Она болезненно воспринимала свой приезд к Бориным родителям и сестрам без него, остро чувствовала, что наше присутствие, при всей радости встречи, утомляет бабушку и дедушку, нарушает привычный ход их жизни. Как по-другому все выглядело бы, если бы папа приехал с нами!
В Москве папа мне много говорил, что нужно будет слушаться бабушку, которая не любит шалостей. В этом увидели потом причину того, что при первой встрече с ней, когда она хотела взять меня на руки, я ее как-то неловко оттолкнул или даже ударил, что вызвало всеобщее огорчение. Этот эпизод потом многократно растолковывался в письмах дедушки к папе Боре – вероятно, он лег в основу описания встречи Юрия Живаго с сыном после возвращения с войны.
Отправляя меня к родителям, папа мечтал, чтобы мне удалось хоть частично воспринять одухотворенную атмосферу их налаженного быта, которою он дышал в собственном детстве, чтобы под влиянием дедушкиного “артистизма” и бабушкиного “лиризма”, как он писал им, я бы преодолел “хаос дурных влияний” московской коммунальной квартиры. “Близость его с вами должна ликвидировать и погасить неэстетическое влияние его здешней жизни”.
Мне было тогда два с половиной года, по поводу моего воспитания дедушка писал отцу: “Женёнок – прекрасный ребенок – жертва сожительства 17 человек и если прибавить еще 2-х крыс, которые как ни в чем не бывало сидят себе при клиентах в клозете (по словам Стеллы) – то можно ли винить вас, можно ли в особенности говорить о Женёнке”.
Мы провели несколько дней в Берлине и вскоре поехали в Мюнхен к Жоне, у которой был дом с садом на Мария-Терезияштрассе.
Раиса Николаевна, голубка, – писала мама Ломоносовой, – как обрадовалась я Вашему письму. Было чудное солнечное утро в саду, сильно, сильно пахло сеном, розами и цветущей липой. Женичка возился в кустах, сам с собой разговаривая и не требуя моего внимания. Впереди был день, отчасти мне принадлежащий, потому что Жоничка (Жозефина Леонидовна) впервые немного освободилась от своих занятий в университете и могла заменить меня возле Жени. Я купила сегодня красок, этюдник, бумаги, и хотя не знаю, когда и как я смогу работать, но близость этих вещей ласкает и успокаивает. К вечеру гроза, дождь, тревога.
Деньги на нашу поездку составились из остатков отцовских гонораров за издание книг в Берлине и регулярной помощи, которую оказывали бабушка и дедушка родственникам в России. С некоторого времени папа стал сам посылать им свои деньги, накапливая таким образом средства в Германии, которые не разрешалось ни брать с собой, ни посылать. Поэтому он просил маму объяснить родителям, что некоторая задержка с высылкой денег в Ленинград бабушке Берте Самойловне Кауфман случайна и ничего в их договоре не меняет.
К письму была приложена карандашная записочка от бабушки Александры Николаевны:
Дорогая Женюрка и милый внук, только что мне Боренька передал, что вы приехали благополучно, чему я очень рада. Я себе представляю радость, которую вы доставили вашим приездом бабушке и дедушке. Я пока здорова, обо всем тебе напишет Боренька, так как мне трудно много писать.
Будьте живы и здоровы, мои родные детки. Желаю вам благополучно и весело провести время. Смотри, Женюрка, поправляйся.
Целую вас крепко.
Любящая вас мама и бабушка.
Привет и хорошие пожелания родителям Бореньки и сестрам.
<28 июня 1926. Москва>
Дорогая Женичка! Спешу переслать тебе эту записку Поли. Три дня тому назад пришел человек от Бурденко с предложеньем перевести маму в больницу им. Семашко. Это было при мне. Мама очень заволновалась, упала духом и стала отыскивать причины, чтобы оттянуть переезд. Это было понятное ощущенье близости часа. Кто не знает, как это тревожно и тяжело!
В ответ на ее насквозь прозрачные и уже одним этим пустые соображенья о том, что она права была, не хотевши ехать в Москву, в ответ на ее еще более детские и печальные ссылки на гомеопатов, которые, по словам Нюни, творят чудеса, Сеня вспылил, стал стучать кулаком по столу и зашагал по комнате, стреляя по ней короткими залпами самой неотразимой логики пополам с негодованьем. Насквозь прозрачен был и он, со своей изболевшейся за маму душой, вдвойне изведенной необходимостью казаться спокойным и ничего не знающим.
Я нарочно тебе это описываю, чтобы ты могла себе представить их общую радость, когда Бурденко решил, запросив об этом профессора Минора[138], отложить операцию до конца августа. У вас воспрянули духом, в комнате стало светло и радостно. Маме стало лучше в тот же самый час. Она хорошо спала. Они ищут дачу поблизости от Москвы.
Крепко поцелуй мальчика и спроси, помнит ли меня.
Твой Б.
Сегодня получу немножко денег по чеку и отправлю сегодня же бабушке. Это на случай, если моя мама знает о задержке и беспокоится.
<8 июля 1926. Москва>
Дорогая Женичка!
Умоляю тебя, напиши мне. Меня удивляет твоя жестокость. Я помню фразу, сказанную тобой перед отъездом, что ты собираешься мне не писать. Но фраза проехала тысячу верст, увидала множество вещей и людей, фраза живет в городе, которого я никогда не видел. С фразой вместе находятся два родных мне человека, составляющие часть моей жизни, стоящие мне ежеминутно воображенья, сердечных сил и крови. И этот ребенок и эта женщина напрягают мою фантазию, снятся мне и трижды в день, когда приносят почту, попусту и бесплодно одаряют меня надеждой, чтобы потом поразить отчаяньем. Они были во множестве положений, с ними случилось множество эпизодов, из которых каждый заставил бы меня широко раскрыть глаза и горячо забиться сердце. Им живется лучше, чем мне. Во всяком случае я старался сделать, чтоб это так было. И неужели фраза сильнее всего, и зря стоят города, и напрасно женщину и ребенка встречают лаской – и неужели сколько тепла на них ни пролить, горделиво эгоистический, ледяной гонор фразы превыше всего и его ничем не растопить?
Я ходил к маме первые дни и сообщал тебе о ней. Я отправлял письма воздушной почтой, боясь, что ты заждешься их. Получила ли ты их? Я знаю, что ты мучишь меня в полном неведеньи того, как на мне это отзывается, я знаю, что если бы ты отдаленно способна была это себе представить, у тебя бы не хватило бессердечья попусту, без всякой пользы для себя и для кого бы то ни было на свете так широко, ведрами, из недели в неделю изливать на человека ничем незаслуженное мученье.
Мне сообщили сегодня, будто получено письмо от тебя из Мюнхена. За первою открыткой я побежал сломя голову. Это же сообщенье меня подсекло под корень. Такова ли природа в Мюнхене, так плохо ли тебе там, так сильно ли тебя обидели, так деспотически ли я коверкаю твое существованье, что заслужил это преднамеренное и так планомерно проводимое униженье. Женичка, ты и дальше намерена таким именно образом держать меня в курсе событий?
Я не беспокоюсь за вас и не волнуюсь. Я совершенно раздавлен обидой, которую ты умело и любовно культивируешь по отношенью ко мне. Ах, какой мрак! И это ты, ты, близкий друг, разделивший со мною жизнь! О боже, да если бы мы были и в сорока ссорах с тобой! Мне страшно тебя и моей привязанности к тебе и стыдно. Если же ты рвешь со мной, сообщи мне об этом. Я ведь этого не знаю. Поцелуй мальчика.
Я верю, что письмо твое ко мне находится в дороге. Если бы ты изредка писала мне, и из твоих писем явствовало, что ты меня помнишь или хотя бы, что мальчик напоминает тебе меня, мне было бы легко одиночество, я жил бы с тобой и, вероятно, с пользой бы работал.
Тревога же, в которой ты меня держишь, до последней степени расшатывает все мое существо. Ты таким меня никогда не могла видеть, потому что при тебе и сильнейший упадок есть сила и уверенность в сравненьи с горькой растерянностью, которую причиняет твое отсутствие, заряженное недоброжелательством и бездушьем. Я с трудом стараюсь работать над Шмидтом, но безмолвный, опустошающий и унизительный ребус, который ты мне задаешь, вытесняет все и не дает возможности отвлечься от тебя, как от больного места, и сосредоточиться.
А когда я хожу по издательствам, довольно взгляда на меня, чтобы мне отказать. Весь день у меня в горле закипают слезы, потому что на дне души я знаю, что люблю человека, которому этого чувства не надо и который не слышит его и никогда не услышит и не поймет. Прости, я уступил страсти, сказав это, – вырвалось нечаянно. Но я не об этом. Меня пугает круг, в котором я нахожусь. Обстоятельства требуют работы и заработка. Обстоятельства усердно делают невозможной работу и грозят заработку. Весной все изменилось, я вырос, я напомнил себе прежнего себя. Ты попросила отдать это в твои руки. Я отдал. Лето похоже на лето Таицкое. Не удачи, тоска. С твоего отъезда нигде не бывал и ни с кем не виделся. Умоляю тебя, напиши, и как выльется, посылай хоть неоконченное. Ведь я-то все пойму. Боюсь тебя, жалею и люблю.
За что ты меня мучишь? Что тебе в Марине, когда единственное и страшнейшее препятствие твоему пользованью мной ты же сама: твоя способность завезти план мщенья за 2000 верст без малейшего ущерба для плана. Горячо целую тебя и мальчика.
Поглощенная хлопотами приезда и устройства в Берлине, мама не успела дописать начатое ею письмо и увезла его в Мюнхен. Не получая ответа от нее, отец продолжал регулярно посылать письма в Мюнхен, аккуратно сообщая новости о состоянии здоровья бабушки Александры Николаевны. Он часто навещал ее и сразу узнал о полученной ею открытке от мамы, что несколько успокоило его волнение за нас. Но пришедшие туда следом новые письма вызвали в нем чувство незаслуженной обиды.
Вторник 29 июня. Берлин <– 2 июля 1924. Мюнхен>
Вчера вечером простились с Раисой Николаевной. Так прощаешься только с любимым человеком, когда кажется тебе, что ты, быть может, его в жизни никогда больше не увидишь. Они уезжают через некоторое время в Англию, а зимой переедут в Киев или Тифлис или Ленинград. Я всю ночь думала о ней, а она вчера, прощаясь, просила меня к ней обращаться как к матери или к старшей сестре. Но мы с ней ни о чем интимном не говорили, то есть я хочу сказать, что все строилось на взаимной интуитивно зрительной симпатии.
Не успела я кончить эти чернильные строки, как пришла Раиса Николаевна, трогательно притащив мне ворох своих вещей, чтоб мне потеплей было. Ей вчера все казалось, что я слабенькая и замерзаю. Она притащила мне кофточку, теплое платье, перчатки, которые она будто бы везла мне из Италии, шляпы.
Познакомилась с папой и мамой. Потихоньку мне шепнула, что если бы мне вдруг стало скучно или тяжело в Мюнхене, чтоб я без всяких разговоров приезжала к ним, хотя у меня ни на языке, ни в душе не было и намека на то, что мне может быть плохо. Кстати, она и Чуковского никогда не видала. Книгу ей отнесла и надписала. У нее нет Спекторского. Не хотелось ли бы тебе прислать почитать Жоничке, а потом можно и ей передать “Шмидта”. В том, как Жоне не понравился “Спекторский”, был прав ты, то есть это не со стороны темы или философии, а со стороны художественной. Я пишу карандашом, потому что лежу рядом с Женичкой в Мюнхене в большой двуспальной кровати.
Ты говоришь, что тебя больше всего интересует все, что вокруг Женички. Он был все время трогательно большой и хороший. Думаю я, что устал от всех впечатлений и вместе с тем у него уже есть нездоровая потребность к новым впечатлениям. А потому я очень рада тихому просторному дому и детскому игрушечному саду, где, привыкнув (я думаю), Женя будет целый день возиться. Воздух здесь так сильно пахнет сеном и розами, что Женичка то и дело тянет носом и спрашивает, а чем здесь пахнет.
Письмо твое я получила в Берлине. До меня оно не дошло. У меня нет ничего предвзятого в нежелании тебе писать и уж во всяком случае это не дипломатический шаг. В Москве это ощущение было ответом на внешний факт. Но ты хорошо знаешь, как скоро забывается первоначальная причина, бывает, что ее с трудом уже различаешь, но то, что она вызвала, продолжает жить, идя прямиком или извилистым путем.
Всего хорошего.
Женя
Мамин ответ не снял накопившейся горечи размолвки, тем более что весь поток писем от отца еще не был ею получен.
Машинопись первой главы “Спекторского” отец послал в Берлин в издательство И. П. Ладыжникова Семену Петровичу Либерману, который готовил стихотворный сборник Пастернака по-немецки. Но она ему не пригодилась, и по папиной просьбе Жозефина забрала рукопись у Либермана. “Искренно напиши, – писал ей брат, – потому что этот род нов для меня и мне как-то спорен. Не лучше ли тогда писать просто прозу”. Ее письмо с оценкой прочитанного не сохранилось, но по промелькнувшим словам в папином письме к Лиде видно, что Жоня отозвалась о Спекторском строго, осудив неудачный, по ее мнению, отход от чистой лирики.
9. VII.26. <Москва>
Горячо благодарю тебя за письмо. Вчера я писал тебе в совершенном горе по поводу твоего молчанья, хотя и смутно верил, что письма встретятся. Кажется, я успел эту веру высказать.
Спасибо за сообщенье о Раисе Николаевне. Отчего ты не прислала мне назад ее письма. Я его не помню, а ей, может быть, нужно ответить. Ты говоришь, что мое письмо не дошло до тебя. Меня огорчают эти слова. Они невольно ранят тем, что сказанные тобою по отдельному поводу, помимо твоей воли обнимают вообще, целиком, все твое отношенье ко мне. Можешь ли назвать случай, когда что-либо мое доходило до тебя?
Я очень изменился за последний год. Я стал серьезнее и сосредоточеннее. Я часто говорю и пишу глупости под влияньем минуты, то есть от этого недостатка я еще не избавился, но может быть, когда-нибудь справлюсь и с ним. Я стал цельнее и проще. С ужасной ясностью оформилась во мне потребность в настоящем большом чувстве ко мне, не производном, а самостоятельном, не ответном на мое собственное, а живущем рядом с моим и ведущем свою собственную историю, широкую и великодушную, не считанную из моих любующихся глаз, а побеждающую, идущую наперекор мне.
Главная тема года, с особой горечью вставшая сейчас среди тишины и одиночества, вновь подтвержденная в разлуке с тобой твоим молчаньем, и потом твоим письмом, это тяжесть сознанья, что надо стараться разлюбить тебя, что рано или поздно этому придется научиться. Так как причины этой роковой, похоронной, непоправимой надобности – в тебе самой, как в человеке, то объяснять это тебе совсем излишне. Ты знаешь, о чем я говорю. Я горячо люблю твой женский облик, который иногда на моменты поворачивался ко мне за обожаньем, за принятием ласки. Я страшно привязан к тебе. Я высоко ставлю твой нравственный облик (ум, волю, характер), все время повернутый ко мне спиной. Он стоит ко мне спиной оттого, что дух требует самопожертвованья по своей природе, для того чтобы быть кому-нибудь сообщенным. А это твой слабый пункт, по крайней мере в отношеньи меня: тебе кажется, что самопожертвованье тебя бы уронило, было бы твоей ли прелести, гордости ли, или свободе в ущерб. Эту постоянную ошибку в вину тебе ставить нельзя. Ты душевно здоровый человек, и эта ошибка случайна и самой тебе в тягость: этой ошибки не было бы, не могло бы существовать, если бы ты меня любила. Когда ты по-настоящему кого-нибудь полюбишь, ты поставишь себе за счастье обгонять его в чувстве, изумлять, превосходить и опережать. Тебе тогда не только не придет в голову мелочно меряться с ним теплом и преданностью, а ты даже восстанешь на такой образ жизни, если бы он был тебе предложен, как на ограниченье твоего счастья. Что я не этот человек, я увидал очень скоро. Я больше писать не могу. Как ты чудесно кончаешь письмо: “Всего хорошего. Женя”. Я так не умею. Не пиши мне, что это письмо до тебя не дошло. Наперед знаю. То-то и больно.
Поцелуй крепко Женичку. В тот день, когда я увижу в тебе большого, уверенного в своих собственных силах друга, я напишу мальчику, чтобы ты ему прочла вслух. Замешивать же его в эту нестерпимо бессердечную муть, – отказываюсь. Что я плох, я знаю и слышал. Займись собою! Пока ты этого не поймешь, добра ждать неоткуда. Все только в твоих руках. Я, если бы и хотел, не в силах сделать того, что природа поручила женщине, женской душе, женскому сердцу.
Здесь сказались накопившиеся во время ожидания боль и раздражение. Выяснение отношений – занятие всегда губительное для живого чувства. Это особенно ярко видно из дальнейшего. То, что отец написал о “производном”, “ответном” характере маминой любви, стало мотивом их будущего разрыва в 1931 году, о нем он потом писал в Послесловии к “Охранной грамоте”, противопоставляя его активному женскому чувству, в котором нуждался. Вспоминая мамину улыбку, освещающую ее “извне”, – он писал, что “она всегда нуждалась в этом освещеньи, чтобы быть прекрасной” и “ей требовалось счастье, чтобы нравиться”. И встретив другую, чья “жизнь и суть, и честь, и страсть… не зависит от освещенья, и она не так боится огорчений”, – они с мамой расстались.
Мучаясь без писем от мамы, отец писал в Мюнхен своей сестре, завидуя ей, что она видит Женю каждый день, представляя себе их дружбу и радуясь ей. Переписка с Жозефиной таким образом стала добавочной возможностью объяснения и косвенного разговора с мамой. Может быть, письмо к ней от 12 июля 1926 года Жозефина не показывала маме: оно сохранилось в ее архиве в Оксфорде, тогда как следующее, от 27 июля, упоминается мамой в ее ответе и лежало в пачке отцовских писем к ней. Приведу некоторые места из папиного письма к Жозефине от 12 июля:
Я страшно люблю Женю, больше всего на свете. Я теперь ей этого не говорю, не напишу (и вообще не знаю, как писать буду), потому что слыша это, она поддается вечной в таких случаях ошибке. Кто ей не подвержен. Она не знает, что чувством одного человека двоим не прожить. Отчего это заблужденье так распространено? Оно вызвано соседством другой, такой же простой истины, обратного значенья. Вторая эта истина, сверкающая и затмевающая первую, гласит: любовь зарождается в исключительности одинокого чувства, в победоносном перевесе того, как любит один, над любовью другого. Эти истины, говорящие одним голосом и одними словами о разных вещах, всегда смешивают. Речь первой – о жизни вдвоем, то есть прежде всего о переплавленьи и сварке неорганического сумбура, ежеминутно попадающегося на пути, через безразлично сколь долгие времена. Речь второй – о встрече двух органических сил или миров, о сердце и сердечности вчистую. Это разные вещи или разные стадии одного… Я трудно это выразил. Мне бы хотелось это выразить хорошо и понятно. Я пишу о важных для меня вещах. Иногда, когда я это рассказываю Жене, она отвечает мне, что это письмо до нее не дошло. Не дойдет и до тебя.
Но если бы ты знала, как она была хороша, как целиком, внешне и нравственно чудесна в ту зиму, когда я ее позвал, и она пришла. Как смела и как готова отдать больше, чем это знают понятья, люди, воспоминанья и слова. Мне нельзя рассказать тебе всего: но сколько предельно-обидных мук приняла она тогда и взяла на себя! Когда я расстаюсь с ней, я вижу это вновь и вновь, и не могу без страшной, свежей боли за ее достоинство об этом вспомнить. Я был мерзок. Сколько наделано каждым из нас неназванных, безымянных, неуловленных законами нравственности преступлений против красоты и достоинства мгновенья! Это одно из них. Заглажено ли оно? Объективно, во времени и пространстве в жизни – заглажено и с лихвой покрыто жизнью мальчика, если он взаправду хоть вполовину таков, как говорят. Но и субъективно это без следа было бы искуплено, если бы Женя могла любить меня, если бы этим летом она вдруг стала большим другом мне, верящим и взволнованным не мной, но собственною верой. Это же никогда не будет. Что этого не может быть, постоянно вслух говорилось ею. Америки я этим безнадежным признаньем не открыл. И я бы не говорил всех этих жалких слов и не цеплялся за слабую тень надежды (вот до каких выражений докатился), если бы этой весной, когда я было собрался уехать от нее с мальчиком, она не остановила, не удержала меня.
Об этом несостоявшемся отъезде я жалею не как об упущенном счастье. О, нет. Но как о редком случае, когда я безболезненнее, чем в другое время мог сделать то, что все равно неизбежно. Неизбежность этого ползет на меня из ее совершенного молчанья или из характера письма, когда она пишет его мне. Неизбежность этого встает из недавнего прошлого, когда случайно попав на нашу прошлогоднюю дачу, я вдруг разом, в один прекрасный вечер вспоминаю все свои поездки в город и возвращенья и встречи на крыльце. Сколько унизительной, неслыханной жестокости в прошлом! И она не знает этой черты за собой!! Неизбежность эта укрепляется, когда по приезде с этой прогулки в город в смутной надежде, что я что-то найду дома, что отведет тяжесть увиденного в сторону, я узнаю, что и сегодня не было письма, как и во все предшествующие дни, как не будет его и завтра.
Зачем удержала она меня весной? Что непоправимое – поправимо, думал всегда я. Она глядела чище, холоднее и разумнее на вещи. И вдруг, она удержала меня. Это было ее движенье. Следовательно в ней изменилось что-то. Она должна была знать, что нового чего-то теперь нам обоим ждать от нее, а не от меня, – ведь не я останавливал. Вот тощий корень моей новой надежды и моего ожиданья. Но он разрушается на моих глазах. Ничем новым она меня в этой разлуке не подарила. Она в своих действиях, в своем непостижимом пустосердечьи по отношенью ко мне абсолютно та же, что и летом 24-го года. Но я не тот, мне нельзя быть тем же. Она ничего больше не услышит и не увидит из того, что я привык сейчас же, под влиянием первого порыва нести ей о ней же. Я могу думать о ней сколько угодно, но либо зарою это в себе, либо ты это узнаешь, либо когда-нибудь, другая женщина, но уже не она, не она. Я устал говорить и чувствовать в одиночку, я знаю, что все это впустую, пока она не захочет большего от себя самой. Я ей не буду писать. Если тебе что-нибудь известно, что сразу хирургически обрывает эту долгую муку, сообщи мне это тотчас. Ты знаешь, о чем я говорю? Может быть тебе ясна она как характер и ясно ее сердце. Ее способность или неспособность чувствовать по-человечески и увлекаться собственным чувством важнее для меня (то есть тревожнее, острее или больнее воспринимаются, чем… возможности измен).
Весной ее судили тут люди, слепые стеченья случайностей, совпаденья пророческих фактов. Все они гнали от нее, все говорили нет, тут никаким надеждам нет места, все осуждали ее. Я не знал, что твердо решенное расставанье ее огорчит. Она сказала, останься. Звук ее голоса подействовал на меня сильнее, чем весь этот дружественный хор. Я в нее больше поверил, чем в судьбу. Если ты что видишь, скажи. Я страшно хотел бы, чтобы она была великодушной, доброю и большою. Я не могу не любить ее, я никогда не могу любить так, как ее. Но это ее уже больше не касается. Дело только за ней.
Люби ее горячо, прошу тебя. Она несчастный человек. Но ты понимаешь меня? Ведь возможностями жизни не шутят. Я хочу хорошей настоящей жизни с ней. Но этого не будет. Я далек и чужд ей. Прости за такое письмо. Его трудно читать, но еще труднее было писать. Я не раз буду тебе писать о ней и о многом расскажу. Эта утрата незаменима. Хотя уверенность в разрыве поколеблена ее весенней просьбой, но на что мне надеяться! Неприязни же и равнодушья я больше выносить не в силах.
Ничего не могу сказать маленькому, так сейчас горько и нехорошо.
Через неделю отец снова писал Жоне, беспокоясь о маминой болезненности и истощении, грозившем возобновлением туберкулезного процесса:
У меня сердце сжимается от Жениной худобы. Ты не можешь себе представить, как это меня терзает. Ей не то, что надо поправиться. Она – не она, пока она худа!.. Женя нравственно искажена, пока она не прибавит пуда. Я не смеюсь, и в крайнем случае, ошибся фунтов на десять. Жонечка! Поправляются же в санаториях! Неужели этого нельзя достигнуть. На своих детских и гимназических карточках и в моих воспоминаньях она круглее, душевнее, гармоничнее и туманней. В ее теперешней щуплости виноват я. Я вынужден говорить о внешности, потому что она прозрачна и дает мне видеть корень ее горького, угловато подобранного, не-счастливого душевного облика, которого не было в замысле создателя, которым никогда она не была. Меня мучит мысль, что я ее иссушил, съел или выпил. Но ведь я совсем не вампир.
Умоляю тебя, когда ты немного освободишься, займись этим немного. Есть множество способов обойти ее возмутительное нежелание добра себе самой. Я знаю, это упорно цепляющаяся за себя анемия, не желающая ни за что здоровья и отставляющая стакан с молоком или тарелку с яичницей, ужасно озлобляет, как всякое сопротивление, мешающее тебе в чуде и в добре. Тогда ты перебарывай это чувство. И вообще, учреди, организуй это через прислугу. Кроме того, вероятно, ее утомляет Женичка, с которым она, верно, проводит целые дни. Не взять ли ему человека? Нельзя ли в этом отношении что-нибудь придумать? Напомню, что при всем самопожертвовании, составляющем главную мамину черту, у нас, как и во всех тогда домах были детские (комнаты) и няни. Так что по отношению к Жене общие и поспешные выводы из положения: “могут, мол, другие матери…” были бы неосновательно жестоки и несправедливы. Собственно, ведь, вся затея с поездкой началась с вопроса об отдыхе и поправке. Напомни ей, что ведь ей Вхутемасовская зима предстоит и потребует сил.
16. VII.26. <Москва>
Вышла вся бумага, взял у Стеллы.
Ты по-прежнему молчишь. Знаешь ли ты, что я слежу, не отрываясь, за этим твоим молчаньем, что я стараюсь к нему привыкнуть, чтобы перестать его слышать. Пока же слушаю, и оно обладает страшным красноречивым значеньем. Итак, того не зная, мы тогда на вокзале расстались навсегда. Меня для тебя не существует так, как мне бы того хотелось после весенних разговоров. Меня для тебя не существует, а с этого года это начинает значить: следовательно, не должно стать и тебя для меня.
А я ждал неожиданностей от тебя. Мне показалось, что даже твой зарок не писать мне – бессознательное для тебя самой движенье судьбы, очищающей поле от всего старого для того, чтобы появиться чему-то новому. И вот, оно не является. Но не насилуй себя. Если бы что было, само бы прорвалось. Очевидно, любить меня, по крайней мере тебе, трудно, невозможно, нельзя. И не надо, как ни велика эта мечта.
Я живу как совершенно одинокий человек, который узнал и понял раз навсегда и твердо нечто очень горькое, сразу бросившее ясный свет на большой клубок прошлого, болезненный, но все еще оставлявший надежду на какое-то оздоравливающее переистолкованье в каком-то будущем, в будущем вдвоем с тобой (все еще вдвоем или вновь вдвоем, безразлично). Но переистолковывать нечего, от тебя никогда не придет повода для такого переистолкованья.
Я убежден в совершенной пустоте места, занятого мною в твоей душе настолько же, насколько в моей непригодности для такой цели и моей прискорбности в такой роли. Я это узнал случайно. После твоей весенней просьбы мне надо было это узнать вновь. И теперь я это знаю окончательно. Я не вижу жизни кругом и не хочу ее видеть, я совершенно другой человек, чем три месяца назад, во сто раз слабее и угрюмее и суше, чем когда я собирался (еще смутно во что-то веря) расстаться с тобою на время. Зачем ты удержала меня? Но не жалей меня. Я с этим справлюсь, это когда-нибудь пройдет.
Ты хороша, и я любил тебя, и прошлое должно подняться до уровня двух этих фактов. Пока я испытываю естественные и легко вообразимые чувства от сознанья решительной непоправимости нашего дела, постепенно уже преображаются и воспоминанья. Я часто и по многу вижу тебя в зимние предсвадебные дни. Я не знаю, любишь ли ты меня тогда. Но ты удивительна, ты бесподобна, ты терпишь героические муки униженного инстинкта, ты неповторимо высока в горечи своего стыда и в соседстве с моею мерзостью, ты приходишь и уходишь, и мне не приходится глядеть внутрь себя, чтобы знать, люблю ли я тебя или нет: ты сама живое, движущееся изображенье моего чувства, я его считываю с каждой твоей улыбки, с каждого поворота головы или плеча. Это ты, ты и сейчас такая, именно ты должна была стать моей женой, я был счастлив, я счастлив и сейчас тобой, то есть это счастье осталось, но его уже нет для нас, мы от него оторвались и летим неизвестно куда. Нет его и для меня, я не устаю повторять это вслед за тобой.
Я говорю, что совершенно помимо моей воли дурные воспоминанья вытесняются хорошими. Облагораживается вся история и оба человека. Мне не стыдно ни за одного из них. Ты согласишься, мое недавнее прошлое, со мною в том, что если бы я остался в этой дали только уродом, это оскорбляло бы все целое? И вот, замечательно, большой поддержкой в этой катастрофе послужило мне открытье, что когда вдруг приходят на память случаи твоей резкости, несправедливости и жестокости (сколько жестокости в тебе!), то тут же рядом в воспоминаньи и я, ошеломленный болью по этому поводу: и тут я лучше тебя, чище и выше, как в другой раз лучше ты. Так чередуются в памяти случаи твоего холодного удивительного обаянья и цельности со случаями моей неумелой, сразу отскакивающей от твоей злопамятности и настороженности теплоты к тебе. Так мы помогаем в памяти друг другу и друг друга исправляем. Происходит то, что должно было бы составлять нашу действительную, настоящую и будущую жизнь, и чего в ней никогда не будет, потому что и мои попытки бывали редко удачны, ты же вовсе в этом не видишь интереса, делается же это в жизни вдвоем, а никогда не силами одного.
Я это открыл недавно. Я с болью ухватился за это чудесное преображенье нас обоих в прошлом. Представь, хотя это спазмами подкатывает к горлу, но оно мне облегчает утрату тебя, а я в этом нуждаюсь, как легкие в воздухе. Потому что весной я рассчитывал на какой-то дружественный неопределенный мир, который бы мне помог не помнить тебя новизной и главное – добротою, мягкостью человеческих встреч и отношений. Теперь его со мною нет, и я не знаю, что стал бы делать, если бы вдруг память не обернулась каким-то огромным, добрым другом. Я отдамся ее действию и последую за ее ростом. Мне кажется, что к концу я присвою ей полностью твое собственное лицо. Так ты станешь другом мне, – мое давнишнее и сильнейшее желанье. Убедясь, что в жизни мне этого не видать, я перенес его в область душевной алхимии. В призраках ты будешь доброю и любящей, это случится само собой.
У твоих все по-прежнему, дачи еще не нашли. Наступившее было у мамы ухудшенье (вернулась боль в спине) всех встревожило. Профессор Кожевников успокоил ее, и операция по-прежнему остается перенесенной на конец августа. Я случайно зашел к ним вчера. У них было письмо от тебя. Какой Женечка хорошенький и грустный. Я без непонятной и верно беспричинной боли не могу глядеть на него. Что-то сходное во взгляде. И тогда наливаешь его собственным содержаньем. А каково оно, ты представишь без труда. Но еще больнее было мне увидать, что ты не полнеешь.
Не времени ли “гостей” эти карточки? Правда, ты целые дни с ним. Но разве обязательно при этом томиться и худеть? Умоляю тебя, будь мягче, сердечнее и благодетельней по отношенью к самой себе!! Я ведь знаю, что и тут ты – злыдня.
А с человеком для Жени ничего не пробовали? И еще. Если тебе захочется о чем-нибудь спросить или попросить меня, знай, что есть воздушная почта, по которой письма идут два дня. Обыкновенною же почтой около недели.
Горячо желаю тебе радости, душевной ясности, удачи и здоровья.
Твой Боря
Ни о каких фактах не пишу. Не вижу надобности, не знаю твоей потребности. Но если бы веровал, молился за тебя. Думаю о тебе хорошо, из страшной созданной тобою дали.
23. VII.26. <Москва>
Женя, если ты меня любишь, скажи мне это так, чтобы я прочел, понял и ощутил. Не говори мне, что это трудно: избавь меня от страха, что это невозможно.
Твои счеты жертвы с мучителем смягчают главную тревогу и опасность и не дают видеть первопричины за цепью вторичных причин. Вот пример, чтобы ты поняла. Должна страдать любящая женщина, которую поработили. Но должна страдать и нелюбящая, которую сделали госпожой. Пока ты думаешь только о страданьи, ни тебе, ни мне не ясно, какой случай наш. И он не должен быть обязательно одним из них. Я о том, что ты должна очистить свое сердце от счетов со мной, чтобы его понять.
Я получил твое письмо о ненависти. У меня на него готов ответ. Ты его получишь, если оно останется единственным письмом от тебя в теченье времени, которое покажется достаточным моему чутью, или если в тот же срок ты не найдешь в себе силы сделать то, о чем я тебя прошу.
Отсутствие чувства страшнее его объяснимости. Обнаруживая его, я перестаю слышать объясненья.
Если ты любишь, и твое чувство велико, доверься мне полностью и безоговорочно. Если его нет, или оно мало и покоится на условьях, мы расстанемся для твоего и моего блага. Но теперь в последний раз, да или нет, и ты знаешь, какое должно быть да.
Я люблю тебя во всех случаях, жизнь же с тобой мыслима только в одном.
Если ты вполне моя, и нам суждена большая жизнь (а ни тебя, ни меня Бог не обидел), то впоследствии, оглянувшись назад на нашу путаницу, ты когда-нибудь ее оценишь по-другому. Ты увидишь, что и ты вполовину была виновата в ней. Но я об этом сейчас и не заикаюсь. Я не обвиняю тебя не из потребности показаться великодушным или расположить тебя к себе, а по простой логике чувства. Мне некогда осуждать тебя за смыслом, заключающимся в словах: я люблю тебя и нуждаюсь в тебе – сильной, любящей и верящей в свою любовь.
Прости мне твердость, с которой я ставлю тебе этот вопрос. Я спрашиваю за двоих, за себя и за тебя. Все что требуется от меня для возможности ответа, сказано тут навсегда и без колебанья. Непрямой ответ от тебя никакой внутренней цены иметь не будет, сколько бы психологической правды он ни заключал. Я обращаюсь от своей мужской воли к твоей женской, а не к твоим хорошим и дурным возможностям от своих. Не щади усилий, чтобы сосредоточиться на ней, но, сосредоточившись, потом уже себя не насилуй. Чутье не обманет тебя.
Я сдерживаюсь и не допускаю нежности к тебе. Я ничуть не меньше любил тебя в Таицкие времена. Я только не был тверд. Не бойся ответить прямо. Не бойся новых обязанностей неиспробованной задушевности и большого уваженья, которые на тебя лягут, если ты любишь меня. Я не рабовладелец, и твоим перерожденьем не злоупотреблю. Не бойся признаться в малости или отсутствии чувства. Тебе некоторое время будет больно и жалко меня и себя, но я помогу тебе, и вскоре ты отделаешься от вечной неудовлетворенности ложностью своего положенья и от мучительной подверженности закону рефлекса: необходимости переживать недовольство собою в виде недовольства другим.
Я убежден, что это тяготит тебя. Отвечай же, дорогая.
Люблю тебя.
Твой Б.
Не принимай растроганности за настоящее чувство. Настоящее, если оно в тебе проснется, сопровождается мгновенным оздоровленьем, радостью, верой в себя и в другого, жаждой здоровья и силы, жаждой деятельного благодеянья.
Золотой мой Женичка!
Помнишь, как я тебя звал: кудлашка, кудла, кудла, кудла, и ты ко мне бежал через всю комнату? Говорят, ты стал совсем большой. Зачем же это ты в постель написал? Медведь тебе приснился, ты его во сне и окатил, чтобы мокрый он ушел и больше не приходил? А? Напоминай почаще мамочке, чтобы кушала она много и ни о чем не думала, что надо ей поздороветь, как ты мне в Москве обещал. Крепко, крепко тебя люблю и обнимаю. Поцелуй мамочку сейчас же вот. А вечерком перецелуй ее, тетю Жоню и дядю Федю и скажи им, что люблю их всех. Дядя Федя съел медведя. Прощай, золотой. Будь здоров.
Маминого письма “о ненависти” не сохранилось. Удивительным образом мысли и некоторые формулировки из переписки 1926 года в дословно близкой форме вошли в позднее написанные стихи и прозу Пастернака. Мы указывали уже на мотив отраженной любви, который получил развитие в Послесловии к “Охранной грамоте”, теперь внимание останавливается на словах: “Впоследствии, оглянувшись назад на нашу путаницу, ты когда-нибудь ее оценишь по-другому”, повторенную в стихотворении из “Второго рождения”:
Добрый путь. Добрый путь. Наша связь, Наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, Ты посмотришь на все по-другому.Рассуждения об отсутствии чувства, которое страшнее всех разговоров о нелюбви, перекликается с письмом Тони к Юрию Андреевичу в романе “Доктор Живаго”, многими чертами напоминающем грустные моменты переписки с мамой:
“Из одного страха перед тем, какое унизительное, уничтожающее наказание нелюбовь, я бессознательно остерегалась бы понять, что не люблю тебя. Мое собственное сердце скрыло бы это от меня, потому что нелюбовь почти как убийство, и я никому не в силах была бы нанести этого удара”.
Вместо мамы папе на его письмо ответила Жоня, коротко и определенно:
20 июля 1926. <Мюнхен>
Женя очень устала – от всего физически и нравственно пережитого – за – я б сказала не “за эти годы”, но: вся жизнь ее тяжелая, потому что она очень очень трагически переживает самое пустяковое. Как и ты. Но у ней все оставляет следы <…>
По-моему, у Жени центром всего сейчас: ее работа, ее горячее желание стать на ноги в живописи. И почему ей не разлюбить и тебя, и сердечность и все – на этот срок – на этот срок становленья на ноги. И ты, и взаимные ваши отношенья – для нее второстепенны – ах, иногда и вовсе без значенья – главное работа – и в этой концентрации всех душевных сил на одной мысли: “работа” – в этом она права. У всякого бывают так или иначе окрашенные периоды жизненные – ты сам по себе лучше всего это знаешь. Один период проходит под заголовком: “любовь”, другой: “работа”; вот Женя именно в полосе, которая категорически называется “работа”, “живопись”.
Ради Бога, перестань думать и мучать мыслями себя и ее: о разводе, о “конце”, не проецируй на прошлое теперешней своей горечи. Забудь на месяц, на два, что Женя твоя жена, дай ей забыть, что ты ее муж. Когда она себя хорошо чувствует, когда солнышко или было что-нибудь вкусное к обеду – и Женичка хорошо, спокойно играет – она – иногда случайно роняет о тебе какое-нибудь слово, замечание, воспоминание – и в нем тогда та доброта и нежность, которых ты бы хотел в ней, и которые – верно – отсутствуют в те минуты, когда душевный прожектор целиком направлен на тебя…
27. VII.26. <Москва>
Жоничка, как мне благодарить тебя! Письмо твое читал и перечитывал в автобусе и в длинной очереди Мосфинотдела, где, как всегда в летнее время, с запозданьем, с пенями и в духоте вносил подоходный налог.
– Борис Леонидович! – окликнул меня старый наш почтальон, вы его еще помните, и сунул мне письмо у самой остановки, перед носом автобуса. Оно меня порадовало тем, во-первых, что ты так любишь ее и что держишь ее сторону. Будь так и впредь. Знай одно: она человек необыкновенный, но страшно изломанный. Я хочу сказать, что твоей любви она заслуживает и многим таким, чего ты не знаешь. Другая радость: ты тех же взглядов, что и я на первостепенную важность поправки и отдыха для нее. И чудно ты сделала, что вскользь, для поясненья, там и сям поразбросала живых подробностей, успокаивающих глаз: например, таким образом я ее увидел на солнце, смеющейся; увидел в кухне; уверился, что она утром ест яйца; понял, что маленький Женичка реален Мюнхенской реальностью; и что мать и сын друзья и части вашей немецкой квартиры, как ты и Федя, а не изолировались в сплошную коническую тень, посылаемую мною на них, как виновником постоянных затмений.
Еще радость. Что ты говоришь о ее работе; что, следовательно, она разговаривала с тобой так, как мечтала с тобой разговаривать, что вы с ней сестры и сообщницы и подруги. Не могу тебе сказать, каким бы счастьем было для меня узнать, что она полнеет, успокаивается и имеет возможность писать часа по три в день. Когда в Мюнхене будет папа, неплохо было бы, если бы она занялась рисунком.
Я говорю, разумеется, не о данном моменте, когда у вас наплыв плотно оползших неотложностей, а о завтрашнем дне.
Сегодня 26-е, и у Лидка экзамены верно в самом разгаре, если не отсрочены[139]. Хотя я верю в нее совершенно непоколебимо, но и воображаю ее лихорадку и заражаюсь волненьем. Известите меня воздушною о радости. Итак, она будет ученою. Я присутствовал при этих актах и горжусь ею. Подумай, сколько было борений, внешних неудач, сколько гонки, надежд и отчаяния, и вот он, наконец, этот долгожданный час. Когда придет мое письмо, Лида верно будет уже в состоянии упадка и сдачи, как паровоз на конечной станции или опоенная лошадь. Ей уже все будет казаться смертельно далеким и посеревшим, и для пирога, который она себе обещала за последние недели зубрежки и воздержанья, не останется уже сил. Но это время скоро пройдет. Постепенно горизонт очистится, и его займет главная мысль: что она человек с драгоценными знаньями, что будущее ей обеспечено и ей открыты широкие дороги. Поздравляю, поздравляю, поздравляю ее. Обоих моих ребят, дочку и сына, втяните обязательно в ее чествованье и в общую кадриль. Смех, радость всего полезнее для обоих. Это и твоя мысль.
Еще было бы замечательно, если бы папа собрался в Париж и они поехали с Женей вместе. Об этом мы часто мечтали с ней. Я уверен, это была бы замечательная поездка для нее, и ему было бы весело. Но и не смею грезить о таком счастье. К сентябрю я ей переведу денег на поездку.
Так вот, я вполне согласен с тобой, что вопрос о приведеньи ее здоровья в порядок – на первом плане, и ему должно быть пожертвовано всем. В этом отношеньи я без оговорок подчиняюсь всем твоим указаньям. Говорю без оговорок, потому что то, что я скажу дальше, нисколько не оговорка, а вещь первостепенной важности. Она должна быть выражена и достигнута, и она уже нашла себе выраженье. Я написал Жене письмо, оно пошло заказным, и она его верно получила.
Так вот, я ни одного слова из него не беру назад, несмотря на все мое согласье с тобою, и радуюсь, что успел его написать до твоего письма: я бы и после него все это написал, но мне еще труднее было бы сжато и отчетливо, как заповедь для самого себя, все это перед нею выложить. Там речь именно о том, о чем ты мне советуешь не думать, ни тем менее ей об этом писать. Вот моя просьба: пусть она на это письмо сейчас мне не отвечает, пусть вообще не пишет мне и целиком доверится солнцу, своим счастливым задаткам, твоему сердцу и уходу. С некоторого времени, и особенно с твоего письма, я стал светлее смотреть на возможность всяких улучшений для нее. Пускай письмо мое стоит особняком, про запас. Пускай она о нем забудет и потом, когда угодно, о нем вдруг вспомнит. Но вот чего я ни для ее, ни для своей пользы не в силах отменить: смысла письма и его обязательности. Я говорил про сколь угодно долгий срок ее забвенья и молчанья. Этот срок не безграничен. У нее должен быть ясный, готовый, абсолютный как религия, ответ на него к тому времени, когда она захочет вернуться. Нет, прости, я взял слишком много на себя: я тоже человек. Я жду ее к октябрю. Так вот, к октябрю она должна в себе разобраться, с совершенно самостоятельными отсюда выводами. Я ничего не говорю о себе и ничего не обещаю. Я отдаю себе отчет в видимой жестокости тона. Это оттого, что в этом шаге я перестаю пассивно мечтать и рассказывать себя. Я только скажу, что речь идет о надежде, облюбованной и поддержанной волей, и хочет встречной воли, которая была бы услышана, и потом составила бы постоянную тему, постоянный голос, сохраняющийся подо всеми шероховатостями быта и житейщины, я хочу, чтобы чувство фиксировалось в решеньи, в словах, сказанных себе самой, чтобы было к чему возвращаться в минуты упадка и звероподобья, чтобы было чем грозить себе и чем управлять.
Я хочу очень хорошей жизни ей и себе, или же никакой. В теперешнем ее отсутствии и в совершенном своем одиночестве я не присутствия ее (какого бы то ни было) хочу, а присутствия ее чувства, которое бы равнялось моей воле к жизни с ней и не было бы слабее этой воли. Продолженье письма, где многое объясняю, намеренно устраняю. Я не хочу прельщать и склонять.
Больше я писать об этом не буду. Передай Жене, чтобы она на письмо не торопилась отвечать и позабыла об его остроте.
Крепко вас всех целую.
Целую дорогого Федю; Жене и Женёчку напишу на днях. Опять начались выселенья, Фришманы получили ордер, как и весь дом.
Меня пока не трогают.
Через два дня после написания этого письма пришел ответ от мамы. Она признавалась, что ее взволновал и подтолкнул на письмо Борин портрет, сделанный дедушкой по наброску 1914 года для картины “Поздравление” и подаренный Жонечке. Красивое, вдохновенное лицо двадцатичетырехлетнего поэта любовно выполнено его отцом в эскизно импрессионистической манере. Меня он поразил тоже, когда я любовался им в Оксфорде, впервые приехав туда осенью 1987 года. Но у мамы в то время растроганность оживила чувство пережитых обид, которые она излила папе в жестоком и полном отчаяния письме.
<26 июля 1926. Мюнхен>
Я перечла все твои письма. Плачу. Гнусность – вот ответ. Эгоизм – не знающий даже своих размеров. Ты помнишь только то, что ты чувствуешь и говоришь, не слышишь ответов и забываешь и искажаешь факты. Я говорю о тебе, а не как тобою приказано, потому что, “черт возьми”, не искажай, слышь, и не забывай. Когда я попросила весной тебя остаться, ты не остался, ты не понял, припомни факты, потом после: припомни ночи, когда твои прикосновения оскорбляли. Почему? Тебе было ясно или нет!!? Уже когда я должна была идти к Пепе насчет отъезда, ты устроил мне сцену, что ты хочешь ехать. Причины того, что ты остался – то, что ты не мог материально с этим справиться, наконец чуть ли не накануне отъезда ты сказал, что в будущем году, когда я вернусь, ты уедешь в Париж. Разве возникала у тебя мысль о том, что мы будем вместе?
Ты не переставал твердить, что все у тебя осталось по-прежнему. Так о чем же ты думаешь и что надо понимать под словами “Весной и т. д. остался”? Если человек хочет расстаться, это не значит, что хочет быть вместе. Для меня это непонятно. Я пишу об этом, чтоб показать причину молчания. Я не получила ответа. Ведь в воздухе было написано: “К чему сейчас Жене куда-то уходить из дому, когда она все равно скоро уедет”.
А теперь к мелкой случайной причине. Я спросила у тебя: “ Ты как нечто естественное принимаешь цветаевское ты и по близкому произнесенное твое имя”. Физиологически до тошноты не могу представить себе, что два письма с одинаково произнесенным именем к одному человеку будут направляться по одному пути и назад с разделенной и частично розданной душой и судьбой. Но это, кажется, все не ответ на твой категорический вопрос: 1) люблю ли я тебя, верю ли я в свою любовь и 2) могу ли я подчиниться и безоговорочно довериться тебе.
Ты знаешь, как подавлялось мной самой с твоей помощью чувство вплоть до вчерашнего дня, когда я, взглянув на твой портрет (висит у Жони маслом этюд головы), отвела глаза, боясь, что что-то дорогое и трогающее овладеет мною. А ночи, бесконечные ночи и дни отчужденности, нежелания ни читать твои вещи, ни видеть твои глаза и ненужности этого для тебя.
Да Господи, вот только что подали письмецо от Р. Н. Ломоносовой, пишет: “Так жаль, что вы (то есть ты и я) не могли приехать вместе”. Разве я могу представить простую радость существования сперва вместе, потом втроем, я не отрицаю своей причинности (но уверена, что ошибочно тобой воспринятой), но и не вижу твоего соучастия в постоянном душевном процессе, а не только в начале и конце, то есть при максимальной заостренности нарочитой (в том часто была сознательно моя вина) или естественной. А сейчас, в данную минуту, что я могу сказать, ведь это не руль – “поверни налево, поверни направо”, мои ощущения всегда в процессе, а любовь моя не что-то отвлеченное, а реально связанное с другим человеком, с его жизнью, но и с моей жизнью. Ты болезненно вспоминаешь Тайцы. Я припомню мои состояния с твоим приездом. Ты осыпал меня словами любви и преданности. Мои чувства, убитые трудной, жестокой зимой без всякого участия и помощи с твоей стороны, опять обратились к тебе.
Я не раз писала тебе, что больше всего мне бы хотелось опять попробовать работать, что хоть слегка насытившись работой, можно ощутить всю потребность любви. На следующий же день ты принялся за работу и ни слова не было тобою сказано о том, как осуществить мою. Вот причина моей постоянной вражды. Довериться тебе, – но скажи, как в прошлом сказалась твоя мужская крепкая, добрая и бодрствующая воля?!
Боря, ведь не Петровский же ты, чтоб говорить героические фразы. Ведь ты знаешь, что крепко не на миг, как весной, любя только свои ощущенья, можно любить только человека и свою судьбу с ним. А у нас какой ад, сколько вражды, как из тюрьмы должна была я зубами вырвать свою потребность работы еще недавно, еще года не прошло. И на словах дружелюбно, на деле всегда враждебно и уж во всяком случае без малейшего желания чем-либо поступиться относился ты к внешне уверенному, а в душе мнительному и неуверенному в своих силах моему желанию. Ты не можешь сказать того же про меня. Ты помнишь, как ругалась я с тобой же за то, чтоб ты не поступал на службу, ты помнишь, как гнала всех приходивших и мешавших, как набрасывалась я на всякого, кто как-то косвенно обесценивал тебя, вроде Катаева у Асеевых.
Может, все это не ответ и по-твоему выйдет, что я свожу старые счеты. Тогда будь последовательным и, продолжая роль Петровского, испытай мою любовь ревностью – это ведь и приятно. Я знаю, что это злая и гадкая фраза, но к чему у тебя этот тон проповедника: “Покайтесь, откажитесь от гордости, будьте готовы на самопожертвование, все в ваших руках, познай самого себя и откроются тебе врата Божии”. Почему ты так прямо по небесному: “Себе пассивность (все мол от тебя самой зависит), любовь, уважение, подчинение – тебе вера, самопожертвование и женская доля”.
Удивительно, но в мамином письме сказалась та же женская ревность, которая проявилась и у Марины Цветаевой, заявившей Пастернаку в это время о своем нежелании получать от него письма, подобные тем, которые он пишет в Германию своей жене. Письмо Цветаевой не сохранилось, среди ее набросков есть такой, относящийся ко второй половине июля 1926 года:
Теперь я еду в Чехию, а ты больше всего на свете любишь свою жену, и всё в порядке вещей.
Борис, одна здесь, другая там – можно, обе там, два там – невозможно и не бывает.
Я ни с кем не делю… это моя страна и моя роль, поэтому не думай обо мне вовсе.
Двум поездам вслед не глядят. (В два глаза – одному.)
Тоскуй, люби, угрызайся, живи с ней на расстоянии, как какой-то час жил со мной, но не втягивай меня.
Человеческого сердца хватает только на одно отсутствие, оттого оно (отсутствие) так полно.
…Не бойся, что я чем-нибудь преуменьшаю твою любовь к жене, но “я люблю ее больше всего на свете” – зачем ты мне это твердишь, это ей надо знать, не мне.
Достаточно цинично и откровенно Цветаева пересказывала содержание этого послания в письме к Рильке от 14 августа 1926 года. Эгоистическая жесткость этого чувства вызвала строгий отпор со стороны Рильке, оборвавшего после этого письма свою переписку с ней.
Дорогой Райнер, Борис мне больше не пишет. В последнем письме он писал: все во мне, кроме воли, называется Тобой и принадлежит Тебе. Волей он называет свою жену и сына, которые сейчас за границей. Когда я узнала об этой его второй загранице, я написала: два письма из заграницы – хватит! Двух заграниц не бывает. Есть то, что в границах и то, что за ними. Я – за границей! Есмь и не делюсь. Пусть жена ему пишет, а он – ей. Спать с ней и писать мне – да, писать ей и писать мне, два конверта, два адреса (та же Франция![140]) – тем же почерком, делать сестрами… Ему братом – да, ей сестрой – нет. Такова я, Райнер, любые отношения с человеком – остров, и всегда затонувший – целиком, без остатка[141].
Поразительно совпадение ее ревнивой логики с тем, что высказала мама в своем письме. Вероятно, именно его получение прервало на полгода также и папину переписку с Цветаевой. Объясняя ей в прощальном письме от 30 июля, что “в планы его воли” входит не писать ей и ухватиться за ее невозможность писать ему, он подчеркивал тем не менее, что “исходные положенья нерушимы”: “Нас поставило рядом. В том, чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли”[142].
То же самое он повторил в письме маме 29 июля.
29. VII.26. <Москва>
Я получил твой ответ. Горячо благодарю тебя. Он тебе стоил больших волнений. Я не хочу подымать их снова. Я от своего вопроса не отступаю, твой ответ неудовлетворителен, ты сама это знаешь, но покамест перестань думать обо мне, приди в себя. Не пиши мне, пока не запишется легко и хорошо.
Я тебя тоже не буду трогать. Меня страшно стесняет боязнь расстроить тебя. Но нельзя жертвовать и ясностью. Когда можно будет возобновить разговор, ты мне скажешь. Ты недооцениваешь его серьезности. Тебе мерещатся сходство с Петровским, проповеднические ноты.
Возможно, что издали это и похоже. Я же не могу отойти на расстоянье и не знаю, какое впечатленье производят мои слова. Я думал, что до тебя дойдет смысл целиком, мимо всяких впечатлений.
Знаешь ли ты, о чем речь. О том, что опасно для тебя и меня сходиться вновь при таких данных. Ты же, может быть, думаешь, что я у тебя прошу ласкового письма.
Я не испытываю твоего чувства ревностью. Я сейчас совершенно одинок. Марина попросила перестать ей писать после того, как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Возмутит это и тебя. Это правда дико. Будто бы я ей написал, что люблю тебя больше всего на свете. Я не знаю, как это вышло.
Но ты этому не придавай значенья ни дурного, ни хорошего. Нас с нею ставят рядом раньше, чем мы узнаем сами, где стоим. Нас обоих любят одною любовью раньше, чем однородность воздуха становится нам известной. Этого ни отнять, ни переделать. Мы друг другу говорим ты и будем говорить.
В твоем отсутствии я не мог не заговорить так, что она просила меня перестать. Я не предал тебя и основанья ревновать не создал.
Вообще, создал ли я что-нибудь нарочно, ради чего-нибудь или в отместку тебе?
Я не могу изолировать тебя от сил, составляющих мою судьбу. Двух жизней и двух судеб у меня нет. Я не могу этими силами пожертвовать, я не могу ради тебя разрядить судьбу. Я хотел бы, чтобы ты была такою силой, одной из них. В этом случае не было бы никакой путаницы, единственность твоя бы восторжествовала, все стало бы на место. Но бесчеловечно и думать – допустить тебя, невооруженной большой мыслью или большим чувством, не в форме силы, слагающей мою судьбу, в этот круг, на это поле. Совершенно помимо меня ты обречена на нем на постоянное страданье. Я не хочу неравной борьбы для тебя, человека смелого и с широкой волей. Ты поражений не заслуживаешь. Как мне это сказать, чтобы тебе в этом не чудилась риторика? Весной, когда мы говорили как люди расставшиеся, мы говорили о том же.
Тогда все это до тебя доходило, мы разговаривали как друзья. Ты скажешь, чего это тебе стоило? Ну вот, о том я и говорю постоянно. Если только сильное нравственное страданье дает тебе силу дослушивать меня до конца, а не перебивать нестерпимою вспышкой при первом же слове, то и не надо так страшно тратиться. Твоя неприязнь ко мне может быть неистребима, и для нас должно быть счастьем, что я переменился в чем-то к тебе: я не остаться тебя упрашиваю, а к осторожности тебя зову и к чувству ответственности за свое решенье.
Ты начинаешь так свое письмо: “Перечла все твои письма. Плачу. Гнусность – вот ответ”. За этим, если это так, должно было следовать “Расстанемся”. Но дальше следуют обвинения. Неужели ты думаешь опять строить жизнь на моей вине и раскаяньи? Потому что сейчас важно только то, расстанемся ли мы или нет, и почему нет и в надежде на что. И опять ты прочтешь письмо и только вспомнишь, что ты несчастна, и только расстроишься, и только ощутишь гнусность. Сейчас получена телеграмма о Лидином успехе. Забудь обо мне. Будь среди них. Они тебя любят все и стоят за тебя против меня. Для меня большая радость в мысли, что ты дорога Ломоносовой, Жоничке, Оле Фрейденберг, Асе Цветаевой, которая чудесно о тебе говорила. Обо мне не думай.
<30 июля 1926. Москва>
Дорогой мой Женичка, золотая моя кудлашка.
Получил карточку, кормишь ты на ней голубочков. Вот радость была мне! Прочел про все, как ты ходил часы слушать, и куклы плясали, а петушок не кричал[143]. Много ли кушает мама и веселая ли она? Тут у нас холодно и дожди каждый день. Папе от того лучше. Не жарко в городе и пыли меньше. Не надо так часто подметать.
Нравится ли тебе город Мюнхен? Слышал, что катались вы на пароходе. Как бы и мне хотелось! Слыхал ты, какая тетя Лида молодчина, все что надо выучила и больше ей в школу не ходить! Вот скоро приедут бабушка и дедушка к вам и пойдет у вас веселье. Помнишь, как я тебя все учил, как “машина” сказать, как – “осина”. Или “жук” и “коза”. Небось ты теперь совсем как большой говоришь. Смотри, моя радость, чтобы мама яичек побольше кушала и масла, и молочко бы пила. Посиди с ней смирнехонько, чтобы нарисовала она тебя. Нарисует, мне пошли. Уж я-то буду радоваться.
Знаешь, жил тут в нашей комнате, спал на диване дядя один. Ты его не знаешь, а мама знает. Зовут его Тихонов, Николай, дядя Коля. Так вот, та́к ты ему на карточке полюбился, что хотел он ее со стенки снять и с собой увезти. Только я не́ дал.
Ну, дай поцелую я тебя крепко, крепко золотой ты мой сынок! Спи спокойно, без медведей, да и мне пора. Вот так же крепко, как я тебя, ты маму поцелуй и шепни ей на ушко, чтобы помнила, как папа ее любит. И чтобы про себя написала все, все. И про тебя.
Скучно мне, милый. Вырастешь, поймешь, отчего папа книжки писал, и маме тогда расскажешь. Ну, спи, дорогой.
Дорогая Женя! Ужасно мне. Но неужели это оттого, что я человек ужасный? Нет, это неправда. Пойми, я не упрямлюсь. Но никогда, никогда я не расправлюсь с большим и таким понятным порывом в себе в угоду твоей помраченной мнительности, когда есть путь правды, и такой открытый, и так вижу я себя и тебя на нем. Да, но это – идеал. И в этом идеале больше у тебя веры, больше души и чувства ко мне. Ах, как я хочу любить тебя и делить жизнь с тобою!
Два-три раза я допускал дикую подлость. Я приносил этого неповторимого друга[144] в жертву. Но разве ты ее оценила? Подхватила ли ты меня, поддержала ли в эти мгновенья непростительного и ненужного отреченья? Впрочем, честь тебе и слава: измены заслуживают только чувства гадливости. И впервые я не отказался от этого весной, и не отказываюсь. Это мой лучший друг, и я его не предам.
Умоляю, победи себя. Пойми, что не могу я взять на себя твоей роли, то есть возможностей, которые тебе, женщине, отвела природа. Ты дотрагивалась до них и тут же отдирала руку. Ну как мне сказать прощай, я не люблю тебя, когда из всех неправд это была бы самая вопиющая. Ну как не видеть мне, что при твоем нежеланьи поработать над собой, при неуменьи владеть собою, и всего вероятнее, при малой связанности со мной это мое чувство – ноль в огромной, сложной жизни, которая идет в гору и будет все больше и больше усложняться!
Тебе звонил Станевич. Я дал ему твой адрес. Верно он напишет тебе.
Больше не буду посылать воздушной, так как у меня не всегда есть деньги. От письма воздушного до письма простого промежуток удваивается. Поэтому не удивляйся промедленью.
Если в 1924 году отец мог утешать маму чисто литературным характером своей переписки с Цветаевой, то с весны 1926, после его писем о “Поэме конца”, лирическая сила чувства переросла границы поэзии, и отец был не властен и не хотел более сдерживать его. Вероятно, он и дальше делился бы с мамой радостью получения этих писем и их поэтической красотой, но он проговорился об этом Цветаевой и получил от нее категорический запрет. Он не мог его полностью игнорировать и хотя по-прежнему посвящал маму в ход переписки, цветаевская ревность передалась маме с удвоенной силой. Именно этим объясняется тяжелый весенний момент их отношений. Пробужденный “Поэмой” взрыв страсти резко толкнул его к Цветаевой. Он писал ей 5 мая:
Я ничего почти не говорил, и все стало известно Жене, главное же объем и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке, день за днем, до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать и любить ее в этом росте и страданьи, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованный тобой, я ее охватываю с неменьшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах.
Отправляя маму для поправки в Мюнхен, отец тайно надеялся, что, может быть, успеет осенью присоединиться к нам, мечтал о поездке в Париж. И вот теперь его переписка с Цветаевой была прервана. То есть Цветаева еще продолжала писать ему, но он не отвечал. Работа не шла, а письма к маме выматывали душу невозможностью объяснить ей все это.
<6 августа 1926. Мюнхен>
Ночью, не знаю какого числа, 4 или 5-го. Пятница.
Вот что я писала тебе, кажется, 1-го, когда я и Жоня одновременно получили твои письма, я от 25:
“Я пишу в садике, где возится Женя и очень мне мешает, но отложить не могу, потому что не сплю ночи от сознания необходимости все собрать. Перед отъездом все шло к разрыву. Когда скрылась платформа, голова опустилась от боли на раму. Повисла я в пространстве и доверилась жизни и случаю, как когда-то в прошлые дни.
Останавливаться на том, что приносили мне идущие дни, не буду. Содержание твоих писем в целом (ко мне и к Жоне) – неожиданность. Неожиданность счастливая, исходящая от тебя, за которую я тебе очень благодарна. И потому, игнорируя твои повторяемые слова о том, что ты должен быть в стороне, и основываясь на том, о чем ты пишешь Жоне о любви ко мне, о желании нам настоящей, насыщенной вниманием и сердечностью жизни, я отвечаю. Я люблю – если ты со мною, если ты соучастник, заговорщик, если ты можешь, как Гитте и Сене, тогда наверху у них, сказать и всем своим доброжелателям (о которых ты как-то писал Жоне): «А я вам все-таки ничего не скажу!»
Помнишь, как-то я тебе говорила – жизнь вдвоем мыслима, если двое против всего мира. Так можешь ли ты быть со мною против всех, как был только в самом начале, против друзей, мам, братьев, против Аси Цветаевой, которая меня не может знать, против тети Аси и Оли, которые хотят знать больше тебя, против Марины, дружба которой к тебе, или вернее, отношение возможно только тогда, если ты полностью отдашь ей часть души, если она в чем-то станет для тебя единственной до той степени, где мое соучастие становится помехой.
Так вот – если же нет, то для меня это измена, тогда я ненавижу и не могу стать (ты говорил в одном из писем, что я стою к тебе спиной), ни лечь к тебе лицом (это цинизм кажущийся, это только образы мучительных ночей). Быть может, есть и другие, более легкие, терпимые отношения. Но я думаю, что это в период роста, исканий, несвязанности. Все те отношения это есть период развития той личности, которая потом ищет себе сообщника.
Или это отношения более легких людей, а мы с тобой «битюги», «грузовики», на поворотах трудно.
Может, тебе кажется, что одна жизнь должна быть слагающим, а другая слагаемым, то есть, что одна жизнь должна быть только входящей, а другая ее обнимающей, но не равной по величине. Нет, только если они друг друга будут покрывать, потому что даже и тот случай, когда они могут быть равны и частично покрывать друг друга, оставаясь в остальных частях в одиночестве, возможен только тогда, если все это остальное будет только работа каждого, и опять тогда выйдет поровну.
Если же это для всех очевидная и незаслуженная претензия с моей стороны, пусть тогда в виде претензии и останется. Конечно, жизнь может доказать, что твоя жизнь больше, но ты в своем сознании должен относиться как к равной”.
Вот что написала я тебе сейчас же по получении письма, но не отправила, чтобы проверить на свободе.
Теперь я живу у озера второй день одна, потому что в Мюнхене не прибавила в весе. Я получила твое письмо Жене и мне. Значит, мне не к чему называть твоих писем счастливой неожиданностью. Ты говоришь, что все остается так, как было весной. Но теперь прочь от неясностей твоих писем и моей философии.
Реально, к быту, к фактам, в данную минуту существующим. Жить вдвоем можно при сердечных, ясных отношениях (минимум, это без громких фраз). Моя ясность нарушается и переходит во что-то совершенно дикое, во-первых, оттого, что у тебя нет товарищеских отношений к моей работе. Это вовсе не значит как ты как-то сказал про Уру и Марию[145], что ж мне, Урой стать? Да этого и не может быть. Ты талантлив, ты на ногах, я ни то, ни другое, во всяком случае пока, но это еще в большей степени налагает на тебя эти товарищеские обязанности. А если хочешь, так в сторону, в область этики, но, конечно, абсолютно независимо от тебя и меня, так очень хорошо, что хоть один мужчина такой нашелся, и то его жалеют (я про Уру), а женщин таких “хоть пруд пруди”. Во-вторых, всякие отношения с другими людьми, где мое присутствие оказывается нежеланным или лишним. В данном случае тебе перед Мариной неудобно читать мне ее письма. А мне от ее писем часто больно. Значит, таких писем не должно быть.
Я не хочу, чтоб существовали ключи “Синей Бороды”, – этим можно… а этим маленьким золотым… и что за этой дверью. Найти тут границу – запертого, отпертого, враждебного и нет, пустяков и серьезного трудно. Я хочу с легкой душой все двери открывать (в данном случае и Марине, и тебе, и мне должно казаться естественным твое желание читать мне письма).
Конечно, все это равнозначно и для меня в отношении тебя. На деле у тебя есть эта требовательность, на словах же часто иначе. А от этого тоже много недоразумений, потому что я к словам отношусь в упор.
О том, как мне здесь живется, какая Жоничка, как благодарна я ей и Феде, о Жене – об этом пока писать не буду.
Ответь на этот раз все-таки Luftpost и в Мюнхен, Жоня перешлет. Я ответила. При желании ты поймешь. На глаз он сух (ответ), но он стоит мне большого напряжения. Это письмо береги. Это или мое брачное духовное свидетельство, или развод.
Женя
Чтобы дать маме отдохнуть от забот обо мне и укрепить ее здоровье, Федя и Жоня, по папиной просьбе, послали ее в пансион в небольшом городке Поссенхоффен, расположенном на берегу живописного Штарнбергского озера, в 20 километрах от Мюнхена.
Описывая свое пребывание там, мама 9 августа писала Ломоносовой:
Я живу одна в Possenhoffen’е. Это чудное место у озера в 30 минутах езды от Мюнхена. Я не могла в Мюнхене из-за Женички поправиться и не прибавила в весе ни одного фунта, а потому… Здесь очень хорошо. Тихо, просторно и так красиво, что это мешает погрузиться в бесчувствие, которое, вероятно, нужно для поправки… Я пробуду здесь по всей вероятности недолго, неделю еще, может быть дней 10 или еще несколько дней в зависимости от того, как я буду здесь поправляться.
Мне кажется, что мы с Лидой ездили туда навещать мамочку. В Мюнхене мы садились на пригородный поезд, потом она сажала меня на раму своего велосипеда, и мы ехали вдоль озера к маминому пансиону. В жаркие дни мы ходили купаться. Там были мостки и привязанные к ним лодки. Сохранились фотографии поправившейся, похорошевшей и веселой мамы с собачкой в лодке.
Недавно мне удалось снова съездить туда. Я не помнил названия и места расположения пансиона, но зеленые берега, парк, мостки для купанья и лодки вдалеке сразу вернули меня в те времена.
Спокойствие озерной глади, слегка оживляемой небольшими волнами, прозрачная вода, сквозь которую видны мелкие камешки на дне, широкий простор уходящего за горизонт озера и возвышавшиеся на противоположном берегу отроги горного массива, с которого начинаются Баварские Альпы, сказались в первом же мамином письме из Поссенхоффена. Она ответила на папины письма от 23 и 27 июня к Жоне и к ней. Молчание было нарушено, оставалось только научиться разговаривать друг с другом.
Но к этому времени с обеих сторон было уже сказано много горьких и жестких слов, и разрушить эту стену удалось не сразу. Среди обидных частностей вспоминались прежние разговоры, в том числе – о семейных отношениях художников Арсения и Марии Уречиных. Маме была ясна далекость подобных сопоставлений, к тому же она понимала, что они оскорбительны для отца.
В письме видно, каких огромных трудов мамочке стоило преодолевать свою романтическую непримиримость, возвращавшуюся при воспоминаниях. Вымученно и напряженно она исподволь начинает тот разговор, которого ждал от нее отец, но жесткость поставленных ею условий была для него совершенно неприемлема. Образ Синей Бороды из сказки Шарля Перро, так точно ею примененный для обозначения мучительных тайн ревнивого чувства, появился потом в посвященных ей стихах “Второго рождения”:
О ссадины вкруг женских шей От вешавшихся фетишей! Как я их знаю, как постиг, Я, вешающийся на них. Всю жизнь я сдерживаю крик О видимости их вериг, Но их одолевает ложь Чужих похолодевших лож, И образ Синей Бороды Сильнее, чем мои труды. Наследье страшное мещан, Их посещает по ночам Несуществующий, как Вий, Обидный призрак нелюбви, И привиденьем искажен Природный жребий лучших жен.<10 августа 1926. Москва>
Дорогой друг! Что это за место Поссенгофен, и как тебе в нем живется? Пишешь ли этюды и, если нет, то почему? Обыкновенно первые дни одиночества, после людей и шума, ставших привычными, всегда кажутся тоскливыми, потому что вдруг с непривычки раскрепощают всю восприимчивость человека, не дав ей сосредоточиться на какой-нибудь общей мысли или работе.
Но потом это проходит, и подтверждается вновь и вновь, в который раз, что одиночество – благо. Прошел ли у тебя уже этот предварительный период неизбежной тоски. Поражаюсь твоей смелости и самостоятельности. Как это ты одна без языка обходишься? Ну тут уже я никак в твою поправку не верю. Сама себя ты только уморишь. Разве только поручили хозяйке гостиницы тебя обкармливать.
Напиши мне, пожалуйста, как родился Поссенгофен, как ты в нем очутилась и что делаешь? Что слышно вообще у наших? Каковы ваши дальнейшие планы? Поедешь ли ты в Париж и начала ли переписку о визе? Завтра уезжает Эрнст[146]. Долг (Фришманам) в 30 руб. (для Гиты) перевели на него. Был я ему должен за марки. Задолжал еще. И вот моего долга ему скопилось 100 руб. Бегал как угорелый всю неделю. До того неоткуда было достать, что осмелился даже (условно, на случай, если бы не удалось) с Сеней поговорить об этом! По счастью сегодня все устроил (из Госиздата дали) и тебе посылаю с Эрнстом 100 руб. (вернее, 50 долл.).
Вообще очень трудное было лето. Настолько, что обе лучшие книги, равных которым уже никогда не напишу, Сестру и Темы, то есть все, что собственно сделано, отдал Госиздату по 30 коп. строчка. Просил по 50, не соглашались. Положенье же было безвыходное, все долги: Фене 180, бабушке 50, костюм 55, Черняку 100, подоходный налог, квартира, жизнь, Эрнсту 100 и пр. и пр. Шуре остался должен 200 р. Не говори этого папе, но одна экспертиза его вещей (для отправки) вместе с изготовкой ящика и упаковкой (от Главнауки) уже стоила 40 рублей и еще обойдется рублей в 30; отправляю единственно возможным путем через таможню, пассажирским багажом на имя Эрнста; идет не с ним, а через Себеж; идиотские порядки, которых не переделать и с которыми приходится мириться. О деньгах папе не говори, потому что просто стыдно считаться: столько они посылали, помогали и пр. Это просто капля в море. Насколько денежные затрудненья подчас непреоборимы, настолько ничуть меня не трогает новая кампания по выселенью всех жильцов из дома. Никаких бумажек не принимаю, разговаривать отказываюсь, не тронусь с места. Пусть делают что хотят.
Но ты-то, ты-то как пользуешься заграницей? Выжми все ее возможности, как лимон. Все-таки чище, вольнее, привольнее там. И человечнее как-то. Как увидал я штемпель на письме, сейчас же мне представился пейзаж какой-то горный. И одну я тебя увидел: бестолковую, худую, бедную. Ах, Женя, Женя.
О том, как безотрадно на меня подействовало твое письмо, говорить не стану. Говорить об этом не необходимо. Все равно мы друзья. Все равно тебе надо кончать Вхутемас и, значит, мы увидимся. Все равно окончанье его тебе обеспечено. Наконец, все равно (то есть даже и в случае задержанного ответа на твое ужасное письмо, даже и в случае естественной нежности при мысли о твоем одиночестве, даже и в случае прекрасной встречи с тобой), все равно мы разойдемся, если действительно твое письмо – тот ответ, о котором я просил. Написано оно неприятным, чужим, опасным человеком. Не надо мне его. Но может быть письмо – случайность, может быть, просто оно неудачно написано. Для меня письмо твое – развод. Между прочим, с мыслью этой я свыкся. Пережил уже это не только я. Трудно рассказывать это тебе в подробностях (расскажу на словах), но это также и взгляд твоей мамы. Спокойно к этому факту относится и она. И с ним уже примирилась. Эрнст напишет Лиде кое-что о Женичке. Год будет трудный и тревожный, не денежно, а совсем иначе.
Дал улечься минутной горечи. Пишу дальше. У меня к тебе ничего, кроме участья и желанья блага тебе нет. Никакой вражды. Но ты, Женя, адресуешь письмо к слабому, нуждающемуся в тебе человеку, который без тебя пропадет, который молит твоей любви, какой угодно, который любой ценой, во что бы то ни стало хочет жить с тобой, и вот ты ему перечисляешь свои условья, при которых пойдешь на эту жертву. Это не мой случай, Женя. О чувстве я не говорю. О том, как я тебя люблю, не живя с тобой, ты при желании, когда-нибудь узнаешь. Но не об этом речь.
Ты не поняла моих писем. Ты не веришь в серьезность моих слов. Я говорю серьезно: хвататься за такое чувство ко мне было бы безумно. Тут взяться не за что. Тут все требованье, все мимо, мимо. На что мне знать, как много тебе нужно, чтобы согласиться жить со мной, когда я не навязываюсь! Потребность твоя во мне неясна и чужда мне. Потребность твоя во Вхутемасе с этим не связана и она во всяком случае будет удовлетворена. И вечный разговор о спокойном сне: будь в моих границах; знай столько языков, сколько я, стольких людей, как я, не буди моего самолюбья, моей ревности. Ужасное письмо.
Ради Бога, не огорчайся. Так людей не любят, как ты привыкла. Я во всяком случае не согласен. Не надо и насиловать себя. Естественного чувства у тебя ко мне нет. Я не добиваюсь его. Прощай.
Может быть, я несправедлив, и в письме много скрытого чувства, но зачем было их не открыть. Ребусы – тоже бесчеловечны.
Жонино письмо о необходимости для мамы работы было понятно и близко отцу, для которого творческая самоотдача была ежедневной необходимостью. Спрашивая маму, начала ли она заниматься живописью в Поссенхоффене, он попутно излагает ей свои взгляды на то, как в тоске одиночества пробуждается дремлющий в человеке художественный инстинкт. Такая закономерность была маме знакома, но для нее это было не в той степени органически необходимо, как для отца, который просто заболевал, если не мог работать.
Его надежды оправдались: мама регулярно стала рисовать, писала этюды, сохранился очень похожий портрет Лиды, который она там сделала, очень любимый Жоней прекрасный интерьер ее комнаты.
Папа восхищался смелостью, с какой мама решилась самостоятельно жить одна в немецком пансионе. Разговорный немецкий был ей труден. Но гимназические знания позволяли объясняться в пределах необходимости, что, конечно, не шло ни в какое сравнение с блестящим немецким языком отца.
В то время дедушка готовил свою персональную выставку в Берлине, и ему при любой возможности пересылались из Москвы его работы. Большое их количество оставалось в Москве на Волхонке и лежало там мертвым грузом, загромождая комнаты. Попытки отца продать какие-то картины в музеи не имели успеха. Об этом многое писалось в письмах друг к другу. На этот раз вывезти некоторые вещи взялся Эрнст Розенфельд, племянник ближайших дедушкиных друзей. В числе посланных с ним картин был, в частности, замечательный двойной портрет Лиды и Жони, первоначальный пастельный эскиз к “Поздравлению”.
11. VIII.26. <Москва>
Сейчас послал тебе ответ воздушной почтой и вот еще что вдогонку. Если там я допустил резкость, то не обращай на нее вниманья. Все это сотрется и смоется. Вот что я бы хотел, чтобы ты знала. Что я тебе настоящий, настоящий друг, помимо слов и без громких фраз. Что я тебя в обиду не дам и не дам пропасть или заглохнуть ничему подлинному и благородному в тебе. Что я не препираюсь с тобой и ни в чем не виню, и ничего свыше твоих сил с тебя не требую. Что всеми силами я стараюсь не огорчить тебя.
Но какою бы Женюрой и до какой трогательности бы я тебя ни чувствовал, женою я тебя не в силах сознавать, так страшно в своих составных частях твое признанье. Если бы даже я принял твое предложенье во всей его двойственности и обусловленности (люблю-ненавижу; брак-развод), я бы своего слова не мог сдержать: природа, моя природа и всякая другая против этого бы восстала, так это опасно, так неестественно. Кроме того, ужасный признак сказался в твоем письме. Моя полная далекость тебе. Я боюсь одного. Может быть, тебе не избежать одного, мимолетного огорченья, которое пройдет, если ты не будешь стоять на нем, то есть если дашь ему пройти.
Тебе ведь и вправду может казаться, по размерам душевных усилий, затраченных на это письмо, что ты несла мне навстречу, если и не то, о чем я спрашивал, то все-таки какой-то дар сердечности и доверчивости, и вот я отверг его. Но ты перечтешь когда-нибудь свое письмо и поймешь, как оно ужасно. За статьями контракта трудно что-нибудь расслышать, что подняло бы, понесло навстречу, окрылило надеждой. Тебе трудно было писать, тебе трудно это все потому, что тебе трудно сделать меня близким и дорогим себе. Я не могу стать целью для тебя, и ты, не ведая, что творишь, расписываешь, пункт за пунктом, что ты могла бы меня любить как средство в жизни. Ты договариваешься до того, что и мое имя и, как ты говоришь, талантливость, это такие элементы неравенства, которые требуют соответственных товарищеских выводов в твою сторону.
То есть я уже кое-чего достиг, ты – нет, или не столько. Значит, я об этом должен помнить и должен быть готов к уступкам. Это совершенно убийственно по своей противоестественности.
Ты предлагаешь мне в жизни, несказанно тягостной матерьяльно, беспрерывно стеснительной, построенной на неизбежных самоограниченьях ради тебя и Жени бо́льшую связанность, чем налагает на детей отцовский дом, пока они этим домом живут и им воспитываются. Потому что и в бреду никогда не приходила мне такая нелепость по отношенью к папе или маме, которые тоже были талантливы и успели достигнуть многого, когда я еще на ноги становился. И ты не думай, что меня баловали. Но это совершенно ни к чему. У меня нет никакого против тебя раздраженья, ни даже против твоих слов.
Вообще я очень дружески и с большим теплом к тебе говорю на эту тему. Но программа твоя просто опасна. Она игнорирует тот факт, что я все-таки поступался кое-чем в твою пользу, и налагает новые трудности. Значит, она свидетельствует либо о твоей слепоте насчет меня, моей жизни, моих усилий, моих жертв и пр. и пр., либо же о неважности всего этого для тебя. Мне несущественно, эгоистка ли ты или нет. Я не о тебе говорю, не о чувствах к тебе, а о тебе в отношении меня, о расчетах на твою помощь, о жизни с тобой. Ну вот ты и дала ответ. Об этом и думать нельзя. Правда оказалась сильнее тебя и вытеснила тебя со всех гадательных позиций на одну старую, исходную: на позицию обусловленного примиренья после попытки разойтись. Вот все, чем ты можешь и хочешь меня осчастливить. Ты меня прощаешь, ты меня готова любить, если, если, если… Но ведь я тебя не всякую зову назад, и ты не поняла меня. Я тебя не удерживаю.
Я дорожу дружбой с тобой, я дорожу тобою и встречей с тобой, но я не зову тебя назад любой ценою и к разводу отношусь спокойно и светло. Он в тысячу раз чище и человечнее того, как ты понимаешь меня и наше существованье. Он – счастье для меня в сравнении с тем несчастьем, которое ты мне и себе готовишь своим последним предложеньем. Умоляю тебя поверить в серьезность моих слов: я разошелся с тобой, я живу без тебя, врозь от тебя, живу так же, как жил, то есть нет, гораздо честнее и чище, с высоким чувством долга к тебе, а не к твоему искаженному, ненасытно самолюбивому двойнику, которого могу не помнить, не знать и не слышать.
И я думал, не заговоришь ли и ты, подлинная, в разлуке. Ты же поручила писать письмо ему, а я терпеть не могу этой фурии, и не от нее ждал письма. Я не знаю, откуда в тебе эта болезнь, но со мной беседует всегда именно этот демон, которым ты одержима.
Зачем ты так горячо пишешь о работе? Точно я Хиля или кто-нибудь из твоей семьи и оспариваю это твое право? Точно ты не проработала год во Вхутемасе? Точно не будешь работать эту зиму? Ты отвечаешь пощечиной, когда я тебе напоминаю о вещах, которые ты сама должна была бы сознавать и помнить. Ну хватит ли у тебя бессовестности сказать, что я деспот, что я тебя рабою сделал, что я втиснул тебя в тиски мещанского брака и материнства. Ну чего ты бушуешь?! Обстоятельство, например, что за границею ты, а не я – для тебя не факт только оттого, что матерьяльно я не мог справиться со всем тем, что хотел для тебя сделать перед тем, как уехать с Женичкою к нашим; для тебя это не факт оттого, что это явилось неизбежностью. И ты забываешь, что это не физическая неизбежность, а нравственная, добровольно наложенная на себя. О как трудно писать и как все это ни к чему! Не хочу, не хочу и не могу жить с тобой.
Ничего личного в тебе, нуждающегося в моем росте, моем счастье, моей действительной жизни не вижу и не слышу. Узнал, что слишком даже мне хорошо, могу поступиться в твою пользу.
Так нельзя меня любить. Я не знаю, кого можно, и мне это неинтересно.
Но если вернуться к корню всей прискорбности, к отсутствию большого чувства у тебя ко мне, которое бы тебя несло и делало оптимисткой, то слава, слава Богу, что ты высказалась и все так разрешилось. Повторяю тебе: ты меня не знала до сих пор. Теперь я от тебя свободен и вправе игнорировать беса в тебе.
Настоящая же ты не можешь не быть моим глубочайшим и благодарнейшим воспоминаньем и постоянным другом, судьба которого мне кровно дорога, и такою всегда останется. Я это тебе докажу на деле. Разумеется, мне это будет до неисполнимости трудно, если судьба свяжет тебя с каким-нибудь явным моим врагом и ненавистником. Но по себе сужу: ты верно перейдешь надолго к совершен ному одиночеству, уравновешенному, освещенному целью, осчастливленному успехом. Сейчас же, в Поссенгофене забудь, дорогая, все злые слова, которые мы друг другу говорили; запомни только факт нашего совершенного ухода друг от друга, который абсолютно никакого зла сам по себе не заключает, и дай я крепко обниму и поцелую тебя, – естественно, как это всегда останется естественным у меня по отношенью к тебе. – Я тебя люблю, но не живу и не буду жить с тобою. Твой Боря.
12. VIII.26. <Москва>
Сегодня я с утра возился с Эрнстом. Много было волненья с папиными ящиками на таможне (у Николаевского вокзала). Приехав в 10 ч. утра, мы освободились только в 12. По тому, как их вскрывали и досматривали, я боюсь себе представить, в каком виде они придут. Будут они, если верить словам агента, не позже чем через неделю в Берлине. Потом я сызнова проделал с Эрнстом весь твой отъезд. Банк, Дерутра, обед дома, извозчик, вокзал. Он уехал III-м классом и в очень скверном вагоне.
Но рядом был тот, желтый и сияющий, с широкими окнами, и я глядел в крайнее, где щебетал и подпрыгивал от паровозного восторга мой мальчик, и потом ты, за будкой, уронила голову на руку.
Я это видел. – Я ведь не человек без нервов, Женя. И с проводов Эрнста я вернулся домой совсем надломленный и со страшной головной болью. Я отоспался, сейчас пишу тебе. Надо взяться за работу, середина августа, около двух месяцев совершенно не покрыты заработком. Последнюю неделю много было мытарства с доставанием денег для Эрнста и на расходы, связанные с отправкой вещей. Теперь его отъезд как бы положил всему этому предел. Я убрал комнату, выспался, поставил самовар и – за Шмидта.
Кроме того, мне вообще нездоровилось прошлую неделю, да еще и флюс у меня сделался, как зимой, и на том же месте. Шапиро на Кавказе. Сильно мне помогла Женя Кунина. Я не знаю, говорил ли тебе, что Цветаева раскритиковала Шмидта. Ей не нравится, что я дал его, а не себя. Ей не нравится, что я его сделал типическим, психологически правдоподобным. Она против его писем. Так она формулирует по крайней мере недовольство вещью. Может быть, у нее иные, более глубокие основанья, которых она не высказывает, боясь меня обидеть. То есть, может быть, вещь вообще кажется плоской и безвкусной ей. (Между прочим, она такова и есть.) – Но Шмидта надо кончить и кончить так, как он начат. Кое-что я набросал дальше. Но по-настоящему возьмусь за работу в ближайшие дни.
Каждое мое письмо тебе сопровождалось не менее чем 5-ю другими, которые я уничтожал. Я много, много написал тебе писем этим летом. Не скажу, чтобы они были радостнее тех, которые ты получала. Но они были подробнее. Они на фактах объясняли то, что без этих ссылок могло тебе казаться намеренно-неожиданным или голословным. Но так как дело в живых данных и в решении, а не в воспоминаньях, то я и не хотел влиять на тебя ни в ту, ни в другую сторону.
Я боялся разжалобливать тебя. Для нас фатально то, что я так долго обманывал себя и тебя, будто я могу удовольствоваться твоею жалостью. Только порвав раз навсегда с этим умеренным требованьем, я перестал жалеть и тебя. Однажды из Питера приехал Ник. Тихонов и по моему предложенью остановился у меня, пробыв тут больше недели. Я был тогда в поре страшной тоски по тебе и ты мне не писала. Это была совершенная копия Таицкой нервности. Тихонов имел на меня замечательное действие. При нем я не только не мог работать, но и вообще быть самим собой при нем не было никакой возможности. А в те дни быть предоставленным себе безо всякой помехи значило тихо безумствовать. Я не мог второпях подыскать нужного слова. Это не фраза. Это были очень тяжелые дни, всякий, кто встречал меня, по одному виду спрашивал, что со мной, чем я болен.
Тогда же из Касимова с тетей приезжал дядя Осип[147] после очень тяжелого приступа сердечной болезни. Я был у них по нескольку раз в гадких дешевых номерах на Трубной, где они остановились. Раз, в спокойнейшем разговоре, я, чтобы успокоить дядю (не так, мол, страшно ваше положенье), предложил ему пощупать мой пульс в полной уверенности, что он ничего не найдет и между нами завяжется чистое слово пренье. Представь, у него нашлось латинское слово для этого ненормального постоянно (по крайней мере в тот месяц) перенапряженного пульса. Что ж тут удивительного, сказал он, жжешь свою жизнь, она и горит. Они вскоре потом уехали в Касимов. Недавно опять были тут, проездом в Кисловодск, куда дядя уехал на леченье.
Так вот, бесконечные кавалерийские рассказы Тихонова, которые не прекращались с утра до вечера, и вообще соседство его юношеской и здоровой простоты (как у гимназиста) действовали и на пульс и на все мое существо очень благотворно. Он около 7-ми лет был на фронте, в деле и имеет что порассказать. На его примере видишь, какую роль играет субъективное преломленье мира. В его изображеньи от войны не остается ничего страшного, ничего грязного даже, точно и в действительности, десять лет назад, она целиком была приспособлена для детей среднего возраста.
Громадную роль для моих мыслей о тебе и себе сыграл один случай, косвенно связанный с ним. Каждый день мы к кому-нибудь ходили, вечно встречались с людьми и дома не сидели. Как-то мы отправились к Антокольским в Ильинское. На вечерней прогулке по парку я отделился от всей компании и сбегал в Александровку. Может быть, тут, в этот вечер я впервые и увидал во весь рост, навсегда, вперед и назад твое отношенье ко мне. Замечательно, что о Тайцах и об Александровке у меня всегда сохранялось воспоминанье, как о счастливых временах.
Это объясняется контрастом тишины и замкнутости после коридорной системы бредового городского существованья, без секретов и принадлежности себе. Этот контраст – такое благо, что перевешивает и затушевывает в воспоминаньи все другие стороны.
Случилось так, что Александровка в этот час была почти пуста и очень тиха. Было воскресенье, дачники, вероятно, прогуливались, мужики пьянствовали в Ильинском. Я подошел к нашему дому, затянутому по окнам серыми опрятными занавесками. Белая скатерть в пролете крыльца и кувшин с цветами (совсем как наши, как те, с того дня), казалось, кого-то ждали, что-то помнили и знали, что-то лучше меня. Я так и ахнул.
Словно пелена спала с моих глаз, когда я впервые за эти годы уразумел, наконец, что в твоих жестоких словах тогда на террасе была правда, чистая немилосердная правда, которой я, дурак, не верил, потому что боялся поверить, жалея себя и тебя. Понял же я, что это правда, по тому чувству режущей, щемящей боли, которую вызвало зрелище нашего дома непосредственно, неожиданно, прямо с косой луговой дорожки, по которой я быстро к нему приближался. Потом по сходству мне припомнились все твои приемы, все встречи, весь вообще твой образ мстительницы, карательницы суровой, неумолимой госпожи. И вдруг я разгадал тебя и твое четырехлетнее страданье. Я не знаю, писал ли я тебе об этой поездке. Если да, то прости, что повторяюсь. Но едва ли это проскочило из писем, которые я уничтожал (в них я не переставал к этому случаю возвращаться), в те, что ты получила.
Именно из-за трудности объяснить, что я не в упрек тебе этот случай привожу, а что, наоборот, в полное тебе оправданье и в объясненье всех странностей твоих, я его пережил и победил его горечь, именно из-за невозможности уверить тебя в искренности моих слов я и уничтожал те письма. Теперь то, чего тебе недообъяснят слова, живо подскажет мой сегодняшний тон. Ты права передо мной горькою, фатальной и непоправимой правотой. Ясен мне стал и весенний мой узел. То есть то, чем я неизбежно, помимо воли, постоянно причиняю и стал бы причинять страданье тебе, если бы мы вдвоем остались, а также и смысл твоего страданья, и причина его. Но об этом лучше я расскажу тебе при встрече, или в следующем письме. Это трудно, это вещь большой тонкости.
Ты, может быть, догадалась по надписи Маршака, что он был тут. Я давно не встречал такого интересного, настолько ярко и самостоятельно думающего обо всем человека, как он. Я очень рад этому новому знакомству. К сожаленью, когда он у меня был, у меня немилосердно болел зуб. Собственно в ту ночь флюс у меня и разыгрался. Но временами я забывал про зубы, так интересна и дельно интересна была его речь. В противность обыкновенью, больше помалкивал я, а разливался собеседник. И это вовсе не от зубов.
Речь шла об английской литературе. Он мне говорил о двух замечательных поэтах, значенье которых мне известно, но которых я вовсе почти не знаю, о Блэке и Браунинге. О последнем он так говорил, что встреться с ним Дмитрий десять лет назад, я был бы избавлен от его воинствующей дружбы. Но что ты скажешь на его “Мороженое”! Какая прелестная вещь! А рисунки Лебедева! Не правда ли эта книжка и в отношеньи текста и иллюстраций еще лучше Мышонка[148].
Он, говорит, очень меня любит и все мое. Мне было жаль, что ты его не слушала, ты бы со мной согласилась в оценке его, и он не меньшее бы тебе доставил наслажденье, чем мне. По неожиданности и оригинальности это – Шкловский с присоединеньем органической философии, существенности и душевного темперамента в степени, в которой ни у кого из знакомых этих свойств себе не представляю. Ухватясь за его симпатию, попросил подобрать книжек для Женички. Но, по-моему, там кроме “Мороженого” все вздор. Разве только ничего “Присказки” Федорченки. Только их надо читать уметь. Ты услышь Москву в себе и Фросю[149] и себе вверься и нараспев читай, широко, широко.
В последнее время я часто твоих видал. Там все без измененья. Мама иногда жалеет, что не сделали операции тогда, в июне. Хирурга ждут из отпуска недели через две. Мама один невольно вырвавшийся у меня разговор о нас (вследствие сильного и сложного страданья, – тоже когда-нибудь расскажу) встретила, против ожиданий, как нечто давно ей известное, что она видела и о чем догадывалась. И выход приняла очень здраво и без волненья. Она, как мне кажется, любит тебя больше всех детей, и откровенно-противоречивой любовью: то есть больше других она любит тебя именно за то, за что на тебя нападает, и чем ты совершенно недоступна ей. Нападки же ее отличаются всею узостью и вздорностью жестоких мещанских представлений о жизни, женщине и мире.
Это письмо я буду продолжать. Я возобновлю этот разговор на днях, сейчас же боюсь задержать его. Невольная, неизбежная резкость, которая все же верно имеется во вчерашнем и позавчерашнем письмах, может ввести тебя в заблужденье. Хотя принято думать, что ты о себе высокого мненья, но в кольце своего повседневного раздраженного самолюбья ты даже и сама не знаешь, каким аршином себя мерить, то есть насколько удивительные задатки скрыты в тебе и насколько весь их смысл – в будущем.
Эти годы ты наносила себе постоянно косвенный вред, являющийся отраженьем того вреда, который прямо наносила мне. Продолжение письма будет о тебе, о том как я представляю себе твое будущее, о том, почему нам нельзя и опасно жить вместе. Нам очень трудно, и легче в ближайшее время не станет. Но я уже почти вижу осуществимость истинной жизни для тебя и для меня, как она заложена в наших судьбах и предопределена в стремленьях, пожеланьях и мечтах.
Недавно и уже в последний раз я поддался естественной ошибке. Увидав твои и свои возможности, я только оттого, что видел их вместе и чувствовал одним чувством радости за обоих, заключил, что нам дано дожить до них в одной комнате. Я ужасный дурак, что дал твоему письму обидеть или, вернее, удручить себя. Мне сразу же следовало порадоваться тому, что оно эту ошибку, являющуюся лишь частью нашего обоюдного будущего, исправляет. Разумеется, мои мысли и ощущенья на этот счет не остаются в области снов и философствованья. В ближайшем письме предложу тебе подумать и о практическом разрешении наших трудностей. То есть напишу о своих планах. Ты легко себе представишь, зная меня даже так, как ты меня знаешь, что все это мне далось не легко. Заклинаю тебя, хоть раз в жизни поверь мне полностью: поверь, что тебе будет хорошо. Во всяком случае не соизмеримо лучше того, что ты себе в письме готовила, уродуя и себя и меня.
Одновременно, или еще раньше, я прекратил переписку с Мариной. Но это совсем не то, чего ты хотела в письме и ничуть не тебе в угоду. Я просто должен наконец вырваться из кольца, которое в разные времена и разным глазам может хотя бы казаться ложью, будучи на самом деле скопленьем живой, остро страдающей, до безобразья искалеченной правды. Чистоту, красоту и ясность этой правды я и должен восстановить.
Женичка, я тебя только об одном попрошу. Чтобы ты ко мне относилась с уваженьем. Я ведь не фразер и не мошенник. Прошу об этом потому, что без этого ты не поймешь ничего из того, что мне еще надо тебе сказать. Разделаться же с голосом говорящего без пониманья очень легко: это как книжку изорвать не читая.
Продолженья письма скоро не жди. Дай мне неделю срока.
Крепко тебя целую. У меня много нового к тебе, к Жоне, к нашей семье. И мне хорошо и бедно.
В этом письме отец ярко рисует бытовую пестроту своих будней, встречи, дела, приезды друзей и родственников. Он упоминает о постоянном мучении с зубами и деснами, которые регулярно воспалялись у него и болели неделями, если не месяцами – следствие истощения (позже в письмах упоминается и другое бесконечно тянущееся с голодных лет заболевание – фурункулез, особенно тяжелый подмышками). На этот раз в отсутствие его постоянного врача, знаменитого дантиста Шапиро, он обратился к молодой приятельнице Евгении Филипповне Куниной, которая, несмотря на свои литературные интересы и занятия, вынуждена была зарабатывать как профессиональный зубной врач.
В начале июля у отца гостил Николай Тихонов, он писал Цветаевой о нем как о полной противоположности себе, о его подчеркнутой мужественности, в соседстве с которой особенности его собственного характера приобретают отчетливо женскую страдательность. Он послал Цветаевой первую часть “Лейтенанта Шмидта” и получил от нее письмо со строгим критическим разбором поэмы, в котором она обнаружила обидное непонимание замысла его работы и поставленных ею целей.
“В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею. Убеждена, что письма почти дословны, – до того не твои. Ты дал человеческого Шмидта, в слабости естества, трогательного, но такого безнадежного”, – писала Цветаева 1 июля 1926 года[150].
Мама, отозвавшись на эту критику в следующем письме, сразу увидела намерения отца освоить в поэме широкие объективные возможности исторического повествования, как письма с натуры. Трудно давшийся ему отход от лирической субъективности был нужен ему как школа для задуманных им будущих больших работ.
Очень порадовало отца знакомство с Самуилом Яковлевичем Маршаком, который в прошлом году заказывал ему детские стихи. Книжки Маршака иллюстрировал замечательный художник Владимир Васильевич Лебедев, муж маминой подруги Сарры Дмитриевны. Папа восхищался “Мышонком” Маршака и читал мне его вслух. Теперь мне была послана новая книжка, “Мороженое”.
16. VIII.26. <Москва>
Дорогая Гулюшка Женя!
Я хочу, чтоб тебе было хорошо. Я думаю о тебе и никогда не перестану. Отбрось все и будь совершенно откровенна со мной. Не бойся меня обидеть. Я все пойму. Если тебе чего-нибудь жалко, скажи мне об этом по-человечески. Ни во что не драпируйся, ничего не скрывай, я не злоупотреблю твоей прямотой. Мне трудно с тобой. Я никогда не уверен, что та, выпады которой в мою сторону так нестерпимы и неуместны – ты, а не судорога твоей самозащиты от призраков, не маска, не ложная гордость.
Я не мог принять твоего письма и жизни, в нем предложенной, потому что по-прежнему ты переоцениваешь свой возраст, свои силы и свои знанья и требуешь от меня подчиненья себе, властной, вспыльчивой, ревниво-подозрительной и нетерпимой, в то время как это и есть единственная помеха нашему счастью, потому что в остальном мы – родные, и чем ты больше будешь развиваться и расти, тем, – увидишь, – больше тебя будет приближать ко мне твоя собственная судьба (творческий опыт, постепенное освобожденье). Но я бы зарезал и твое и свое будущее, если бы согласился вдыхать свое будущее не твоей любовью (что было бы возможно) и даже не твоими легкими (что уже невозможно), а твоим требованьем дышать так, как это мне предпишут твои представленья властного и безапелляционного человека, на опыт которого я и не мог бы положиться, если бы даже был так бестемпераментен, безволен и бездушен, что хотел. В своем письме ты все построила на случайной и несчастной стороне своего характера, которая изгладится, когда ты сложишься как художница, – и ты мне это предложила как фундамент для нашей, то есть, значит, и моей судьбы!
Между тем у меня сейчас как раз такое время, что я ни шагу не смогу ступить дальше (а в этом шаге ведь и ты и золотой Женёнок!), если моей мечте не дано будет сравнительной независимости. Я не чуждаюсь вмешательства твоего истинного существа, я им жив и многим ему обязан. Но уже и вмешательство тебя – минутной, искаженной и пр. было бы тягостно. Ты же прямо на последнем хочешь построить наше благополучье.
Но такие вещи, как родина, история, судьба, запад и пр. и пр., – это все вещи насущные для меня, это вещи моего завтрашнего существованья. И вот я поставлю по контракту весь этот мир под угрозу твоей ежечасной бытовой раздражимости!
Я думал, ты мне пообещаешь работу над собой, при которой мы уйдем далеко, далеко от того безобразного уровня, на котором вынужденно держит нас наш измельченный мелочною страстностью обиход.
Между тем все то, что ты мне говоришь, опять обращено ко мне: ты снова меня кругом обежала и знаешь мои концы и начала; ты снова говоришь только обо мне; снова мне указано место.
Когда я вижусь с твоими, когда я слушаю мамины рассказы, в особенности же, когда я сталкиваюсь с ее сужденьями о тебе, я внутренне содрогаюсь от восхищенья тобою. Какой гигантский скачок сделала ты, моя одухотворенная несомненно, несомненно одним уже этим, талантливая, замечательная девочка.
Я понимаю всю твою мышечную судорогу, ставшую привычной в этой вечной борьбе. Но чем, чем как не обстоятельствами первых свиданий мог я вызвать твое чудовищное непонимание твоего положенья со мной! Ты борешься со мной, как с ними! Ты в минуты страшной душевной усталости и слабости говоришь языком тигрицы, готовой к прыжку, между тем как я мог бы тебе дать отдых. Нас спасла, нас всех втроем осчастливила бы только новая (глубоко заложенная, но умышленно подавленная тяжелым отстаиваньем себя) черта, которой бы ты отдала власть над собой, добровольно, то есть усилием доброй воли: нас, то есть нашу жизнь друг с другом, спасло бы только нарожденье большой, широкой доброты в тебе. Вот о чем я мечтал и чего хотел. Я этой соседки жаждал рядом со своей деятельностью, которая сейчас страшно трудна.
Это не то письмо, которое я думал написать через неделю. Тех тем, которые главнее всего, я в переписке не коснусь. Это страшно трудно, это будет в разговоре с тобой, это в один голос, монологом не делается. Если бы в объяснении этих тонких материй не было необходимости, то есть ты знала бы их без объяснений, все было бы чудесно, ты бы любила меня, мы были бы счастливы.
Цель этого письма напомнить тебе, что я тебя слышу и слушаю, что я душой с тобою, что если тебе печально, то в корне этой печали какая-нибудь недопонятость себя самой, чтобы ты не скрывалась, что я лучше, чем ты думаешь; и больше тебя люблю, чем ты это знаешь; и гораздо, гораздо сильнее и серьезнее, чем ты на основании моих колебаний и уступок и вечного лавированья вокруг катастрофической крутизны твоего характера воображаешь. Но я предложил тебе самой побороть то в себе, на борьбу с чем уходили мои лучшие силы. Эта борьба для меня прекращена, ты от нее отказалась.
Вот суть происшедшего.
17. VIII.26. <Москва>
На прощанье ты должна будешь мне сделать один подарок. Подари мне, или если не хочешь, оставь мне на время свой дневник. Я его перепишу. Но я буду просить у тебя подлинник, то есть кожаную тетрадку, писанную разными твоими почерками, всех возрастов. Мы будем встречаться, я от тебя с ним не убегу.
Я страшно люблю тебя в нем, люблю твое прошлое, болею всеми болями, восхищенно болею, светло, не фатально, потому что разрешенье налицо – твоя судьба не пошла под гору, ты не смята, не стоптана жизнью, ты говоришь с ней, как равная, и даже заносишься.
Мне кажется, я этот подарок заслужил, хотя, конечно, достаточно тебе узнать, что мне дорого, чтобы меня этого лишить. Никогда мне не объяснить тебе смысла и характера волненья, с каким я пробегаю страничку, в которой в двух-трех фразах – твои август и сентябрь 1919 г. И потом того же времени – письмо к Бетти.
Ты человек – осмысленного пути, то есть жизни, посвященной цели. Представь себе, что для меня подчеркнутое слово значительнее неподчеркнутого. Целесообразность либо призрак, либо – если не призрак, то – пустяк. Посвященность же жизни великий и реальный разряд существованья. Это один из видов бессознательной религиозности. Это одушевленность в квадрате. Разговоры о бессмертии, о боге могли зародиться лишь среди людей, живших посвященными жизнями. То есть предметы их рассуждений были под руками, в годах и в груди у каждого; было на что слаться, чем пояснять.
Твое несогласие со мной коренится в твоем непонимании меня, твое же непонимание может быть только умышленным. Это и есть либо постоянный умысел, либо какой-то случайный промах, вошедший в привычку, либо случай мести за какой-то мой промах, утвердившийся как способ сосуществованья со мной.
Готовая за углом Волхонки и Знаменки говорить по собственному вдохновенью и опыту о той же истине, спеша за этою же истиной на автобусе во Вхутемас, ты дома, на даче, в разлуке, в переписке со мною, – вообще, вообще во всей своей жизни со мною насильственно слепнешь и глохнешь ко всему, что с этою истиной связано.
Мое уваженье к тебе все эти годы глухо разъедалось и подтачивалось именно этой твоей красноречивой, бросающейся в глаза несправедливостью ко мне: точно за всеми твоими действиями стояло невысказанное: “Боря? – ну с ним церемониться нечего”.
Так вот, о жизни, посвященной… По-настоящему, то есть настоящим ты меня видела и знала два-три раза. Ты знаешь, о чем я говорю. Ты тогда бывала неисчерпаемо чудесна, я без границ, чудно, полно любил тебя, как совершенно равную, как соучастницу большого, отягощенного громадной душевностью волненья, как его преображенную и обдающую преображеньем половину. Меня охватывало чувство абсолютной свободы, тождественное абсолютной преданности тебе, и я всегда это чувство тебе называл. Эти редкие случаи все наперечет – случаи высказанного или – невысказанного вслух разрыва с тобой, прощанья с твоей властью, с твоими несчастными предписаньями и претензиями, до совершенной тоскливости умаляющими меня и уродующими.
Теперь я думаю, что эти случаи для меня – естественны, но и только для меня предельны. То есть они мне распахивают мое мироощущенье во всю. Что же касается до тебя, то очевидно у тебя в памяти или в прошлом есть нечто бо́льшее в этом смысле, иными словами, тебе есть с чем сравнить, и сравнение это не в мою пользу. Если бы это было не так, ты бы не могла не предпочесть меня, свободного, верного масштабам моего мира, тому несчастному, уступчивому уроду и полуживотному, которое ты из меня делаешь, подчиняя своим собственническим инстинктам.
Читай внимательно. Оттого-то я и говорю, что ты не любишь меня. Если бы мое высшее ощущенье тебя было и для тебя ничем несравнимо, то есть уносило в такую же бесконечность, как меня, то есть если бы оно было высшим и для тебя, ты любила бы меня (без если), и тогда бы тебе инстинкт это несчастное “если” подсказал: но тогда бы ты его даже и от меня скрыла. Он подсказал бы тебе, что тем самым, что я называю свободой, то есть чувством большой, владеющей миром красоты, ты действительно можешь приковать меня. Он подсказал бы тебе, что только высокая, почти неуловимая словом тонкость способна меня привязать, что меня можно очаровать, но не подвести под условья, что чем грубее цепь, на которую меня вздумалось бы кому сажать, тем она бессильнее. Все бы это было ясно и не такой одаренной и душевно богатой женщине, как тебе, лишь в одном случае действительной потребности во мне. Тебе же это неясно оттого, что желанья этого у тебя нет. Твое стремленье приковать меня, сквозящее в твоей тактике, поступках, словах и поведеньи есть поверхностное выраженье глубокого желанья, чтобы я не был прикован никем другим. Положительное желанье тебя бы перерождало и вело по совсем другим путям.
Я так утомительно отчитываюсь перед тобою потому, что я люблю тебя и не хочу, чтобы у тебя осталось впечатленье несправедливости. Я надоел, верно, тебе повтореньями о том, что упрекать тебя мне не в чем. Не унижая себя нисколько, я убежден, что в твоей истории я не сильнейшее, не содержательнейшее явленье. И очень хорошо, что ты бессознательно верна глазомеру чувства. У тебя были добрые намеренья в письме, но ни ты, ни я не такие бедняки, чтобы удовольствоваться таким сухим рационом.
Большего ты не могла дать. Большее ты дала или дашь другим, а может быть и как-нибудь иначе. Выход дарящего порыва из личности создал Бога, создал культуру, создал искусство. Для меня не лицемерны, не словесны и другие формы даренья. Я знаю формы любви, нервно осязательные, порождающие на свет душу целого поколенья (верь, я о чем покрупнее себя говорю). Я хочу сказать, что форму твоего полного порыва мыслю не обязательно с связи с кем-нибудь еще.
Ты из моей сердечной жизни не уходишь. Уходит твоя нелюбовь, твоя способность к ненависти ко мне (хотя бы альтернативная). Но и этой ненависти в потенции я не могу допустить близко к себе. Это опасный спутник.
Ненавидеть настолько легче (житейски), чем любить, что хотя бы условно, в мыслимости допуская эту ненависть и ее заранее оправдывая, ты сама не заметишь, как под влияньем обстоятельств пойдешь сплошь по этому легчайшему пути.
Замечательно, как только я пробую заговорить глубочайшим образом о себе, о Жене, о будущем, о живейших стремленьях к улучшенью всех наших обстоятельств (тут практика неизбежно переплетается с романтикой, потому что в том, что может казаться сумасшествием, блажью, громкой фразой или наводит тебя на аналогии – со Шмидтом ли или с Петровским – моя сила и моя реальная почва. Потом, когда результаты налицо и поняты всеми и впитаны жизнью, все забывают о том, что им казалось лет 5 или 10 назад) – да, так удивительно, говорю я, при всякой попытке заговорить с тобой о себе – я чувствую роковую неосуществимость этого желанья.
Я предложил тебе трудную задачу. Источник ненависти, злобы и раздраженья в семье (а как это отражалось на мальчике!) все-таки в тебе. Жить на его берегах нет никакой возможности. Я знал, что усилия, которые бы тебе предстояло делать, не легче тех, с которыми связаны твои побеги и вылеты из твоей семьи в культуру. Но ты не только отказываешься от этой работы над собой, но продолжаешь держаться воззрений, по которым это качество позволительно и допустимо. Ты вновь и вновь мне говоришь, что это в моих руках, а не в твоих. И вот это самая безотрадная и решительно никуда негодная исходная точка.
Сейчас я получил от Лидочки письмо, где очень много о Женичке. Как я рад за него! Надо все силы приложить к тому, чтобы к будущей весне иметь много денег, то есть столько, чтобы развязаться с квартирой и иметь возможность уехать из Москвы. Я хотел бы, чтобы и ты нашла возможность при Вхутемасе если не уже подрабатывать что-нибудь вечерами (диаграммы что ли у Будневича или еще что-нибудь), то хоть попробовать стать на этот путь или как-нибудь с ним связаться. Комната Шуры и Ирины переписана на них. Они за нее платят по своей таксе. Теперь и действительно, и психологически, и по охранной грамоте у нас только одна большая. То есть для пользованья их комнатой психологических данных больше нет, и если бы мне пришлось там работать, то не в виде правила, а в виде ежечасной любезности. Если опыт с пересылкой папиных вещей будет удачен, я исподволь стану пересылать ему остальное и за зиму хочу перевести ему весь его архив.
Я не обо всем имею возможность писать тебе. Кое-что узнаешь от Эрнста. Все это очень трудно, но мыслимо, и это надо успеть сделать за зиму (то есть заработать, справиться с вещами и пр.).
Я пишу тебе: нам, мы. Тебе это может показаться противоречием. Но неужели и это надо объяснять? Если не будет другого выхода, я предоставлю тебе комнату, а сам уеду в Петербург. Но это все еще будем мы.
Мама в последние дни веселее, потому что ей чаще делают впрыскиванья. Она, да и все жалеют, что не сделали операции летом. Положенье ее не стало опаснее, но боли, если бы не морфий, были бы чаще.
Продолжая тему прощания, заданную в предыдущих письмах, отец снова заглядывал в мамин старый дневник, восстанавливая в памяти ту девочку, которую так любил в ней. Но среди сильно поредевших впоследствии страниц черной тетрадки не сохранились названные записи августа – сентября 1919 года, сделанные в Харькове. Туда вложены странички с черновиком письма двоюродной сестре Бетти от ноября 1919 года, написанным по дороге в Петроград. То ли это, что папе так нравилось? В нем мама откровенно выражает сущность своего характера и безудержность своих желаний.
Ботик, я скоро, часа через два-три буду в Петрограде. Странно очень: все время вспоминаю весну в Москве, букет большой сирени, который мне подарили, мою радость, что весна, солнышко, что я в Москве, свободная, бодрая. Все еще кажется непонятным и глупым мой отъезд, упорно стараюсь думать о том, что ведь у меня нет ботинок, нет теплой комнаты (ведь это и правда, и все-таки неправда). Ботик, понимаешь, у меня абсолютно нет понятия о грехе, морали, допустимом и нет. То, что кажется мне порою святым, потом кажется не важным, даже глупым. Ты как-то сказала: “ты же лучше Леонардо[151]», и знаешь, Ботик, я гораздо хуже. Понимаешь, Ботик, у всех людей есть хоть какие-то устои, у меня их нет. У меня есть только жажда жизни и “мое хочется”. Мне “хотелось” поехать в Москву, мне хотелось стать женщиной и только теперь два “хотелось” остались не выполненными. Я могла остаться на Арбате, ведь неправда, Ботик, что меня удержала созданная любовь к Леонардо, нет, я просто боялась, что я чего-то не учту, что я не достигну своей цели работать в мастерской, а главное, боялась, что я не сумею в чем-то постоять за себя и буду связана. Я этого не сделала, но видишь, Ботик, мысли были и мне не казалось преступлением то, что называют грубо…
Вспоминая эти записи и восхищаясь силой Жениного юношеского самовыраженья и открытости, отец писал нежные слова перед расставанием. И еще не получив их, но как бы почувствовав на расстоянии, мама, наконец, дала ответ на поставленный ей прямой вопрос о ее любви. Были отброшены все обиды и претензии: одиночество и умиротворяющая природа Поссенхоффена сделали свое доброе дело, несмотря на то, что первой реакцией снова были резкие слова непримиримости.
16 августа <1926. Поссенхоффен>
Я получила сегодня маленькое письмецо от Ломоносовой. Ты думаешь, что судьба свела твое имя с Мариной, – я – что это ее воля, упорно к этому стремившаяся. Это была та давнишняя боль в Берлине, совпавшая с зарождением Жени и теперь решительная в последний раз.
Я не условия тебе диктовала, я спрашивала только тебя, равна ли твоя судьба моей. Ты отвечаешь, что твоя жизнь больше и шире, – я тоже так думаю (совершенно серьезно). Теперь все ясно. Прощай. Другом тебе быть не могу, ты невнимательно прочел письмо, там об этом есть. Я приложу все усилия, чтобы с тобой не встретиться. Правда, эти усилия могут быть тщетны.
Женя.
18 августа
Вот что я ответила тебе на твое первое письмо[152]. Рано утром должна была я уйти в горы и письмо оставила, чтобы оно полежало немного. Высоко была я, ты прочтешь открытки Ирине и Шуре и передашь им розовый цветочек. Черный я сорвала для тебя, их очень мало в горах, они пахнут так сильно, что на ночь страшно их оставлять в комнате.
Вчера поздно ночью я вернулась, сегодня у меня Лидочка, под вечер я получила оба твои письма[153], прочла наоборот последнее первым.
Боря, ты сбиваешь меня. Если причина расставанья – та, что я тебя никогда не любила и не люблю – то это неправда. Дальше, если речь у тебя о том, что моя жизнь должна пойти своей дорогой отдельной – то не строй планов. Я не приму от тебя помощи, для меня не будет естественным встречаться. Я ничего не хочу тогда знать о тебе и рассказывать о себе. Для меня это пытка. Реально я попытаюсь достать работу за границей, а если не выйдет, то в Москве. Мне легче бросить живопись, чем соприкасаться с тобой не полностью – цель и оправданье здесь – независимость. Если же ты думаешь, что наша встреча или встречи должны опять соединить наши жизни – но ты так уже не думаешь, – ты называешь это естественной ошибкой.
20 августа
Твое третье письмо чудное. И несмотря на совершенно неверную предпосылку в основе, то есть, что я не люблю – а потому нам надо жить врозь – оно своим содержаньем всему этому противоречит и говорит о жизни вместе, если не сейчас, то в будущем. Но Маяковский говорил, что время в руках поэта.
Писать о себе не могу, я не хочу создавать лишних связующих нитей, при расставаньи это лишняя боль. Правда, которую ты хочешь восстановить в отношениях с Мариной, была и раньше в твоих руках. Напрасно ты подчеркиваешь, что это не в угоду мне. Напрасно ты думаешь, что у меня только мелкое самолюбие. Понял ли ты тогда, почему я плакала, когда получили мы письмецо от Ломоносовой.
Меня радует, что ей не нравится Шмидт, как лишнее подтверждение враждебности ее облика всему моему существу. Я наоборот была страшно рада, что ты перешагнул в нем от своей юности в зрелый возраст. Сделал самый трудный шаг от эгоистического субъективизма, когда во что бы то ни стало насаждаешь свою личность – к широкому, мягкому, где этот руководящий затаенный субъективизм смешивается с большой реальной правдой, со всей сложностью и тонкостью ощущений.
О Господи, как сильно хочу я любить, до жестокости к окружающему могу я впитывать все кругом, а приносить в одно место.
Я поняла, ты думаешь, что я страдала четыре года, потому что не любила. Неправда – от того, что ты обрывал те побеги, которыми старалась я с тобой срастись[154].
Врозь шли мы, я чувствовала это при каждом шаге, ты только в критических минутах.
Тогда из писем моих из Тайц ты это понял, а потом опять забыл.
Поссенхофен, 8 утра
Возможно, что серьезное понимание задач, которые папа ставил себе, работая над Шмидтом, отразило их общие разговоры об этой поэме. Но выраженная ею трактовка близка творческим задачам отца, сознательно преодолевавшего свойственное ему лирическое мышление. Цветаева не могла понять необходимость такого перехода, ей была нужна романтическая приподнятость стиля поэмы и ее героя.
<26 августа 1926. Москва>
Моя дорогая Женичка! Без конца благодарю тебя за твое золотое письмо. Разумеется, не только что цветов, но и открыток я Шуре и Ирине не дам. Я только дал им прочесть и назад взял. Я не пишу тебе по-настоящему в ответ. Я позволю это себе только после того, как сдвину с места II-ю часть Шмидта, которая очень в последнее время застряла на одной трудной главе. Следовало бы мне съездить в Севастополь, посмотреть бухты и некоторые важные места. Но меньше, чем в 50 руб. эта поездка обойтись не может, а такою суммой я сейчас свободно не располагаю. Зато думаю съездить с тобой, когда ты вернешься. Очень об этом мечтаю. Мне кажется, что ты дунешь, плюнешь и достанешь те сто рублей, которые эта поездка будет стоить. Крепко и нежно обнимаю тебя и малыша. Пиши не считаясь со мной. Люблю и жду. Твой Боря.
За две недели до предполагаемого отъезда обязательно извести. Будут просьбы. Но ничем не ограничивай своих планов и намерений.
Если будет возможность в Париж, не отступай от желанья.
Пиши. Обнимаю тебя.
27. VIII.26. <Москва>
Просто непонятно, до чего быстро промелькнуло лето. Еще, кажется, вчера меня пугал надвигавшийся хаос горячего городского июля, вечерами безумными роями кружилась в передней моль, громыхающая мостовая засыпала комнату жарким песком, улица вечерами откровенно обнажалась, пела, хохотала и плакала.
Казалось, никогда не выбить пыли из меховых и шерстяных завалов, не отбиться от моли, не удержаться на человеческой чистой высоте, не привести комнаты в порядок. Но в свое время все оказывалось осуществимым, лето выдалось прохладное и дождливое, призраки отошли, искушенья миновали.
Я походя расплатился с долгами. Между этими расплатами с радостью установил, что с неприятностями подмышками распростился если не навсегда, то надолго. Выкупил больше месяца лежавший у портного костюм – твой подарок – спасибо тебе, Женюшок мой; – все лежал он – денег не было. Ни разу не надевал, – без тебя не надену. Не надену и старого, сданного в чистку и в починку, когда будет время зайти за ним: опять денег нет, та же история. Но и этого до тебя не обновлю, в нем встречать поеду.
Вчера написал большое деловое письмо папе. Оно так растянулось, что воздушною почтой послать не пришлось: около рубля обошлось бы. Также на твое имя выслал два журнала. В одном – Шмидт (I часть); в другом статья, о которой Черняк говорил. Все это придет либо после этого письма, либо с ним одновременно: это пошлю воздушною.
В письме к папе записка тебе. Собственно дал я зарок не писать тебе, пока не справлюсь со II-й частью “Шмидта”. Но хотелось известить тебя, что письмо твое, миролюбивое, ясное, благородное и большое – получил. О нем два слова ниже.
В письме к папе впервые коснулся вопроса о Женичке. Я прошу его приютить у них на год. Я не хочу касаться некоторых из оснований этой просьбы. Я не смею мечтать о согласьи с их стороны. Но если оно будет, я умоляю тебя победить естественное чувство материнства и им пожертвовать: все равно ты ведь знаешь, что обстоятельства не дадут тебе здесь развить его до полной пользы для мальчика. Но многого ты и не знаешь. Вчера я был у мамы. Она, не навязывая тебя, конечно нашим (в этом случае ты бы сняла с ним где-нибудь комнату), убеждала меня не звать тебя назад, предложить тебе не возвращаться и самому постепенно собираться к вам. Я ее мысли не могу разделить. И не оттого только, что мне скучно без тебя, а и оттого еще, что, по-моему, этим последним годом Вхутемаса ты можешь пожертвовать только в том случае, если найдешь что-нибудь настолько же педагогически исчерпывающее и определяющее взамен.
Но не только нам не справиться с трудностями этого критического года, если Женички не предложат взять на год, но и его мы обречем на худшее, несоизмеримо худшее существованье здесь, нежели в истекшую зиму. В таком случае зависимость серьезнейших вещей от второстепенных, наше главное горе, закрепится надолго, и совершенно меня закрепостит. А в этом состоянии угнетенного духа и связанных рук, не говоря уже о тревоге, весьма возможной и мыслимой, – я о перемене нашей участи и ее улучшеньи не в силах и думать. Если же наши найдут возможным оставить Женичку у себя, и ты против этого не восстанешь (а это было бы просто гибельно!), – мы все силы приложим к тому, чтобы вырваться из Волхонского капкана.
Весь год будем накапливать средств и сил для перехода в категорию людей, живущих собственной замкнутой судьбой и домом. Весной, летом или осенью будущего года, если Бог даст, мы либо поедем к мальчику, чтобы надолго остаться с ним там и никогда уже не разлучаться, – либо же за ним заедем, чтобы взять его в Петербург.
Переезд туда кажется мне единственным выходом, если только мы его не предпочтем продолжительному пребыванию за границей, где-нибудь в горах, в скромной, дешевой обстановке. К тому времени ты – психологически – будешь свободнее, чем сейчас, то есть будешь больше принадлежать себе, Женичке, и – (душевно) – мне.
Последняя возможность – слишком гадательна, и я в нее почти не верю. Я не представляю себе, чем бы я стал поддерживать там себя и вас. Гораздо вероятнее, что мы переселимся в Петербург или в какой-нибудь уездный город центральной России. Но мечта о жизни втроем в каком-нибудь величественном горном захолустьи так велика, так притягательно-предельна, что, может быть, именно слепая счастливая случайность ее осуществит; – разумным же зреньем я путей к ней не вижу.
Ах, как я боюсь, что план с Женичкой не будет принят! И как трудно, как невозможно мне рассказать, откуда это притязанье черпает силы, настойчивости и видимого бессердечья, и кажущейся бессовестности. Будь что будет.
Какой он задорный, бодливый и радостно-порывистый на последней карточке, посланной маме! Мне кажется, судя по ней, – он вырос и окреп. Как благодарить мне наших, чем измерить их сердце и чем, хотя бы отдаленно, – ответить им! Без фарисейства, без малейшей тени лицемерья – должен сказать: все окупится, все будет по самые края вплоть залито благом, на всякое ауканье придет удесятеренный отклик, если в цельной, связанной живым творящим смыслом семье, как наша, творческой неровности будет на время прощен ее по видимости “эгоистический” уклон. О как все выравнивается впоследствии! О какими непредвиденными путями идет в роды счастье!
Говоря о семье, я разумею не себя с тобой, а родителей, сестер и Федю. Удивительное дело: этим летом я ловил себя на странном чувстве. Мне почти казалось, что я женат на родной сестре (!!). То есть ты мне в большей степени, нежели я сам, казалась нашей, тамошней, – возникшей где-то между Жонею и Лидком. Ты не вчитывайся в эти слова. Пускай они для тебя останутся выраженьем моего ощущенья. В мгновенной же его справедливости я не сомневаюсь, и ты его объективности длительностью не поверяй.
Мне кажется, маме – против весны – немного хуже. У ней чаще болят ноги, и она на операцию соглашается. Я думаю, большою ошибкой было то, что ее не сделали весной. Но в каком бы она ни была настроении, она мгновенно расцветает и преображается, лишь только речь касается маленького Жени.
Она с нежностью и уваженьем относится к Жоничке, целует ее и просит простить, что не отвечает. Лиза уже вернулась[155]. Она предполагала до приезда детей (ожидаются числа 5-го сентября) произвести ремонт комнаты, ввиду чего была попытка перевести маму к Сене, но едва ее испробовав, от нее отказались, – и правда, слишком было бы мучительно на пятый этаж и снова с пятого вниз всего недели на две; ремонт же – (над ними не капит) – можно отложить на год. Там вечно кто-нибудь в гостях, и при многочисленности родни всегда новые для меня лица.
О тебе иные осведомляются со смесью зависти и легкого отчужденья, как о чем-то далеком, спорном и слегка предосудительном. Вот то (разность миров), чего я не знал в семье. Впрочем, об этом широко повествует и Лежнев (потомственность), ставя это, как кажется, мне в укор. И только твою маму всегда отличает какое-то ближе неопределимое прирожденное благородство, полностью выражающееся в голосе и улыбке. Мысли же иногда она высказывает совсем наивные, но вообще, – ребенок, живущий постоянно в ней, составляет ее главное обаянье. Я гладил ее по руке, и другою должен был безмолвно остановить рядом сидевшую Гиту, которая готова была запротестовать, когда мама, развивая свою затаенную мысль (чтобы тебе с мальчиком за границей остаться), неожиданно порекомендовала и мне, как более, чем ты, уступчивому, переехать к вам, бросить писать (какая дескать от этого радость) и заняться чем-нибудь другим, ну, скажем, коммерцией. Я ничего не ответил ей, и, продолжая гладить ее по руке, ничем своей растроганности не выдал, то есть не участил движений и не замедлил.
Совершенная неожиданность.
На днях родила (немножко преждевременно) мальчика Вера Оскаровна[156]. Как они с трудностями справятся, – уму непостижимо. Он служит в Третьяковской галерее и зарабатывает едва ли больше сорока рублей в месяц.
Писал ли я тебе о Мане Маркович[157], у которой на даче днем, пока она с няней и девочкой гуляла, унесли решительно все имущество, плод ее мужественных трудов и борьбы за существованье. В самом начале лета она телефонным звонком наскочила на меня в минуту глубочайшей моей удрученности. Это когда ты не писала мне, и довольно было вопроса чернявой барышни кассирши в Кубу: “что ж ваша жена обедать не ходит” – чтобы я за этот вопрос хватался как за указанье, что связь между нами – не вымысел. Верно я Марии Соломоновне на свою участь как-то пожаловался, и с мрачностью убедительной, потому что впоследствии, по прошествии месяца, она сообщеньем о покраже вздумала меня успокоить, – не вам мол одним страдать. Я пришел в ужас и сказал, что мое небольшое и уже давно поправленное горе с такою бедой в сравненье идти не может. Она это несчастье переносит мужественно и легко и с моей расценкой неприятностей не согласна. Деньги, по ее мненью, последнее дело. Молодчина.
Теперь о твоем письме.
Благодарен без конца, без форм, широко и надолго: мы друзья. Вот как нам следует говорить друг с другом, без пальбы, без спешки, с доверьем, с желаньем добра.
Ко мне зашла как-то Ольга Дмитриевна Форш со своим вышедшим на днях романом. Между нами завязался разговор, чрезвычайно тягостный и для меня – большой неловкости. Произошла эта неловкость оттого, что ей во что бы то ни стало хотелось что-то очень лестное и приятное мне сказать, действительных же побуждений к тому, кроме намеренья, не имелось.
Это чувствовалось, и никакая философия веков и народов, в которую все больше и больше углублялась О. Д., замазать этого не могла. Между тем эта достойная женщина и прекрасная писательница ничуть не была бы хуже без своих сизифовых комплиментов. Разговор затягивался и становился бездонно однообразен именно по причине сразу же ощутившегося неблагополучия. В этот день я по-хорошему и очень просто почувствовал, что чрезмерно устал и что недурно бы к кому-нибудь с субботы на воскресенье катнуть на дачу. По уходе Ольги Дмитриевны я позвонил Лейбовичу, решив, что лучше всего к ним, помолчу сутки и разве что с девочкой поболтаю[158]. Сказано сделано. День был чудесный, жаркий, полный остановившейся, затаившейся августовской солнечности, когда небо так сродни задерживающемуся, редкому дыханью.
С непривычки мне толкотни на Ярославском вокзале было довольно, чтобы пережить…некое “нечто” (прав Лежнев: – дачник, и неисправимый!). Вообще я точно статью проверять поехал, – сейчас увидишь. Но как сложно и как всегда тяжко и сложно будет нам с тобой: кругом почти сплошь жидова – и – это надо послушать – словно намеренно в шарж просятся и на себя обличенье пишут: ни тени эстетики. Стоило ли Москву заполонять! Скоро десятый год, хоть бы говорить и вести себя с тактом научились! И безысходное по неутешности сознанье: за самого последнего, уже на грани обезьяны, за все его безобразье – ты до конца дней – ответчик. Он будет грушу есть и перекашиваться в ужимках – а ты нравственно отдуваться за его крикливое существованье. На это же обречен и мальчик. Иногда я содрогаюсь оттого, что наделал!
Но мимо. Нас должны были встречать. По счастью мы как-то разминулись, и на даче долгое время никого не было. Я уговорил Льва Соломоновича расположиться на травке и вздремнуть, и разлегся на опушке безотраднейшей, шашечной дачной просеки, отделясь от него стволом сосны и вскоре же притворившись спящим. Вот ради этого мгновенья и стоило ехать к ним. Мне пришлось бы исписать пропасть бумаги, чтобы точно передать чувство, которое я вскоре испытал, лежа на спине с улетевшими в небо глазами и с невозмутимостью оставляя слова Л. С. без ответа. Я живо вспомнил с детства меня преследовавшее своей неуловимою силой “чувство природы” (очень неточное, ничего не выражающее понятье), которого сейчас раскрывать в подробностях не стану, – далеко бы завело. Я вспомнил отчаянье, которым всегда у меня сопровождалось это чувство: казалось, никогда не собрать, не проявить наружу темной волны, к которой она постоянно взывает, казалось, творческого долга ей никогда ни в малой степени не уплатить. Вдруг мне вспомнились строки:
Луга мутило жаром лиловатым, В лесу клубился кафедральный мрак.В первый раз в жизни я понял, что что-то в этом отношеньи сделано, что какие-то хоть полслова этому тридцатилетнему волненью отдали точную дань. Впервые в жизни я, на мгновенье, испытал какое-то подобие удовлетворенности. Я измерил и оценил интимный смысл того, что Лежнев в статье назвал “ощущеньем” (в противоположность чувству). Какой, при бесспорном уме, дурак!
Потом начался дачный гвалт, и у Лейбовичей оказались пренеприятнейшие соседи.
Со мной был Форшевский роман “Современники”. Это очень увлекательная книга, восходящая к материалам захватывающей значительности (Александр Иванов и Гоголь в Риме и затем, к концу – в России). Все эти сутки я с ней не расставался, и в воскресенье после обеда, когда небо обложилось и зарядил типический пригородно-железнодорожный затяжной, беспросветный дождик, – быстро перебрался с книжкою на платформу и потом в уголок вагона. Не доезжая Москвы дочитал.
Где-то между воспоминаньем о вчерашнем ощущеньи (Луга мутило и т. д.) и книжкою Форш, где – Италия, трагедия творчества (аскетическое самомучительство Гоголя – робкий и таящийся от людей гений Иванова), главное же – героиня по имени Гуль (производное от Галина), где-то, говорю, между этими подъемами душевности и где-то по дороге в город, на перегоне между Щелковым и Мытищами, мне твердо вообразилось: сейчас на квартире меня ждет письмо от моего друга, от Гулюшки. Когда мне его вручили, я спросил, когда получено. Оказалось, часа два назад.
У меня к тебе несколько просьб. Во-первых, если у тебя останутся деньги, не вези их с собой, а оставь на всякий случай у Феди. Купи в Мюнхене и поручи в книжном магазине, где купишь, отослать по почте (это верно будут две посылки, так как книги тяжелые и большие) две книги: 1) Hermann Cohen. Aesthetik 2 B-de (два тома), 2) Gundolf. Goethe[159] (биография Гёте). Скоро ждут сюда Колю Вильяма и мне хочется сделать ему этот подарок (если хочешь, подари ты, то есть надпиши ему в магазине). Послать же поручи по моему адресу Да кстати, Москва теперь поделена на почтовые округа, как города Европы, и нам следует писать так: Москва 19. Я советую книги послать, так как везти их тебе будет обременительно. Будут еще небольшие просьбы, если не успеется с Зелинским, который на днях выезжает из Парижа. Ну на сегодня довольно. Ты верно догадалась, сколько ровного света пролила на меня своим письмом, и как я не перестаю целовать тебя, и твое озеро, и твои горы, и твои меняющиеся мысли и настроенья. Мне хотелось бы прибавить, – и твое поправляющееся здоровье.
Поглядела бы на Феню[160]. Заработок ей впрок пошел. Она “усиленно питается”. Округлилась и окрепла. Прибавила – по ее словам – больше 5-ти фунтов, мама же говорит, что около 12-ти. Впрочем, между этими цифрами противоречья нет. Вот с кого пример брать. Обнимаю тебя.
Упоминаемое “большое деловое письмо” дедушке Леониду Осиповичу не сохранилось, а вложенная в него приписка маме о Севастополе была получена ею только 30 августа. В ответ на папину просьбу оставить меня в Германии на год (ему казалось, что Жонечка, привязавшаяся ко мне, с радостью возьмет на себя и дальнейшие заботы) дедушка и Федя категорически восстали против этого плана, оберегая Жонечку, которая после нашего летнего житья у нее нуждалась в отдыхе, несмотря на то, что ко мне была взята специальная няня, была прислуга и благополучная жизнь в Мюнхене. В письме от 5 сентября дедушка, бабушка и Лида сообщали папе, что Федя предлагает свою помощь, чтобы снять нам с мамой комнату в Берлине и оплачивать няню для меня в случае, если мы захотим остаться.
Мне страшно перебирать теперь все эти подробности, сознавая, каким я был несносным ребенком и каких мучений стоил своим родителям, теткам и бабушке. Дело в том, что требования к кормлению, гулянию, сну и тому подобным элементам детской жизни были очень высоки – считалось нужным дать мне такое же воспитание, какое было у них самих в свое время. К тому же отца страшило наше окружение в московской квартире. С симпатией относясь к Фришманам, он опасался, что я усвою особенности их произношения. Кроме того, жизнь в Москве в это время была опасна в силу возросшей преступности. Он серьезно мечтал о переезде в Петербург.
Вместе с письмом родителям папа послал “Новый мир” с публикацией начала “Лейтенанта Шмидта” (№ 7–8) и “Красную новь” (№ 7) со статьей А. Лежнева “Борис Пастернак”, о которой говорил Я. З. Черняк. Статья очень раздражала отца своей безапелляционностью при полном непонимании сути дела. В частности, именно Лежнев наградил Пастернака прозвищем “дачник”, прочно укоренившимся позднее в советской критике. То же чувство неловкости он испытал при встрече с Ольгой Дмитриевной Форш. Но чтение ее романа “Современники” совершенно изгладило это впечатление и через несколько дней он имел случай высказать ей свое восхищение. К тому же его взволновало имя героини романа, Гуль.
Статья Лежнева явилась невольной причиной того впечатления, которое остановило внимание отца во время его поездки на дачу к Лейбовичам в Шарапово. Надо сказать, что он очень болезненно воспринимал свое происхождение, вступавшее, как ему казалось, в противоречие с ощущением себя русским поэтом. Объяснение этому чувству находится в словах его письма к Горькому. “Мне с моим местом рождения и с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влеченьями, не следовало рождаться евреем”.
Это сковывало поэтическую смелость его метафор и языка, вынуждало к “внутреннему самоограничению” и общественной сдержанности. “Я только жалуюсь на вынужденные путы, которые постоянно накладываю на себя я сам по «доброй», но зато и проклятой же воле”, – писал он Горькому 7 января 1928 года[161].
Чувство родства с природой, которое он испытал на сосновой просеке в Шарапове, поразительно близко описанному им в стихотворении “Сосны” 1941 года.
В траве меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав Лежим мы руки запрокинув И к небу голову задрав.Пришедшее ему на память стихотворение “В лесу” 1917 года оказалось первой записью этого ощущения.
Здесь же надо сказать об отцовском замысле написать теоретическую работу, касающуюся творческой эстетики. В скором времени это намерение найдет выражение в “Охранной грамоте”. Для этого ему хотелось вновь пересмотреть положения “Эстетики” Когена, которую он знал со студенческих лет, и переизданную посмертно в двух томах. С той же целью он в следующем письме просит мамочку купить ему новые издания Гумилева, о которых он узнал от Льва Владимировича Горнунга. И, конечно, среди планов будущей работы по-прежнему сохраняется намерение докончить роман о Жене Люверс, – о чем папа пишет в следующем письме, – чтобы передать в нем характерные особенности своего отношения к женщине, выработанные, как он пишет маме, “по каким-то идеальным внушеньям природы”.
Воскресенье, кажется 22 <августа 1926. Поссенхоффен>
Боричка, не печалься, мой мальчик, твои письма такие грустные. И к чему тебе искать меня в моем детском дневнике, когда я существую на свете живая. Слушай, что я скажу тебе. Мне только что предложил человек свою жизнь, богатство, возможность работы, Париж – все, что я хочу. Это сделала не я – это сделало солнце, озеро, горы, быть может, моя постоянная печаль о нашей жизни и желание другого меня утешить. Этот человек печальный, одинокий и трогательный.
Но Боричка, позволь нам (то есть тебе и мне) еще раз судьбе ввериться, может, все-таки солнце взойдет над нашей жизнью. Больше мне ничего не нужно. Ты прав, Боричка, выходит, что я талантливая девочка (я говорю это с иронией). Из дома, где не было ни одной книги – к писателю, из провинции – к известности, не имея ни гроша в кармане – к возможности большого богатства, без языка – новой родины. Мамочка мне как-то сказала: “Ты, говорит, вполне добилась своего, ты хотела известности, славы – ты ее имеешь”. Это про нашу жизнь с тобой. Это была насмешка над самым святым. Неужели подсознательно я продажная и готова продать себя за славу, за богатство. Нет, нет и нет, я еще могла бы (порой мне кажется) все продать за свою жалкую потребность в работе, но эта связь с искусством так чутка и тонка, что никакой лжи не терпит.
Крепко тебя целую, бедный мой, измученный, дорогой Гуль.
Не подумай, Боричка, что мне вдруг стало жалко тебя, то есть, что ты против своей воли меня разжалобил. Нет, Боричка, я по-прежнему (а в данном случае тебе это должно быть любо, дорого) думаю о себе, о своей правде. Мне только легче теперь предложить себя тебе. Потому что до сих пор я была бы более бедная, если бы мы расстались, а потому я была самолюбива и мне действительно нужно было, чтоб ты подтвердил, что без меня жить не можешь.
Ответь мне, Боричка, поскорей, что ты с радостью ждешь меня, что ты прогнал последнее гадкое подозренье, последнюю враждебную ноту.
Ни в коем случае не рассказывай ничего никому и в особенности моим, в том числе и маме, это граничило бы с хвастовством за счет сердца и жизни другого. Только Жоня, невольно попав в середину нашей переписки, стала как бы духовным поверенным, моим объективным критерием и без ее сердца мне уж трудно обойтись.
Женя
Спасибо за мамины карточки. Я очень хорошо знаю, что ей очень плохо. Я не писала ей последнее время, потому что была занята нашей судьбой. Если будет у тебя время зайти к ним, скажи, что я поправилась и тебе пишу.
Вчера ты, должно быть, получил мое письмо. Не знаю, что на него ты мне ответил.
Здесь, наконец, неожиданно проявились яркие свидетельства маминого живого неисчерпанного чувства, ставшие радостью и для нее и для отца. Ее встреча в Поссенхоффене и отказ от весьма выгодного предложения со стороны благородного человека значили для них обоих очень много.
Мама потом вспоминала, как в Поссенхоффене она познакомилась с Паулем Фейхтвангером, братом знаменитого писателя, который как директор Мюнхенского банка материально его поддерживал. Он был очень внимателен и нежно заботлив по отношению к ней, так что ей было трудно отказать ему, его не обидев. И папа вторил ей в тон: да, это, конечно, не Миша Штих. И когда она мысленно представила себе обеспеченную и открывающую ей широкие возможности жизнь с другим человеком, она внезапно поняла, насколько ей дороже и ближе ее реальное и трудное существование и любовь к моему отцу.
Более того, из дальнейших писем и самой жизни по возвращении в Москву известно, что, оставив все потуги самоутверждения и отстаивания самостоятельности, мама положила все силы на устройство нашей семейной жизни с возможным уютом и, главное, с заботой о муже, в которой он так нуждался.
28. VIII.26. <Москва>
Письмо было готово, и я собирался его отправить, когда пришло твое сегодняшнее, новое, неслыханно ласковое и – о том человеке. Позволь мне не изъясняться письменно: ты этого не поймешь, ложно истолкуешь и огорчишься. Но я расплылся в счастливую улыбку, читая его. Это случилось оттого, что там много света, счастливой природы и какой-то достойной, не заостренной, не выступающей вперед удивленности самой собою.
Я очень люблю тебя такою: это больше, чем воинствующее притязанье. Потом еще обстоятельство: страшно облагораживает человека общенье с миром, сознанье равенства с широкою неизвестностью, сознанье своих больших прав под небесами, во всей, охваченной человеческою историей природе, то есть в природе Европы, испещренной бессмертными делами и поименными судьбами.
Ты не могла, конечно, от этого признанья стать тревожнее, значительнее, интереснее для меня: этих данных всегда у тебя было много. Но вот они в действии, и несут тебе здоровье, и случайный пейзаж драматизируется и становится твоим собственным, то есть неслучайной частью твоей жизни. Всего вероятнее, что объективное чувствованье тебя рядом с неизвестным заглушило всякую возможную ревность потому, что в письме – обещанье приехать и много тепла ко мне. Вероятно, этою радостью все объясняется. Может быть, я заревновал бы, будь письмо чуть-чуть иным. Во всяком случае люблю тебя и жду, и без конца благодарю. Разумеется, никому не скажу ни слова. Повторяю, что-то хорошее есть в письме, помимо твоего желанья добра нам обоим.
О главном же забыл: вот источник всепобеждающей радости: ты его писала как раз в то воскресенье, о котором речь выше, то есть когда я столкнулся с именем Гуль в книжке Форш, предположил, что будет письмо от тебя, нашел его, с цветами, карточками и совершенно новой душой, – и в этот именно день, а может быть и час, ты, “пиша” это письмо, так именно и назвала меня. Понимаешь?
А о ревности не думай. Это ничего, что подчас я могу показаться каким-то не таким. Я ведь и роман собираюсь писать и доканчивать оттого, что человека как-то знаю и люблю не совсем так, как положено и изложено кругом. А то не стоило бы и стараться. Тут в характере не все только дано и унаследовано. Многое выработано по каким-то идеальным внушеньям природы.
Трудно, Женюшок, писать. Будь счастлива и здорова. Пиши, когда и как ждать.
Больше всего я рад, что ты, если верить твоим словам, – поправляешься.
Я не знаю, тобою ли и Жоней вымышлен этот человек, или он придуман Богом, горами и озером, то есть живою действительностью, и действителен и сам: но он выдуман хорошо.
Это – не Миша.
<31 августа 1926. Мюнхен>
Боричка, дорогой, папа получил сегодня твое письмо и я приписку, равную вполне письму. Спасибо, Боричка. Я немножко беспокоюсь, что ты, может, как-нибудь болезненно реагировал на мое другое письмо. Но, Боричка, поверь мне, родной, что оно не сопровождалось ни одной мыслью, которая могла бы тебя как-нибудь огорчить или обидеть или меня как-нибудь превысить над тобой, я знаю, что ты владеешь в тысячу раз большими соблазнами и возможностями в жизни.
Боринька, это было бы чудно, если б ты смог сейчас же, не откладывая съездить в Севастополь, во-первых, ты бы разрядился, отдохнул, ты бы в севастопольском пейзаже все то бы увидел, что я вчера оставила за собой в Possenhoffen’е, синеву моря и неба, пейзаж, обрамленный горами, белизну зданий и земли, покрытой белой пылью на фоне синевы и зелени. И говорить нечего, как бы хотелось мне быть там рядом с тобой. Но, Гулюшка, мужайся. Мы сами должны пре одолеть все наши большие трудности. Женичка приедет со мной. Я не вмешивалась, но в душе рада, что судьба оставляет нам Жененочка с нами. Тебе напишет, верно, Лидочка под мамину диктовку обо всем, но бедная, как больно и трудно ей, – мамочке, за глаза тебе все объяснять.
При встрече я расскажу тебе все подробнее, теперь же кратко.
У Жонички Женичка остаться не может, несмотря на то, что Жоничка готова ему быть няней и мамой и расплачиваться своим сердцем за трудности всех кругом. Так как это не в нашей власти и категорически, то, чтоб не было тебе лишней боли, я расскажу подробнее при свидании. В Берлине Женичка может только остаться, если останусь там и я, тогда можно было бы найти комнату вблизи квартиры ваших, где я бы с Женичкой жила. Но я думаю, что тебе бы и в голову не пришла такая возможность. Папочка и так, Боричка, часто и за няню и за кухарку бывает, мамочка почти все время плохо себя чувствует, Лидочка должна начать практическую работу, комнаты у них лишней нет и даже для них лично нет комнаты для прислуги, а потому, Боричка, уже жестокость с нашей стороны просить нам помочь. Но, Гулюшка, не подумай, что я помешала твоим планам. Я была в Possenhoffen’е и ни о чем не говорила. Еще до твоего письма обо всем было у них передумано и перечувствовано.
Теперь слушай, Боричка, мы, даст Бог, справимся. Конечно, 1) у тебя должна быть комната для работы и 2) Женичка при нашей с тобой занятости должен быть в наибольшей степени изолирован от влияний. Между прочим, чтоб тебя это не сразу опять больно ударило при встрече с ним, он шепелявит, и я думаю, что ты только и сумеешь это исправить, потому что он, маленький, это понимает и очень старается, но язычок так и не попадает у него меж зубок.
Так вот, мне пока мерещатся две возможности: или две комнатки за городом и тогда Женёнок будет изолирован, или поговорить с Устиновыми о холодной комнате (Паша в прошлом году предлагала, чтоб ты ее отапливал и там работал), тогда только изоляция твоя. Но, конечно, Боричка, это когда я приеду, а сейчас я тебе об этом пишу, чтоб ты не пал духом.
В четверг мы выезжаем в Берлин, и числа 15 я думаю уже ехать в Москву, потому что на носу будут занятия, а еще будет о чем позаботиться. В Париж на 2 недели я не поеду. Мое сердце вполне полно, а обжираться мне не к чему. К тому же я нагуляла 5 ф. весу и хочу их довезти до Москвы. К тому же мне кажется сейчас Париж алчным, перегруженным и душным, как был Берлин в 23 г. Конечно, не точно, но во всяком случае на всех чужих там скалят зубы, и уж больно жадно туда все бросаются.
Так вот, Боричка, было бы очень хорошо, если б ты как-нибудь достал себе денежек на поездку. Стелла просила Жоню послать ее родным 2 червонца, то есть 10 долларов. Я Жоничке дала эти деньги, и если это тебя хоть немножко устроит, то ты можешь их у Стеллы получить, то есть я тогда их у Жони брать не буду.
У меня к тебе просьба: если ты будешь на Мясницкой, зайди к Фальку. Узнай, все ли у нас в Школе благополучно и надо ли мне торопиться. Очень беспокоюсь о маме.
Крепко тебя целую, твоя Женя
Если нашим до того, спроси на всякий случай, может, им что-нибудь очень нужно, чтоб я привезла. На всякий случай пришли (возьми у портного) свою мерку для костюма и № ботинок или размер ноги или то и другое.
Поезжай, Гуль, глотни немного воздуха, даже ничего, если не ты меня, а я тебя в Москве на вокзале встречать буду.
Пишу тебе о Женичке обо всем для того, чтоб тебе от мамы и папы не так больно было узнать и чтоб ты не сорвался несправедливым и резким словом против них.
Еще раз тебя целую, хотя мне это как бы вновь, как вообще вновь и неожиданно обращение к тебе, и несколько потому странно это деловое письмо к тебе, писанное темпом сборов, отъезда.
Если сумеешь, закинь кое-куда удочку относительно няни.
Женя
3. IX.26. <Москва>
Моя дорогая!
Спасибо за большое, сердечное, прекрасно написанное письмо. Хочу поскорее ответить, буду краток, неизбежные недоговоренности и неясности раскроются при встрече. Люблю тебя и жду с нетерпеньем. Когда бы ты ни выехала, дай знать так (телеграммой), чтобы мне об этом знать если не за два дня, то хоть накануне приезда, причем с тою же точностью, с какой я и нашим телеграфировал: Eintreffen durch Warschau[162] (?), день и час.
Я не мог не испытать острой и живейшей радости, что увижусь с мальчиком. Дай Бог, чтобы этого простого и понятного чувства было достаточно, чтобы упорядочить тот хаос, от которого Федя не хочет или не может помочь мне избавиться. Эта сторона дела меня огорчила и не могла не огорчить. Два года подряд тетя Ася, Паветти, Бари[163] и др. знакомые только и знают, что дивятся, как это мы не обратимся к Мюнхенской помощи. Настолько это кажется естественным, очевидным и не выходящим за пределы мыслимости.
Кроме того, я знаю множество семейств, где родные за границей, не всегда поставленные в такие условия, как Федя, думают, по-видимому, иначе и берут на себя этот, конечно, высокий и великодушный труд, внимательнее разбираясь в аномалиях, трудностях и опасностях эпохи. На днях я написал Феде большое и очень серьезное письмо, ни словом не заикнувшись о Женичке, в котором благодарил его за ласку и гостеприимство и кое-чем очень своим поделился, как с человеком близким, который это поймет. Я в этом не раскаиваюсь, так как чувства мои к нему не поколеблются от этого отказа. Дай только Бог, чтобы эта завидная близорукость в будущем не была осознана на месте, как преступленье.
– О родителях я, разумеется и не думал и в своих предположеньях далек был от мысли предложить Женичку им. Если я писал об этом папе, то только оттого, что обращался к семье в целом.
Женёк, друг мой, мне бы хотелось, чтобы ты меня поняла в дальнейшем с полуслова, обойти этого молчаньем нельзя, распространяться же не хочу, так как тороплюсь тебе ответить. Есть, так сказать, две возможности для жизни строиться последовательно и логично. Один порядок продолжает и развивает тенденцию случайных данных. Другой, внося в этот бедный, фатальный круг что-то новое, свое и человеческое, может быть назван логикою долженствованья, логикой счастья, призванья, логикой, предвосхищающей событья мечты. В границах первого жизнепониманья, я, зная все данные семьи и следуя чутью правдоподобья (вот так, как я Шмидта писал), не мог и рассчитывать на то, что Федя пойдет на эту “неестественную претензию”. И если у меня теплилась надежда, то лишь в расчете на то, что счастливый случай перенесет его в круг понятий второго порядка, где все бы ему представилось, разумеется, совсем в ином свете.
Тогда бы он не бедного родственника во мне увидал, с нелепыми и неосуществимыми притязаньями, а его самого бы потянуло помочь мне в этом из склонности к прелестям культуры, из желанья приложить и свою руку к делам, бросающим именной и полный всечеловеческого тепла отблеск на судьбы семьи, наконец, просто бы из того факта, что Жоня – русский человек и сам он многим хорошим обязан России, – могло проистечь немало счастливых внушений. И вот, нет ничего более гнетущего, чем случаи такого разочарованья, когда близкие тебе люди собственными руками указывают, что место тебе в скупом и фатальном кругу естественных и случайных данных. А потом они продолжают читать книги и биографии авторов этих книг, и смотрят трагические фильмы в кино, и все это чувствуют, и в путешествиях заводят знакомства, поразительные по тонкости взаимного пониманья. Но бросим об этом говорить.
Однако я так боюсь власти данности (указанных средств и наперед отмеренных расчетов), что и другие возможные картины пронеслись сегодня передо мной под влияньем чувств, которые вызвало во мне твое сообщенье и неизбежные из него выводы. И я не боюсь признаться тебе в них, потому что отвечаю за себя лишь в целом, а не в частях, то есть во всем охвате своего чувства, своего взгляда на жизнь и пр. Я увидал тебя, разделившей жизнь с тем человеком, который ни в сотой доле не жертвуя ничем своим, как я, во сто раз больше моего мог обещать и дать тебе, не требуя и от тебя ни одной из тех жертв, которых от тебя требуют и будут требовать – если и не я, то твое чувство, – чувство друга, которому дано понимать и все видеть. Как я уже писал, он мне представился сразу же почему-то в чертах какой-то правдивости и сердечности, не вызвав к себе ничего кроме бесконечно осложненной далекой, далеко-хватающей болью – симпатии. Ну и что же.
Сегодня я с тревогой подумал: не упустила ли ты случая вырваться из нищенских тисков “естественной данности”. Не было ли бы лучше и Женичке? О, а потом, – потом бы я вас нагнал и отнял!
Все равно вы бы остались моею подлиннейшею жизнью, и лишь несравненно большая, чем обычно, боль залила бы эту часть. Но зато жилось бы тебе и ребенку легче. Но ты и не вдумывайся серьезно в этот мираж, потому что у тебя останется неприятный осадок.
Еще одно. Допустив, что ты приедешь одна, я не сомневался в душевной подоплеке предстоящей зимы. Мне даже казалось, что главнейшие препятствия и сложности именно нашей участи (то есть особенностей этого лотерейного нумера) мы преодолеем в большом и в малом – целиком этою зимой. Убежденье это являлось не столько от веры в твой или в мой характер, сколько от предвкушенья того никем не разделенного шепота, который повели бы мы с первой же встречи столь надолго, что он стал бы нам второй природой и подавил бы те стороны наших характеров, которые нам во взаимную тягость. Теперь ты знаешь, что этой тишины гляденья друг во друга не будет, то есть не будет в наглядной, разительной осязательности.
Значит я в большей, чем когда-либо, степени нуждаюсь в помощи твоего духа, сознанья, заглядыванья далеко вперед. Значит не все даст тебе отдельный момент, отдельный день, отдельное несогласье, не все даст и не все сможет сказать тебе. – И тут я начинаю бояться. – В Севастополь мне не съездить, так как одна дорога в оба конца 3-м классом без плацкарты – 50 рублей без копеек. – Сейчас 7 часов вечера, пятница. Если я задержусь письмом еще на ½ часа, оно отойдет только в понедельник утром. Вот отчего я пишу с безумной поспешностью и, вероятно, страшно вздорно и неудобопонятно.
5 фунтов! Как мало ты прибавила. Бедная моя, любимая дуся, когда же ты заполнишь собой весь свой миловидный девический контур?
Ничего никому, в том числе и мне, – не вези. Таможенные трудности общеизвестны, и никто на тебя в обиде не будет.
Уротропину Хиля папе достал года на два. Левин не привез, продолжая ссылаться на высокую доброкачественность русского. Ботинок мне ни в коем случае не покупай: доступны и здесь. Мерку для костюма пришлю, достану у портного. Но думаю, что будет тебе трудно, надобности в этом нет, пошлину же, вероятно, придется платить большую. 20 рублей у Стеллы получу.
Просьба об оставленьи денег за границей после сегодняшнего письма отпадает. Сейчас не успею тебе написать о книгах, которые просил бы привезть. Напишу дня через два.
Советую зайти в посольство на Unter den Linden. Обратись к тов. Мирову[164], узнай, что разрешается провозить при себе без пошлины (это я о твоих вещах), и попроси его содействия (письма или чего-нибудь еще на границу) для вещей сверх нормы. Вообще кланяйся ему сердечно от меня и будь мила с ним: может быть, возникнут какие-нибудь другие вопросы, трудности или потребности у тебя.
В Берлине также, кажется, еще милейший Савич[165]. Помнишь его? Зовут его Овадий Герцевич. Его адрес BerlinHallensee, Joachim-Fridrichstr. 52 bei Hoppe. Очень ему кланяйся. А вот о книгах, речь о русских заграничных изданьях, спроси у Мирова, можно ли, то есть разрешается ли провезть. Если нет, то попроси его как-нибудь иначе, с Наркоминдельской оказией, или, может быть, тебе они придумают какое-нибудь сопроводительное разрешенье. Достань у Ладыжникова (Rankestr, 33) – там же Либерман[166] – благодари и кланяйся, – “Сестру” и “Темы” экземпляра по 2, по 3. – Гумилев: “К синей звезде”, издание Petropolis, 1923 (2 экз.), Гумилев “Колчан”, Petropolis, Берл. 1923 (2 экз.), Гумилев “Костер” Гржебин, Берлин. 1923 (1 экз.), Гумилев “Французские народные песни”, Petropolis, Berl. 1923.
Если есть, – то “Версты”[167], о которых писала Ломоносова. Затем новую прозу Бунина отдельным изданьем (Митина любовь и др.). – Вообще все, что сама найдешь интересным, может быть, у Савича спросишь. Двоенья экземпляров у Гумилева оттого, что просил Горнунг, и мне бы тоже хотелось. Троенья экземпляров Сестры и Тем – в объясненьи не нуждаются. —
Горячо тебя целую и крепко обнимаю. Здравствуй, дорогой мой клоп Женечек, скоро, скоро, говорят, увидимся.
Получились ли картины? Снят ли картон с портрета девочек?[168] Всех поцелуй.
Твой Боря
Маму вчера благополучно перевезли к Сене. Хирург приезжает в Москву 6-го августа.
Папино письмо к Феде сохранилось у Жони в Оксфорде. Оно не датировано и содержит благодарность за “ласку и тепло”, которые он расточал маме и мне. Скрытый смысл письма усматривается лишь в чрезмерно подчеркнутой признательности за то, что наше пребывание нарушило “привычную тишину раз навсегда по своему и Жонину вкусу заведенного тона”. “Но в особенности, – писал ему папа, – повышает мою признательность, и как раз к тебе, то повышенное чувство, которое к тебе питает мальчик, выделив тебя из общих семейных симпатий”[169].
Вероятно, именно горячая привязанность, которую со свойственной Жоничке эмоциональной крайностью она проявляла по отношению ко мне, заставила Федю и дедушку отказать отцу в его просьбе. Думаю, что с этим отказом связано также и то, что, вопреки прошлым убеждениям Жони, будто для нее иметь детей – преступление, – в будущем году она родила дочку.
<9 сентября 1926. Москва>
Дорогая Женюра!
Вместе с простым письмом к папе я в те же дни написал наспех тебе, Феде, и кажется, еще раз тебе. Кроме того, послал два журнала. Хотя совсем недавно я получил большое письмо от тебя (то, в котором о Женичке впервые, о решеньи) и успел тебя за него поблагодарить, но в нем ты пишешь до полученья всего перечисленного. И мне думалось, что на этих последних днях придут какие-нибудь известия от кого-нибудь от вас. Вот отчего я задерживал эти несколько слов, которые хотел сказать тебе.
Пишу опять второпях, и трудно потому, во всей беглости, объяснить, отчего я так много значенья придаю перегородке и тому, чтобы она была поставлена до вашего приезда. Часть причин совершенно ясна для каждого. Неудобно, тяжко, негигиенично и пр. будет ставить ее при вас. Неприятно будет начать жизнь в Москве прямо с сутолоки, грязи и толкотни. Также и надобность двух комнат (то есть перегородки) принимается каждым без доказательств. Но представь, эти, каждому понятные мотивы – только слабейшие. Гораздо сильнее те, которых в двух словах мне не сказать. Не о “комнате для работы” только речь. А о комнате моей и моей любимой девочки, а о комнате бутузовых родителей, а о комнате нашей жизни на этот год, и разумеется – такой моей работы, о которой мне не придется много говорить, как о разумеющейся, глубочайшей части этого целого.
И тут мне есть с чего начинать сердцем и совестью: нет необходимости верить или не верить в осуществимость: если мы не поладим, это будет уже больше, нежели то, что было до сих пор. Это уже не будет нашей катастрофой, а катастрофой нашей мечты. Это будет уже судьбою той правды, которою я обладаю, в тебе, в предощущеньи тишины, творческого смысла и постоянного (постоянного и в одиночестве) – чувства к тебе. Мне не хочется об этом говорить. Я мог бы продолжать и дальше, перенеся разговор на ребенка. Я мог бы заговорить о маленькой вселенной, о мире действительной, настоящей детской, куда можно заглянуть через дверь. И чем глубже были бы темы, которые бы я поднял в этом разговоре, тем прямее бы я при этом говорил – о перегородке. Так что – не “рабочая комната с охранной грамотой из Кубу”, а – религия.
Такими же чувствованьями, а не соображеньями удобства, окружено мое желанье, чтобы вошли вы сразу в две комнаты, а не в одну. Потом уже и тысячи перегородок не смогли бы выправить того искаженья, которое бы разом было нанесено всему кругу чувств, если бы мы опять сошлись в этом станционном зале, в котором годы можно провести, не отделавшись от чувства, что это – на время, в ожиданье чего-то.
Но вот выясняется, что стоить будет эта затея от 230 до 250 рублей. Сейчас у меня денег нет вообще никаких. Расчеты только на такую же приблизительно сумму к концу месяца. А ведь сразу же потребуется на жизнь. То есть я хочу сказать, что за такой получкой только по истечении месяца можно будет ожидать новой. Между тем это не главное. Будь у меня разрешенье от Губернского инженера, без которого нельзя ставить, я, конечно, тотчас же к установке приступил. Самое досадное не в деньгах даже, а в том, что в Управлении Губ. инженера ходатайства такие пролеживают не меньше 2-х недель.
Кое-куда я уже ходил, чтобы это ускорить. Обещают, в виде исключенья, через 5 дней, считая с сегодняшнего числа. Когда я писал тебе о перегородке в письме, посланном с Ватагиным[170], я не знал, что за этим разрешеньем будет такая задержка. Другими словами, очевидно к середине сентября с этим делом не поспеть, а только к числам двадцатым. Если тебе в Берлине тяжко, или для наших в том большое неудобство, то есть если это перевесит мои соображенья, напиши мне, не откладывая.
Сегодня зайду к Фальку. Сообщу на днях, в ближайшем же письме. Пиши мне и, конечно, посылай воздушной.
Это – совсем не письмо. Я просто Шуриными марками воспользовался (то есть тем, что можно в конверт вложить).
Крепко тебя обнимаю. Расцелуй и посмеши мальчика.
Твой Боря.
Это второе письмо про перегородку, которую отец мечтал поставить в дедовой мастерской, чтобы получить, наконец, две комнаты. Предыдущее письмо, посланное со скульптором Ватагиным, не сохранилось, или не было им передано маме. Конечно, папа не успел сделать эту работу к нашему приезду, и дощатую переборку ставили уже при нас. От намерения ее штукатурить пришлось отказаться. “Перегородок тонкоребрость” осталась навсегда. Впечатление изолированности при полной звукопроводности и той тишины, о которой отец мечтал для работы, так и не получилось.
8. IX. <1926>. Берлин
Боричка, пишу наспех, в 10 мин. должна быть готова.
Книги тебе посланы из магазина “Москва” на пробу по одному экземпляру, если нужны тебе будут потом, то тебе вышлют еще и вообще всегда когда надо.
Либермана нет. Миров в Москве. Мама велела мне об этом написать тебе, может, ты его там повидаешь, и это как-нибудь будет равносильно его пребыванию здесь. Я думаю иначе, но пишу на всякий случай. Почему не присылаешь мерки? Пепа обещал маме взять для тебя костюм.
Боричка, очень прошу тебя зайди к Фальку и узнай, насколько мне надо торопиться, и скажи о моем приезде и о том, что для меня было бы ужасно, если меня ожидают какие-нибудь неприятности.
Пепа будет в Берлине числа 20-го и если во ВХУТЕМАСе все благополучно и я могу немного опоздать, то может быть, хотя мне не хочется и хочется поскорее в Москву, потому что здесь с Женей трудно и маме трудно, и время терять не хочется. Но может быть все-таки, чтоб все без спешки и с Пепой, я бы и подождала и тогда в Москву попала бы числа верно 28 или в этом роде. Но мне нужно непременно знать, можно ли мне и не вызовет ли это осложнений в Школе. Пепа еще во Франции и писал, что будет здесь числа 25. Спроси, должна ли я купить и привезти уротропин.
Крепко тебя целую. Очень хочу поскорее в Москву и боюсь, что Берлин съест мои 5 фунтов и Женичкину поправку и спокойствие. А потому постараюсь как можно скорее. Лидочка должна будет числа 12 поехать в Гамбург. Это еще немножко тут все усложнит и затруднит. Вообще же целый день занят сплошь Женичкой, и с трудом вырывает каждый из нас час на всякие дела. Книги для Коли[171], как узнавала Жоня, в Мюнхене стоят 45 марок. Не куплю, нет денег.
10. IX. <1926. Москва>
Женюрка, только что получил твою воздушную записку, и тоже тороплюсь. Занятия во Вхутемасе начнутся не раньше 1-го октября.
Напрасно послали книжки по почте. Нечего было пробовать, раз наперед известно, что почта доставляет только книги на иностранном языке, русские же зарубежные изданья не переправляются никогда. Неужели я тебе об этом не писал? А к чему бы тогда Миров и столько разговоров? Их следовало в таком случае, то есть при отсутствии Мирова, взять просто с собою. Вероятно, те же книжки в Париже может достать Илья Григорьевич.
В согласьи с этим – просьба. Напиши обязательно Борису Ильичу (я его адреса не знаю). Попроси его в этом письме снестись с Ильей Григорьевичем Эренбургом, 64 Avenue du Maine, Paris 14, с тем чтобы он у Ильи Григорьевича взял книжки, приготовленные для меня. Ты понимаешь, письмом этим надо Пепу застать в Париже. Исполни обязательно просьбу Елизаветы Борисовны Черняк[172], от которой на днях письмо получишь.
Уротропину привези, у папы запаса только на 3 месяца. Еще: обязательно купи 2 тюбика таблеток Sajodinа для Василия Ивановича[173], он очень просил.
Размер костюма прилагаю. Как у тебя с деньгами?
Женёк, дорогой, где же твоя помощь, когда здоровье твое всегда на таком угрожающем волоске, и так много усилий нужно, и сдвиганья гор, чтобы добыть, а потом даже и сохранить эти 5 фунтов! А остальное все легко, – две комнаты под городом (тысячи 2, 3), няня и пр. и пр. Чем-то страшным и памятным пахнуло на меня от этих слов о здоровье.
Книжки, костюмы и все прочее – неважно. Будь новой, выросшей, другом и помощницей, большим человеком.
Воскресенье. <12 сентября 1926. Москва>
Золотая моя Женюра!
Я уже писал, что торопиться тебе до самого конца сентября нечего. Ты и поезжай с Пепой во всяком случае. Тебе на границе будет спокойнее и вся вообще дорога легче. Мне очень бы этого хотелось.
Пишу тебе с большой любовью, удвоенной и усиленной большой горечью по поводу перегородки. Какая глупая вышла фраза, глупее не придумать. Ты должна, золотая моя, знать, что Устиновы предлагают мне пользоваться холодной комнатой для занятий, и не из-за рабочей комнаты весь сырбор загорелся. Я для тебя и для себя с тобою, и для мальчика хотел разгородиться: для миров, для времен, для тишин, для сердец, для мыслей, для двух ламп в двух комнатах, для входов к нему и к нам: для того, чтобы можно было любить тебя и нам обоим – его.
Я без ужаса не могу себе представить нас тут снова по-старому. Все начнется вновь. Ты, не зная того, нуждаешься (и по праву) в той изоляции, о которой речь. То есть оба мы. Моя дорогая, я так много понял за это лето в себе и в тебе. Мне так бы хотелось добра, большого добра. Не переоценивай ни моих, ни в особенности своих нравственных сил. Все твои намеренья разлетятся прахом от прикосновенья порабощающей житейщины особенно же в этой нашей безвыходнодесятисаженной форме. Но верно уже и ты в воображеньи живо свыклась за эти дни с перегородкой и постигла инстинктивно все то, отчего я так сильно ее хочу. Полная почти неисполнимость этой мечты по отсутствию денег и стоимости установки (от 250 до 300 рублей) меня не останавливала.
Разрешенье на словах уже получено и через три дня будет выдано и документально. Можно бы приступить уже к работе. До сих пор никаких колебаний у меня не было. Но вот представь, городской инженер, осматривавший комнату от Хамовнического Совета по моему ходатайству, на мой вопрос о разных подробностях сказал мне ужасно неприятную вещь: будто штукатурка в отношеньи просыханья – очень капризна. Сохнет обыкновенно недели три. Может, однако, и месяц, бывает и два. Жить в комнате, пока стена не просохнет, нельзя, это опасно, можно нажить ревматизм. Это в отношеньи спанья. Но и днем нельзя в ней находиться, так как с целью осушки устраиваются сквозняки и в то же время подтапливают времянками. Все это в сильнейшей степени зависит от погоды. Ее же в эту позднюю пору легко предугадать. И все же, и все же мне бы страшно не хотелось отступать перед этим.
Но если до сих пор все у меня было решено твердо без тебя, то после этих сведений о штукатурке я решил тебя об этом известить с просьбою тотчас же, обдумав это дело, ответить мне по телеграфу, приступать ли мне к установке или же нет. Неоштукатуренная перегородка в смысле стоимости рублей только на 60, на 70 дешевле. Между тем она цели никакой не достигает, тогда можно просто занавеску между двумя шкапами протянуть. Как быть? Телеграфируй пожалуйста.
Гулюшка, удивительно, как за случайностями переписки затираются серьезные мотивы, двинувшие то или другое предположенье. Так, я больше десятка писем написал об истории с Женёнком, вспыхивая в них и подавляя вспышки и нигде, кажется, не сказал, что меня больше всего огорчило. Дураку Эрнсту все было сказано, речь была о страшных и кровавых опасеньях. Ему же было объяснено, что судьба моя связана с твоею и что по тем же причинам мне бы хотелось твоего возвращенья. Но так как считается, что лучший знаток жизни это оптимизирующая посредственность, пороху не выдумавшая, и так как всякий дар горького предвиденья выносится на суд этой трезвой орлиной инстанции, то разумеется и в этом случае было запрошено мненье передатчика, как запросят и другого пророка, Абрашу в Гамбурге. Я ничего решительно ему потому и не передавал. Эти, конечно, ничего не видят. Значит нечего и видеть.
Недавно в Союзе писателей обедал с Замятиным, Никитиным и с вернувшимися на днях из Японии Пильняками. Последние были очень милы и просты, встреча наша с Борисом была очень нежною. Сколько зависти и интриг всегда кругом. Пильняк талантливый человек и хороший. Европейское имя с неба не валится. Он видел себя и меня в японских переводах. То есть видал он портреты и потом кучи страниц орнаментального китайского шрифта. Видал, конечно, не нас одних, а разумеется и Маяка и некоторых других. Скажи Лидочке, чтобы обязательно взяла у Эрнста и прочла Бабелеву “Голубятню”. Небось, оценит.
Не знаю, писал ли я тебе, что Нюня[174] тут была. На днях она уехала в Питер. Через неделю, другую, к операции опять приедет. Недавно на Гиту на Театральной площади в два часа дня напало трое беспризорных, свалили, вырвали кошелек и удрали без преследованья. Она отделалась еще благополучно. Иногда они смазывают ладонью по лицу (в случае сопротивленья), и человек лишается всех выпуклостей и прежде всего – носа. Разгадка – лезвие “жилета”, ловко зажатое в мышцах ладони. Или еще они грозятся укусить (большинство – сифилитики). Это бедствие все разрастается. Идут годы, а категория все так и сохраняет свое наименованье. Так и выходит, что тысячам беспризорных сейчас лет за 17. Вчера в Петербурге, в 10 часов вечера сорок (ты слышишь: сорок!) таких “детей” напали на девушку, завязали глаза, куда-то уволокли и все сорок, один за другим, изнасиловали. Боже мой, боже мой, боже мой, что ж это будет! И несчастная осталась жива. Это были двадцатилетние “хулиганы”, как выражается газета, забывая, что у хулиганов этих с газетою – религия одна.
Семашко[175] все лето писал статьи о Крыме. Статья о Севастополе называлась “Жуткий город”. Там было до 10 000 беспризорных, совершенно терроризировавших администрацию. Половина народа, попадающегося на улицах, в особенности на перекрестках и площадях, – они. Я мог бы продолжать до бесконечности. Происхожденье их понятно, как и их численность. Эти сироты – дети десятков или сотен тысяч выкошенных голодом в городах в 18–20 годах и миллионов Поволжья в 21 г о д у.
Кланяйся Жоне и Феде. Где они, кстати, сейчас? Сообщи также Лиде и маме, что письмо их, в последнем смысле, не с точки зренья сегодняшнего дня – решительный и дурной вздор. Или не сообщай. Одного не забудь: про штукатурку и немедленно, сегодня же телеграфируй.
Без Бориса Ильича не отправляйся, очень прошу тебя. Нежная моя милая дуся, если можно, не отменяй перегородки. В самом худшем случае отмены – забеги вперед, вообрази все, настройся широко, крепко, поверх барьеров, захоти большого, полюби мою трудность, милая, милая.
Ах как грустно и страшно. Жду телеграммы. Но также и пиши. Но всех расцелуй. Я конечно люблю их. Но Боже мой, Боже мой!
Gundolf’а “Goethe” купи обязательно, это мое настойчивое желанье. Прошу тебя. Смотри на это, как на твои просьбы о Поле Шуриго.
Просьба отца, чтобы меня оставили на год в Германии, объяснялась, кроме всего, “кровавыми и страшными опасениями”, о которых он не писал родителям, но рассказывал Эрнсту, который, как оказалось, ничего не понял. Теперь он боялся, что в том же успокоительном тоне о жизни в Москве станет рассказывать Абрам Вениаминович Адельсон – муж Стеллы Фришман и сосед по Волхонской квартире. Он как химик был послан в Гамбург в командировку, куда поехала его навестить Лида и потом привезла в Берлин к родителям.
Суббота кажется 11-го <сентября 1926. Далем>
Боринька, добрый вечер. По бумаге видишь, я с Женичкой у Мони. Вчера простудилась Лидочка, чихает, насморк, не подступись, а сегодня в ночь захворала мама, желудочный грипп. Меня с Женичкой тотчас же выселили. Даст Бог, дня через два-три сумеем вернуться в Berlin. Здесь Женичке хорошо, но нас, собственно говоря, никто не приглашал и особенно удерживать не станут.
Вообще мое пребывание в Берлине в основе абсурдно. Единственным оправданием является то, что мне очень дешево набрали материал на теплое пальто и оно шьется, но даже на примерку я не могу теперь ездить. Если ты представишь себе приблизительно такой день, когда Феня стирала белье, а я была с Женей, то это несколько будет похоже на нашу жизнь в Берлине. Я с Женичкой ухожу, прихожу, толкусь на шумном сквере Victoria Luisen Platz или около часу тащимся по жаре в Tiergarten[176]. Мама торопится, спешит, устает, стряпает, Лида подает, бегает, мечется между мамой, мной, папой, текущими мелочами. И все это покрыто усталостью, озабоченностью. Мне, Боричка, кажется, что я не встречала еще так согласно тяжело проводимой жизни, где озабоченность и тяжесть уже на грани культа.
Журналы получили. Статью Лежнева начала читать еще в Мюнхене, но со второй страницы стошнило и пока я все еще не в состоянии взяться за чтение, что-то такое нудное, как слабительное в шоколаде.
Был у меня Савич. Он очень милый и попытался меня развлечь, так хотел сегодня со мной пойти в цирк, но Dahlem… нельзя. Сказал мне, что по почте ты книг не получишь и посоветовал зайти к Андреевой, жене Горького[177], которая может мне разрешение на книги дать, но пока не было времени и туда зайти.
Я твои письма о комнате получила. Но за глаза боюсь как-нибудь на это реагировать, тебе виднее. Я не буду торопиться со своим приездом, но и откладывать нарочито его не буду. Буду очень рада, если он совпадет со временем возвращения Пепы.
В Берлине свирепствуют детские болезни: паратиф, детский менингит и т. д., и все это еще увеличивает желание быть поскорее на месте, дома, а не в дороге, не в сборах, не в торопливости, как сейчас.
Я рощу и лелею к тебе свою ласковость. Но я не принадлежу ни себе, ни тишине в течение суток ни минуты. Я еще не была ни в одном музее.
Но, Боричка, не прими этих последних слов за жалобу, месяц одиночества в Баварии все вперед окупил.
Крепко тебя целую, руки, сердце, глаза чешутся, чтоб начать жить. Женёночек чудный. Мы гуляли сегодня с ним по сосновому лесу. Он нагнулся к сосновым иглам и сказал: это дедуле С. С., надо нам ему их подарить. Когда Федя, прощаясь, слал тебе и Шуре свои пожелания и сказал вскользь мне: “Пусть хорошо зарабатывают”, Женичка ворвался в разговор: “Мой папа зарабатывает, да, да, он работает, как ты”.
Еще раз крепко тебя целую и дай Бог нам скорее увидеться.
Твоя Женя
Письмо написано на листе с отпечатанным вверху именем Соломона Леоновича Якобсона, сына старшей сестры дедушки Леонида Осиповича Екатерины и его адресом: Serge Jacoubsen, Berlin Dahlem, Gelferstr. 38. На время болезни Лиды и бабушки мы с мамочкой переехали с Байрейтерштрассе к нему – в дальнее предместье Берлина Далем, находящееся в сосновом лесу.
Мама была растрогана тем, что я хотел послать сосновые иголки “дедуле”, как я называл отца Стеллы Самуила Сауловича Фришмана, который был болен грудной жабой и сидел целые дни в своем кресле. Я маленьким часто приходил к нему играть.
14. IX. <1926> Берлин
Очень, Боря, нехорошая приписка мне. Я писала тебе только, что хочется мне приехать в наилучшем виде в том же самом смысле, как тебе хочется начать сразу жить с двух комнат. Нехорошо, нехорошо, но останавливаться на этом ни в письме, ни в сознании не буду, это значило бы как раз подпадать под тон этой приписки.
О деньгах тоже мне показалось, что ты мог бы иначе, неужели ты подумал, что я невнимательно отношусь к твоим просьбам, как о книгах тебе, так и твоим друзьям. Нет, напрасно, совсем не так. Если же просто спрашиваешь, то так: у меня было 100 долларов и 50 привез Эрнст. 50 на обратный билет, 50 на шубу, ботинки и кое-что самое необходимое, 50 мама хочет непременно оставить неприкосновенными. Это может и не удасться, но просто среди тех трат и покупок, которые с одобрения мамы разрешаются, 50 марок это очень большая сумма. Ты подумаешь: почему так скучно – разрешается, позволяется. Мама тратит на меня, а потому те деньги, которые у меня есть, становятся как бы уже не нашими с тобой, а их, потому что на одну дорогу в Мюнхен и обратно 150 м. и т. д. Ты понимаешь, что иначе вышло бы, что пусть, мол, они на меня тратятся, а я свои деньги сорю (по их мнению). А к тому же и ты сам пишешь о том, что ты без гроша. Но мне самой очень скучно все это рассказывать.
Пепе сейчас же написала. Вчера получила письмецо от Любовь Михайловны и карточки. Ты с Женичкой на некоторых хорош, но я – Боже мой, какая гадость, если я действительно там на себя похожа, то бр – бр – бр. Я бы уж во всяком случае к такой никакой симпатии и влечения не чувствовала, а от некоторой обаятельности это за 100 000 верст. Если ты тоже получил мою отвратительную рожу, то чтоб тебя немножко утешить, шлю тебе несколько других карточек.
Значит, если бы ты в Москве решился потратить на книги для Коли больше 20 р., то напиши, я вышлю.
Если, Боричка, Фалька нет, то я очень прошу тебя зайти на Рождественку[178] и узнать о начале занятий и о сроке сдачи зачетов, у меня еще один зачет теоретический не сдан.
Можешь ли ты мне написать число, когда ты предполагаешь нас с радостью встретить. Мы с Женичкой уже в Берлине. Мама сегодня встала, Лидочка сегодня в 9 ч. утра уехала в Гамбург к Абраше.
Прости, Боричка, что такое нехорошее письмо, оно может тебе таким не покажется, но для меня оно отвратительно, я не хочу таких писем тебе писать, то есть если бы они перемежались с другими, тогда бы еще ничего, но, но, но.
Крепко тебя целую, до скорой или не скорой встречи.
Женя
А насчет моей бодрости не беспокойся. Только это даже несколько против смысла – до отъезда быть, как в дороге, 2 месяца (это я о Москве, когда мы все не знали, еду не еду) и теперь снова. Бр… Бр… Бр… у меня мало терпения, не умею ожидать, но ничего, я не противоречу и буду терпеливо ждать.
Только непременно толком узнай на Рождественке или, если Фальк приехал, то у него.
Исполняя папину просьбу, мама написала Эренбургу в Париж. Его жена Любовь Михайловна прислала нам фотографии, которые Илья Григорьевич сделал весной 1926 года у нас во дворе на Волхонке. Это очень удачная серия: папа получился в естественных и живых позах – в фас, в профиль, со мной на руках и мы все втроем с мамочкой. Такие же отпечатки Любовь Михайловна послала также папе в Москву. Он получил их одновременно с фотографиями из Мюнхена и Поссенхоффена, о впечатлении от которых он пишет в своем следующем письме.
<15 сентября 1926. Москва>
Дорогая Женюра! Сейчас пришел сюда. Спасибо за твое утреннее письмо (с Мониной квартиры). Тут много набилось народу. Между прочим, Нюня и Александра Николаевна с мальчиком из Петербурга. У мамы большая слабость. Я не знаю, зачем оттягивают операцию. Должны были уже оперировать. Какие-то неустройства в клинике, то комната не готова, то котел лопнул.
Пришел я сюда с девятого Вхутемасовского этажа, снова ходил к Фальку, на этот раз отперла женщина. Оказывается он все на даче. Будет дня через четыре, тогда обязательно зайду. Никаких неприятностей со Вхутемасом у тебя, разумеется, не будет, не беспокойся, я с Фальком поговорю. Женщина, мне открывшая, сказала, что занятия начнутся между 25 и 30-м.
Женины афоризмы приводят всех в восторг. Женёк, никому не рассказывай, месяца два назад мне по лицу и глазам Ирины показалось, что она в положении; сегодня я опять это уловил.
– У меня опять история с зубами, снова нарыв на том же месте, начинает припухать щека. Покамест не больно. Но будет возня: полосканье, припарки, компресс. Я тут от Куниной.
В комнате между прочим Лизина Лена. Какая красавица! Бедная мамочка стонет, а тут разговор про Крым, Байдарские ворота и пр. Крепко тебя обнимаю.
Твой Боря
P. S. Маме впрыснули пантопон (то, что ей ежедневно впрыскивают все лето) и ей стало лучше. Бегу отправить письмо.
На другой странице папиного письма записочка от Гитты к маме с жалобами на отсутствие от нее писем и сообщением, что завтра, вероятно, бабушку положат в клинику. В конце записки бабушка приписала сама, что нас с мамой целует.
17. IX. <1926. Москва>
Любушка, любота моя, моя Женичка! Сейчас получил письмо с карточками. Это в ответ на него, чтоб поскорее. Буду писать его в разных местах вокруг Почтамта, в Красной нови, у Сени, у Куниной и потом, в другие часы, в Круге[179], куда сейчас мчусь по делам, по побужденьям долга, “по зубам” и прочее. Не удивляйся поэтому разности чернил и вероятной, легко предвосхитимой несвязности. Прежде всего: маме эти два дня лучше, чем позавчера, когда я тебе писал оттуда. Это не значит, что она выздоравливает: это только значит, что она чувствует себя лучше, разговаривает и улыбается. Настолько, что снова начинают откладывать переезд в клинику, руководствуясь разноценностью дней, установленной суеверьем, календарными оттенками, близостью каких-то праздников и прочими соображеньями. Спешу попасть к тебе поскорее главным образом с этим. – Я люблю тебя.
Ты не знаешь и не скоро поймешь, как я тебя сильно люблю, как это – в моем и твоем случае – непросто – громоздко – нелегко – серьезно, – как сама жизнь. Это не чувство стало сильнее, – оно всегда во мне жило – а я даю впервые волю его логике, то есть нравственным выводам из этого чувства – даю, потому что ты поверила в себя и дала мне разрешенье думать, что моя жизнь наперед поделена с тобою, моя жизнь с тобой, во всем ее охвате.
Я вижу тебя полураздетою в лодке, и твое столько мне давшее и столько прекрасной золотой тяготы мне стоившее тело не только меня волнует твоей особой женской прелестью, заставляющей преклоняться, припадать и превозносить, но на неповторимом по горячности, грусти и лаконизму языке говорит мне: я пробуду столько-то и столько-то, меня-то во всяком случае когда-нибудь да не будет, ты – поэт, ты – предельный цинизм задушевности, ты мой брат, ты лучше души, живущей во мне, ты лучше души этой лодочницы знаешь мои тайны и мою печаль; здравствуй и люби меня: пострадай за меня, я этого стою, мне легче будет.
И вот, и вот, поймешь ли ты? Ведь точно я угадал! Когда ты писала из Possenhoffen’а и о том человеке, я жил тем, что ты нравишься, я тебя хотел просить снять того человека, сняться с ним, сняться со всей компанией, снять местность. Это не та морально побежденная ревность, которая представляется чертой благородного, сильного, независтливого характера. Но совсем что-то другое. Это тоже моя любовь к тебе. Чем ты будешь богаче, независимее, чем счастливее настроеньем – лично биографически, – тем ты мне роднее и ближе, то есть тем твое родство со мной меньше нуждается в разъяснениях тебе, тем оно нагляднее, тем легче.
Продолжаю у твоих. Мамы действительно не узнать против последнего раза. Она сидит в Сениной комнате. Туда же внесли стол. Только что пообедали. Совершенно не могу писать. Рядом Нюня разговаривает с Александрой Николаевной, над головой Сеня говорит по телефону. – Но это все – не ты, они в большей степени не ты, нежели у меня с семьею. Ты ужасно моя, и я не знаю, как описать тебе, до чего я тебя люблю.
Но что за мысль была сказать папе, будто это я по его желанью “припечатал” и “обрек” Женёнка? Когда я говорил что-нибудь подобное? Как же тебе изменила память, дорогой мой друг! Было бы, конечно, дико, свалить вину на кого-нибудь. Вина – исключительно моя, непростительная, роковая. Но если вспомнить, то истерики по этому поводу закатывала твоя мама. Папин вопрос, зачем это я так жестоко распорядился Женьком – ужасно меня расстроил. Я утешиться не могу, – так вдруг я осознал, что наделал! Но, родная, – некоторую в этом роль сыграла твоя мама. Может быть, этого бы не было. – Но бросим об этом.
Сегодня вообще – день фотографий. Пришли и из Парижа, но после твоих, спустя полчаса. Лучше всего выраженьем лица, сходством и прочее ты вышла на маленькой, где вы вчетвером на пароходике. Краше всего, ты на этой карточке. Очень хороша и на плоту, где сидишь боком к зрителю, а голова склонена и повернута к нему лицом.
На лодке ты щуришься, и это портит карточки, в остальном прекрасные. Твои нашли тебя на них поправившеюся. Я бы не сказал. Можно было пополнеть больше.
– Телеграммы, отменяющей перегородку, еще не получил. Но видно ничего из нее в эту осень не выйдет. – Женёк, мои предположенья насчет Ины и Шуры оправдались. Ты только нашим не говори, или так, чтобы они виду не подавали, что знают. Ждут ребенка в феврале.
Женичка, у меня такой план. Взять Женёнку хорошую няню приходящую, Феню же в качестве прислуги держать на нас всех, то есть пополам с Шурами. Кажется, план этот примут и, по-видимому, и няня найдется. —
Женёк, золотой, я тебе поскорей хотел в лодку слово забросить и о маме правду сказать, и успокоить. Не могу тут совершенно писать. Не забудь одной моей просьбы: телеграфируй о дне приезда так, чтобы я не поздней, чем накануне, это знал. Это для уборки, для денег и прочее. —
Да, был опять у Фалька, все его нет, на даче. Говорят, завтра обязательно будет. Завтра же и зайду. Дорогая моя, нежная моя, избранная и призванная, что я за глупости пишу, и к чему, после столь многого, сказанного о карточке.
Обнимаю. Твой Б.
Еще напишу ко дню Женина рожденья. Достань карточки своих друзей, а также Раисы Николаевны. Тебе приятно будет иметь их. И мне очень дорого.
Прости за дурацкое письмо. Я писал его в спешке и сутолоке с непобедимым чувством твоего присутствия здесь. Это мешало, то есть неоткуда было взяться потребности сообщать тебе то, что, казалось, ты знаешь, видишь и слышишь, любушка ты моя.
17. IX.26. <Москва>
Милая, милая, милая!
Я столько хотел тебе сказать в сегодняшнем письме! Но там, где лиловые чернила сменились синими, волна эта ушла вглубь. Я совершенно не помню, что выводила моя рука у Сени. Там стало ясно, для чего существуют перегородки и как можно их хотеть.
Если у тебя стесненье с деньгами, можешь предложить нашим следующий, давно испытанный обмен. Я обязуюсь в теченье двух недель переслать бабушке 50 рублей. В этот срок я их достану обязательно, сверх того, что надо будет вообще иметь на руках к вашему приезду. Сейчас у меня ни гроша. Кроме того, именно в тех границах такта и благоразумья, которые у тебя так благородно и хорошо обоснованы по отношенью к нашим, можешь неприкосновенность сбереженья нарушить в какой хочешь степени. Я не понял, хочет ли мама эти деньги сохранить для нас в Берлине, или же ты их с собой привезешь. Когда я сам было предложил первое, я кажется себе представлял еще, что Женя в Мюнхене останется. Сейчас я в этом не вижу надобности. Но, может быть, и говорить об этом будет неудобно.
Но только, милый друг мой, не стесняй себя, кто знает, когда опять попадешь, если что тебе захочется, покупай, я прошу тебя. Ведь я тебе никогда не делаю подарков, и сколько бы ни хотел, обиход против этого восстает, ты сама знаешь. А тут такая возможность. Располагай ими, как хочешь. Коле Вильяму только Gundolf’а одного, пожалуйста, если тебе нетрудно. Прости, что досадил припиской, но испугала твоя: святая твоя правда, пугаться именно не следовало, в этом моя вина.
Я уже писал тебе, что это точно “день фотографии”. Вчера Зелинский[180] показал мне книжку Верст, о которой писала Ломоносова. Карточка Цветаевой – та, которую ты нашла в столе, моя же – та единственная, прекрасная и правдивая в одно и то же время, которая получилась благодаря вам, тебе и мальчику – из Наппельбаумовской группы. Ты видела всегда злой символ в том, что я ее вырезал для таких надобностей. Я же вижу благой, бесконечно меня перед вами обязующий символ в том, что лишь с вашей нервной поддержкой, лишь в момент той, помнишь, гордой и замкнутой теплоты, которая тогда принадлежала тебе, madonna (= моя госпожа), тебе, моя чудная жена и молодая мать, я единственный раз в жизни вышел полным изображеньем лучшего в моем существе, то есть так, что неизбежно в этой форме именно останусь.
Моя родная любимая спутница: я не Бог. Я не могу предугадать, в какой именно форме твое достоинство, твое полное дыханье, без боли для тебя, нет, с еще большей игрой и красотой движенья и охвата сольется, переплетется или еще как-нибудь сдружится с темою Марины, однажды весною в Москве (помнишь, я тебе еще про Суинберна рассказывал) так счастливо и чисто подхваченной тобою, и затем вступившей в жизнь так катастрофически несчастно.
Безобразием была наша жизнь. Тут много причин. Их так много и такого они общего порядка (как мор, война, эпидемия и прочее), тут так много причин, что может быть вины, которую я чувствую за собой (как и ты за собой, вероятно), даже и не так много потом в памяти останется. Безобразьем, говорю, была наша жизнь. Попеременно то тебе, то мне казалось, что это – временная тягость, что мы случайные попутчики, что мы рано или поздно друг от друга избавимся. Нам не надо бояться, друг мой, этих слов и этих воспоминаний. Мы, ты и я порознь, больше тех случайных ролей и состояний, через которые с шорохом и треньем нас тащит наша посвященность. Бросимся головой вниз в ту музыку, которою налито сознанье: мы любим друг друга, мы верим друг другу. Там наше истинное лицо.
В обстановке затягивающейся случайности нашего сосуществованья я иногда искажал ту правду по отношенью к Марине, которая остается и по сей день, – правду темной, предельной дружбы – дружбы в истории и судьбе, – той дружбы, которая заставила меня движеньем смутного инстинкта столкнуть ее с Рильке – инстанциею того же порядка – и бояться, что либо она будет его любить меньше, чем я его боготворю, либо же, что у него с ней произойдет какое-нибудь недоразуменье. Моя живая судьба, мой умный, трудный друг, ты представить себе не можешь счастья, которое я испытал, лишь только узнал, как идеально горяча эта связь между ними, между их местами в мире.
Да, но я уклонился в сторону. Я говорю, что иногда как одинокий писал Марине и думал о ней. И вот, как недавно – мы готовы были с тобой расстаться. Ведь это случается сплошь и рядом, этим пестрит повесть наших дней, люди траура не надевают, друзья не бегают утешать, – о зачем ходить далеко – твоя мать, воплощенная традиция и староверчество, восприняла эту возможность, как очень и очень мыслимую. Это очень распространенная и всеми преодолеваемая трудность. Истекшим же летом у нас с тобой обстоятельства так благоприятствовали разводу, как редко у кого, – то есть просто завидный был случай из этой категории. И вот, если этого не случилось, то должна же была сказаться какая-то сила, которая была богаче и глубже всех этих благоприятствований!
Я не знаю, что привело тебя вновь, совершенно вновь ко мне. Я не скажу и о себе ни слова. Только клятвенно уверяю тебя: ни малейшей доли косной грусти или боязни суровой новизны разрыва в составе этой загадочной силы не заключалось. Совершенно как слепой, как к какому-то месту в потемках тянусь я к тому, что тебя удержало со мной. Я кладу руку на эту сердечную шараду и готов ощутить под ладонью неизвестное мне тепло и волненье какого-нибудь 1935-го года, – как единственный ключ к происшедшему этим летом, как твое истинное существо, которому дано где-то когда-то сказаться внезапным фактом, уже и сейчас играющим в твоей улыбке. В твоей сдержанности.
О, Женя, – вообрази, что сдержанностью назвали бы готовность и способность человека – (вечно в любви и в прибое творческой воли разбегающегося вперед) – быть телесным наполненьем мгновенья, быть жильцом настоящего, то есть тем, что каждый из нас и есть. Так вот, о такой сдержанности твоей, придающей твоей судьбе прелесть живой уклончивой недоговоренности, где-то прорывающейся полным раскрытьем, я и говорю.
Любушка моя ненаглядная, прости мне эти утомительные строки: в них сказалась усталость. Нельзя вибрацией письма заменить поклоненья, которое вдруг сгибает голос, падающий к тебе на руки и на колени; нельзя мыслью письма заменить романа, в картинах осуществляющего жизнепониманье романиста. Кроме того, я пишу безбожно быстро и безо всякой оглядки, как нашему брату просто не годится. Ужасно то, что из двух слов “обманщица” и “обманщик” первое (как я хочу, чтоб мне казалось) звучит шаловливо, второе – гнусно.
Уже это одно определяет разницу нашего раскаянья. Мне труднее думать о прошлом, чем тебе.
Временами в нас выла совершенная пустота, и либо нас сцепляла досада на себя, друг на друга и на эту пустоту; либо же одолевала, без участия твердой, смелой воли с нашей стороны, та самая сила, которая будет в нас и над нами на Александровском вокзале[181]. Наша искренность, не поддержанная дисциплиною воли, то есть верой, допускала лишь малый диапазон владенья друг другом. При малом диапазоне, с одного взгляда вбок, на божий мир, хотелось многих таких же, то есть многих малых диапазонов, сочетающихся ревностью и именами, – в нашем, конечно, случае. —
Воля, вера, – большой абсолютный диапазон, вот что суждено нам в отдаленьи, если это мне не снится, если мы действительно вместе. И добрая готовность к нему – вот тот порыв воздуха, вот тот ветер, в котором ты в поезде летишь ко мне с мальчиком, о мои родные люди, моя кровная история. Мысль, что я обхожу тебя, должна быть логически недопустима для тебя. Всякая такая видимость должна тобою приниматься за временную неясность, которая где-то разъяснится, к славе твоей и к радости. И ведь я живу представленьем того, что чувствует другой. Только ты не ищи сама страданий. С твоими заблужденьями со спадами диапазона я бы мог только бороться. Борьба же – уже начало зла и хороша только в политической теории, и то как для кого, чаще для одного стада. – Спокойной ночи, записался я и устал, лягу-ка лучше спать. —
18. IX.
Закурил ли я свыше меры комнату, пересидел ли или просто волненье, – но никак не мог заснуть и лишь с трудом в 4 часа заснул. Сейчас, в 9 утра, разбудили меня по телефонному звонку. – Фальк. Я, конечно, полуодетый выскочил из постели и к трубке. Тем временем разъединили. Потом Людвига Бенционовна завела нескончаемый разговор, в теченье которого, сидя в столовой и наслаждаясь слогом, я успел совершенно продрогнуть. Едва лишь она уходилась и повесила трубку, он снова позвонил. Прежде всего я поблагодарил его за эту любезность и столь милое вниманье. Затем, как и думал, узнал: что официально занятья начинаются 25-го, но несколько против этого запоздают, так что, явись ты 1-го, ты либо днем раньше, либо днем позже начала будешь. Что никаких неприятностей у тебя не может быть, и если бы даже вообразить чью-нибудь придирку, то при его отношении это никакого значенья иметь не будет.
– Мне показалось, будто он разочарован, что я только за этим ходил к нему и не заставал дома, и вот я, не имея для этого надобности кривить душой, сказал, что был бы очень рад как-нибудь с тобой зайти к нему, что люблю его работы и прочее. Он за эту мысль ухватился и просил не забывать желанья, сказав, что односторонние знакомства в среде живописцев его не удовлетворяют, и он сам бы этого искал.
Дуся моя, дуся, мне казалось нетактичным расспрашивать о тебе, хотя душа рвалась толкнуть его на эти разговоры. В этом смысле звонок его некстати: он отымает у меня необходимость визита к нему, где беседа была бы продолжительнее и обязательно бы тебя коснулась, точно между прочим, невзначай. Но если бы ты не была мила ему, он бы сам не позвонил. Я его расспрашивал о нем самом. Лечился в Кисловодске, было там нехорошо, летом почти не работал, только приехал после лечебного ничегонеделанья сюда, сразу простудился.
Вчера, когда я вышел от твоих, меня до Почтамта проводил Зиновий Давидович[182]. В первый раз я непосредственно от него, не в понятно-преувеличенном преломлении ваших, узнал про степень опасности операции, про соотношение шансов. Оказывается, он однажды Гитте, убеждая ее на операцию пойти, выставлял такие доводы: болезнь сама собой не излечится, а рядом затяжных мучений приведет к мучительному концу; даже в том случае, если бы из ста случаев таких операций удавался только один, разумнее было бы искать этого одного случая, нежели покоряться полной безнадежности. В действительности же соотношенье таково, как он мне вчера сказал: 10 неудачных исходов на 100 операций (90 удачных). Помимо общей и естественной тревоги, вероятно и такая редакция “воображаемого худшего соотношенья” повлияла на Гиту, потому что она и шансы мне называла не те, не знаю, откуда взяла, помнится, говорила 60 против 40-ка, что-то в этом роде.
Сейчас у меня была няня, рекомендованная Вильямами. Она на меня произвела хорошее впечатленье. Согласна приходящей. (Вспомни, между прочим, что для живущей няни у нас-то и комнатки нет, то есть даже не отдельной, а того угла, которым бы она удовлетворилась, будь бы отдельная детская). Я с ней так уговорился. Чтобы она считала себя находящейся уже на месте и никуда до вашего приезда не поступала: жалованье ей будет числиться с сегодняшнего дня и будет выплачено даже в том случае, если вы, познакомясь и сговариваясь, не сойдетесь. Она служила в нянях 30 лет и на последнем месте лет 12. Грамотная. Разумеется, мне она не так понравилась, как нравится Фрося[183], с ее прирожденной добротой, непосредственностью, милым бабьим обаяньем и прочим. Но Фроси никак не залучить, и вообще смеются, точно я ее для мальчика хочу своими глазами.
Ты просишь написать, в какой день я готов вас с радостью встретить. Родная моя подруга, это будет радостью хоть завтра, и чем скорее, тем лучше. Ведь ты догадываешься, что от перегородки сейчас пришлось отказаться. Сделать это можно было только сгоряча. Я тебя запросил относительно сомненья, которое во мне вызвали подробности о штукатурке, и ждал телеграммы. Ее до сих пор нет, драгоценное время упущено даже и в случае твоего согласья. Следовательно, оснований для продолжительного задерживанья вас в Берлине нет тут у меня никаких.
Я ничего к твоему приезду не готовлю, никаких расстановок не предпринимаю, все это я хочу обдумать вместе с тобой, вместе с тобой и устроить. Это ведь будет игра для нас втроем, сплошное удовольствие, и мальчик будет нам “помогать”. Просто к вашему дню комната будет чистая, без пыли, каковая чистота и все лето поддерживалась. У меня никаких оснований затормаживать ваш приезд нет, напротив. Но по чистой совести должен сказать тебе, что на возвратном пути, с вещами, с пререканьями на нашей таможне, при мальчике ты в несоразмерно большей степени будешь нуждаться в помощи и близости своего человека, нежели в весенний конец из Москвы в Берлин. И мне страшно бы хотелось, чтобы ты поехала с Борисом Ильичем. От этого, между прочим, зависит и первое впечатленье на границе, столь важное, как увертюра к опере, и столько, вообще говоря, тягостное даже в наилучших условиях. Кроме того, как бы тебе ни было скучно на Bayreuterstrasse[184], как бы ни были трудны обоюдные стесненья для вас там всех, совсем бесспорно – что там все же чище, привольнее и удобнее, чем в нашей ужасной дикости и нищете. И лучше уж там повремени в ожиданьи Бориса Ильича, если можно. А я тем временем и денег постараюсь достать, сама знаешь, как это аккуратно и быстро делается.
– Сейчас новая просьба. Полагаю, ее обязательно надо исполнить. Мы пользуемся их кроватью, я комнатой буду для занятий пользоваться, и вообще – люди приятные и безобидные[185]. Василий Иванович не может тут найти сукна для ломберного стола (старое протерлось), собственно для двух маленьких. Просит привезть, оплатит стоимость и пошлину, если так не удастся провезть: красного или зеленого – ¾ метра, если продадут неполный метр.
Кроме того (это у вас под боком, кажется за углом), просил, если будет случай, зайти в ресторан Фёрстера и Бера, на Motzstrasse (мы там однажды с Федей и Алешей[186] кутили, помнишь?) и Николаю Владимировичу Беру передать привет от них и в общих чертах рассказать, что знаешь, а также спросить, как он, как живется ему. По-моему, ты, гуляя с Женичкой, могла бы завернуть туда, это пустяк, а они это вниманье очень оценят. Затем о Sajodin’е я писал уже.
Посмотри, Гулюшка, все последние письма с просьбами и порученьями и вынеси на отдельную записку, чтобы не запутаться и ориентироваться. Мне кажется, у нас слабо насчет простынь и полотенец? А может быть, это мне зря в голову взбрело. Вообще ни в одной из моих просьб, кроме Тем и Сестры для Госиздата[187] – обязательности нет, и если напрошено всего много, лучше поступись моими порученьями в пользу чужих. Папе и маме пока не пишу, как и никому из наших, – просто невозможно сейчас. Но брать с папы деньги за пересылку считал бы низостью, ибо это все-таки капля в море истраченного и тратящегося на вас и на меня. Кроме того, расходы мы с Шурой поделили пополам.
Я думаю, у тебя полдня ушло на чтенье этого скучного и трудночитаемого письма. Между тем вчера ночью меня за некоторыми строчками охватывали какие-то счастливые надежды, и я сиял за ними, несмотря на неспособность передать тебе это сиянье и его источник. Я люблю тебя, моя нежная, моя страшная и сладкая опасность, призванная бороться со смертью неожиданным взрывом живой производительности, я люблю тебя, женщина, любимая мной. Я люблю тебя, мой друг и соучастник, я люблю твой труд и твое страданье, и достоинство, и судьбу. Я люблю тебя, борющуюся со смертью и иным орудьем: бессмертной душой.
Я люблю тебя и жду, и страшно безумно целую.
Главное же, предупреди о приезде в точности, как просил. Это во всех отношеньях нужно. И в денежных. Поцелуй моих родных и скажи им, что я их горячо люблю.
Отец очень хотел посмотреть журнал “Версты”, вышедший в Париже летом, для которого он посылал главу о восстании на “Броненосце Потемкине” из поэмы “Девятьсот пятый год”. В издании журнала активную роль играла Марина Цветаева, которая 10 июля 1926 года сообщала отцу о появлении номера. Ее публикация “Поэмы горы” сопровождалась в журнале ее фотографией работы знаменитого парижского фотографа П. Шумова, копию которой она отцу посылала весной. В качестве своей фотографии папа послал фрагмент нашей общей группы, сделанной осенью 1924 года у Наппельбаума.
Слова о Суинберне, на которые папа ссылается, вспоминая свой давний разговор о Цветаевой с мамой, вероятно, касались сходства ее женского активного начала с характером Марии Стюарт из трилогии Суинберна. В 1916–1917 годах он переводил две его трагедии “Шателяр” и “Мери Стюарт”. В этом же смысле “Поэму конца” Марины Цветаевой он называл “Суинберниадой”.
Представив в своем письме 12 апреля 1926 года к Р. М. Рильке Марину Цветаеву и дав ему ее адрес с просьбой послать ей книгу с надписью, отец потом целый месяц мучился неизвестностью относительно того, как сложились их отношения. Его успокоили только посланные Мариной Ивановной два первых письма к ней Рильке, “письма поэта к поэту”, по которым он мог оценить высоту и лирическую силу завязавшегося разговора.
Пятница 17-го <сентября 1926. Берлин>
Боричка, только что получила твое письмо, ты пишешь сверху “воскресенье”, что-то очень долго шло оно. Телеграммой ответить невозможно, Я вполне, – тут не может быть и сомнения, – согласна с тобой, что перегородка, уголок для Жени и для нас нужны. Но, как я уже тебе писала, Пепа собирается 24-го выехать, думаю, что необходимо с ним уехать, может, он еще на 2–3 дня задержится, во всяком случае в конце сентября мы должны быть в Москве, а ты пишешь, что (если два месяца будет сохнуть) перегородка будет готова к середине ноября. Это, конечно, немыслимо. Приезжать в комнату, не приведенную в порядок, для Женички, конечно, очень скверно, потому что он, как ты помнишь, сейчас же впадает в тон окружающему и очень склонен расстраиваться (во всех смыслах).
Шура и Ирина предлагали в прошлом году отгородить себе из мастерской комнату, предоставив другую часть и свою комнату нам, может, так была бы возможна не такая основательная перегородка. Они могут взять себе большую часть комнаты, примыкающую к Фришманам, отгородить ее глухой стеной, проделав дверку в коридор.
Если же тебе не хочется с ними опять начинать разговор, то узнай – кажется, все-таки можно городить иначе, или пересыпая опилками, или обивая толем, асбестом, картоном или войлоком.
Конечно, даже всякая перегородка, но до потолка – это не занавеска, шум за стеной, в которой нет входа, уже не так страшен, потом курить можно, тем более, что через все стены нашей квартиры шум проникает, он все равно будет проникать через коридорную перегородку. Конечно, если Ирине и Шуре улыбнется перебраться, а им может улыбнуться потому, что они сумеют из дальней темной части комнаты себе как бы отдельную спальню устроить. Но главное значит городить надо, но не штукатурить, если можно, то все– таки наглухо, но это все вам там виднее. Боричка, ведь Шура если бы захотел, то посоветовал бы как следует. Попроси его, чтоб он так сделал, как если б ему это нужно было для себя и Ины.
Книгу Коле куплю. С Абрашей посылаю тебе 3 пары носков, теплые перчатки и туфли купальные, чтоб тебе удобно было обтираться, перчатку для умыванья тоже тебе привезу с цветочками.
Будь здоров. Крепко тебя целую.
Женя
Жоня и Федя были в Швейцарии и поехали сейчас на день в Женеву повидаться с Пепой, то есть не сейчас, а по последнему письму. Абраша сегодня возвращается в Гамбург, завтра, в субботу, выезжает в Ленинград.
20. IX.26. <Москва>
Поздравляю, поздравляю! Поздравляю тебя, золотой мой мальчуган, и нашу милую мамочку, и бабушку, и дедушку, и тетю Лиду. Вот тебе уже и три годочка! Расти большой, ненаглядный мой, расти папочке, мамочке и всем, всем на радость. Скоро, скоро уже крепко, крепко обнимемся мы с тобой, и пойдешь ты мне рассказывать про машины, про дорогу, про Берлин. Чего, чего не навидался ты, золотой мой кудлан.
Только перегородчки не будет, и будем мы опять в одной нашей комнате. Ну да ты теперь большой, и папе мешать не станешь. Крепко, крепко тебя целую, хороший мой! Вот верно весело тебе сегодня! Поди и подарки ото всех получил? Вот жалко, что не вижу твоих новых игрушек. Ну да приедешь, покажешь. А старые игрушки-то все тут, ждут тебя не дождутся, бедненькие, серенькие, тихие. Медведь, тот все лето в нафталине пролежал, чтобы моль не изъела. Вынем, – чихать начнет. Прощай, дорогой мой, скоро встретимся. Да скажи мамочке, чтобы не худела, чтобы мне как раз такую ее увидать, какая она там стала, – спасибо, ты смотрел, чтобы она ела хорошо и спала, и гуляла, – как я тебя просил. Крепко тебя обнимаю, чудный мальчик ты мой!
Поздравляю тебя, горячо любимая. В этот день звончее и моложе, чем когда, слышу тети Асино: “цени!” и горжусь, и благодарю за кровь и за помощь. Что мне прибавить, головокружительно чистая моя надежда, к сказанному в последних двух письмах? О, я не льщусь мыслью, что какая-нибудь важность сказана и выражена в них. Но наоборот: в какие новые признанья пускаться сегодня, после убежденья, что главного никогда не сказать: захватывающе-заманчивого духа, которым бывает овеяно мыслимое и естественное предвосхищенье. Я верю в тебя и живу с тобой в чудном отдаленном будущем. На пути к нему что пожелать тебе сегодня, в этот день, созданный для пожеланий. Здоровья и счастья желаем мы тебе каждый день. Исключительность 23-го числа была бы прибеднена такой повседневной сердечностью. Я желаю тебе нравственной выдержки и широты. Я желаю тебе способности, которая во мне самом выработалась очень поздно. Способности хранить неповрежденным и нестравленным в душе волевой подступ и разгон все равно к мечте ли, к человеку или к цели, в тех случаях, когда деятельное выраженье порыва неожиданно озадачивается случайным препятствием.
Волна твоей души больше, чем часть мыслившейся и неудавшейся минуты. Она совсем не часть счастливого или несчастного мгновенья. Она – часть твоего нравственного существа, часть твоей душевной судьбы, часть твоего предназначенья. Нельзя сплавлять себя по мелочам в потоке житейских противоречий. А это случается, если строенье гордости несовершенно: если при горячности характера глубокие пласты душевного достоинства подчинены поверхностным слоям расхожего, каждодневного самолюбья. Желаю тебе постоянного и все крепнущего нравственного счастья. Дара великодушья, достойной и постепенно подтверждающейся веры в себя, радостной и все ширящейся тишины, – охватывающей все бо́льшие и бо́льшие разности жизни, в гармонии большого, вечного, тяготеющего к сердцу, как к центру, напряженья. Того напряженья, которое и есть единственный, не смешной, не уродливый вид постоянной молодости, до самой могилы.
– А относительно Жененка желаю тебе и себе и ему, – чтобы он был жив и здоров, чтобы его миновали физические и потом душевные эпидемии, которые, вероятно, долго будут свирепствовать в его век на его родине. И также желаю ему, чтобы то воспитанье, которое мы с тобой про него облюбуем, было нам в подъем.
– Дорогая дуся, сам того не замечая, я впал в дурацкий по торжественности тон. Ретируюсь. Поступаюсь тоном, готов признать его идиотический комизм. Но в торжественности, и в первосущественности вещей, так глупо названных, никогда не позволю ни себе, ни близким вам, усомниться.
– Бегал по городу в поисках денег к вашему приезду, сейчас вернулся и второпях заканчиваю. Опять не придется перечитывать письмо, не придется приписать и маме с папой, как хотел. Ну да ты зато скажи им, как я их люблю. Да вот впрочем.
– Дорогие папочка и мамочка, милые и золотые мои. Поздравляю вас и Лидо́чка с рожденьем внука и племянника. Дай вам Бог долго жить в здоровьи и неомраченной достаточности, нам всем на радость, и часто бы нам видеться и съезжаться, как истекшим летом, и иметь что показать и над чем сойтись в несложном и могучем чувстве объединяющей растроганности. Долго бы, долго быть нам связанными этой маленькой, приносящей радость жизнью. Не благодарю вас за силы души, излитые на него с такой несоразмерной и ничем не вознаградимой щедростью. Не благодарю, – слов нет, – да и благодарить – начать бы, не кончить. Простите, что, поддаваясь действию чередующихся и преходящих предчувствий и предвидений, иногда не щадил вашей впечатлительности и осмеливался заражать своею тревогой. Имени нет этим примерам безрассудной и неосторожной общительности. Но если принять в расчет, каким состояниям я обязан бываю этим наплывам безысходного мрака, вина моя представится не такой огромной. Не страшитесь за нас. У нас много друзей, и как ни много зверства в наш век, судьба, может быть, нам благоприятствует.
Легко и радостно расстаньтесь с вашими летними гостями. Девять месяцев разлуки пролетят незаметно. Летом, бог даст, опять съедемся, и на этот раз уже все. Ради и во имя этой встречи сугубо дорожите своим драгоценным здоровьем, не давайте воли слабостям и слезам. Настоящая встреча ждет нас летом 27-го года. Мамочка, не думай об их отъезде и не грусти. Тишина трудного, трудового порядка, честного и с такой честью и славой проведенного сквозь столько десятков лет, вновь вас охватит, затянет в свой знакомый шорох, изнизанный и насыщенный вдоль и поперек преданностью и самопожертвованьем, и отвлечет, и поможет отвыкнуть от новой и тягостно сладкой привычки к шуму и вечным сюрпризам. Только первое время воле придется быть настороже и взывать к самообладанью. Потом обычный мир восстановится и заставит вспоминать о трехмесячном гощеньи со светлой улыбкой, без грусти, с желаньем и надеждою на повторенье.
Крепко и без счету целую и обнимаю вас всех. Полон светлейших надежд относительно всех вас и нас. Все придет к чудесным и неожиданно счастливым разрешеньям. Только берегите здоровье, и ты, мамочка, в особенности, чурайся и бегай волненья. При желаньи это будет по силам тебе: рядом папа и Лида – сторожа и друзья нельзя лучше. Радуйтесь, что источники радости обновляются, растут, прибывают. Да будет всегда так.
Женичка моя детка, то есть ты, Женюра, мамочка! Это письмо, пожалуй, что и последнее. Прощай же в летней переписке этого переломного, ответственного, захватывающе трудного года – и до скорого свиданья в Москве.
– Из последних просьб все пустяки, неудобств на таможне не будет: пучок бы – два (то есть шесть штук или дюжину) держателей для чудесных Эрнстовых подтяжек. То есть вот таких штук: – петелек запасных. Они перетираются, основа же – прочности вековечной. Может быть, запонок боковых пару (для манжет). Стелла просит, между делом, лист кукол вырезных с платьями (в писчебумажном магазине). Да, Гулюшка, пуговичек купи перламутровых для белья. Впрочем, последнее легко и тут достать. Ну прости, что голову вздором забиваю. Однако, пора письму в ящик, а то как бы не просрочить рожденья. И как всегда, на прощанье: не забудь заблаговременно известить о дне отъезда: утром отбытья, если не накануне, чтобы и мне за день или за два знать. Если стесненье в деньгах, воспользуйся предложенной комбинацией (с бабушкой). Обнимаю обоих.
Твой Боря.
Стелла говорит, ничего не скрывай, то есть не прячь хитроумно от таможни: жестоко перерывают и злятся, если найдут. Там Пепа поможет.
Как и просил папа, мы выехали 25 сентября вместе с Борисом Ильичем Збарским, и все таможенные страхи оказались напрасными, все прошло благополучно. В Москве мы были 28 сентября.
Папа любил провожать и встречать, удлинняя этот процесс небольшой совместной поездкой. В этот раз он встал в шесть часов утра и на пригородном поезде поехал нам навстречу в Можайск, где неожиданно вошел в купе нашего вагона.
Он писал затем своим родителям, как поразила его разница между дрянным вагоном, на котором он приехал, и “сказочно чистым, теплым и комфортабельным международным”.
Женичку я нашел похорошевшим (он спал в эту минуту), Женю окрепшей и как-то усовершенствовавшейся. Милый моему сердцу налет Германии был так прочен на них в этот первый день, что довольно было моего живейшего и взволнованного в высочайшей мере родства с ними и двух часов езды в объятиях Sleeping car’а[188], чтобы на перрон я вышел с неотразимой иллюзией, точно и я прибыл от вас и из соседства с Рюбецалем[189]. Радостно мне было, что без таких ключей, как Марбург, Рильке, романтика, знанья языка и истории и пр. и пр., по чудесности симпатического сосуществования – немецкий этот налет чувствовался на них в той именно форме, в какой я, бывало, уносил его на себе. То есть это был налет той как раз страны, которую я так люблю и люблю так по-особому. Женя много и очень хорошо рассказывает о вас, – лучше и глубже и зрелее, чем думаю или умею думать о вас я. Неописуемость встречи всего более воплотилась в сцене пробуждения Женёнка, как по его собственному заявленью он теперь прозван. Он не сразу (как впрочем и Женя) понял, что произошло, но тотчас поплыл в неторопливо расширившейся улыбке и полез обниматься. Следующими (за первыми восклицаниями: Папочка!) словами его были “Женичка к папе едет, а он выезжает к сыну”. Затем он трогательнейшим образом пустился занимать меня, то водя по вагону и всех и все показывая, то усаживая к одному окошку, то к другому. Я долго не мог свыкнуться с новизною первого впечатленья. Он и вырос и бесконечно облагородился и неуловимо во всем переменился[190].
Я хорошо помню эту встречу, вернее, то, как я растерялся и обрадовался, увидев папочку. Как мы гуляли с ним по вагонному коридору и я стоял на приступке у окна рядом с ним, ожидая появления московского пейзажа. Он внезапно возникал от Филей с панорамой реки, церковных куполов и башен. В лучах склонявшегося солнца ярко засиял купол Храма Христа Спасителя, рядом с которым, как я знал, стоял наш дом.
С тех пор я всю жизнь с особым волнением относился к сменяющимся картинам приближения к Москве. Через несколько лет этот запомненный тогда мгновенный пейзаж стал катастрофически деформироваться.
За день до нашего отъезда из Берлина бабушке Александре Николаевне была сделана операция – ей удалили пять позвонков, пораженных опухолью. Операция удалась, и поначалу она стала быстро поправляться. Казалось, что оптимистические прогнозы Зиновия Давыдовича Лурье, с которым папа разговаривал незадолго перед этим, сбывались. Но внезапно наступило ухудшение, продолжавшееся более месяца.
Месяца два спустя после нашего возвращения родители решились все-таки установить перегородку в комнате, о которой переписывались раньше. Надо было наладить работу отцу. У него, как он писал “в результате ряда передвижений, комбинаций, приращений и других метаморфоз… третий год не стало отдельной комнаты”. В прошлом году он занимался в комнате Шуры и Ирины, иногда вместе с ними, “когда же это их стесняло, то перебирался в переднюю, служащую нам в то же время и кухней и столовой. По некоторым причинам и такой способ стал недоступен”. Теперь у них вскоре должен был родиться Феденька. К сожалению, Шура был очень занят и не мог принять участия в этих работах. Поставили сухую дощатую перегородку, обив для некоторой звукоизоляции грубым картоном. Расположение печей и окон лишало возможности удобной планировки. Получились две узкие комнаты с окнами в одном конце и печкой в противоположном, терявшемся в темноте, так как туда не доходил дневной свет.
Перегородки не штукатурили. Останавливало также и то, что с одного боку новые комнаты отделялись от коридора тонкой дощатой стенкой, которая пропускала шум, и штукатурить надо было бы и ее, а она была для этого слишком хлипка. Ни обстоятельства, ни заработок так и не позволили сделать необходимый ремонт.
Отец много работал, боялся надолго отрываться и, если я шумел, настойчиво просил не мешать. Он никогда не кричал на меня и не наказывал, но я знал, что дома шуметь или громко разговаривать нельзя: папа работает.
Когда к маме приходила натурщица, то единственным местом, где я мог играть, оставался угол комнаты под отцовским письменным столом и за ним – он стоял углом к стене. Я что-то строил из кубиков и тянул заунывное: Борис-Боря. Мне казалось, что мы с ним куда-то едем на лошади. Иногда он обрывал мое нытье коротким “погоди” или вставал и в глубоком раздумье ходил по комнате. В то время он курил, к весне болел ангинами и воспалением десен, с которым справлялся, полоща рот шалфеем и подливая в него горячую воду из шипевшего на столе самовара.
Слева от окна большая двустворчатая дверь вела в комнату дяди Шуры – бывшую гостиную. Меньшая в глубине – в коридор, переходивший справа в переднюю с выходом на парадную лестницу. Слева коридор оканчивался дверью, около которой висел телефон. Дверь эта, как правило, не закрывалась, и за нею была бывшая столовая, в которой обедали наши соседи Фришманы и где находилось скопление разных предметов и лиц, над которыми главенствовала жившая там Юлия Бенционовна, тетя Стеллы. Она спала там за занавеской, кажется, вместе с прислугой, кого-то непрерывно кормила или готовила еду на большом обеденном столе. У окон во двор была химическая лаборатория Абрама Вениаминовича и большие шкафы, в которых был целый мир притягательных и таинственных предметов, которые без него не позволяли трогать. Кроме хрупкого химического инвентаря там почему-то лежал комплект зубоврачебных инструментов и материалов.
Дальше столовой мои прогулки обычно не простирались или были настолько редки, что я их плохо помню. Исключение составляла зима 1927 года, когда Самуил Саулович, Стеллин отец, сидевший без движения в кресле, решил обучить меня шахматам, и я помногу часов проводил у него комнате, бывшей спальне бабушки и дедушки.
Я привез из Берлина среди многочисленных подарков шапку немецкого трамвайного кондуктора и сумку с билетными рулонами и щипцами для компостирования и прочим. Мне не с кем было играть в эту игру, и помню, как я приставал с ней к Людвиге Бенционовне и как было горько, что ей так быстро надоела эта игра.
Я почти никогда не играл со своими сверстниками. Сын дяди Шуры Феденька был на четыре года младше меня. Какое-то время меня водили в группу художницы и дедушкиной ученицы Ольги Александровны Бари (Айзенман), где занимались ритмикой и рисованием, водили гулять на скверы у Храма, чем-то кормили. Это не снимало приверженности к ухоженному одиночеству и подчеркивало привязанность к нему.
Глава III (1927–1929) Мир в доме
Было время нэпа, обманчивое и неопределенное. После голодных лет неожиданно оказалось, что на свете существует хорошая и вкусная еда, любые товары, включая даже такую полезную вещь, как хорошие писчебумажные принадлежности. При этом всегда не хватало денег. Отец работал ночами – днем ему мешала домашняя суета, частью которой была моя деятельность, буквально у него под ногами. Обедали мы тоже в той же комнате, где он занимался.
Когда в 1928 году Союз писателей строил дом для своих членов и были разосланы опросные анкеты, чтобы узнать жилищные условия каждого, отец писал, что в квартире постоянно живут 20 человек, шесть отдельных семейств, периодически пополняемые “частыми посещениями родных и знакомых по шести самостоятельным магистралям”. Рассказывая о перегороженной пополам комнате, в которой живет, он сообщал: “Отовсюду обложен звуками, сосредоточиться удается лишь временами в результате крайнего, сублимированного отчаяния, похожего на самозабвенье. <…> Материальные затраты, с которыми могут быть сопряжены высказанные минимальные пожелания, думаю, легко покрою и осилю, переместясь в более сносные для работы условия”.
На его просьбу о перемене квартиры было отвечено отказом.
Наш дом стоял на склоне. Двор был выше улицы. Туда выходили из кухни – черным ходом. Двор был засыпан гравием, в котором попадались окаменелости, отпечатки раковин, хвостики белемнитов – чертовы пальцы. Ребристые кусочки кремня при ударе друг о друга искрили с острым запахом серы. Там стояли дровяные сараи, Боря колол дрова и носил их в дом. На его обязанности лежала топка печей. Дрова складывались в огромной передней. Печки выходили в коридор.
В передней стоял огромный обеденный стол, и когда периодами мы объединялись хозяйством с семьей дяди Шуры, передняя становилась столовой. Очищалось пространство вокруг большого стола, выносились стулья.
Если к родителям приходили гости, в ожидании вечера меня укладывали спать в Шуриной комнате, потом, после рождения Феди, – вместе с ним. По четвергам приходили Маяковский с Асеевым и Третьяковым. Мама вспоминала, что если я еще не спал, Маяковский иногда брал меня на руки и начинал что-то рассказывать, играть со мной. Как-то раз, увидев, что мама, отказавшись танцевать, напряженно сидела и смотрела на танцующих, он вынул из кармана свои часы, положил ей на ножку и пошел танцевать. Но сам я этого не помню.
Я помню бритого наголо Николая Тихонова в желтой оленьей дохе, его бесконечные, поражавшие воображение рассказы про Грузию, которую он исходил пешком.
Боря ставил самовар в коридоре, трубу выводили в дымоход печки, через специальное отверстие, которое закрывалось круглой латунной крышкой. Когда самовар закипал, его вносили в комнату и ставили на стол, старую лампу поднимали на блоке с противовесом, чтобы она освещала всю комнату.
Но чаще по вечерам допоздна горела лампа под зеленым стеклянным абажуром на Борином рабочем столе, он без конца подливал себе крепкий чай из слегка шумевшего самовара. Просыпаясь, я поглядывал из-за занавески на его склоненную фигуру за столом в голубом облаке папиросного дыма. Окликнуть его и позвать было совершенно немыслимо. Недаром на вопрос, как вы воспитываете своего сына, папа всегда отвечал: “Учу не мешать взрослым”.
После возвращения из Германии в нашей жизни стало больше согласия и мира. Беглые зарисовки живых моментов обихода сохранились в папиных письмах родителям – описания моих купаний, смешных детских словечек, веселых шалостей. Он писал тогда Ольге Фрейденберг, что понял, “какая роль отводится доброй благоразумной воле в зрелом возрасте” и что прошлые нелады с Женей “отошли в область преданий. Они не кажутся мне вздором оттого, что о них уже начинаешь забывать”[191].
В ту зиму папа заканчивал “Лейтенанта Шмидта”, трагическая заключительная часть расстрела писалась под впечатлением смерти Рильке. Его мучило, что он не ответил весной на его письмо, но переписку с ним и с Цветаевой он откладывал до окончания работы над “Шмидтом”. И вот под Новый год он получил от Цветаевой известие о его смерти.
Мало-помалу возобновились письма к Цветаевой, постепенно набиравшие прежнюю высоту. В конце февраля у дяди Шуры и Ирины родился сын Федя. Его ожидание и рождение сблизило наших родителей. Мы объединились в ведении хозяйства, и именно тогда большая передняя превратилась в общую столовую.
Феденька рос веселым и неизбалованным ребенком. Нас фотографировали вместе и посылали карточки бабушке и дедушке в Берлин. Одна из ранних называлась: “оптимист (Федя) и пессимист (я)”. Следующей зимой нас снимали вместе с папой Борей под рождественской елкой.
Ирина или, по-домашнему Ина, была центром притяжения дружной семьи Вильямов, принимавшей горячее участие в воспитании Феденьки. Мать, брат и сестры постоянно приходили к нам, они выдумывали увлекательные развлечения и игры, в которые вовлекали и меня. Иногда они брали Федю к себе в Машков переулок, куда я ходил его навещать. Летом 1927 года решили снимать дачу все вместе в деревне Мутовки около Абрамцева.
Я плохо помню подробности этого лета. Позднейшие приезды в Абрамцево, когда мы были там в доме отдыха с мамочкой и Саррой Дмитриевной Лебедевой весной незадолго до войны, и потом на даче семейства академика М. А. Леонтовича и Миши Левина, перепутали географию, и мне трудно зрительно восстановить, как там было тем летом. Кроме того, яркие Борины письма с рассказами о доме Веденеева[192], крайнем над рекой, сохранившемся до сих пор справа за мостом, с террасой на высоких столбах-сваях, о наших совместных походах в лес по ягоды сместили у меня приметы воспоминаний детства. Многое я помнил по маминым работам того времени, теперь они сняты с подрамков, и я давно их не видел.
Помню, что вторую половину лета шли проливные дожди, и речка Воря вышла из берегов. Папа и мама купались в ней, держась за ветки, чтобы не унесло стремительным течением. Смутно вспоминаются поздние осенние сцены, подобранный нами с папой галчонок, о котором он писал потом в прозе 1936 года[193].
Когда мамочка читала ее после папиной смерти, она горько плакала, вспоминая многое из той жизни: и этого галчонка, и уничтоженные главы романа о Люверс, которые жили в ее памяти неуловимыми картинами, перекликаясь с прочитанным.
Летом папа приводил в порядок, сокращая и переписывая обе поэмы для книжного издания “Девятьсот пятого года”, осуществленного осенью. По возвращении в Москву он всерьез взялся за работу, посвященную памяти Рильке. Постепенно замысел “Статьи о поэте”, как он думал назвать ее, приобретал более широкие черты автобиографической повести о том, как складывались его представления об искусстве. Книга об эстетике, названная потом “Охранной грамотой”, настойчиво требовала осуществления и отрывала от необходимости заканчивать “Спекторского”. Эти две чрезвычайно важные для отца вещи должны были, по его формулировке из письма к Цветаевой, “вернуть истории поколение, видимо отпавшее от нее”. Дополнительным толчком был резкий разрыв с Маяковским и Асеевым, все более склонявшимися к откровенному “сервилизму”, как он это называл, совершенно для отца неприемлемому.
Но по-прежнему в разгар работы периодически заканчивались деньги, и надо было все бросать и изобретать способы их добывания.
“Я работаю так медленно, – писал отец Жоне, – так до подвижничества честно в ущерб себе, что не могу не грешить в каком-нибудь другом отношеньи… Но кажется, неплохо, хотя это надо понимать имманентно, то есть происходит это в тот период, когда все без исключенья, поголовно, давно и против воли – бездарны”[194].
Семейная жизнь протекала достаточно спокойно. Мама ходила во ВХУТЕМАС, иногда приглашала к себе натурщицу, мы с няней ходили гулять на скверы возле Храма Христа Спасителя, все крутились в комнате, перегороженной шкафами, где папа днем и ночью сидел за письменным столом.
На третий день после моего дня рождения мама в письме в Берлин описывала торжественную обстановку:
“Рождение отпраздновали на славу. Боря и я разложили ему подарочки новые на столик с вечера. Утром (как вы помните) первые его слова «Мама хочу и т. д.»… Полуоткрыв еще глаза и держась за перильца кроватки, одной рукой поддерживая рубашонку и глядя на столик «А это кому? А волчок, а это что? А ведь пора печь пирог. А гармоника будет?» (Наша прислуга праздновала в деревне свои именины с гармонистом.)
И обложенный со всех сторон игрушками, засовывая в рот сдобную булочку защебетал он требуя, чтоб ему прочли новую книжку, письмо, завели волчок, раскрасили картинки и щебетал и волновался по именинному целый день и еще вечером, сидя перед сном на горшочке, не снимал новых тепленьких перчаток только что им полученных, и говорил, что у него рождение будет и завтра, будет два дня. «Правда, правда, мамочка, два дня»”.
Весной 1928 года отец получил возможность переиздать свои ранние стихотворения, написанные до “Сестры моей жизни”. Но отдать их в печать в том виде, как они были прежде опубликованы, теперь, в совершенно иных исторических условиях, он счел невозможным и стал делать новый сборник “Поверх барьеров”. Старые стихотворения составили в нем лишь малую часть, притом в кардинально переработанном виде: сборник включал также и более поздние стихотворения 1920-х годов.
К началу лета обычно накапливалось множество недоделанного. Той зимой несколько месяцев выпало из работы из-за мучительного разрыва связок на плече, весной – из-за гриппа, осложненного воспалением лобных пазух. Кроме того, как обычно, мешали семейная сутолока, шум и заботы. Мамочка заканчивала ВХУТЕМАС и чрезмерно утомилась и ослабела. Врач считал необходимым срочно поместить ее в санаторий. Она провела две недели зимой в Узком. Все это затрудняло заработок и нужно было несколько недель одиночества и полной погруженности в работу, чтобы его выправить. Кроме того, как всегда, издательства задерживали выплаты.
К весне мама снова была в очень тяжелом состоянии здоровья, и на Пасху 14 апреля писала Ломоносовой, которая, как каждый год, приглашала их с папой в Италию, где проводила лето:
Красили с Женичкой только что яйца, – куличи, пасхи, свечечки, колокольный звон, мимоза, весеннее солнце – Пасха.
Хочется ли мне в Италию, к Вам? – очень, очень хочется. Я устала, износилась, плакать готова не раз от слабости. Доктор посоветовал – на Кавказ – и мы, вероятно, все трое туда соберемся. Я уговариваю Бориса Леонидовича: “Если тебе пока нельзя (из-за работы), отпусти нас, потом сам приедешь, если тебе сперва в Париж хочется, тоже очень хорошо, мы подождем тебя у Раисы Николаевны”. Не хочет, не соглашается, говорит, что он сейчас ехать не может, что ему надо закончить прозу и “Спекторского”, а нас не отпускает потому, что самому так сильно хочется, что кажется ему, что наш отъезд и отсутствие будет помехой его поездки[195].
Проводить лето решили в Геленджике, на берегу Черного моря. Место хвалили и дали адрес, по которому можно обратиться. Говорили, что комнату легко снять на месте, питаться в столовой, что, судя по предыдущим годам, там сытно и легко с питанием.
Перед отъездом 2 июня мама писала в Берлин:
Дорогие, сегодня взяла билеты прислуге и мне (Женёнок без билета) на Кавказ в Геленджик, маленький городок на берегу Черного моря. Ольга Александровна Бари с детьми прожила там все прошлое лето и мне рекомендовала как недорогое, спокойное и подходящее для детей место. Еду туда, немного волнуясь, потому что врач, у которого я вчера по настоянию Бори была, потребовала для меня полного санаторного ухода с усиленным питанием, полным отдыхом и т. д. на целый месяц, а я-то как раз хотела устроиться по-хозяйски, то есть не на пансионе и по возможности больше хочу быть с Женичкой, чтобы его поправить, успокоить и использовать мой отдых для него в не меньшей мере, чем для себя. Няня Женичкина сегодня с нами простилась. Боря приедет к нам (если я увижу на месте, что мы можем там пробыть все лето) через месяц, потому что ему надо подработать денег, кое-что закончить и т. п. Прасковья Петровна обещает его обслуживать.
Через два дня 5 июня мамочка со мной и няней, молоденькой деревенской девушкой Маней, собралась и уехала. Папа пока оставался, на него, кроме всего, как обычно, ложилась летняя уборка.
До этого мне не случалось ездить на море и на юг. Я не запомнил дороги до Новороссийска и езды на автобусе до Геленджика. Помню наш большой двор с раскидистым деревом посередине, берег моря, куда надо было довольно далеко идти и где я мало купался – плавать я не умел, скат берега был довольно крутым, и оставалось плескаться у берега. Гулять в предгорьях тоже было трудно. Колючие ветки дикой груши и хищные – держи-дерева загораживали тропинку. Все время приходилось себя от них отцеплять.
С пансионом что-то не получалось. Образцовая в прошлом диетическая столовая с обедами на дом при первых попытках ею воспользоваться вызвала желудочные расстройства. Поговаривали и о серьезных инфекциях.
Мамочка писала в ожидании приезда отца. Первая ее открытка была послана еще из Краснодара, с дороги.
<7 июня 1928. Краснодар>
9 часов 30, подъезжаем к Краснодару. В 1 час 05 будем в Новороссийске. Ехали очень хорошо, в вагоне кроме нас было всего два человека, и те сейчас выйдут, к Новороссийску подъедем одни.
Смущает погода, до сегодняшнего утра шел проливной дождь, ветер, холод. Сегодня тоже пасмурно, на полях работают в польтах, хотя уже колосится рожь и на станциях продают розы.
Всего хорошего.
Женя.
<13 июня 1928. Москва>
Дорогая Женичка!
Спасибо тебе за телеграмму и открытку из Краснодара. Мне пришло в голову, что ты считаешь телеграмму извещением об адресе и будешь молчать, пока я тебе не напишу. Извести меня все же, нравится ли тебе в Геленджике и рада ли ты, что в нем поселилась? Кроме того, справься и напиши точно, куда и как посылать деньги. Ходят также всякие тревожные слухи о юге, о хлебных карточках и прочем. Успокой меня и на этот счет. Если ты разочаровалась, то не пугайся видимой бессмыслицы, какая бы получилась в отношении сделанных затрат, и поскорее возвращайся, никакой бессмыслицы не будет, наоборот, было бы бессмысленно оставаться там, где тебе не нравится. Мы бы тут поселились под Москвою. А если там у тебя хорошо, то тогда, разумеется не о чем и говорить, живи, не отказывай себе ни в чем. Постараюсь деньги тебе выслать через неделю.
Похвалиться ничем не могу, чувствую себя неважно, не сплю. Первое время, пока было холодно, было довольно хорошо. Но вот второй день духота и это, ты знаешь, как бред. Еще два раза видел Горького, второй раз на редакционном собрании “Красной Нови”. Говорили ничего не значащие общие места, исключеньем явились слова Конст. Федина и Ник. Никитина. Пробовал сказать и я.
Когда я кончил, Горький встал и, не глядя на меня, простился со всем собраньем, ссылаясь на недосуг. Никто ничего не понял. Я же говорил понятно и, думаю, что не пустяки. Так думают и другие. Оттуда в обществе Ал. Толстого, Никитина, Катаева и Олеши пошли к Буданцевым. У них новая квартира в две комнаты на Петровке. Он, как и многие, продал собранье сочинений в Гизе, вышел уже III-й том. Живут они во всех отношеньях прекрасно, тебе бы понравилось, и, правда, не налюбоваться. Она ему посвятила всю жизнь, даже в работе помогает, он ей сказал, не подумав, двусмысленность, она надулась, все хором стали упрашивать их помириться, что они скоро и исполнили. Они оба с дарованьем и мне нравятся.
Вообще, конечно, они из числа тех немногих людей, с которыми я почти не встречаюсь потому, что они близки, и я с ними хотел бы встречаться и надо бы. Лето они проводят в Кашире. Нам надо было смотреть на заводском берегу, мы этого не знали, там сдаются настоящие дачи.
В конце недели едут в Евпаторию Асеевы. Я у Коли провел полвоскресенья. Вчера смотрел “Растратчиков” в Художественном. Катаев написал мне записку, когда я пришел домой и ее развернул, то увидал, что она на два лица.
Я предложил Стелле, и очень рад, потому что один побоялся бы идти в театр (то есть просто не пошел бы, – я плохо сплю), а так, – был связан обещанием. Кроме того, ее соседство успокаивало меня.
Было большим несчастьем, что грипп с головой пришлись на самую весну. При здоровье я, может быть, справился бы со сроками, как прошлый год, и мы были бы все вместе. Потом, как понимал, я все-таки предлагал тебе комбинацию с общей дачей для нас и месячным санаторным отдыхом для тебя. Для меня это было бы счастьем. Но грех говорить о нервности, о нездоровости летнего одиночества, когда рядом – случай, где те же самые начала развились до угрожающих размеров, в которых уже обращаются к врачам. Таков случай с Ниной. Я не вправе в письме рассказывать тебе о том, что узнал от Коли.
У него дрожат губы, и он сдерживает слезы, когда об этом заговаривает. Разумеется, он дрожит только за нее и о себе не думает. Как и ее состоянье, так и их жизнь – гораздо сложнее, чем ты думала (помнишь наш разговор по дороге в Тайнинку?). Я изумился его выдержке и нравственной высоте. Кроме того, он хорошо делает, что ничего не говорит родным.
Напиши мне, пожалуйста. Я не жалуюсь. Есть единственное светлое пятно в той грустной каше, в которой я сейчас тону. Я почему-то очень надеюсь, что на этот раз ты в точности будешь исполнять наставленья Разумовой[196], отойдешь, пополнеешь и, может быть, станешь спокойней. Если бы это случилось, и ты такой приехала, это было бы сверхкавказом для меня, ты это знаешь.
Дорогой Женичка! Ну как же твои кавказские яблоки и камушки и крабы? Рад ли ты, что попал к морю? Тепло ли у вас, и смотришь ли ты за тем, чтобы мама часто кушала?
Кланяйся Мане.
Крепко целую тебя.
Твой папа
В письме речь идет о приезде Горького в Москву, первый раз после 1921 года. Отец многого ждал от этого события, что и пытался высказать Горькому при встрече с ним на собрании 9 июня в редакции журнала “Красная новь”. При том двусмысленном положении, в каком находилась современная литература, отец видел в Горьком единственную возможность объединить своим влиянием и авторитетом – антагонически настроенные слои общества и сделать “живой очевидностью” необъяснимое существование искусства, удушаемого идеологическими нападками. Эти слова были по-разному восприняты свидетелями встречи. Отец писал маме, что к ним отнеслись одобрительно, и Горький тоже объяснял ему потом, что ушел с собрания не из протеста против сказанного, а просто от усталости и нелюбви к “безделью деловых собраний и заседаний”.
Рисуя идиллическую картину жизни дружественного семейства Буданцевых, папа, конечно, намекал на сложность своей собственной семейной и квартирной обстановки. Сергей Буданцев, в прошлом поэт, близкий к ЛЕФу, стал заслуженным советским писателем, чему свидетельствовало собрание его сочинений, печатавшееся в том самом ГИЗе, который с трудом согласился на переиздание ранних книг Пастернака. Заметим, что сборник “Поверх барьеров”, сданный в июле 1928 года, вышел только осенью 1929-го. Жена Буданцева – талантливая поэтесса Вера Васильевна Ильина, по отцовскому признанию, стала вместе с Мариной Цветаевой одним из прототипов героини “Спекторского” – Марии Ильиной. В прошлом году вышел ее стихотворный сборник “Гудок”.
В противоположность благополучию Буданцевых отец упоминает тяжелое нервное заболевание жены Николая Николаевича Вильям-Вильмонта Нины Павловны Воротынцевой. Слава Богу, вскоре она поправилась.
Папа снова включает меня в свою переписку с мамой. Обращенное ко мне он писал более разборчиво, каллиграфически выписывая буквы, чтобы я мог прочесть самостоятельно. Мои ответы мама писала ему под диктовку.
9 июня, суббота, 1928. Геленджик
Боричка, здравствуй.
6 часов утра, Маня пошла на рынок, Женя спит. Тебе, вероятно, почти все сказала приписка “устроились дача Сафонова”. А теперь по порядку. До Новороссийска ехали так, что не хотелось вылезать. Между Краснодаром и Туннельной очень красиво, небольшие горы, покрытые сплошь дубом, помнишь, когда мы на паровичке в Германии ползли, так в разные стороны ползли зеленые гребни. После Туннельной и до самого Новороссийска гораздо хуже, голые, покрытые бородавками склоны. Новороссийск отвратителен – весь покрытый пылью, которая засыпает тебя совсем, как только трогается автобус. Мы с Женёночком были молодцом, но Маню почти укачало, а троих до конца, и все это рядом в тряской коробке, когда на поворотах подступает “уах”, – так до полпути, потом мы пересели вперед, дорога стало ровнее, и уже спокойно доехали до Геленджика.
Куча комиссионеров стала рвать чемоданы, спасаясь от них, взвалила чемоданы на тележку и скорей в “Номера”. В гостинице умывальник на лестнице, а уборная, как на черном дворе. Спросила, куда пойти пообедать. “Вот, говорят, там во дворе хорошие домашние обеды” (двое указало). Обед, конечно, был ужасный, у Мани вчера очень живот болел, у нас пока обошлось. Усталая с дороги, почти с двумя детьми, слегка не понимая, как и зачем я в Геленджике, направилась к Сафонову.
Конечно, Женёчек помешал кончить. Я и так слишком размазала. В общем, все теперь слава Богу. Комната свободная оказалась рядом у родственника Сафонова, здесь же живет та Марья Михайловна, которая в прошлом году устроила Ольгу Александровну в Геленджике. Она указала мне очень хорошие обеды и т. п.
Теперь сам Геленджик. Воздух здесь чудный, подъезжая, я думала, что это жасмин и клевер – цветет маслина и сладко-сладко пахнет. Воздух, солнце, тепло, море издали – все это ужасно радует. Вблизи море мне здесь нравится мало. Я знаю море в Крыму, широкий песчаный берег, ракушки, чудные камушки и волна, которая бежит, бежит издалека – трах и катится уже назад. – Здесь бухта, море у берегов грязноватое, подходит почти в упор к отвесному склону, так что между морем и горой узкая полоса серых однообразных камушков – тут купаются, причем выше по всей береговой линии санатории, окурки – как в парке в Александровке.
У нас славная комнатка с терраской, все внутри и снаружи побелено, сад, лужок. Жененочек чудно играет, почти без присмотра. Вообще он всю дорогу и сейчас очень большой, и с ним легко.
Теперь о тебе: работать здесь можно вполне, прогулки, я думаю (то есть так говорили, но подробно не спрашивала), хороши, далекий пляж тоже не люден, комнату для тебя могла бы снять в доме рядом; пока свободны две: одна маленькая милая с окном в зелени, но рядом будут жильцы, другая переделана из козьего сарайчика с маленькой терраской, совсем отдельная в углу садика, в общем как бывает у садовника или сторожа, но с хорошей кроватью, столом, правда, без отопленья и маленькая, еще хочу выяснить, когда там бывает солнце. И та и другая от 20-ти до 25-ти рублей в месяц. Ты бы мог там целый день работать, а ночевать могла бы там Маня.
Советую тебе решить о приезде поскорее, потому что комнаты пока есть, но думают, что числа 15–20 понаедет народу. Вообще мне кажется, что если решишь приехать, то поскорей, чтоб лето для тебя было дольше и полнее. Пока я, думая о том, ехать тебе или не ехать, смотрю как бы твоими глазами. Думаю, что если ничего не делать и никуда далеко не отправляться, то здесь однообразно и скучно, вообще захватывающе красивого здесь нет. Горы покрыты бородавками, море издали совсем лазурное, дома, земля – пыльно белые. Около домов сады.
Цены: комната моя 35 руб. в месяц, обед 80 (мы берем два на троих), клубника 15 коп., масло, яйца немножко дороже, чем в Москве. Если Рита[197] будет спрашивать, скажи, что за 20 руб. она комнату снимет, что, конечно, интереснее ей было бы поехать не в Геленджик, но, говорят, что, например, в Сочи гораздо дороже.
Всего хорошего. Женя
Манина просьба: около телефона записан на белой бумаге, которая там висит, адрес ее знакомой Сорокиной, вложить в письмо и прислать. От Новороссийска в Геленджик садись на пароход и у тебя будет совсем другое впечатление от дороги. Если скоро соберешься, захвати мне из лавочки ВХУТЕМАСа 3–4 тюбика кобальта синего.
Привет Ине, Шуре, целуй Федюка, как его здоровье? Кланяйся всем и маме моей особенно.
<13 июня 1928. Москва>
Дорогая Женичка! Сегодня я отправил тебе письмо и только что получил твое, за которое очень тебя благодарю. Надо все же решить, стоит ли вообще проводить в Геленджике все лето? Я об этом писал и в письме, но из твоего не могу почерпнуть данных, по которым бы мог сам решить этот вопрос. Я не гонюсь ни за чем, но не уверен, удастся ли тебе окрепнуть, отдохнуть и принять в весе в этом месте. Налицо ли условья, которые могли бы это дать, и не отразится ли на тебе серость и бедность этого места?
Раньше двух недель я Москвы оставить не смогу, но к этому времени хорошо бы решить окончательно дело.
Манин адрес: Сорокиной, Сытинский тупик, д. 3, кв. 10. Москва 96.
Не отказывай себе ни в чем. Как и куда послать деньги?
Крепко вас обоих обнимаю.
Среда 13 <– 14 июня 1928. Геленджик>
Боричка, папа Боря, когда ты приедешь? Живы, здоровы, приехали. Папа, я сейчас пойду обедать в ресторан. Обедаю я у Анны Ивановны. На дворе там есть курочки, собачки и много людей. Деревья там такие: айва, грецкие орехи, абрикосы и сливы, вишни. Собираю я там все это, абрикосы, айву, сливы и вишни, которые на земле. Раз случилось так, это было вчера. Мое заняли место, где я искал всегда, там легла одна девочка на кровати спать. Женя
Боричка, писать о себе пока почти нечего. Поскольку я не работаю и даже о работе не думаю, все обстоит благополучно, вожусь, играю, гуляю с Женичкой. О своей поправке пока говорить рано, только освоились: желудки у нас шалили, колено у меня нарывает и т. п. Но приложу все усилия, чтоб поправиться.
Мне очень важно было бы знать, приедешь ли ты или нет, просто, чтоб представить себе дальнейшее. Сегодня заняли Козий павильон, о котором я тебе писала, осталась только одна комнатка. Если не трудно пиши, почаще. Письма здесь получать страшно приятно. Адрес простой ул. д-ра Гаазе 22. Фамилия хозяина Иванов, но можно ее не писать.
Всего хорошего. Идем обедать, Женя пристает.
Женя
Четверг.
Всю ночь шел дождь. Не спала, вероятно, скоро придет мое нездоровье. Мне хотелось хоть недельки две не думать о дальнейшем, о возможности работать и т. д. Очень уж надоели мои весенние думы о том, куда и как, но помимо моей воли навязываются мысли. Ответь, пожалуйста, что больше улыбается тебе: приехать ли сюда или остаться. Пока Маня меня от Женички почти совсем не освобождает, даже письмо написать трудно. Может, все образуется. Но вообще призадумайся, было бы ли тебе по вкусу и средствам (смотри на это пока как на мимолетное предположение) приехать сюда, быть может, с Олей и Прасковьей Петровной (чтоб жить на своем хозяйстве). Прости, что отраженно мытарю и тебя. Я плохо себя чувствую, в скорую свою поправку не верю, огорчаюсь, что потрачу зря все лето, и желание у меня, чтоб со мною что-то силою, а не моею волею сделали.
Женя
В мамином письме упоминается Оля Фрейденберг, которую папа каждое лето регулярно вызывал к себе и приглашал на дачу. В этом сказывалась традиция совместных летних каникул, которые Фрейденберги проводили на даче вместе с Пастернаками в 1900-е годы. Но несмотря на ежегодные приглашения, это никогда не осуществлялось. А Прасковья Петровна, похоронив одного за другим своих хозяев, часто помогала Пастернакам в хозяйстве, особенно незабываемы были ее обеды. Мама, обжегшись на общественном питании, от которого болела, мечтала для своей поправки о ее помощи.
17. VI.28. <Москва>
Дорогая Гулюшка!
Сообщи мне, не откладывая, как и куда посылать тебе деньги, то есть простым ли почтовым переводом на д. 22? Можно ли тебе прислать 300 руб.? Как к тебе относятся кругом, и хорошие ли вас окружают люди? Наступила ли перемена в твоем самочувствии? Лучше ли чувствуешь себя? Пополнела ли? Как сказать мне тебе это, чтобы ты простотой и серьезностью сказанного прониклась: не отказывай себе ни в чем и счета деньгам не веди, плюнь временно на призванье, на работу и заботы, отдохни, предоставь себе полную волю. Я знаю, что данных для этого меньше, чем могло бы их быть: оттого и стоял я за твою полную изоляцию и помещенье в санаторий. Теперь твой долг доказать, что я ошибался, и стать Столяровой и в Геленджике.
Милая, я огорчил тебя, верно, прошлым письмом, тебя могло обеспокоить мое состоянье. Мне гораздо лучше, то есть – фу ты черт, о чем приходится писать – с желудком наладилось, нервы уходились, всем этим я обязан холодной погоде, стоящей эти дни. Сплю же я по прежнему редко когда хорошо, но все-таки это далеко не то, что было в первые дни по вашем отъезде.
Вчера мне звонил Всеволод Эмильевич и законтрактовал меня на сегодня к себе на дачу. Это в 4-х верстах в сторону от Салтыковки, условился о лошадях, но я плохо спал и не поеду. К тому же я занят. Я хочу сейчас сделать то, чего не собрался сделать за год и чем не смогу заняться в другое время: собрать старые книги и стихи, разбросанные по журналам, по прошлогоднему договору с ГИЗом. Я пробовал переделывать “Близнеца” зимой, но это как-то не шло, теперь двинулось и кажется пойдет легче. Я тебя страшно люблю и моего зрелого, взрослого Кудлаша. Только была бы вам польза от нашей разлуки. Сделай, о сделай, чтоб было так. Какое бы это было счастье!
Я не знаю, когда и где мы увидимся. О возможности, скользнувшей в свое время при обсужденьи лета, то есть о том, чтобы провести все его без вас, с короткой поездкой к тете Асе, не хочу и думать. Но вы ли вернетесь сюда, или я к вам через некоторое время (две недели – один месяц?) поеду, мне не ясно и это должно быть яснее тебе.
Вот что вкратце тебе напомню, чтобы ты помогла мне это решить. Длительного безделья, как прошлый год (пол-лета я больше читал и гулял), я себе в этом году позволить не могу, в этом может быть виноват полутора-месячный пропуск по болезни (да и больше, если вспомнить зимнюю историю с рукой). Следовательно, приехав, я действительно вскоре должен засесть за дело. Мыслимо ли это в Геленджике? Ты писала, что да, и возможность эта стоит передо мной: я только говорю о ней с сомнением потому, что ведь и вообще ты Геленджиком не очарована и не лучше ли, по моем приезде будет нам всем переехать куда-нибудь еще, скажем в горы? В последнем случае потребуется больше денег, чем мы думали и чем по бюджету у нас пока есть, но такая возможность не отнята у нас, я бы изловчился и достал их, – несколько больше для того задержавшись.
Больше всего мне улыбается именно такой план, и он допускает разнообразные изменения (например, если Геленджик вовсе не годится, то чем давать крюку и тратиться на переезды, могли бы прямо вы переехать куда решим, и я прямо бы к вам туда поехал, или, если Геленджик все-таки место морское, приехал бы я туда и побыл там до переезда куда-нибудь еще). Когда дело решенья дойдет до меня, я поступлю так: я куплю подробный путеводитель по Кавказу и с верой в найденное и с легким сердцем туда с вами отправлюсь, не спрашиваясь знакомых. Мерещится мне что-то под Боржомом, Арбелиани, кажется, точно не помню, путеводителя у меня еще нет, да и денег, все это придет. Но как бы то ни было, куда бы мы ни попали, мне за дело придется засесть очень скоро, перерыва сам бюджет нам не даст, ты помнишь, мы однажды это разбирали.
– По мере уясненья того, на что я могу рассчитывать денежно, а также и того, что у меня на очереди в работе, устанавливается некоторый порядок в мыслях, я становлюсь спокойней и светлей на все смотрю. В первый раз за последнее время (и понятно: была еще путаница предположений, отрывок Спекторского не был дописан, собиранье Гизовской книги было еще спорным гаданьем и пр., – ты, Женёк, никогда об этом не догадываешься и меня в этом отношеньи не щадишь), да так в первый раз я о нас и о горах думаю, как прошлый год о Мутовках: с заманчивой ясностью и сильным желаньем. Успокой же меня насчет Геленджика и твоего здоровья. Напиши мне об этом последнем. И зачем вы берете 2 обеда? Берите 3, прошу тебя.
Гите отдал для мамы всю нашу муку. Не хотела брать, но в городе ее нет, и по-моему так надо было. У них сейчас папа, и все благополучно. Крепко целую тебя и Женичку. Любите меня немного побольше, мне легче будет. Недавно, сейчас не помню, по какому поводу, вспомнил, какая ты умница. Факты были. Но какие, убей, не помню. Крепко, крепко.
Твой Б.
Дорогая Маня, от души кланяюсь Вам. Как Вам нравится море?
Через месяц, перед своим отъездом в Геленджик, папа действительно купил путеводитель Сергея Анисимова “Кавказский край” 1927 года. Он сделал на нем такую надпись:
“Моей Женюре 20/VII 28, по сдаче книги в Гиз.
Геленджик значит по-черкесски см. стр. 72”.
На указанной странице дано описание Геленджика, в прошлом – центра жизни черкесского племени шапсугов. Его название в переводе значит “Белая невеста”.
После папиного приезда в Геленджик им с мамой очень пригодился этот путеводитель в их путешествии вдоль побережья.
19 июня <1928. Москва>
Дорогая! Я рад, что до твоих последних писем написал тебе о том же. В воскресенье, 17-го, отправил тебе письмо, а вчера и сегодня (вторник), читаю в твоих о том же, то есть о решеньи. Мне только показалось трудно выполнимым везти еще и Прасковью Петровну в дополненье к Мане. Я тебе объясню. Не то что это невыполнимо, но меня бы смущало и печалило то, что нам приходится так глупо и сложно расходоваться вокруг себя самих, там, где у других при больших заработках это делается проще и экономнее: оттого и одеваются хорошо люди, и квартиры имеют и путешествуют. Я не сравниваю, потому что в большинстве это все бездетные, так сказать, примеры. И чтобы тебе ясен стал оттенок, которым меня это предположенье о П. Пет. смущает, я скажу тебе, что бы, например, я сделал очень легко и не колеблясь. Если бы я был здоров, я на днях, при первой получке денег отправил бы тебе Пр. Петр-ну (после твоих писем, по которым я вижу, что ты продолжаешь терять в весе). Я отправил бы ее, а сам бы остался, потому что уехать я пока еще не могу.
Это бы меня смущало меньше, потому что я бы этого хозяйства не видел. Вот и все, потому что говорить о высоте расходов фарисейство: именно сумма их безразлична; зарабатывать 150 рублей так же трудно как и 500, или наоборот, первое труднее второго. И когда я говорю тебе, забудь о деньгах, то я высказываю вещь трезвую, зиждущуюся на фактах и без всякого благородничанья; не в них дело; но когда то́, что должна была дать одна комбинация (Узкое или вообще изолированный санаторий), достигается громоздкими переездами многих людей, да еще с сомнительным исходом, тогда это печально.
Но и это, говорю, я принял бы без всякой критики, потому что ведь от душевных твоих противоречий, которые ко всему этому приводят, труднее всего тебе, и это ведь не блажь, – да, так я говорю, со всем бы этим я согласился, лишь бы не видеть той стороны, с которой все эти сложности начинают пугать своей глупостью и бесполезностью. Не огорчайся, и улови тон, в котором я все это говорю. Я говорю это любя, дружески и очень спокойно, как в тех редких случаях, когда мне ясно, что оба мы друг друга стоим, и я ничуть не умней и не удачней тебя, и когда я еще вдобавок вспоминаю, как изменило тебя… хотя бы одно лишь мое соседство.
Затем, чтобы поскорей покончить со всеми этими “если бы”, я сразу скажу тебе прямо и положительно. Перестань, дорогая, думать, что тебе надо поправиться, что, словом, что-то случилось, что поскорей надо поправить и пр. Не пугайся, если поправки нет и если даже тебе хуже. У меня уже решено, и решенье это неотменимо, то есть на этот раз я тебе не уступлю, что осенью, по приезде домой, я тебя на месяц отправлю в Узкое. Тут, одним словом, и будет сделан урок, который тебе задала Разумова, и исполненья которого мы так ждали. Это сделается без тебя, ты об этом не думай. Живи на Кавказе, не думая, что тебе его (то есть этот урок) надо приготовить. Наоборот, живи свободно от него. Никто от тебя ничего не потребует. Однако исполняй все-таки ее наставленья, все, по возможности, пускай частый стол, лекарства и пр. будут особенностями кавказского климата, а не какой-то стороной твоей жизни, которая должна дать результаты. Никто ничего с тебя не спросит, это первое, а второе то, что если даже ты поправишься, то все равно октябрь ты проведешь в Узком.
На днях я позвоню Дуне с тем, чтобы с осени опять взять няню. Она прекрасный человек, и мне хочется, чтобы до сборов наших за границу или до поры, когда бы окончательно выяснилась неосуществимость задуманного, была у нас она. Кроме того, теперь такое время, когда бы мне хотелось, чтобы у нас был человек, которого мы знаем и который знает нас. Но не только в этом ее достоинство. Она внутренне, морально очень ценный характер. Ты была права, когда напирала на то, что на нее можно положиться. Затем не думаю, чтобы Женя уже то, что она может дать, перерос. Во всяком случае речь ведь лишь о половине зимы, не больше.
– Так как я сейчас занят собираньем стихов самых разнообразных периодов, начиная с 12-го до 28-го года, то сами собой набегают обобщенья и среди них я часто думаю о тебе. Хорошо, что ты упорна. Возможны всякие неожиданности. Но часто непредвиденности, на которых строится рост художника, следуют за перерывами в работе, и даже более того: за перерывами заботы о ней, за перерывами мысли. У меня много тому примеров. Хороши бывают случаи нового упорства, и ради них одних следовало бы чаще порывать со старым, если бы позволяла жизнь.
На твоем месте я без тревоги, и только в том случае, если бы тебе надоела разлука с холстом, взялся бы за этюды, разнообразные и ни к чему не обязывающие, и делал бы это балуясь, себе на радость, и дальше баловства бы не шел: переход от такого баловства к новому упорству совершился бы сам собой, без твоего ведома. Вообще ты в себе и на работу ближайшего времени выработай взгляд подобный тому, что я говорил о здоровье и об Узком. Это не только потому, что сейчас лето и можно, если умеешь и позволяет жизнь, отдыхать, а еще и потому, что ты окончила школу, а это самый разительный, самый косный вид того упорства, которое надо обновлять периодами забвенья и пропусками.
Я много бы мог тебе сказать о школе, как она сказалась на мне, но это бы меня далеко завело, сделаю это когда-нибудь устно. То что из дружбы я считал делом, наукой и пользой и чем себя считал обязанным Боброву и (даже!) Асееву, вижу ясно теперь на бросающихся в глаза сравненьях, – было никчемным вредом, приближавшим судьбу сделанного к действительности (всегда условной) и всегда понижавшим мои живые задатки или лучше сказать уровень, предшествовавший у меня каждый раз таким “успехам”. У меня много было компромиссов в работе, я это всегда знал по воспоминаньям, в былом ощущеньи, но неправильно толковал их роль, полагая, что компромисс всегда на пользу художнику и что он за ними созревает. Только компромиссы в сторону живых сил, литературой не затронутых, сказывались благотворно. Таковы Сестра моя жизнь – Люверс (последняя отчасти желанье выслужиться перед папой, который бы меня наконец признал). Но все, что обращено в Близнеце и Барьерах к тогдашним литературным соседям и могло нравиться им – отвратительно, и мне трудно будет отобрать себя самого среди этих невольных приспособлений и еще труднее – дать отобранному тот ход, который (о как я это помню!) я сам тогда скрепя сердце, пресекал, из боязни наивности и литературного одиночества. Отсюда и Центрифуги и Футуризмы.
Но я записался, между тем как у меня куча дел. Я одного не успел сказать тебе, когда признался, что одну Праск. Петр., без себя, охотно и без всяких мудрствований к тебе бы направил. Я не могу этого сделать. У меня колит, и мне придется долго от него лечиться. Короткие приступы, которые бывали зимами, были первыми его проявленьями. Теперь может быть бессонницы дают ему поддержку, и болезнь развилась во всю. Если ты умеешь читать, то легко отличишь веселый, здоровый и оптимистический тон письма от моих обычных. Так оно и есть. Я себя, правда, чувствую очень хорошо последние дни, когда наконец узнал, что со мной и что мне надо делать. Лечусь вовсю, все строго исполняю и хорошо себя в этой ясности чувствую. “Обрел сон”.
Кончу, Женюра, и отправлю. Будь спокойна на свой и на мой счет, я правду тебе говорю, все образуется. И если тебе это нужно, знай, я крепко люблю тебя.
Твой Боря
Крепко целую тебя, золотой Женёк, за твое письмо. Вот ты и на Кавказе! Всю зиму говорили про него, ан вот ты на нем и очутился! Обнимаю тебя, дорогой мой сынок, а ты также крепко за меня мамочку обними и кланяйся Мане.
К меняющимся все время планам поездки за границу добавлялись ежегодные приглашения Раисы Николаевны Ломоносовой, которая проводила лето в Италии. Но неоконченная работа, неослабно владевшая воображением отца, “Спекторский” и “Охранная грамота”, всегда тормозили и заставляли откладывать путешествие с года на год. А потом это уже оказалось невозможным.
В письмах к маме, из одного в другое, рассказывается, почему и как отец переделывал свои ранние стихи из “Близнеца в тучах” 1914 и “Поверх барьеров” 1917. Он хотел исключить из переиздания случаи вынужденных уступок групповым вкусам и чужим влияниям. В условиях читательской невосприимчивости и нечувствительности к лирике ему казалось нужным давать только вещи, безусловные по своей пластической и живописной основе. Многим из его друзей, так же, как и маме, эта работа представлялась разрушительной и во многих случаях лишней. Отсюда его желание убедить ее в правильности и необходимости того, что он делает.
19. VI.<1928. Москва>
Дорогая Гулюшка!
Утром написал тебе, но письмо взял опустить Коля, поклявшись, что сейчас это сделает, и сейчас я не уверен, тотчас ли он его опустил. Вчера Вяч. Павлович[198] был у Горького, провел у него два часа. Он мне об этом рассказывал, и не все мне было приятно. Я не люблю, когда говорят: “Гладковы, Федины” и пр. Я не люблю слова “Пильняковщина”. Во всем этом много свинства и еще больше несправедливости. Точно писав “Цемент”, автор выступал, притязая на всю ту бучу, которую вокруг него подняли. А потом выходит так, что он сам в ней виноват. Вообще, страшно все это неделикатно. Кроме того, сообщил мне В. П., как и меня тоже стали ставить во множественном числе. Оказывается, Адуев в какой-то поэме ходит по улице и что ни вывеска ремесленника, то моя фамилия, – вот тоже прием литературной борьбы. Или Брик вот, говорит Полонский, в последнем N какого-то журнала (в Лефе нет) пишет подловато про “моду” на меня и пр. Но, ей-богу, мне все это противно в общем, то есть и за Федина, и за всех, и за себя.
Целую тебя крепко.
Критические нападки на попутчиков, то есть писателей непролетарского происхождения, очень болезненно воспринимались отцом, который видел в этом прямую угрозу существованию литературы. Критике подвергались самые сильные вещи и самые талантливые писатели, многие из которых, как Пильняк, были его добрыми друзьями. В это время завязалось знакомство отца с Фединым, и он писал ему сразу по возвращении из Геленджика, чтобы поддержать в трудное время несправедливых критических нападок. Летом он получил от Константина Александровича его новый роман “Братья” и радовался тому, как его воспринимали друзья и соседи по Геленджику.
К сожалению, я не мог найти фактов, объясняющих особое беспокойство отца за Федора Гладкова, также остались мне неизвестны колкости Осипа Брика, о которых он упоминает в письме. Я не видел конструктивистской поэмы Адуева “Товарищ Ардатов”, где, как любезно сообщил мне Л. Кацис, встречается имя Пастернака на вывеске зубного врача.
20. VI.<1928. Москва>
Не скучай, Гулюшка золотая, не скучай, не думай о письмах, сами они будут приходить, не жди их, а то нет хуже терзанья.
Вчера живой привет передала от тебя по телефону ваша соседка Л. Дмитр. и сказала о письмах, чтобы почаще. Между прочим, хотя скука скуке рознь, и не о том речь, но все же, чтобы тебе не так скучно было, пошлю тебе книжек, с просьбой, чтобы ты их прочла. Мне тоже их потом читать придется, для статьи, может быть, да и вообще надо. А тут, когда я к вам попаду, они под рукой будут, все меньше везти.
На протяженьи трех дней, прошедших с большого письма, ничего нового о приезде, конечно, не скажу. Лучше вообще думать, что меня задерживают деньги (как оно и есть на самом деле), чем думать о задержке по болезни (как оно есть тоже и ничуть не меньше). Я себя чувствую очень хорошо, потому что ни на иоту не отступаю от предписанной диэты, и того, что мне по ней можно, с меня достаточно. Стал я лучше спать: каждый вечер перед сном гуляю и сплю при открытом окне, хотя тут сейчас ужасные холода. Лечусь кроме того, но о таких вещах не пишут (промыват<тельное> и пр.).
Но теперь подумай, что папа бы перед выставкой собрал сделанное за 16 лет и вдруг увидал, что там неладно, тут неладно, и целые периоды ложны и пр. и пр., и тут же, развесив все это по всей квартире, принялся бы разом все это переделывать, когда – это, когда – то, сегодня одно, завтра другое и все это походя и вперемежку. Ты настолько легко себе представишь громоздкость и трудность этого всего, что пожалуй даже скажешь, что это сумасшествие и этого делать нельзя и не надо.
Но даже и ты, родная, можешь говорить, что хочешь, а я это делаю и сделаю. Вот отчего я и не могу тебе много и часто писать. Это адова работа потому, что в неделю или две надо набраться масштабов, растянувшихся по десятилетьям, чтобы не соврать в переделке в отношеньи разновременных замыслов и пожеланий, так неудачно в свое время исполненных. Но ведь отказываться от трех тысяч и их последующего переизданья нельзя. А в том виде, в каком они сейчас находятся, я всех этих Близнецов и Барьеров не перевариваю. Следовательно, мне только и остается то одно, чем я сейчас и занялся. Благослови же меня на этот труд, моя золотая родная, и будь весела и здорова.
Весь твой и твоего тезки в трусиках.
Б.
<21 июня 1928. Москва>
Дорогая Гулюшка! Вчера заходила ко мне Ася. Я очень рад за нее: у ней приняли в Новом Мире рукопись в полтора печатных листа, и на днях она получит половину гонорара. В то же время она показала мне письмо от Марины, где та ей пишет, что они по-прежнему нуждаются и питаются кониной. Перед Асей же я виноват тою же виной, что перед тобой, вероятно, и Жоней, и так же когда-нибудь испытаю чувство неловкости и раскаянья, как вчера. Года два назад я просматривал эту работу, которую она просила устроить где-нибудь в журнале. В ней были те же проявленья талантливости и ума, что в большинстве ее вещей, но при обособленности от обычного рядового тона, который царит в журналах, в ней не было той побеждающей исключительности, которая заставляет сопротивляться отказам и настаивать на принятьи. И я ей не помог. Правда, с тех пор она настолько переделала работу, что, может быть, можно о ней говорить как о новой, которой я не знаю. Она просила крепко целовать тебя и Женичку, и говорит, что ухудшенье у тебя с пути, а потом пойдет поправка.
Кланяется Санников[199].
Твой Б.
Вероятно, речь идет о прозе Анастасии Ивановны Цветаевой, посвященной Горькому. Она была напечатана под названием “Из книги о Горьком” в “Новом мире” только в 1930 году в № 8–9. Свою фамилию Цветаева вынуждена была заменить на материнскую: А. Мейн, чтобы скрыть связь с сестрой-белоэмигранткой. Дружба отца с Анастасией Ивановной подкреплялась в то время участием в судьбе ее сестры, которая переживала тяжелый период лишений и изоляции среди русских в Париже. Пастернак через Жозефину помогал Марине Ивановне несколько раз денежно, для этого же он познакомил ее с Р. Н. Ломоносовой, которая некоторое время поддерживала ее.
<22 июня 1928. Москва>
Милая! Иногда, как сейчас, мне становится грустно. Но если я поддамся этому чувству, все у меня пойдет вверх дном, и, как могу, я с ним борюсь. Я пишу тебе намеренно суховато, делай так и ты, не надо грустить. Сейчас с дачи на два дня приехали Шура с Ириной. Дом наполнился шумом. Вот почему я не так боюсь сегодня признаться тебе в том, что испытываю каждый вечер: под боком люди, они не дадут разыграться чувству разлуки, вообще же оно таково, что только его тронь, и – посыпется. И лучше его не касаться, не знать, что скучаешь. Если приходит оно к тебе, борись с ним, ложись спать до Мани. Звонил сегодня Сеня. У них гостит папа, все благополучно, все по-прежнему, и у Сени тон был веселый и бодрый. Расспрашивал о тебе и думает, что плохо с тобой только по началу, с непривычки, а потом хорошо будет.
Дай Бог. Обнимаю крепко, крепко
Б.
23 июня <1928. Москва>
Дорогая Гулюшка!
Благодарю тебя за телеграмму. Жаль, что только три, но хорошо, что дело двинулось, расти же и множь их! Она пришла ночью, я слышал стук, потом мне снилось, что вы приехали. Я плохо спал, в 5 проснулся и днем нынешним не доволен. И всегда в такие дни пишут письма, звонят, мешают. Я раздражаюсь. Но ведь я бы взвыл, если бы обо мне забыли. Не знаю, по телеграмме ли или против нее, но деньги я тебе вышлю через 3–4 дня.
О поездке же пока рано думать. Я не сделал и половины того, что надо. Только бы выспаться, тогда все идет как по маслу. Я думаю, эта книга будет не хуже “Сестры”. Отделы будут посвящены: Асееву, Маяковскому, Жене, Андр. Белому, может быть другим. При переизданьи “1905” я выставлю посвященье М. Цветаевой. Здесь же ничто с ней не связано, и она обидится, не найдя себя среди родных и друзей. Как грустны всегда эти расхожденья чужих чувств с твоим, готовым обнять их полностью, и навсегда обнявшим. Вдруг вспоминаю Ахматову. Что посвятить ей? И вдруг вспоминаю, что вознесли и теперь обижают Гладкова (обязательно ему кое-что посвящу) или что, например, посвященье “Высокой болезни” Асе Цветаевой дало бы ей нечто вроде революционной рекомендации, а жизнь ее трудна, и мне уже звонили из Нового мира, что не все с рукописью ладно, и не так-то близки деньги, а я уже успел порадовать ее и поздравить. Но спокойных, широких, длительных посвящений будет три: тебе, Коле и Володе.
Поправляйся только, моя золотая, и не думай: я не собираюсь умирать. Но что-то по-ребячески ликует во мне при мысли, что к зиме вся старая заваль будет выправлена, собрана и приведена в порядок. Можно будет осмотреться и взглянуть вперед. Квартира эта была еще в большем запущеньи, чем наша действительная.
Я на прежней диэте. Вечерами гуляю. Да, ведь я писал тебе о Коле и Нине, и тогда много было страхов и беспокойств. Все улеглось и улучшилось, могу успокоить тебя. Спокойной ночи, мои родные. Понесу письмо на главный почтамт и это будет моей прогулкой. Обнимаю тебя.
Твой Б.
Письмо написано в ответ на телеграмму, в которой мама сообщала, что стала поправляться и прибавила в весе три фунта. Она спрашивала папу о времени его приезда, просила прислать немного денег.
Тем временем работа над сборником “Поверх барьеров” разрасталась. Появилось намерение посвятить его разделы людям, которые определяли собой целые периоды творчества Пастернака. Так, раздел “Начальная пора” был посвящен Асееву, “Поверх барьеров” – Маяковскому и “Эпические мотивы” – маме Жене, “Высокая болезнь” – А. Цветаевой. Некоторым из перечисленных в письме друзей весной следующего года были написаны отдельные стихотворные послания и снабжены посвящениями стихи 1927 года. Желание посвятить “Девятьсот пятый год” Марине Цветаевой объяснялось тем, что обе поэмы писались во время активной переписки с нею и она была их первым читателем. Но публикация акростиха с ее именем в качестве “Посвященья” ей поэмы “Лейтенант Шмидт” в “Новом мире” вызвала скандал в редакции, и отцу пришлось письменно объясняться с Полонским. Стихотворные послания к ней публиковались в 1929 году без упоминания ее имени, а в сборнике “Поверх барьеров” – под анаграммой М. Ц. Сочувственное упоминание эмигрантов совершенно не пропускалось в печать.
Посвящение маме “Эпических мотивов” обусловлено первым стихотворением цикла “Город” 1916 года, в котором затрагивается тема женской судьбы. Отец сильно переписал первоначальный вариант и внес некоторые уточнения в образ героини французских романов, “бессословной слуги в госпожах”. При этом появилась строфа о восхищении смелой решительностью женщины, близкая к определениям, которыми отец неизменно награждал маму, вспоминая время их первого знакомства:
Что сравнится с женскою силой? Как она безумно смела! Мир, как дом, сняла, заселила, Корабли за собой сожгла.19-ое <июня 1928. Геленджик>. Вторник
Трудно мне писать. Я думаю, что в Геленджике поправиться можно. Возвращаться в Москву тотчас же никакого смысла. Здесь все-таки солнце, море и покой больше, чем под Москвой. Я, правда, пока абсолютно не знаю, как я смогу здесь работать, здесь или печет солнце, или сильный ветер, срывающий все, да и ничего не просится на холст.
Но возвращаться, скажем, числа 15 июля опять нет никакого смысла из-за полутора месяцев, да еще неизвестно каких, выбираться на дачу.
Красотой я здесь не затронута, но быть может, к лучшему, иначе острей и больше было бы душевное одиночество. Тебе, мне кажется, здесь будет хорошо. Работать тебе здесь вполне можно, в комнате, не выходящей окном на юг, как например, наше, достаточно прохладно целый день, день большой, покойный, и часы отдыха можно использовать на солнце у моря. Ты окрепнешь, станешь совсем черный. Может, я месяца через полтора окрепну настолько, что смогу с этюдником или карандашом куда-нибудь на время забираться от вас подальше с тем, чтобы там пописать, а потом вернуться.
Денег у меня уходит 5 руб. в день на еду + комната и мелочи, то есть 20 червонцев в месяц без тебя, а с тобой вполне будет достаточно 30. Тратить зря не к чему, а если бы у тебя случились лишние деньги, то отсюда часов 6 езды до Сочи, а там рядом Гагры и т. д. Может, как-нибудь вышло бы, что мы бы немножко поездили. Конечно, это с Женичкой почти немыслимо в одиночку ездить (мне лично грустно), но вдруг как-нибудь и выйдет (конечно в самом конце лета). Жененочек в дороге очень легкий и хороший. Где-то на Кавказе будут знакомые, например, Пепа, может, можно будет сняться и куда-нибудь перекочевать, но опять-таки я говорю об осени, а первые месяца я думаю, я и Жененок используем для здоровья, а ты еще и для работы.
Итак, я буду считать, что лучше и понятнее тебе как можно скорее приехать сюда. Если же у тебя явятся какие-нибудь другие планы, то я, конечно, здесь на все лето не останусь и числа 15 июля вернусь в Москву. Деньги пересылать проще всего телеграфно, полтора дня, стоит около рубля. Геленджик Гаазе 22 Пастернак, но у меня деньги еще есть, числа до 7-го хватит, так что если ты приедешь, не знаю, нужно ли пересылать, только на тот случай, чтоб они были сохраннее у меня, чем у тебя.
Хочу тебе напомнить, что тебе нужно захватить 4 своих полотняных простыни, наволочки, подушку и одеяло, хорошо, если захватишь второе, такое же рваное, оно было у Ирины, для Мани, три своих полотенца, светлые брюки и туфли, пиджаков не надо, можно вполне ходить в рубашке, но обыкновенный костюм и пальто непременно. Узнай, пожалуйста, у Прасковьи Петровны, куда ей писать, она, кажется, собиралась после твоего отъезда в деревню к родным – это тоже непременно. Почта, магазин Госиздата к твоим услугам.
Всего хорошего. О приезде сообщи точно.
Женя.
Маме моей передай как-нибудь привет.
У меня день на день не похож только в зависимости от того, сильно меня утомит Женя или нет. Но ты не вздумай без меня подыскивать помощников для Жени или товарищей для развлечений, то есть кого-нибудь приглашать. Это все будет видно, когда ты приедешь. Маня, бывают дни, очень старается, а при тебе, я думаю, будет еще больше. Относительно комнаты я бы тоже хотела, чтоб ты постарался скорее приехать и лучше сам решить, где тебе жить и работать. Наш хозяин замечательный, и дочка его тоже, мы дружны, а Женичка за дедушкой (хозяином) ходит собачкой, поэтому не хочется отсюда переезжать. Но в другом месте, я думаю, можно было бы найти комнаты рядом и, может быть, поближе к хорошему пляжу, здесь есть дальний, менее населенный. Рядом же у Сафоновых комнату маленькую со среды займут, но освободится козий павильон, можно будет стряпню, еду и Маню перевести туда, а ты будешь спать и работать с нами, но это ты увидишь все на месте, это все мелочи, которые не трудно будет уладить.
Если же тебе не хочется ехать, то не езжай, я тогда 15 вернусь в Москву. От Мани привет.
Пока второй раз не взвешивалась, потому что хвораю. О результатах напишу. Думаю, что в основе наших тревожных, грустных, упадочных и т. д. состояний, вне зависимости от того, в каких условиях мы находимся, лежат наши отношения. Но и тут тебе покажется, что основания их одни, мне – другие. Грустная, отвратительная тема уже одним тем и для тех, у кого она начинает существовать.
25 июня <1928. Москва>
Дорогая моя!
Спасибо за большое и содержательное письмо от 19-го, где так много успокоительного. Всего больше дали мне твои слова о хозяевах и об отношении Женички к ним: большое уточненье моих гаданий о вас, большая радость.
Был, то есть заходил к тебе Моля, он собирается в Геленджик, он отвезет тебе кобальт и манную, зайдет перед отъездом, я его просил об этом.
Я и сам думаю, что возвращаться тебе сюда нет смысла. Я с первых же дней предлагал это тебе, потому что не знал, приживешься ли ты в Геленджике и насчет того, как отнесешься к месту, да и как оно к вам отнесется, не был уверен. Ехала же ты туда по своему настойчивому почину. Я боялся, что все это будет тебя угнетать и ты сразу не найдешь должной легкости, чтобы Геленджик зачеркнуть и бросить. По тому же, что ты пишешь теперь, я не знаю, зачем тебе приезжать и 15-го.
Я еще не знаю, когда к вам попаду и как. Ты об этом не думай, все это и в отношении комнаты и всего другого устроится само собой, легко и просто. Если можешь, выравнивай дни в какой-то здоровой, оздоровляющей строгости, как отчасти я это делаю тут с собою. Правда, я один, и теперь после некоторого тревожного порога, который я преодолел, мне это легче, чем тебе с Женей, – я не сравниваю.
Но если бы мне не удалось выехать даже к августу, чего я сейчас не допускаю, то и в таком случае я вас так не оставлю.
Август ты проведешь с Женичкой в горах, может быть, я попрошу Прасковью Петровну поехать к тебе в замещенье Мани, которой ты тогда предложишь вернуться (пусть значит, что “для обслуживанья” меня, если я останусь, – речь об августе). Но все это будет так: либо я с вами перееду в Грузию, в Бакуриани, либо же, и только в таком случае вопрос о моем присутствии или отсутствии становится безразличным, потому что все сделается без нас, либо же, говорю я, мы или вы будете в Теберде.
Вчера очень горячо Кира Александровна развила следующий план. Они в августе на месяц поедут в Теберду, все нам устроят (то есть снимут вне дома отдыха и условятся о нашем столованьи в нем, сведенья, которые мы получили весной, – преувеличены и неточны) и вызовут нас телеграммой на все готовое. Я представляю себе, что даже и в том случае, если бы я задержался, в Геленджике же Маню заменила Пр. Петровна, и вы бы с ней поднялись в горы прямо к друзьям, в условья, предусмотренные и, может быть, даже матерьяльно облегченные влиянием Вячеслава Павл., это будет благом, и я буду спокоен. Тогда, пусть не с первого дня, я все же, в случае задержки, оставлю для себя возможность съездить к вам, хоть недели на две, и этой надеждой живу.
Тебя, может быть, удивит, о какой это я все время говорю задержке. Но ты ведь помнишь, что прошлый год, я к лету, сразу получил около 1000 руб., да и жили мы от всяких Госиздатов под боком. В этом году этого не случилось. Правда, к середине июля я надеюсь что-то выкроить, эта надежда все время в моих предположеньях звучала, вот отчего неожиданностью тебе может показаться мой нынешний впервые сомневающийся во всем этом тон. Но дело в том, что нервозную мелочь одиночества я победил. Мне работается, перспективы для вас подвертываются хорошие, я спокоен. Что-то гонит меня изнутри, почему-то эти сроки кажутся мне ответственными, без повторенья. Я немножко боюсь зимы. Поговаривают о голоде. Не станем думать об этом и говорить, не надо стращать друг друга. Верю в лучшее и за вас не боюсь. Но как в первое знакомство с тобой я бегал стихов, чтобы не быть больным, так я боюсь быть слишком поэтом, слишком поглощенным работой в тревожный год. Я боюсь растерянности, с этим сопряженной. Я выражаюсь неясно, но в двух словах этого не сказать.
Крепко обнимаю тебя. Завтра, может быть, получу деньги, уплачу за два месяца квартиры, выплачу налог, оставлю на один месяц себе и остаток вышлю тебе.
Целую без конца Женичку. Писала ли ты нашим вновь про Nujol? Твоим кланялся.
Планы, которые строили Полонские – Вячеслав Павлович и его жена Кира Александровна Эгон-Бессер, не удалось осуществить. Папа писал им из Геленджика в Теберду с просьбой снять для нас комнату, надеясь приехать к ним в августе. Но Полонские осели в Кисловодске и расхворались, так что папины мечты “совершить что-нибудь крупное и вечно-снежное” не получили воплощения.
26. VI. <1928. Москва>
Дорогая Женичка! К сожалению, денег сегодня не получил, как надеялся. Вот и не будь тут, когда по несколько раз приходится справляться и напоминать. Очевидно, вышлю около 1-го.
Недели 3 назад, в вечер твоего отъезда, мне позвонила Мариечка. Она воспользовалась небольшим искривленьем пальца на левой ноге, бывшим у нее с детства, чтобы добиться бесплатной операции, главное же, помещенья в больницу на 2 недели, о чем она мечтала, как об отдыхе в санатории. Она просила меня зайти к ней тотчас же и была грустна, мне же после проводов это было трудно, да и успел я ванну до того принять. Условился на другой день к ней зайти, но ее уже на квартире не оказалось, ушла на операцию, и две недели о ней ничего не было слышно. Вчера я был у нее, она была очень весела, я читал ей. Она рассказала, что Дмитрий помогает ей и даже предлагает, чтобы все было по-старому… Вдруг пришел Дмитрий, нагловатый по обыкновению. Достаточно было двух слов, чтобы я вспыхнул. И пошло. Как он безобразен.
С поэтом Дмитрием Петровским папа был знаком еще с 1914 года, когда тот сумел вывести его из состояния тяжелого отчаяния и мрака. Во время голода первых послереволюционных лет Петровский присылал в Москву по его просьбе фрукты и сухари с Украины. Оттуда же он вскоре привез себе молодую жену Марию Павловну Гонту и поселился с нею в Мертвом переулке. Они часто бывали у нас, и отец принимал горячее участие в судьбе Мариечки, когда Дмитрий, увлекшись знаменитой киноактрисой Галиной Галиной, ушел от нее, оставив без средств к существованию.
29. VI. <1928. Москва>
Гулюшка, пишу на почтамте. Спасибо за телеграмму. Хотел ответить тебе телеграммою же, но только что отправил тебе деньги телеграфом и стоит это 2 р. 50, а у меня была трешка и на телеграфное сообщенье денег не осталось. Я приеду при первой возможности, думаю, что недели через две. У меня были всякие неприятности, пустые и несложные, как всегда, может быть, объективно заслуженные, но не в тех размерах, до которых я их субъективно довожу. Досадно, когда они отражаются на работе. Однако теперь пишу тебе в состоянии ясности и лучших надежд.
Что ты думаешь о Прасковье Петровне. Взять ли ее тогда с собою? Как у вас с продовольствием? Как погоды? У нас все время дожди и холода. Пепа на Кавказ, наверно, не поедет. Что еще сказать тебе? У меня тут стоят над головой и ждут цепной ручки. Спешу кончить. Крепко люблю тебя и целую, обнимаю Женичку и кланяюсь Мане.
Желание привезти к нам Прасковью Петровну объяснялось ее удивительным умением вкусно готовить. Отец надеялся, что ее кулинарные способности помогут маме поправиться и прибавить в весе. Но на попечении Прасковьи Петровны находился Фатик, маленькая черная собачка, оставшаяся после смерти Василия Ивановича. Я очень любил Фатика, хотя из-за старости у него был скверный характер, и особой сложности не составляло приютить его в Геленджике. У мамы тоже это не встречало возражений. Кроме Фатика, у нас в московской квартире появился еще один товарищ моих детских игр – котенок Самсон, которого взяли Фришманы. Папа из письма в письмо описывал мне его шалости и подвиги.
2. VII. <1928. Москва>
Дорогой Женичка! Милый мой сынок! Кланяется тебе кот Самсон. Он у нас подрос и стал большим озорником. Очень он твою комнату любит, больше других. Несется, задрав хвост, по всему коридору и прямо с разбега и со всего поворота в ящик с твоими игрушками. Каждый вечер я с полу гребешок подбираю и на подзеркальник кладу, и только войду, – опять он на полу. Это все Самсоновы проделки, эта коташка считает, что гребешку место не на столе, а на полу, и все сбрасывает и сердится, что гребешок высоко лежит. Приехала сегодня Фрося, загорела, не узнать. Очень хвалит Маню за письмо, понравилось ей. Кланяйся очень Мане и поблагодари за память. Маму и тебя крепко целую, Мне не пиши, а лучше бабушке или тете Жоне. Обнимаю тебя. Твой папа.
Понедельник. <25 июня 1928. Геленджик>
Боричка, дня три тому назад, когда я дала телеграмму, все казалось светлым, ясным. Ясно было, что ты приедешь к 1-му, что тут тепло, а не холодно, как в Москве, что все должно сложиться к лучшему, и телеграмму я дала потому, что мне хотелось пошутить, посмеяться. В субботу Женичка разбил себе сильно коленку, в воскресенье он слег с температурой 38 (независимо от колена). Сегодня был врач, в 12 часов было 38,3, пока велел дать слабительное, а там видно будет. Со слезами, с рвотой проглотил две ложечки.
Тебе не трудно представить его и мое состояние (как всегда в Москве или Мутовках, дай Бог, чтоб так и кончилось). Рядом в комнате до нашего приезда была корь. Если это, даст Бог, окажется желудочное, то, конечно, больше в столовую ходить не будем.
Ты огорчил меня своим письмом о Прасковии Петровне. Я ведь тебе ничего подобного не писала. И если ты помнишь, то это ты говорил, что можно и двоих взять, можно няню тоже взять на Кавказ и т. д., а я на это только отругивалась. Если я вскользь написала об Оле и Прасковье Петровне, то это только так, как иногда говоришь глупость на основании только что слышанного, так, например, кто-то из соседей сказал мне, что у них на троих уходит со своей стряпней 3 рубля, ну я в ту минуту и подумала, что ты хотел Олю пригласить под Москву, а почему бы тебе не пригласить ее сюда и т. д. Но на этом я больше не останавливалась, да, вероятно, и сама бы испугалась, если бы тебе эта история понравилась.
В последнем же письме я опять прошу знать точный адрес Прасковьи Петровны вот почему: Маня иногда бывает невыносима в своей неподвижности и равнодушии. Она сидит с книжкой или лущит подсолнухи, а когда Женя, не интересуясь этими занятиями, уходит ко мне, говорит мне, что он не хочет с ней быть, – и все это с меланхолией и апатией. “Маня, а почему вы того не сделали или этого не купили?” – “Забыла, вы не сказали”. Или заснет на террасе, и я ее бужу часа в два ночи, или письмо пишет до 12 и потом меня будит.
Вообще она своими литературными занятиями и рассеянностью как бы пародирует тебя. Так бывает дня три подряд, потом выпадает день, когда она старается, и все выходит весело, просто. На это у меня только и надежда, потому что если будут часто повторяться ее меланхолические состояния, когда я не только провожу весь день с Женей, но и еды часто нет, и у нее чересчур сказывается желание почувствовать себя на курорте, то я ей куплю билет в Москву. Но ни в коем случае не присылай мне Пр. Петровны, потому что они съедят друг друга, а в первую очередь меня.
Да, так я повторяю, что думала, что Маня с твоим приездом придет в себя, а если нет, то мы ее отправим, а попросим приехать Прасковью Петровну с Фатиком. Я на все это смотрела жизнерадостно и очень спокойно. Думала, что ты приедешь к 1-му, комната у меня до 7-го, так что останется несколько дней, чтоб ты решил, как и где тебе здесь лучше устроиться.
Но теперь Женино заболевание и твой колит. Как звать тебя с больным желудком, когда, видишь, мы и с нашими наладить не можем. Значит надо непременно переходить на свой стол, то есть Маня должна исключительно заняться стряпней. В большинстве случаев те, кто с маленькими детьми или диэтой так и делают, и на каждой террасе трещит примус. Но все-таки уж как-то больно обидно уезжать отсюда от тепла, от загара в холодную, сырую Москву. И все-таки если ты отложишь свой приезд сюда, то всякий смысл твоего приезда пропадет, выйдет, как в Тайцах, что когда ты расположился отдыхать и работать, пришлось уезжать. Все, что сопровождало твое рассуждение о том, как живут другие – абсурд – просто другие, вероятно, больше зарабатывают и больше заботятся о нарядах и квартире, потому что раз в неделю угостить друзей стоит няни и на это далеко не уедешь.
Итак если деньги и колит тебя задержат позже первых чисел – мои планы рушатся, а новых поскольку Женя лежит больной, я не хочу и не могу додумать. Если можно дай телеграмму о том, думаешь ли и когда приехать.
Женя
4 июля 28. <Москва>
Прости, дорогая моя, что не пишу последние дни. Позавчера, по полученьи твоего большого (на листе писчей бумаги) письма с известием о болезни Женички и о перемене вами хозяйственного режима я хотел ответить тебе телеграммой. Но то же письмо, то есть твои повторяющиеся настоянья, чтобы я ехал скорей, заставило меня взяться за работу еще усиленнее и поспешнее. Неужели ты не представляешь себе, как я рвусь к тебе, и как меня твои просьбы приехать волнуют. И хотя ты спрашиваешь, зачем я тяну и что меня тут удерживает, так что может показаться, что ты причины не знаешь, я на этот вопрос отвечать не стану, потому что обо всем этом писал раньше.
Мне хочется, чтобы все было по-твоему, потому что хочу тебя видеть здоровой и я приложу все старанья, чтобы Пр. Петр. можно было взять в Геленджик и оставить при Мане, а не в обмен на нее, как я думал раньше, потому что мне казалось, что можно столоваться на стороне. Но тогда тем менее могу я сейчас подняться и поехать с пустыми руками, хотя и все равно это невозможно. Однако, как бы то ни было, нас еще разделяет дней 10, не больше.
Ты меня очень поддержишь, если что-то победишь в себе, может быть даже редкий проблеск чувства ко мне, и не станешь смотреть на сиденье мое здесь, как на необъяснимую и беспричинную странность. Сама же постарайся ответить мне насчет одного, вновь возникающего пункта. Пр. П. без Фатика никак ехать не может, и как я ее ни уговариваю, вынуждена, несмотря на заманчивость, отказаться наотрез. Фрося согласна смотреть за ним, но теперь она боится, что он будет по ней скучать и этого не снесет. Я со своей стороны готов взять его. Что ты на это думаешь? Так же и о предложеньи Полонских. Хотя собственно мне тут ничего определяющего знать не требуется, то есть такого, от чего что-нибудь бы зависело; разве только будет какое– нибудь соображенье относительно количества персонала.
Я очень тебя люблю, и все хочу сделать, как ты предлагаешь. Но ты только дай сделать мне это, ты милая, и я целую тебя, но ты ведь не маленькая. Обоих обнимаю. Мане привет.
Б.
4. VII.1928. <Москва>
Я может быть виноват перед тобой сейчас только в одном отношеньи. В том, что к 9-ти часам вечера прекращаю всякую работу. Вечером, в одиночестве, она всегда слишком волнует меня. Как ее следствия, я боюсь тоски и бессонницы. Отказом от вечерних работ я от них почти избавляюсь. Но таким образом выпадает без пользы множество рабочих часов и может быть самых лучших, и в этом, говорю я, единственная моя вина. Но я не уверен, ускорил ли бы я подготовку и сдачу книги, если бы воспользовался вечерними часами. Может быть это бы отразилось на утренних и дневных и на всем деле. Не торопи меня, умоляю тебя. Не сердись и не скучай. Если надо, то я и сейчас уже направлю Прасковью Петровну к тебе. Крепко, крепко обнимаю Жененочка. Кот Самсон оправдал свою кличку и вчера поймал 1-ю мышь.
Целую тебя.
Твой Б.
30 июня <1928. Геленджик>
Деньги получила, спасибо. Сегодня же получила твое письмо от 25-го.
Твои планы, да, пожалуй, и отношения кончаются за письменным столом, а потому твоим проектам о Теберде и Грузии абсолютно не доверяю. К тому же они и невыполнимы, потому что Женя не настолько взросл и крепок, чтобы его перетаскивать в Теберду, а потом через месяц в Москву обратно. Я знаю, что если вернусь в Москву, то тоже ничего, кроме московской комнаты не найду, а 7-го мне надо уплатить вперед за месяц за комнату, а так как с тобой переписка только ведет к проектам, и мне это надоело, то разговоры об этом покончу.
Буду жить здесь, довольствуясь или огорчаясь и злясь, смотря по тому, как наладится день. Я не избалована возможностью работать и, надрываясь в одно время, теряю эту возможность в другое. Злюсь я и сейчас, потому что думаю, что с деньгами при желании ты мог устроить так, чтоб тебе сюда к сроку присылали деньги, я вижу и то, что прислав мне деньги, ты обеспечил нам всем месяц вперед и думаю, что за месяц мог бы опять откуда-нибудь получить, но я бы, может, так об этом не говорила, если бы не вспоминалось, что ты предлагал мне месяц тебя подождать и т. д.
Хороший бодрый тон моего письма еще того, от 19-го, объяснялся тем, что ты ясно писал, что через две недели, если в Геленджике можно работать, выедешь, а потом опять пошла канитель с невероятными проектами твоего приезда в августе, тут же моего отъезда с Женей, твоей погони за нами через две недели в Теберду и подобных планах для возбуждения и поднятия настроения. Хоть бы слово о моей возможности работать. Ты скажешь, сама этого хотела. Но ты совершенно забудешь о том, что было твердо условлено, что мы встретимся через месяц там, где будет обоим возможность работать. Но все это устроение затягивается (как это только у тебя и может быть) до того, что не к чему об этом и разговаривать.
Желаю тебе всего хорошего.
Женя.
У Женички сегодня заболел зубок, и я с ним была у зубного врача. Ему сверлили бормашиной, и он вел себя чудно, только был взволнован и бледен, потом, чтоб показать ему, какой он молодец, пошли с ним покупать книжечку, но ему больше понравилась спринцовка, и, вернувшись домой, он пускал вверх фонтан и показывал всем ватку в зубе.
Соседка по комнате оказалась родной сестрой Малкина[200]. Еще живут тут, кажется с Пречистенки, Кикчеевы, приват-доцент физиолог. Вообще все соседи у нас во дворе очень милые, все с детьми, прислугами, бабушками, тетями, ванночками, посудой, кастрюльками, примусами и утюгами из Москвы, все почти второе или третье лето здесь проводят, конечно, главным образом из-за ребят. Говорят, будто Геленджик очень хорошо действует на гланды, железки и т. д. Но и здесь в этом году сравнительно плохое лето, ветры, изредка дождик. Здесь нет ни мух, ни комаров, а я вчера всем на удивление убила комара. Денег хватит на полтора, а то и больше месяца, положила их в сберегательную кассу. Письмо о Nujole ты ведь отправил, а если нет результата, напиши, пожалуйста, Лидочке, потому что я сейчас по-настоящему писать не могу, а ты, вероятно, хоть изредка пишешь. Я никому, кроме тебя, не писала.
Если ты не приедешь, то ни в коем случае мне никого не присылай. Я это говорю серьезно! Я отошлю обратно! Вопрос о твоем приезде или неприезде больше обсуждать не буду. Справляйся сам как знаешь с его решением, а у меня три недели как будто только этим и заполнены, я говорю, конечно, про подсознательное, потому что мысли все привязаны к Женичке до ненормальности, которая на меня нападает, когда он всецело на моих руках. А после его болезни, когда он худ, бледен, два дня у него температура выше 36,1–2 не подымалась, я только им и мучаюсь.
Маня же теперь старается, но она просто не привычна, ей и в голову не приходит много вещей, из-за которых я потом волнуюсь.
Манной не присылай, уже получили здесь.
<6 июля 1928. Москва>
Меня огорчило твое вчерашнее письмо (от 30-го). Мне кажется, я его ни с какой стороны не заслужил.
Теперь я, право, не знаю, как мне быть. Я рассчитывал при первой возможности приехать с Пр. Пет., как ты об этом просила и только ей нужно заверенье, что Фатик не помешает тебе.
Избаловать тебя полной возможностью работы моя мечта, она к несчастью пока не настолько исполнима, как хочешь ты и хотелось бы и мне. Ты же боишься побаловать меня даже добрым письмом.
Меня огорчает, что причина, почему я тут еще сижу, непонятна тебе. Это понимают все кругом, но их пониманье не нужно мне, я не с их пониманьем связал свою жизнь и не в нем нуждаюсь.
Но ты очень хорошо описала, как Женичку водила к зубному врачу, и за это благодарю тебя. Поцелуй его крепко и расскажи, что в вечер того дня, когда я ему писал про Самсончика и нашел, что они друг на друга похожи, я собрался спать, зажег свет и вдруг понял, что котенок блаженнейшим сном спит в Женичкиной кроватке. Я его тихо вынес в другую комнату, и, немного поворочавшись, он опять заснул как убитый.
Ты, может быть, придешь в раздраженье от моей сдержанности, и она покажется благородством в кавычках, нравоучительной демонстрацией. Но конечно, это не так, и при желаньи можно во всем найти одно дурное. Кроме того, если бы я принял во вниманье, что тебя взбесит эта “всепрощающая” мягкость, мне пришлось бы ее оставить, а это бы привело тебя еще в большую ярость.
Я убежден, что за твоим письмом последуют другие, где тебе станет жалко этого всего и которые будут более достойны. Вот почему, получив это мое письмо, помни, что оно отклик на твое, и не начинай всего сызнова в ответ на мой сегодняшний, огорченный, уязвленный и недоумевающий тон.
Твой Боря
<3 июля 1928. Геленджик>
Милый Боря, огромное тебе спасибо за открытку с телеграфа и не сердись на мое неприятное и злое письмо последнее. Но я иногда чувствую себя ненормальной и растерянной от постоянного напряжения с Женичкой и от страха, который вдруг на меня нападает, что и для меня и для Женички вдруг лето пройдет впустую. Ты ведь знаешь страх потерянного времени. Так, во-первых, большое спасибо, что ты приедешь к 15 и, умоляю, устрой так, – и во-вторых, – что ты спрашиваешь про Пр. Петр. Я сегодня вечером напишу подробно. Знай только, что я твердо говорю, что ты можешь мне вполне доверить устройство нашего быта.
Всего хорошего. Еще раз спасибо.
Женя.
<3 июля 1928. Геленджик>.
<…> максимально приятно устроится. Ты спрашиваешь, как с продуктами, как погода? Погода хорошая. С продуктами все же трудно: за хлебом почти всегда очередь, белый дают на каждый день по две булочки, мясо и другие портящиеся продукты можно доставать на базаре в 6–7 утра, но все-таки все приспособляются, и мы тоже, затрачивается только больше времени и внимания. Здесь уже поспели персики и абрикосы. Клубника кончилась, черешня кончается. Вчера видела, что пшеница совсем поспела. Ну, будь здоров и собирайся.
Женичке сегодня положили пломбочку. Я его страшно люблю. За пломбочку получил “Петрушку” Маршака. Сегодня по дороге к зубному врачу встретили газетчика. “Мамочка, а как газету делают”. “Женёк, это долго, вырастешь, узнаешь и т. д.” “Ну, мамочка, ты мне вечером расскажешь” и так кротко, хорошо сказал, что я ему и говорю: “Пишут, Женичка, что за день случилось, а потом на больших листах в типографии печатают”. “И про войну, мамочка, если война бывает”.
Спокойной ночи.
Женя.
Второе мамино, подробное, письмо, написанное, как она обещала, вечером, сохранилось не полностью – только его конец: страницы 9 и 10. Нет также ее письма к Прасковье Петровне с приглашением приехать и моей припиской, которую упоминает папа в своем ответе.
7 июля <1928. Москва>
Дорогая Женичка!
Я боюсь, что вчера огорчил тебя. Прости меня. Но умоляю, будь нежной со мной. Немного тепла, хотя изредка. Ты знаешь, как я живу. Я в нем нуждаюсь.
Я не могу изменить своей жизни, я не могу отказаться от признательности людскому, живущему, меняющемуся, тянущемуся через годы. Ведь что-то я хотел сказать заглавьем Сестры мой жизни, и это что-то живет во мне. Я не могу отказаться от дружбы, от почти домашней интимности, перехлестывающей на улицу, от чувства родства с совершенным, оформляющимся в лице, искусством.
Но все это – мой характер, а не образ жизни, и если правда, что я твой, то все это могло бы быть твоим. И неужели все перечисленное так тебе в тягость? И неужели все это недостатки? Но что от меня останется, и прежде всего для тебя, если я, скажем, от них избавлюсь? Все эти особенности я привел, как теневые и досадные, помня твои упреки и ввиду новых. Но я-то сам никогда за эти качества не держусь, не стою на них, их деятельно не форсирую: они ужились со мной, и когда бы не ты, я бы их не замечал.
Все простые, живые, непринужденные надежды сосредоточены в тебе. Если мне не безразлично чье-то пробужденье, чье-то состоянье духа, чей-то уход и приход, то разве не ясно чьи именно. И вот, когда ты заговариваешь со мной, как вчера, у меня ничего не остается.
Сейчас подали твою открытку и все чудно сошлось. Хорошо, когда бы всегда так было. Горячо благодарю тебя за нее. Ты гораздо меньше виновата передо мною, чем перед собой. Владеть собой надо прежде всего ради себя же, и особенно это нужно тебе, в этом вообще залог твоего выздоровленья. Без конца тебя целую, дорогая моя. Как чудесно Женичка пишет Пр. П.! Прости меня, если вчера чем тебя обидел, но ты не представляешь себе, как огорчила меня. Чтобы нагнать вчерашнее письмо, отвезу это на главный почтамт.
Дня через два закончу работу. Мне осталось еще переделать “Марбург” и выправить “Высокую болезнь”. Потом дело будет за деньгами, то есть за Гизом. Ввиду того, что это будет большая сумма (руб. 500–600), я ее получу не сразу. Однако все сделаю, чтобы достать все в неделю. Какая ты глупая! Ты не представляешь себе моих вечеров и того, что со мной делается, когда я даю себе расчувствоваться на твой и Женичкин счет. А ты зовешь и обижаешься, точно я сам не рвусь. И все время головные боли (обыкновенные, без связи с носом). Но в общем – мне очень хорошо.
Весь твой Б.
<9 июля 1928. Москва>
Дорогая Женичка! Спасибо за большое письмо. Итак, и насчет Фатика все известно. Только пощади меня, не меряй моего обещанья моим собственным предположеньем и желаньем. В первых числах я писал тебе, что это будет 15-го. Тогда были хорошие дни, от тебя были спокойные письма, мне работалось, я хорошо спал.
Отчасти и твои нетерпеливые письма, но только отчасти, отразились в последнее время на деле: я не досыпаю, очень утомлен и нервен, и работа задержалась. Я рассчитывал сдать ее числа 7-го – 8-го, и неделю клал на расчет с Гизом. Теперь я только верно к 15-му смогу ее сдать, и все отложится на неделю. Я знаю, чем это грозит мне и моей несчастной, проклятой выдержке, но что же мне делать? Если бы ты знала, как сам я нуждаюсь в отдыхе и мечтаю о здоровом сне! Умоляю тебя, прости меня и не напоминай о числах. Так ведь я все-таки попаду на Кавказ, и мы может быть поездим и его увидим. Обнимаю тебя.
Твой Б.
10. VII. <1928. Москва>
Моя родная! Я получил удивительное по душевной силе и высоте письмо от Р<аисы> Н<иколаевны>. Там с большою любовью и пониманьем говорится о тебе. Не пересылаю, сам привезу. Ответил сгоряча и на радостях. Она в Берлине, у ней невралгия правой руки, это осложненье на сердечной почве, очень страдает. От этого письма исходит редкая, почти благотворная сила, нечто вроде того, что горный воздух для легких. Я ее страшно люблю, за тебя, за все, за нее самое. – Сегодня звонил М. А. и скоро будет у тебя. Я просил его передать на словах, что если будет возможность до получки больших денег достать хотя бы нам двоим на дорогу, я поеду, не дожидаясь до расплаты с ГИЗом, но теперь у меня нет ни гроша. Вдруг тебе придет в голову отослать часть денег назад для этой цели. И не думай. Пойми, что это чепуха и получится путаница. Все устроится, скоро увидимся, завтра кончаю книгу, послезавтра сдам. Горячо тебя и Женю целую. Поклон Мане. Обнимаю тебя. Твой Б.
Письмо Ломоносовой не сохранилось, вероятно, оно потерялось в Геленджике. В ответном письме к ней отец называл его “громадным, несравненным, высоким, захватывающим”. “Место, где оно лежит, – писал он, – благороднее всего, что когда-либо видала моя комната <…>. Это Вы действительно мне так несравненно сердечно, так незаслуженно писали? Как Вас благодарить за эту высоту?”[201]
<15–16 июля 1928. Москва>
Дорогая моя! Не оставлять же тебя, мою родную, мою, все-таки, действительную, невымышленную жизнь, без вестей! Но что писать тебе, на какую твою волну, на какую помощь твою, на какое поддерживающее твое веянье тебе отвечать? Бывают периоды, когда, справляясь с предъявленными трудностями, я удовлетворяюсь той философской сердечностью, которая всегда есть в моих мыслях о тебе, но как одинок, более чем одинок я, когда они непосильно велики! О как я боюсь минут, когда мне приходится искать в себе помощи от тебя и против тебя, ведь это не настроенье, это факты, это опыт, из которого выводишь законы, это быт, который сложился и становится все сложней, это 6 лет, которые позволяют заключить о следующем шестилетьи.
Но я хочу тебя видеть, потому что все же это то “ты”, которое я произношу всего живее и кровнее, и я соскучился по тебе. Мы выезжаем в пятницу почти без денег, их надошлют, мне придется работать, а у вас, наверное, адова жара. Ах, если бы ты меня послушалась весной с санаторием и со всем. До скорого.
Твой Б.
Письмо датируется по упоминанию времени отъезда. В нем нет разговора о сдаче книги, потому что этот момент все время откладывался. Судя по надписи на путеводителе, которую я приводил выше, папа сдал ее в тот же день, когда уезжал, 20 июля. Но работа над переделками стихов продолжалась и в Геленджике, откуда он посылал в “Новый мир” варианты отдельных строф стихотворения “Мельницы”[202].
Папа привез с собой Прасковью Петровну, мастерицу своего дела. При изобилии южного рынка и Бориной любви к съестной красоте, она в Геленджике превосходила саму себя, жарила барабульки и шемаю, тушила баклажаны, запекала яблоки в тесте. Но на все это я мог только смотреть: у меня все не проходило тяжелое расстройство желудка и я сидел на чае с сухарями, манной каше и киселе из вина Каберне. Потом, уже в Москве, оказалось, что в тамошней воде не хватало извести, и Баландер в несколько дней меня вылечил.
Папочка мечтал о поездке в горы. Тогда родители решили на несколько дней частью на автомобиле, частью по железной дороге и на пароходе, отправиться по приморскому шоссе до Туапсе и Сочи, а потом, может быть, морем в Мацесту. Я выдержал эту поездку, что подтолкнуло их на новое путешествие, но на этот раз меня оставили на Прасковью Петровну. Вернулись родители очень радостные, хотя, кажется, их путешествие было со всякими приключениями – в пути что-то у них украли.
Но главное было море, Черное море папиного детства. Папа великолепно и помногу плавал – мгновенно раздеваясь и ныряя, он сразу исчезал из глаз. Мама же толком не умела – проплывала лишь несколько метров. Они ходили на пляж для взрослых, а меня пасли на детском, и главным источником моих впечатлений было море, встреча с его кромкой в тихую и волнами в бурную погоду. Люди запоминались меньше.
В Геленджике было много извозчиков, на лошадей надевали шляпы с дырками для ушей и наглазники – шоры. Мы ездили на фаэтоне, запряженном парой, в Джанхот – удивительно красивую бухту по направлению к Туапсе и, сидя на мягкой мелкой гальке у прозрачной морской воды с легким прибоем, жалели, что живем в городке с довольно плохим берегом и мутной из-за известковых камней морской водою. По самой Геленджикской бухте ходили катера. Мы катались на них до пристани Толстого (южного) и Тонкого (северного) мысов.
Южные губернии и приморские города жили тогда сравнительно богато. Их еще не пустили под массовые санаторно-курортные заведения. Это были еще остатки нэпа. Знаменитые черноморские рыбки барабулька и шемая, золотая кукуруза, овощи и фрукты всех еще сохраненных и пестуемых видов и, конечно же, виноград удивительных, душистых столовых сортов.
Папа так описывал свои первые впечатления от Геленджика: “Море, как море, и у самой его обнажающей синевы голой перламутровой ослепительностью рассыпаны купающиеся, лодки, белые дачки греческого городка, белоногие моряки и греки-киоскщики, чистильщики сапог, дети кофеен и кефирен, горячий, невинный и неразвращенный юг, бездельничающие олеандры, мимозы, персики, айва <…> а сзади горы, не бог весть какие, но все-таки горы, настоящие горы, то есть спокойные нагроможденья сторожевой не меняющейся обширности”[203].
В Москву вернулись 16 сентября. Уже в Геленджике, по письмам дяди Сени, было понятно, что бабушке Александре Николаевне очень плохо. Когда мы пришли к ним, она лежала дома, белая и прозрачная от худобы и слабости. Я, как ни в чем не бывало, стал смеяться и шалить. Это огорчало Сеню и Гитту, а бабушка улыбалась и говорила им что-то заботливое, об угощении и игрушках – глаза ее по-прежнему светились лаской и добротой.
У нее был жар, который уже не спадал, и это длилось всю осень. Сеня и Гитта отдали заботе о ней всю силу своей души и оставшуюся часть жизни провели потом в постоянных о ней воспоминаниях и рассказах.
На первой неделе ноября маму вызвали телефонным звонком. Папочка немного задержался, его послали купить лимоны для больной. Бабушка была в ясном сознании и весело разговаривала с дочерьми и сыном. Пульс уже не прощупывался. Она ждала прихода папы Бори, улыбнулась, когда он вошел, и попыталась приподняться ему навстречу, но не было сил. С улыбкой на лице она скончалась.
“Характер ее смерти, – писал папа в письме к сестре, – ее последние слова и прочее выдвинули и укрепили в последний момент то сходство, которое всегда было между ней и Женей, а долгодневные слезы последней, особенно в первые сутки, подхватили и еще усилили эту неуловимую связь. Она плакала, гладила и обнимала тело, оправляя под ним подушку и украдкой, сквозь слезы и между разговорами с посетителями, ее рисовала. Все это было бегло, изменчиво, по-детски – полно и непосредственно, все это было сплавлено в одно – смерть и горе, конец и продолженье, рок и заложенная возможность, все это было, по ускользающему благородству невыразимо словом”[204].
Некоторые черты тогдашних наблюдений, почти перекликаясь с написанным и посланным Жонечке, удивительным образом отразились в романе “Доктор Живаго” – в сцене плача Тони после смерти матери и размышлениях Юрия Андреевича.
Прося прощения за долгое молчание, мама так описывала свои переживания этого времени в письме к Ломоносовой:
С осени одно за другим следовали несчастья и неприятности, одно сменялось другим, жизнь пошла под уклон. Уже одно возвращение с знойного, светлого Кавказа в наше полутемное, мелочно-суетливое, душное жилье – чем-то грозило. Вскоре вызвали меня в Ленинград к сестре, заболевшей тифом; едва я вернулась в Москву, скончалась от уремии моя мама. Не расскажешь и вновь не переживешь. Еще на первой же неделе, когда я ежилась и забивалась под подушки и в углы, и одинаково страшной вставала жизнь и смерть, сошла с ума прислуга, бывшая няней у Женички. Трудность помещения в больницу, трехнедельное пребывание с ненормальной, отвращение и жалось к ней, диагноз: прогрессивный паралич на почве и т. д. Потом оказалось, что ее болезнь 20-летней давности и нас заразить она не могла, но мы об этом узнали, пережив несколько ужасных дней… Теперь понемногу отхожу, но найти себя очень трудно и настроение очень неровное, какая-то большая апатия, я ее называю “болезнью воли”, когда проще всего поддаваться инерции и уже не механическим, а требующим напряжения, кажется любой шаг, любое движение[205].
Мама долго не могла прийти в себя. Вернувшись после разговора со знаменитым тогда профессором Ю. В. Канабихом[206], она счистила с палитры засохшие краски и начала работать.
К весне она совсем сдала. Устройство на работу, которую ей предлагали после защиты диплома, пришлось отложить. Врачи отмечали крайнее истощение. Доктор Разумова настаивала на госпитализации и стационарном лечении. Папа достал маме путевку в один из лучших санаториев Крыма, и в последних числах апреля мамочка поехала в Гаспру, санаторий Комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). Мы с Борей на месяц остались вдвоем, получая в письмах засушенные цветы и листочки. Первое, написанное по дороге, пришло из Севастополя.
29 <апреля 1929. Севастополь>
7 часов утра.
Дорогие, подъезжаем к Севастополю. Ехала и спала удобно. Вчера весь день был проливной дождь и холод. Теперь ранняя, ранняя весна, одуванчики желтые, синие цветочки, пейзаж весь в дымке расцвета фруктовых деревьев.
Крепко всех целую.
Закрывайте все двери к Вионоре, берегите Женичку, пишите.
– Бац – попали в туннель.
Ваша Женя.
Я не помню нашей соседки, которую звали Вионорой и от которой надо было закрывать все двери, чтобы я не заразился. Вероятно, это была дочка Ивановых, которых папа когда-то пустил жить в ванную комнату. Но несмотря на все предосторожности, через некоторое время после маминого отъезда я все-таки заболел свинкой. От нее это тщательно скрывалось, чтобы не волновать и не мешать ее поправке.
30. IV.29. <Москва>
Дорогая Женюра!
Уверен, что и у тебя все так же неожиданно хорошо и легко, как тут у нас. Прежде всего Женичка на редкость мил, спокоен, примерно себя ведет, и если бы я его видел только таким, каким он себя показывает в эти дни, то никогда не стал бы бояться излишка эгоизма в нем и просто даже о такой черте не подозревал.
На другой день после твоего отъезда тут наступила весна, и все время стоит теплая погода. Ты уехала в субботу, а в воскресенье утром неожиданно в мою комнату вошла Олюшка Фрейденберг. Сегодня (вторник) она уезжает назад. Ее вызвали в Ком. академию, где вчера она с большим успехом читала доклад о своей работе (я присутствовал). Ее любовь к Женичке не ослабела, и он очень к ней льнет.
Разумеется я очень ей рад, но мне на эти два дня пришлось отказаться от работы и помимо сознанья, где-то внутренне (почти органически) это меня очень гложет. Пугает и то, что опять придется нагонять и наверстывать. Пользуясь ее присутствием (то есть отказом от экономии времени), я уж и не отваживаю деловых посетителей и пр., и у меня два дня совершенная ходынка.
Покамест из тех 400 руб., что я должен был бы достать на этой неделе (Страстной), я раздобыл лишь 100. Мне верится, что и тебе хорошо в Гаспре и что погода там хорошая.
Оля, разумеется, хотела (и хочет) тебе отсюда написать, тебе и за границу нашим, и Женичка во всем этом хочет участвовать, но не дожидаясь их и пользуясь тишиной, поскорее хочу тебя известить обо всех этих радостях. Пр. Петр. Оле очень нравится и нравится то, как она Женичкой руководит и как он ей отвечает.
Я пресерьезнейшим образом готов согласиться и еще сейчас готов (а о Женичкином желаньи и говорить нечего) с таким планом, Оля (может быть, с Шурой даже) везут его сегодня к тете Асе, а из Ленинграда привозят Ирина с Ритой, которые вчера туда уехали. Но Пр. Петровна наотрез запретила об этом даже заговаривать. Она вчера принесла весы, свесила Женичку и собирается нагнать ему столько же, сколько обязана прибавить и ты.
Дорогая мамочка!
К нам приехала из Ленинграда тетя Оля. Папочка спит не на том месте, а посередине комнаты. А тетя Оля на твоей кровати. Папа теперь стал подобрее оттого, что тут тетя Оля. Как тебе там живется. У нас есть подснежники, так что когда ты нам будешь посылать в письмах цветы, мы тебе в ответ будем тоже посылать цветочки подснежников. И в этом письме мы посылаем тебе подснежник (листок и цветок). Мамочка, знаешь что, – тетя Оля сегодня уезжает. Маня сегодня себе купила мыло, духи и пудру. У меня есть теперь уже не три человека, а четыре. Мы с папой писали это письмо, и в это время пришла как раз тетя Оля. Мама, мы купили на Арбате эти подснежники. У нас эта скрипучка-дверь, все мы забываем ее помазать и все она скрипит.
Твой милый дорогой Женичка.
До свидания целую тебя.
Дорогая Женичка!
Я была ужасно огорчена, что приехала на другой день после Вашего отъезда. Ужасно хотелось посидеть с Вами и около Вас. Вот Ваше предсказание не сбылось – и все-таки я в Москве. Я очень хотела увезти Дудлика[207] к нам, с тем, что Ина его привезла (она сейчас в Питере). Я совершенно очарована Дудлем и не представляла, что он таков, как есть. В письме этого не расскажешь, но он редкостный дорогой мальчоночка. Ужасно хотелось бы показать его маме – она так хотела бы видеть его! Привезите его как-нибудь к нам – ведь уж если я могла приехать в Москву, то Вам в Питер – пустяки! Ах, как глупо, что мы разминулись! Но почему-то верю, что мы еще увидимся – и скоро.
Поправляйтесь, приезжайте к нам! Мы Вас так ждали одно время. – Горячо, от всей души целую Вас.
Ваша Оля
Приезд в Москву Ольги Фрейденберг был подготовлен ее многомесячной перепиской с Комакадемией, в которой принимал участие также и папочка. Она написала книгу “Поэтика сюжета и жанра”, которую никак не могла напечатать. Изданию должен был способствовать ее доклад в Комакадемии в Москве, дата которого все время откладывалась.
Она приехала внезапно и хотела остановиться не у нас, а “поближе к месту, где будет читать доклад”. Но Комакадемия помещалась как раз в соседнем с нами доме, бывшем Голицынском дворце, который был виден из наших окон, выходивших во двор. Оля не понимала также, что в Москве ни комнату, ни номер в гостинице снять было совершенно невозможно, ей пришлось смирить свою гордость и остаться у нас. Она записала в своем дневнике:
“Боря не особенно был рад мне. У него болели зубы. Женя находилась в Крыму. В огромной дядиной казенной квартире Борю третировали коммунальные жильцы с их пятнадцатью примусами и вечно осаждаемой уборной. В ванной, передней и в коридоре жили. <…>
Вечером я читала доклад, и со мной пошел, вопреки моим просьбам, Боря, у которого болели зубы.
– Только поскорее кончай! – говорил он мне, совершенно не считаясь с тем, какое значенье имел для меня этот доклад, какое это было для меня большое событие, сколького я ждала и как радостно волновалась”.
Но он понимал зато другое – что затянувши доклад и вдаваясь в подробности, Ольга Михайловна могла испортить дело, – он слишком хорошо знал, что “красная профессура” не могла по существу оценить достоинства и глубину нового научного метода, который представляла ее работа, и боялся, что сложность изложения их только отпугнет. Но все прошло благополучно, доклад имел успех, и книгу включили в план изданий. Ольга Михайловна запомнила некоторые Борины замечания по существу доклада и записала:
“Боря, держась за щеку, мрачный, торопил меня. По дороге он сказал мне, что я не признаю в своей работе категории времени, и я удивилась его тонкости. Он еще что-то говорил мне верное, но не профессиональное, и я видела, что он прав, но слишком абсолютен, как человек, не знающий истории науки.
Ночевала я у него. Мы, как в детстве, лежали в одной и той же комнате и переговаривались со своих постелей. Было что-то от дядиной семьи, от тети, от родства нашей крови, и свежие простыни, запах пастернаковской квартиры создавали что-то хорошее в душе”[208].
В конверт с письмом маме вложена записка от тети Оли и от меня, написанная папой под мою диктовку. Я научился читать еще в начале зимы, но трудности этого занятия не давали мне возможности получать от него удовольствие, что очень огорчало папу. Он объяснял это тем, что мне слишком много читали вслух и он, и мама, и у меня не было никакого стимула начать читать самому. Формула подписи под письмом была отработана на аналогичных письмах к бабушке и дедушке – с использованием их ласковых обращений ко мне. Папа характеризовал ее возникновение в феврале 1929 года: “Замечательная манера расписываться, которая, кажется, останется у него на всю жизнь”. Ну, если не на всю жизнь, то в письмах к маме она повторялась еще довольно долго.
2. V.29. <Москва>
Дорогая Женичка!
Я не успел прибавить позавчера, что Женичка не только диктовал все самостоятельно, но я еле за ним поспевал, и Пр. Петровна была невольной свидетельницей моей безучастной молчаливости при всем этом. Но тебе, конечно, будет трудно поверить, потому что во всех остальных случаях он нуждался хотя бы в направляющих побужденьях, вроде того, “чтобы подумать, что у нас нового” и т. п., а тут все шло само собой.
– Если бы ты была незримо тут, ты бы осталась недовольна мною в отношении Оли, точно так же, как тебя оставляли неудовлетворенной мои разговоры с Маршаком. В обоих случаях я одинаково не виноват.
Не успела уехать Оля, как случилась новая неожиданность. Мне из гостиницы Савой звонила утром какая-то американка, подходила Пр. Петровна, и с ней говорил мужчина по-русски, он ее назвал, имя мне ничего не сказало, я решил, что это журналистка или литераторша. Вечером я с ней говорил и не разобрал ее первых слов, а затем пошел к ней, не показав в этой беседе особой приветливости. Оказалось, что это знакомые Раисы Николаевны[209] с письмом от нее, в котором она их нам рекомендует и просит ознакомить с Москвой и москвичами, упоминает вскользь о каких-то возможностях и планах американского общества друзей С. С. С. Р. – письмо в постоянном ее духе, то есть редкой сердечности. Кроме того она для тебя скопила 250 долл. (500 р.), и они мне эту сумму в долларах вручили. Разумеется я их не принял и просил отвезти их назад.
Это нисколько не понизит ни растроганности нашей, ни благодарности, но разумеется не так мы живем, чтобы быть вправе принимать такие подарки. Далее я стал говорить одной из рекомендованных дам чрезвычайно милой и достойной Mrs Kun[210], что эти деньги останутся не меньшим подарком и в том случае, если Р. Н., предварительно мне сообщив, кому или куда я бы мог заплатить от ее имени 500 р. русскими деньгами, согласилась потом, по уплате мною этих денег, внести 250 долл. на твой счет в Мюнхенский банк, куда я ей укажу. Но этой вещи, доступной у нас пониманью ребенка, я никак не мог растолковать взрослому человеку, выросшему и живущему в иных условьях, чем мы. Я так ей этого и не объяснил, и в этом нет ничего непоправимого, потому что все равно бы я обо всем этом написал Р. Н., да и напишу.
Но на эти толки ушло много времени, а у ней в соседнем номере, как вдруг оказалось, были гости, чего я раньше не знал; и когда она, извинившись, мне об этом сообщила, то вышло, что все свиданье мы проговорили о деньгах, что не только не входило в мои планы, но от чего я был по всему строю мыслей дальше всего. Если нам не удастся повидаться сегодня вечером (хотя мы уговорились, но я убежден, что она меня поняла как-то превратно, и вообще я ей не понравился, и я не верю, что встреча состоится) – это все в том ложном свете и останется, в каком, может быть, им предстало.
Ну что же делать. Все это было очень неожиданно; я не сразу разобрался в том, в чем именно они всемогущи и в чем беспомощны; чем им нужно помочь и куда направить их помощь. И они уезжают на днях и по-видимому никого и ничего не видали. И тут вся неловкость в том, что центр тяжести не в даре Р. Н., а в ее просьбе, я же сразу (да и как мог я иначе) с естественной благодарностью обратил внимание на первое, существа же последнего так и не успел понять за быстротой всего происшедшего.
Они много расспрашивали о тебе и о Женичке и даже о неприятностях с “nurse” (по-английски – няня), то есть о Фене. На днях я напишу тебе, повидался ли с ними еще раз, и тогда посоветую написать Р. Н-не. Дома же все по-прежнему в наилучшем порядке и Женичка очень мил, тих и ласков. И весел.
Крепко тебя целую.
Твой Б.
Не осуждай меня за решенье с долларами, они останутся за тобой и остаются деньгами от Р. Н. и в том случае, если я их тут уравняю соответствующим взносом.
Приезд Оли и следом за ней знакомой Ломоносовой – американской писательницы миссис Кон – отрывали папу от срочной работы над “Повестью”, затянувшееся окончание которой задерживало публикацию в “Новом мире”. По его просьбе ее передвигали из номера в номер. Это так же, как и неотступная зубная боль, сказалось на папиной встрече с американками.
Передавая маме свой разговор с миссис Кон, он упомянул о “неприятностях с няней”, о которой она была осведомлена через Раису Николаевну. Имеется в виду страшная история Фениной болезни, непосредственно последовавшей за смертью бабушки Александры Николаевны. Причиной напугавшего всех ее безумия оказались последствия перенесенного в юности сифилиса. Ее срочно поместили в психиатрическую больницу.
Папа объяснял Ломоносовой, что не смог поводить по Москве ее друзей и познакомить их со своими по причине неумения доставлять удовольствие кому бы то ни было. Он решительно отказался взять денежный подарок Раисы Николаевны, но просил позволения воспользоваться этим поводом, чтобы переслать соответствующую сумму в рублях в Ленинград ее подруге В. Е. Гар с тем, чтобы Ломоносова компенсировала их посылкой в Мюнхен. Папа уже знал этот адрес, по которому в прошлом году был совершен подобный обмен, когда ему надо было срочно помочь Марине Цветаевой. Двести рублей были посланы им в Ленинград 12 июня и через некоторое время еще какое-то количество. Таким образом он постепенно накапливал средства, чтобы поехать с нами за границу на следующий год по окончании работы над романом, первой частью которого должна была быть “Повесть”. Перевозить или пересылать деньги в Германию прямым путем было невозможно.
1 мая <1929. Кореиз>
Дорогие Женичка и Боря, Боже! как тут хорошо. Такое благородство и ясность, такая тонкость. Весна очень запоздала, мы ходим еще в пальто или теплых платьях, цветет миндаль и начинают цвести черешни. Как мне рассказать вам о пейзаже. Когда я вчера в 7 часов утра вышла на шоссе, то увидала, Боря, как ты бы разревелся. Это пейзаж до того неотделимый, до того глубокий, сросшийся с землей, морем, небом и людьми, в нем живущими, он без быта был бы такой же, как опустевший город. С Кавказом даже не хочется сравнивать (может, потому, что другое время года), потому что там существовала природа и где-то поодаль люди, а здесь все слилось. Горы покрыты круглыми большими камнями, которые как бы ползут и катятся все время сверху вниз, и из этих камней складываются стены домов, улицы, заборы, крохотные игрушечные дворики и все это полуразрушено, вделано в горы, как раковины и мох на скале, и все это или ползет вверх от тебя в гору, или, раскрывшись, как с аэроплана, расстилается внизу. А дальше с одной стороны отвесные громады Ай Петри со снегом в расщелинах, с другой – убегающие к морю склоны гор, покрытых парками, малюсенькими каменными улицами, вылезающими дворцами, красной землей виноградников, и потом море, сливающееся совсем с небом, весенним, мягким.
Дорогой мой котик, маленький мой сыночек, мамочка сидела сегодня на камушке под сосенками, кругом валялись всякие шишки и сучки и ей казалось, что Женёночек сейчас около нее засуетится, забегает, заговорит. Кисанька моя золотая, как ты живешь, как проводишь день, какая у вас погода. У нас сегодня солнышко, тоже ходят с песнями и флагами, только у людей лица от загара коричневые, как яички крашенные луком, и разноцветные платья тоже очень похожи на пасхальные яички. А это прочитай сам:
МАЛЕНЬКИЙ МОЙ СЫНОЧЕК, НАПИШИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЗДОРОВ. ПОСЫЛАЮ ТЕБЕ ТРАВКУ ЛАВАНДУ, ПОНЮХАЙ; МИНДАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧЕК, СЕМЕНА ТУИ И КИПАРИСА. КРЕПКО ВСЕХ ЦЕЛУЮ. МАМА ЖЕНЯ.
Милая Прасковья Петровна, Гаспра находится между Алупкой и Ялтой, рядом с Кореизом, внизу Мисхор, Ласточкино гнездо. Теперь Вы припомните, где это. Крым теперь такой, какого я никогда не знала, всегда Крым изображается синим небом и морем и бархатными зелеными горами, а теперь небо и море светлые, а горы еще не покрыты зеленью, скоро они будут белые и розовые от фруктовых деревьев.
Как у нас все дома? Я буду Вам очень благодарна, если Вы, помимо Бориса Леонидовича, будете мне присылать открыточки. Очень Вам благодарна, что отпустили меня сюда. Улежать только трудно, так и тянет куда-нибудь пойти.
Спасибо.
Евг<ения> Владим<ировна>.
Боричка, письмо, вероятно, из-за праздников будет долго идти. Прости за его беспорядочный вид. Крепко вас всех целую, привет Мане.
Женя.
Адрес: Крым. Кореиз. “Гаспра”. Дом отдыха ЦЕКУБУ. В Севастополе встретила в автомобиле Сокольниковых[211] и Катаева.
5. V.29. <Москва>
Дорогая Женичка!
С большим чувством прочел сегодня твое прекрасное описанье крымской весны. По-видимому это еще более походит на Италию, чем Кавказ, и воображаю, как это должно быть удивительно в своей тонкости и чистоте тона.
Поздравляю тебя с праздником. У нас окна настежь, перед окнами толпы гуляющих, Москва очень нарядна. Шура на два дня (чтобы освободить няню) перевез Федюка в Машков, и Ирина тоже из Ленинграда прямо туда поедет. Так что у нас редкая и необычайно наполняющая все кругом большим значеньем тишина. Это преображает и Женичку, который очень мил, сердечен и не по возрасту разумен. Конечно у него не хватило терпенья прочесть самому твои печатные (то есть по-печатному написанные) строки, и он уже был готов раскапризничаться в требованьи, чтобы это ему прочли вслух. Разумеется, я уступил ему, чтобы его не расстраивать. Растительная посылка привела его в шумный восторг, и он собирается выгнать целый тропический лес из присланного.
Вчера встретил Ольгу Александровну, она расспрашивала о Женичке и, между прочим, узнав, что я собираюсь сводить его на Синюю Птицу, нашла, что этого не следует делать и напомнила мне, что там представлена “Тьма” (кот туда водит, – предатель, – детей – помнишь?) и там души неродившиеся и пр. И действительно, вспомнив все это и сопоставив с Женичкиной склонностью к страхам (дурных снов боится) – я порадовался тому, что до сих пор не открыл ему, куда его собираемся повести. Возможно, что я это отменю, завтра видно будет, – без тебя оно даже еще как-то деликатнее, и я не хотел бы рисковать его детским душевным покоем.
6. V.29
Вчера я прервал это письмо, потому что пришел прощаться Борис Ильич. Он едет один, Евг<ения> Бор<исовна> и Элик тут остаются. Он похудел против того, каким мы его видели зимой, и намекнув ему об этом, я узнал от него, что у него были неприятности с Алексей Николаевичем, и они даже в ссоре, что для него, разумеется, событье не малое и очень гнетущее. Эти огорченья и являются причиной его отъезда на полугодовой срок, причем поездка не деловая, а частная и со значеньем долговременного отпуска для успокоенья и поправки. Между прочим и он, когда я ему напомнил содержанье Метерлинковой сказки, поддержал меня в нежеланьи пробовать ее эффекты (Ночь, Страхи, – ведь все это – действующие лица или олицетворенья там!) на Женичке.
Теперь я пишу в самый момент, когда мы должны были бы быть в театре, а Женичка, ничего об этом не ведая, гуляет с Прасковьей Петровной. Она замечательный все-таки человек большой душевной тонкости и доброты. Их с Женичкой теперь водой не разольешь. И Оле она очень понравилась.
ДАРАГАЯ МАМОЧКА СПАСИБА ЗА ЧУДНЫЕ ЦВИТОЧКИ ЦЫЛУЮ ТИБЯ.
Папа поздравлял маму с Пасхой, которая в этом году праздновалась очень поздно. Мы с папой и Пашеттой[212] красили пасхальные яйца и растили для них овес. Активная антирелигиозная пропаганда, особенно ужесточившаяся в те годы, прибавляла прекрасному празднику таинственную неназываемость.
Отец сообщал маме также об отъезде Б. И. Збарского, который недавно привез себе из Берлина жену Евгению Борисовну Перельман, подругу Лиды Пастернак. Теперь она оставалась с сыном Збарского от первого брака Ильей (Эликом) в Москве, а он сам, уйдя с работы после ссоры со своим учителем и директором института академиком А. Н. Бахом[213], уезжал отдыхать в Германию.
4 мая <1929. Кореиз>
Дорогие, поздравляю с праздником. Женёночек дорогой, сколько у тебя крашеных яичек и какие, большой ли вырос овес и вырос ли овес у Прасковьи Петровны. Спасибо, Котик мой, за подснежник и за письмецо. Ты почаще пиши мне. Кисанька моя, а в чем ты уже на улицу ходишь, в синем пальто с якорем? В красненьком берете? Поздравь, гуленочек, всех и поцелуй от мамы с праздником: папу, Прасковью Петровну, тетю Ину, Фединьку, дядю Шуру, Маню и всех всех в доме. Ты напишешь мне, сыночек, был ли ты в театре и что видел? Если папочка занят, проси Прасковью Петровну написать. А мамочка – инвалид, у нее живот болит. И еще мамочка здесь очень разленилась, ей даже лень письма писать и книжку читать. Крепко-крепко моего дорогого, золотого мальчика целую. Папочка и тетя Оля мне писали, что ты без меня ну просто совсем умница. Если ты рисуешь, можешь мне прислать рисуночки.
Твоя мама.
Спасибо, Боря, за письмо, я ему была страшно рада, прямо прыгала от восторга, потому что мне неловко было, что тут так хорошо, а у вас нет. Оле, если будешь писать, кланяйся и поблагодари, вряд ли я соберусь им написать. Мне очень приятно, что она побывала у нас и посмотрела на твое житье-бытье. Сегодня ходила к морю и чуть-чуть полежала на солнышке, погода жаркая, обгораешь в миг.
Хапалов, завед<ующий> Д<омом> от<дыха> Цекубу, говорил, что сюда приедет Вячеслав Павлович, что дали телеграмму о том, что освободилось место.
Шлю цветок граната (кажется, не уверена), – голый куст, усыпанный оранжево-розовыми цветами.
Привет всем. Целую.
Женя.
8. V.<1929. Москва>
Дорогая Женичка! Все восхищены твоим письмом и благодарят тебя за поздравленья с праздником. На дворе жара, совершенное лето. Наши письма, касающиеся приблизительно одной и той же вещи, разминулись. Только я опустил свое, где пишу о своем нежеланьи вести Женичку на Синюю Птицу, как пришло твое со вложенным цветком граната, где ты спрашиваешь о том же. Дальше пишу под Женину диктовку.
Овес у меня вырос большой, а потом завял. Мы его остригли, я с ним играл. А у Прасковьи Петровны совсем не вырос. У меня шесть крашеных яичек, и они наполняют целую вазу.
Дорогая мамочка. Спасибо за гранатовый цветок. Дорогая мамочка. А что ты пришлешь после гранатового цветка? Тетя Ина привезла мне из Ленинграда живых мышек, и их очень трудно загонять в хлевик, они туда не хочут. Дорогая мамочка, целую тебя, твой милый дорогой Женичка.
P. S. Насчет “живых” мышек, разумеется вранье: игрушка.
10. V.29. <Москва>
Дорогая Женюра! Сейчас отправляюсь к В<ячеславу> П<авловичу>, передам ему немного денег для тебя (50 р.), прости, что так немного, если еще нужно будет, напишешь, дошлю. Кого ни увижу, все в один голос: “а мы жену Вашу видели”, Катаев, Регинин, еще не помню кто. В доме без перемен, все благополучно, жара и страшная уже, надо заметить, пыль, хотя так ли давно сошел снег? Все время очень занят, спешу урвать день какой-нибудь, чтобы позаботиться о коврах и шубах. Все тебе кланяются и целуют. Набирайся сил и радуйся, что дома все так отлично. Обнимаю тебя. Привет Аристовой[214].
Б.
6 мая <1929. Кореиз>
Боричка!
Сегодня получила твое письмо об американках и деньгах. Мне очень жаль, что меня не было в Москве, чтоб помочь им походить по Москве (но, вероятно, у них нашлись знакомые), чтобы исполнить просьбу Р<аисы> Н<иколаевны>. Что касается денег, то я вполне с тобой согласна, что ничем на заслужила подарков и это бы затруднило дальнейшие отношения с Раисой Николаевной и ничуть тебя не ругаю за отказ и совершенно не к чему мне их возвращать. Сегодня я как раз отправила Раисе Николаевне открыточку о своем пребывании в Гаспре, а письмо напишу, получив дальнейшие сообщения от тебя и о ее друзьях.
Боричка, получил ли ты уже фотографии. Если да, то пришли мне одну большую грустную головку, а другую – во весь рост – из тех, что три. Я бы очень хотела их сама послать в Берлин и Мюнхен (то есть не те, что я прошу, а другие). Но если тебе не терпится, то пошли от моего имени бабушке во весь рост, а Жоне – грустную головку, Лиде – сидячую с опущенной головкой, пошли через Берлин, так, чтобы папа и мама их все видели и припиши, как ты меня за них ругал. Кстати напиши, как они тебе все понравились.
По приезде в Гаспру я весила безобразно мало – 3 пуда 8 с четвертью фунта, приложу все усилия, чтобы поправиться. Я Бог знает что наделала себе с желудком, решившись только на 5-ые сутки обратиться к фельдшерице. Теперь лучше.
Пока всего хорошего.
Женя
Женёночек здравствуй, золотко. Сегодня у нас в Гаспре сильный ветер, как в Геленджике, солнышко, а холодно. Я сорвала для тебя веточку кипариса, на ней круглые шарики с семенами. Крепко тебя целую. Поцелуй Прасковью Петровну и кланяйся ей от меня. Крепко любящая тебя мама Женя.
Привет всем.
Раиса Николаевна Ломоносова писала маме в ответ, радуясь, что ей удалось вырваться из ужасов московской жизни:
“Грейтесь, отдыхайте и старайтесь забыть. Жизнь коротка и полна горя и нужды; надо иметь силы забыть прошлое, жить настоящим и мечтать о будущем. Не тоскуйте, родная. Мне кажется, у вас так много хорошего, особенно настоящая дружба с Борисом Леонидовичем, а это редкий дар в супружеской жизни. Сколько так называемых счастливых браков, где любовь зиждется на ревности, страхе потери и… полном недоверии”[215].
Тетя Ина как-то нашла поблизости хорошее фотоателье, где хотела заказать фотографии Феди. Папа очень не любил профессиональных фотографов за фальшивые и прикрашенные ретушью лица на их снимках. Мама, огорчаясь отсутствием моих фотографий, которые все время просили бабушка и дедушка, все-таки пошла со мной, Ириной и Федей, и была сделана серия карточек нас двоих – порознь и вместе.
12. V.29. <Москва>
Дорогая Женичка!
Женёночек так свыкся с твоим отсутствием, что утерял опять достоинства, временно в нем вызванные к существованью новизной разлуки. И этого лентяя не легче заставить писать письмо тебе, чем бабушке. Он страшно был рад проф. Зеленке с подношеньями от тебя, и действительно, цветы пришли в прекрасном виде и рахат-локум превосходен. Никаких фотографий пока нет, и никуда я их без тебя посылать не буду. Как, кстати, имя и отчество Аристовой? Я ей поклонился в одной открытке к тебе, и неудобно было, что без отчества. Может быть, Вячеслав Павлович и не поедет в Гаспру, потому что для Киры Ал<ександровны> не оказалось места.
Сегодня у меня сняли и выколотили ковры, может быть сегодня же и уложу их, – воскресенье, и у меня нет нафталина, но думаю, в аптеке найду. Я был еще раз у американцев и кажется тебе об этом писал. Их несколько человек, 3 или 4 четы, все очень милые, все путешествуют без деловой цели, для собственного удовольствия, провел у них час за чаем. Р<аисе> Н<иколаевне> еще не писал.
Получил из-за границы Антологию русской прозы, с 10-ю страничками из Enfance de Luvers, а совсем недавно и книжку о русской литературе, начиная с первых символистов до наших дней, книжку, местами очень неплохую, но в то же время в целом и очень спорную и с недопустимыми пробелами. Так, там даже однажды вскользь, при перечисленьи нескольких имен, упомянут Бобров – и совершенно обойден молчаньем Ник. Асеев, точно его и не бывало. Переводы же в прозаической антологии – превосходные. Автор той и другой книги – Вл. Познер[216] – помнишь тот, что балладу читал, где “идут и идут, и идут”. Но как это его с Асеевым угораздило – не понимаю. И – (говорю, разумеется, с совершенно другими чувствами) – не назван также Демьян Бедный, что тоже странно. Слабее всех последняя часть “Aujourd’hui” – тут его осведомленность кончается 22-м годом и дальше пополнялась, вероятно, слабо и случайно.
Если В<ячеслав> П<авлович> не поедет, то деньги вышлю по почте.
Здесь была твоя кузина Фирочка, и я как раз в это время мылся в ванне и не мог ее принять, то есть пришлось ее промаять минут 15–20. Она очень тебе кланяется. Здесь уже с неделю совершенное лето, и сегодня была первая гроза. Я регулярно по-прежнему не досыпаю и с такой же правильностью вывихиваю себе чуть ли не ежедневно большой палец левой руки. Все еще не могу оставить работы, хотя занят ею уже не с той тревогой, как раньше, то есть думаю, ближайший месяц денежно будет обеспечен. На наши облигации никакого выигрыша не пало.
Крепко обнимаю тебя.
Твой Боря.
Дорогая мамочка. Спасибо за цветочки и за конфеты рахат-лукум, и за розу, и за попрыгунью-обезьяну. Нам два дня не привозили молока, и так что на третий день я ел простоквашу покупную. Папа спит около меня совсем близко. Мы целый день гуляем. Сегодня мы хотим взвешиваться. У нас не то, что у вас солнышко, а холодно, – а у нас – солнышко и жарко, и на улицах жарче, чем в комнате. Дорогая мамочка, целую тебя, твой милый дорогой Женичка.
В последних числах апреля папа получил от Владимира Познера составленную и переведенную им на французский “Anthologie de la prose russe contemporaine”, недавно изданную в Париже. Теперь Познер прислал ему свою книгу “Panorama des litteratures contemporaines. Litterature russe”. Отец напоминал маме о их знакомстве с Познером в Берлине ранней весной 1923 года в кафе Prager Diele, где тот читал свои стихи. Благодаря его за книгу, отец в письме к нему от 13 мая 1929 года подробно разобрал ее недостатки, ставящие автора в ложное положение. Ему казалось, что, уехав из России в 1922 году, Познер не пополнил “своей осведомленности”, ставшей с того времени “очень недостаточной”.
Развивая высказанные маме мельком соображения о спорности его оценок, отец писал Познеру: “Здесь надо было позабыть кучу имен, Вами удержанных в памяти, и во всяком случае, посвятив две страницы Л. Лунцу, назвав Боброва, Эльзу Триоле и пр. и пр., немыслимо было обходить совершенным молчаньем Ник. Асеева, равно как и странно было, при Родовых, Машировых и пр., забыть о существованьи Демьяна Бедного”[217].
В моем письме признание, что папа спит совсем близко от меня, указывает на ночные кошмары, мучившие меня в детстве, от которых я просыпался с криком. Папочка тогда ставил свою кровать рядом с моей и меня успокаивал. Этим, конечно, объяснялись его недосыпания, на что он жалуется маме, и именно в них была основная причина, почему он не решился повести меня в МХТ на “Синюю птицу”, как просила мама, а послушался советов друзей.
17 мая 29. <Москва>
Дорогая Женюра!
Только что подали твою глицинию, но Женичка уже спит, передам ему завтра по пробужденьи. Что же нам не пишешь, собака. Не пиши, не пиши, бог с тобой, только набирайся здоровья. Мы Женичке стали делать по утрам холодные обтиранья (стоялой с вечера водой) и спим с ним при открытом окне. Он ликует, предвкушая, как тебя напугает этими впервые допущенными задатками будущего мужества. Только надо заметить, что жара тут адская, и только разве сами окна помнят, открыты ли они или нет, нам же и не почувствовать.
Вяч<еслав> Пав<лович> задерживается и очень спорно, поедет ли он в Гаспру вообще или нет. Тем временем, прости, пришлось прожить твои деньги. Но не печалься. Во вторник (21-го) постараюсь обязательно достать, и у тебя еще будет довольно времени их получить.
Приходила Феня, получив отпуск на одни сутки из больницы. Ей мечталось и переночевать, – дом отказал ей в этом. Я позвонил Сене, не насилуя его, просто сказал, что хотела бы и с ними повидаться, он, не колеблясь, предложил привезти ее и на другой день заехать для отвоза в больницу. Разъезжала с ней Маня.
От наших с самого твоего отъезда ни звука. Если и завтра ничего не получу, запрошу.
Был у Мейерхольдов. Так это получилось. В 7 часов позвонил он с настойчиво-проникновенной просьбой придти к ним тотчас же и выслушать какое-то 14-летнее дарованье. Просил так, что я не нашелся, как отказать. Но через минуту очухался (перед тем я только-только от нафталина и шуб расселся работать), и позвонил ему, что не приду, и что у него есть способность просить по-женски. Но он пристал с удесятеренным жаром, сказав, что на коленях у телефона стоит, и все в таком роде. Шел страшно рассерженный с намереньем открыто это показать. Но у них оказалась изумительная квартира и несколько человек гостей, между прочим, Полонские, мальчик же оказался действительно феноменально одаренным: Блоковско-Есенинский напев изливался неисчерпаемыми, не скоро кончающимися волнами, – но в таком возрасте традиция всегда заслоняет лицо и даже его как-то искать неуместно. Все постепенно разошлись, оба проводили меня на Волхонку. Говорили между прочим, что “Клоп” матерьяльно поднял театр, полные всю зиму сборы, чего раньше никогда не бывало.
Прозы все еще не сдал, что задерживает и деньги. Учащаются случаи глупости при общей изолгавшейся атмосфере. Все чаще и чаще, того не зная, попадаешь в мучительно ложные положенья, не имея власти о том сказать.
Обнимаю тебя.
Твой Б.
Привет Анне Ивановне. Говорят, ты с ней в одной комнате.
Тревожась отсутствием известий из Берлина, папа позвонил по телефону Евгении Борисовне Збарской, и та успокоила его, передав, что, по словам Бориса Ильича, который недавно виделся с Леонидом Осиповичем, там все в порядке. В открытке, написанной вскоре в Берлин, отец шутил: “Дорогие мои, соразмерив срок, что о вас ни слуху ни духу, было встревожился, но вдруг вспомнил, что у вас Борис Ильич, и все сообразил. Он из Москвы, он у вас сидит и с вами разговаривает, и вам должно казаться, что ваш разговор до нас доходит”[218].
Рассказывая о встрече у Мейерхольда с “молодым дарованием”, папа имеет в виду Евгения Долматовского, который вспоминал потом в своей книге, как Пастернак защищал его от нападок Маяковского, пришедшего тогда в Брюсовский переулок. Эта сцена, настойчивое приглашение Мейерхольда и его трогательные проводы домой дают понятие об установившихся между ними добрых отношениях. Критические нападки на театр прошлого года, которые папа хотел смягчить своим стихотворением в поддержку Мейерхольда[219], кончились с постановкой “Клопа”, состоявшейся 13 февраля 1929 года.
В мамино отсутствие отец взволнованно и торопливо дописывал прозаическую “Повесть”, которую считал первой частью предполагаемого романа. Он сдал ее в “Новый мир” 30 мая, за день до того прочтя ее с большим успехом в кругу молодых прозаиков, собиравшихся у Бориса Пильняка. Среди слушавших был Андрей Платонов.
Упоминаемые в конце письма “случаи глупости и неловкости” относятся, в частности, к “Улленшпигелевской” истории с Осипом Мандельштамом, которого Д. О. Заславский обвинял (в фельетоне, заказанном “Литературной газетой”) в плагиате и присвоении чужого перевода. В защиту Мандельштама выступила группа писателей, в числе которых был и отец. Потом это дело рассматривалось в писательском суде, результаты которого не удовлетворили Мандельштама – тот требовал полного оправдания. Заславский нападал на него с еще большей яростью, и отмеченная отцом “глупость и неловкость” получала все большее развитие.
21 мая <1929. Кореиз>
Спасибо, Гуль, за “Собаку”. Вчера ездили на моторной лодке в Гурзуф и Суук-Су. Полтора часа езды по морю. Очень жаль расставаться с Крымом. От нас море далеко, полверсты подъема в гору, но когда попадаешь на берег, не хочется уходить. Завтра уже надо покупать билет. Сняла ли Ирина уже дачу? У меня была надежда, что, если будет жарко, Ирина приютит на недельку Женичку с Пр<асковьей> Петр<овной>. Крепко сыночка поцелуй.
Киска моя дорогая, вот я уже скоро и приеду. Если тебе лень мне писать, можешь и не писать, я не обижаюсь. Я тебя крепко люблю и собираю тебе камушки, когда попадаю к морю. Кланяйся и целуй Прасковью Петровну и передай Мане спасибо за то, что она ездила с Феней. Крепко тебя целую. Твоя мама.
Боричка, если можно, не откладывай с отправкой денег, потому что у меня есть 13 руб., и я их завтра должна дать на билет, а на автомобиль, прислуге и т. д. у меня не будет. 50 рублей, конечно, хватит, больше мне не нужно.
Живу я действительно с Анной Ивановной и еще двумя, то есть нас четверо в комнате. А кто тебе сказал. Она много видела и много знает, а Крым весь прошла пешком, когда еще была в Школе живописи. Но думаю, что она далеко не счастливый человек и сдержанно нервна и самолюбива. Вообще же у меня со всеми хорошие отношения. Люди здесь, еще гораздо больше, чем в Геленджике (потому что на всем готовом), живут в межпланетном пространстве, все радуются отдыху, солнцу, морю и хранят для Москвы свои худшие стороны, а здесь все прямо ангелы (вроде меня).
Крепко тебя и Женичку целую.
Женя.
<21 мая 1929. Москва>
<Почтовый перевод на 50 рублей>.
Дорогая Женюра!
Посылаю, что могу, если будет мало, телеграфируй. Доживай с пользой и без забот оставшуюся неделю. Нельзя сказать, чтобы баловала ты нас письмами, но я не сержусь, и если тому нет более серьезной причины, то и слава богу. Обнимаю тебя. Твой Б.
<23 мая 1929. Москва>
Дорогая Женюра! Хотя ты о нас забыла и даже есть основанье о тебе беспокоиться, что я и делаю в редкие свободные минуты, но надо подумать и о тебе, то есть о том, чтобы выехала ты в полной осведомленности о нас и не волновалась дорогой. Все идет как по маслу. Женёк очень загорел, вчера в Ленинград уехал твой папа, у наших за границей все тоже в полном порядке. И так как конец месяца недалеко, то смотри на эту открытку как на последнюю, единственное назначение которой пожелать тебе счастливой дороги и сказать, что мы тебя ждем с любовью и большим интересом. Привет А<нне> И<вановне>. Твой Б.
23 мая <1929. Москва>
Билет заказала на 30-ое. Значит, дома буду 1-го утром. Немного беспокоюсь, что вы Женичку закаляете, спроси у Баландера, как это нужно делать, потому что ты можешь ему сердечко испортить. Еще мне неприятно, что вы в такую жару в городе.
Крепко целую тебя и моего золотого котика.
Женя.
25 мая <1929. Москва>
Спасибо, Боричка, за деньги. Как писала, вполне достаточно. Выезжаю 30-го. Крепко вас всех целую. Мне здесь очень хорошо, но все-таки грустно, может быть, потому что погода пасмурная, все покрыто облаками и туманом.
Очень крепко целую тебя и Женичку.
Ваша Женя.
Я была в Крыму, – писала мама Ломоносовой, вернувшись домой, – когда здесь были Ваши друзья и узнала все только потом. Я счастлива дважды, во-первых, что мне был от Вас подарок, во-вторых, что он уехал к Вам обратно, это облегчает мне мое отношение к Вам. Я была в Крыму одна без Женички. Женичка оставался с папой. Поправилась и отдохнула, а главное, успокоилась. Я жила там на всем готовом среди не знающих меня людей, связанная с ними только на время, забыв, что есть семья, мысли, Москва, время, порою чувствуя себя бродягой. Такой же я и вернулась и этим заразила и дом дня на два. А потом Москва опять стала одолевать. Главное же, что теперь Борису Леонидовичу предстоит операция, у него образовалось нагноение в нижней челюсти. Вероятно в начале будущей недели будут оперировать. Если все благополучно обойдется, мы к 1-му переедем в деревню, в 5 верстах от Можайска[220].
В мамино отсутствие я болел свинкой. Папа много со мной тогда возился. Когда я выздоровел, он стал приучать меня к утренним обтираниям прохладной водой, надеясь также уменьшить мою нервную впечатлительность и ночные страхи. Он много читал мне вслух, когда я болел, но его попытки заставить меня читать самого не удавались. Вероятно, это было время самой большей нашей с ним близости. Папа пришел к выводу, что пора заняться моим воспитанием, учить языкам и оградить по возможности от влияния соседей, к которым я убегал всякий раз, когда дома становилось скучно.
Я плохо помню обсуждения родителей, с какого языка начинать мое образование и где найти учительницу. Решили, что надо с французского, так как он улучшает произношение на других языках, в то время как начальный немецкий дает акцент во французском и английском. Папочка с кем-то разговаривал, и вот вскоре после маминого приезда мы втроем пошли вверх по Пречистенке мимо ЦЕКУБУ, где когда-то столовались родители, в Мертвый переулок. Я тогда и много позже ничего не знал ни о доме М. К. Морозовой[221], ни о прошлом окружавших нас домов, в части которых были посольства, а в части – коммунальные обиталища людей нашего круга, вместившего осколки прежнего общества с самым разным прошлым и, по виду, почти одинаковым настоящим. Однако – только по виду. Все еще было разнолико и колоритно и до нынешней обезличенности – далеко. Но ничто не выставлялось и не объявлялось в этих переуплотненных гнездах.
Длинный коридор был уставлен шкапами, двери в комнаты при этом становились темными нишами. Слева посередине коридора была стеклянная дверь в большую кухню, а в конце – узкая дверь в клозет. Комнаты шли по правой стороне и самая дальняя, к которой вел небольшой отросток коридора вправо за клозетной дверью, была комната Елизаветы Михайловны и Ипполита Васильевича Стеценко. Ее надвое перегораживала ширма. В передней части стояли большой овальный стол и диван. Тут была столовая, давались уроки. Ночью диван служил постелью Ипполиту Васильевичу. Днем он работал главным бухгалтером крупного химического завода, по выходным дням (тогда была пятидневка) ездил на бега, гулял, ходил в гости.
В квартире жило много народу. Телефон был около кухни и к нему все время кого-то в полный голос вызывали жильцы. Когда мы пришли, то именно так ко входной двери позвали Елизавету Михайловну. Ей тогда было 60 лет. Поседевшие волосы были собраны в пучок, подтянутый к макушке – получалась серебристая коронка. Черные брови и светлые зеленоватые глаза. Длинное, на высокий стоячий воротничок и плотные манжеты застегнутое платье в талию. Никакой мрачности – открытость и отзывчивость. Она провела нас в свою комнату, где я тут же объявил, что за ширмой у нее, наверное, кровать. Там были и умывальник, и керосинка, и много еще того, что заполняло комнаты, чтобы не бегать все время по переполненным местам общего пользования. Газ в этом доме еще не был проведен.
Мне очень захотелось учиться у Елизаветы Михайловны. Она необъяснимо привлекала к себе и внушала желание слушаться и слушать. Не помню, как первоначально договорились об уроках, но скоро она стала приходить к нам на Волхонку, гулять со мной и заниматься моим воспитанием. Я называл ее Пусенькой, вероятно, в ответ на то, что она меня ласково назвала “Пузырем”. Это имя привилось, и папа часто употреблял его в письмах ко мне. Французский оставался на уровне льезонов, грассирования, разговора и чтения. Грамматику и письмо я усваивал плохо. А душевная близость у нас создалась, как мне представляется, исключительная. Вероятно, с тех пор я привык к взаимопониманию и чистоте отношения, к тому, что говорят то, что думают, и преданность неотделима от благородства. Боря шутя называл это привитым мне аристократизмом.
Для Елизаветы Михайловны при ее сдержанности и подлинном аристократизме, наша семья стала прибежищем в чужом для нее мире, а я, как она иногда говорила, выходом в ее неизлечимом горе по убитому в Восточно-Прусской операции сыну Георгию. Во всех своих скитаниях она сохранила два больших настенных фотографических портрета – матери в молодости (она рано умерла от рака) и сына мальчиком. Георгиевский крест и лента, заложенная в походном Евангелии, были памятью о гибели сына. Фотографию корнета конногренадерского полка Георгия Дмитриевича Лопухина я увидел значительно позже.
История ее жизни открывалась мне медленно и в постоянном опасении, что она станет известна кому-нибудь еще, кроме меня. Когда уже в Степановском в 1935 году я узнал достаточно, чтобы не выдержать и начать возмущенный разговор об ответственности за гибель и разорение России и о том, на что она могла рассчитывать в своем будущем развитии как одна из богатейших европейских стран, о необходимости борьбы с царящим злом, она сурово мне выговорила и объяснила, что по канону благородства надо быть лояльным к власти. Разговоры были долги и настоятельны, в них участвовал Ипполит Васильевич.
Много лет спустя, в середине шестидесятых годов, он, совершенно ослепший, позвал меня и рассказал, что это наставление, данное мне тогда и в честных пределах мною выполненное, мучило Елизавету Михайловну всю жизнь как тяжкий грех, и она до конца вспоминала об этой, как она говорила, взваленной на меня непосильной тяжести.
Наверное, не столько этот разговор, сколько вменявшийся всем пионерско-школьный уклад, определил мой образ жизни и укоренившуюся в нем несопротивляемость, но исходившее от Елизаветы Михайловны требование терпеть было очень сильным символическим моментом. Вообще – жесткий повод нравственности у нашего поколения был одной из причин его закрепощения и гибели.
Но тогда, в первые ее годы пребывания у нас, еще никаких разговоров не было. Папочка кое-что знал о ней, возможно, от тех знакомых, которые ему ее рекомендовали, и писал бабушке и дедушке о моих первых успехах во французском: “У него сейчас, в качестве француженки, воспитательница 60-летняя умная, ироническая дама очень высокого происхожденья, из рода, семейно связанного с Лермонтовым”[222].
Она была дочерью крымского хана Менгли-Гирея, владельца Минеральных Вод на Кавказе, и рассказывала папе семейные предания о пребывании там Лермонтова. Вероятно, было родство с Шан-Гиреями, кузенами Лермонтова. Воспитывалась и росла в Петербурге, была взята фрейлиною во дворец и выдана замуж за князя Дмитрия Александровича Лопухина, нашедшего смерть на войне вскоре после гибели сына.
Но это, как и многое другое из жизни этой удивительной женщины, мне стало известно только через много лет. А тогда одной из целей наших занятий было убрать меня на большую часть дня с Волхонки. Поэтому мы уходили после завтрака и приходили обедать, а, может быть, во второй половине дня устраивались у нее в Мертвом переулке.
У папы было тяжелейшее воспаление десен, профессор Шапиро устроил ему рентген и обнаружил кисту, которая почти полностью разрушила большую часть челюстной кости. Необходима была операция по ее удалению, уточнялись сроки и обстоятельства.
Операция состоялась в первых числах июля, через неделю папа описывал тете Оле мучительные подробности.
Операция, рассчитанная на 20 минут, длилась полтора часа, и я за нею терял сознанье, потому что местная анастезия не удалась, в костной дыре нечему было анастезироваться, а общую побоялись делать, чтобы не перерезать центрального лицевого нерва; а тут, когда извлекая кисту, зацепляли за него, или не видя его под кровью, проводили вдоль по нему ватой, я кричал, конечно, и сигнализировал им фактом обморока. А Женя, бедная, за дверью стояла, и к ней бегали и без успеха пробовали увести. Но теперь, слава Богу, все это уже за плечами, и только думается еще временами: ведь это были врачи, старавшиеся насколько можно, не причинять боли; что же тогда выносили люди на пытках? И как хорошо, что наше воображенье притуплено и не обо всем имеет живое представленье![223]
Для успокоения родителям была послана фотография, сделанная через несколько дней после операции. Но она произвела сильное впечатление:
Как ты в письмах своих ни старался как будто умалить – задевая лишь вскользь “хирургическую тему”, но достаточно взглянуть на твою присланную фотографию, чтобы увидеть, каким страданиям подвергался ты за эту болезнь!.. Ужасный вид у тебя… и нельзя смотреть на нее без того, чтобы не сопровождать причитаниями: “Бедный, бедный Боря!! Что это с ним приключилось – что за напасть такая!!.” Как ни грустно смотреть на твою фотографию, но… но как это ни смешно покажется – утешаешься (если верно, что снят ты на пятый день после операции?), что при самом внимательном рассмотрении – не видно “швов” или каких-либо пластических изменений[224]…
Осенью, уже вернувшись в Москву, мама подробно описывала эти переживания.
Это лето было для меня не многим легче, чем прошлая зима. Это в связи с Бориной операцией. Слава Богу, это все позади, и Боря поправился и хорошо выглядит. Но до сих пор ежишься, когда вспоминаешь эти полтора часа Бориных диких страданий без наркоза, возвращение домой тут же с температурой и первые дни беспомощности и ужаса, когда мы боялись друг другу смотреть в глаза, чтоб не разреветься, Боре нельзя было даже плакать, могла открыться рана.
Лето мы проводили на даче Дмитрия Петровича Кончаловского[225] в Огневском овраге под Можайском, с мамой и Елизаветой Михайловной мы выехали туда 8 июля, когда папе стало легче и пошел процесс заживления.
Это был большой деревянный дом, стоявший на обрывистом склоне леса над заливными лугами, тянувшимися вдоль Москвы-реки. При доме были службы, держали корову, лошадь, множество птицы. Сын Дмитрия Петровича Иван ездил на охоту, у него были собаки и ружья, завораживавшие мое воображенье. Через глубокий овраг у дома переходили по сваленной ели. Помню, как я этого страшно боялся. Был, конечно, и другой, более длинный путь.
Жена хозяина Зинаида Ивановна Иловайская[226] держала род пансиона. Все собирались в столовой на первом этаже. Нас поселили в мансарде. Скорее это был обширный жилой чердак, кровати стояли вдоль стен, где низко спускалась крыша, и когда я вставал на постели, то больно стукался головой.
Приехав туда с нами, мама тяжело заболела чем-то желудочным, с высокой температурой. Она хотела сразу вернуться к папе в Москву, но не смогла.
Папа после операции начал переводить “Реквием” Рильке, посвященный кончине подруги его жены Пауле Модерзон. Это было частью его долга памяти Рильке. В нем говорится о рано умершей художнице, в образе которой отчетливо видны черты сходства с мамочкой. Мама очень любила этот “Реквием” и подарила немецкую книжку своей подруге по санаторию в Шварцвальде в 1931 году, ей тогда казалось, что он просто написан по ней самой.
Действительно, мужем Паулы Модерзон-Бекер был молодой известный поэт, и в стихотворении говорится о мучительной трудности душевного союза двух талантливых художников, равно нуждающихся и в творческом одиночестве, и в сердечной близости. Рильке особенно подчеркивает трагическую двойственность такого замужества в женской судьбе.
Папа хотел закончить работу до отъезда на дачу и чередовал ее с хождением на перевязки. У него было осложнение – он стал рассматривать десну сразу после снятия шва и от натяжения рана вскрылась вновь.
Четверг. <11 июля 1929. Москва>
Дорогая Женичка!
Прости, что не писал до сих пор, каждый день собирался. Чувствую себя хорошо, все в наилучшем порядке, во вторник вечером жду тебя, если тебе уже будет можно.
Третьего дня ходил по делам. В обоих местах в секретарьяте дамы одна другой милее[227]. Вскакивают, машут руками, молчите, дескать, знаем, дело сделается без вас. Все идет как по маслу, и невольно осматриваюсь, нет ли на стенах нового плаката: дорогу беззубым.
До нынешнего дня не клеилась работа, душно было, застревал на местах, неудачных и в немецком подлиннике. Сегодня свежее, и у Rilke пошли страницы более выразительные. Как-то был Коля Вильям, забылся, и – переговорили; испугались оба, но слава Богу ни к чему дурному не повело.
Полоща, нащупал нечто тесьмоподобное и тоже очень взволновался. Находился в неизвестности два дня, боясь исследовать (думал – нечто вросшее или вшитое, боялся тянуть). Сегодня с неописуемой осторожностью вытащил свободно лежавшую марлевую нитку, остаток тампона. Постепенно начинаю жевать, зубов же еще не чищу, не решаюсь. Не задаю вопросов, потому что для ответного письма времени не останется и ты сама мне все расскажешь.
Была Мариечка[228], страшно мила и не так худа, как всегда. Рассказывала содержанье нового сценария. Шура вошел (верно, Л<юдвига> Б<енционовна> подсказала) присутствовать при свиданье, не давал мне говорить. Писем никаких ниоткуда. Удивляет молчанье наших, но не беспокоит, есть косвенные сведенья об их добром здоровье. Тишина в квартире необычайная и чистота. Сейчас пришла проститься и уехала Пр<асковья> Петровна. Целует Женичку, кланяется тебе. Крепко обнимаю тебя и нежнейший привет всем, в особенности Елизавете Михайловне.
Женюшка обнимаю и глажу, и гляжу на него долго и молчаливо, как всегда. Смотри, отдыхай, пока, как бы то ни было, одним человеком меньше.
• И все это, конечно, – живые результаты твоих распоряжений; и новые напоминанья о твоих заботах и об этих днях, которых все равно не забыть. И ей-Богу, цветов со дня твоего отъезда в Москве не найти.
Четверг. 11 <июля 1929. Огневский овраг>
Боричка дорогой, тебе, наверное, моя затея покажется глупой. Иван Дмитрич едет в Москву, и вместо того, чтобы посылать почтой, я попросила его позвонить нам и попросить передать тебе, чтобы ты пришел за письмом. Таким образом ты сможешь с ним же передать мне либо письмо, либо скажешь, когда мне выехать. Очень бы мне хотелось, чтоб мы вернулись сюда во вторник, и лучше вызови меня на денек пораньше, скажем в воскресенье, чтобы я могла в понедельник и вторник утром все успеть.
Дорога продолжается до 7 часов вечера, потому что на лошади от Можайска два часа езды, так что если мы, скажем, выедем в среду, то надо считать, что ты попадешь сюда только 18-го. Жаль дней. Беспокоюсь, достаточно ли ты благоразумен, радуюсь, что погода тебя не изнуряет. Обо всем расскажу по приезде. Крепко тебя целую.
Твоя Женя.
<12 июля 1929. Москва>
Дорогая Женюра!
Я вчера отправил тебе письмо по почте, и дня не прошло, так что нечего прибавлять. Приезжай, когда хочешь, хоть в воскресенье, но лучше бы выждать и тебе, чтобы не переутомляться после твоей недели.
Крепко тебя и Женичку целую. Всем поклон.
Твой Б.
За два дня до переезда на дачу 15 июля папа писал родителям:
Я остался в городе, придравшись к первоначальному предположенью врачей, по которому мне именно до этих чисел следовало оставаться, и остался с умыслом, потому что хотел докончить работу, начатую после операции, – перевод одного Реквиема Рильке. Сделал я это с тем более легким сердцем, что перешел на хлеба к Юлии Бенционовне, а это идеал санаторного питанья.
Я только не рассчитал, что работа пойдет не так гладко и скоро, что наступит удушливейшая жара, что Людвига Бенционовна раньше моего примется морить у себя клопов за выездом своих, и они целыми полчищами гнетущей мрази поползут в мою сторону, а не обратно, то есть не мои к ней, и что постепенно соберутся все данные для того, чтобы упасть нервами и утратить сон…
Вчера я получил ваше письмо. Беспокоиться вам решительно не об чем. Операцию сделать было нужно, сделана она была превосходно, делал ее лучший из хирургов по этой части, киста была незлокачественной, то есть надо надеяться, что у меня не будет другой, от этой же неоткуда ждать продолженья.
Распространяюсь лишь ввиду вашего интереса, а то этот предмет яйца выеденного не стоит. Что она была очень мучительна, теперь начисто дело прошлого, и если тут что заслуживает упоминанья, так это самопожертвованье, которое проявила Женя, в теченье двух недель не отходившая от меня ни на шаг и за самой операцией, продолжавшейся полтора часа, перенесшая не меньше, чем выстрадал я[229].
Папа приехал еще совсем больной после операции и сразу свалился с высокой температурой, это была какая-то инфекция, похожая на отравление. Болезнь очень ослабила его, но из последних сил он старался работать. Стол, за которым он занимался, стоял между окном и лестницей, по которой подымались наверх, и это ему мешало. Так что мы с Елизаветой Михайловной старались между завтраком и обедом наверх не ходить.
Папочка чувствовал себя очень неловко, потому что не мог есть того, что готовили для всех, только мягкое и протертое, к тому же сказывалось перенесенное желудочное недомогание. Поскольку у Кончаловских ели за общим столом, возникали неловкости, которые не сразу были преодолены.
На выходные дни с вечера и просто погостить съезжалось много родственников, главным образом, молодежи. Семья была большая и дружная. Я запомнил приезд Нины Максимовны Кончаловской[230], тогда еще только учившейся на медицинском. Утром толпой шли по лугам на реку, которая была удивительно чистой и быстро бежала по своему извилистому песчаному руслу с мелями, где так весело было играть.
Папочка писал родителям и сестрам о горячей симпатии, зародившейся у него к семье Дмитрия Петровича Кончаловского:
В июле месяце за стол садилось больше 20 человек и это хозяйство, находящееся в шести верстах от ближайшего продовольственного пункта, велось силами семьи с помощью только одной девушки-судомойки. Не хочу распространяться, но тебе понятно, как мне эта атмосфера трудовой горячей простоты, политой потом, расторопностью и очень коренной просвещенностью, была близка. Вначале я их стеснялся, но очень скоро втянулся в их строй и сам принял в нем участие <…>.
Они люди гордые, замкнутые, и трудности жизни, которые он не искал обойти уступками, не сломили его независмости. У него трое дочерей и один сын, старшей дочери 26 лет, младшей 21, все очень разные и все своими достоинствами очень милые. Семья очень дружная, что, вероятно, неблагодарным образом скажется на личной судьбе детей, как это всегда бывает, тем более, что выращены они в правилах, теперь несовременных, то есть они открыто религиозны и индивидуалистичны, хотя бы в том отношении, что любят свою семью[231].
Мнимая сложность отношений, поначалу стеснявшая отца, объяснялась давним семейным знакомством дедушки с П. П. Кончаловским, отцом Дмитрия Петровича, и откровенным отказом самого Дмитрия Петровича, специалиста по истории Древнего Рима, от участия в современной жизни в ее общественных и научных проявлениях. Эта преграда была преодолена, когда папа решил почитать им и их дачникам свои стихи. С этого времени он стал участником совместных домашних дел и занятий всего семейства, о которых девочки Кончаловские еще долго рассказывали своим ученикам в Париже, куда они попали после немецкого плена.
Я не помню нашего осеннего возвращения в Москву. Кажется, в эту именно осень начались мои регулярные поездки с Ипполитом Васильевичем на бега, – что оставалось еще тогда органической подробностью московской жизни. Он играл, но мне об этом ничего не говорилось. Чтобы сделать ставку, он выходил “покурить”. Видимо, я не отличался любопытством и наблюдательностью к жизни окружающих людей.
Сейчас это ощущается мною на каждом шагу как удивление тем, насколько я мало запомнил и сделал, насколько призрачен вес протекшего и потерянного времени, которое, в отличие от Пруста, я уже не пытаюсь никаким образом найти вновь.
Глава IV (1930–1932) Разрыв
Как я уже писал, с осени 1926 года наша семейная жизнь приобрела некоторые черты уютного и одухотворенного обихода, дорогие для обоих родителей и оберегаемые ими по мере возможности. В этом сказывалось также и участие Елизаветы Михайловны, которую очень полюбил отец и которая с полным доверием брала на себя возраставшие заботы.
Зима 1929/30 года была особенно тяжела для всех. Маме требовалось сдать дипломную работу – ВХУТЕМАС преобразовался во ВХУТЕИН, то есть в институт, и для завершения высшего образования нужно было получить диплом, после чего художник становился членом профсоюза и мог устраиваться на работу, получать заказы. “У Жени теперь очень трудное и тревожное время, – писал папа 15 декабря 1929 года дедушке в Берлин. – Ей сдавать через три дня дипломную работу по живописи. Она изобразила работу в кузнечном цехе металлургического завода (нечто вроде Менцеля при колористической гамме твоих первых работ). Работала на самом заводе, но в движеньи это было трудно и дни были темные, а дома ей негде мольберт поставить <…>. Увидим, что будет, но дома негде повернуться, условья для работы ужасны”[232].
В письме в Берлин мама так описывала свою дипломную картину “на производственную тему”: “Я с месяц как хожу на завод и там на месте пишу в кузнечном цеху. Мне там очень нравится и очень интересно по колориту; с левой стороны ряд горящих горнов, с правой – большие паровозные котлы, тусклый дневной свет, феерический свет раскаленного железа, но условия работы адские, все время как будто находишься внутри лампового стекла, пишешь почти при вечернем свете маслом метровый холст среди суеты и непрерывной работы кузницы. – И выходит у меня, конечно, мерзко. Вы пишете, Леонид Осипович, что чем раньше разделаться со школой, тем лучше, а мы все наоборот держались за нее, пока не гонят, потому что там есть возможность работы: мастерская, модель, связанность со средой, а теперь кончаешь и руки опускаются, что будешь дальше делать”.
Мама справилась с работой, которую дописывала в мастерской института, но сильно измучилась, похудела и кашляла. Снова заговорили о туберкулезе.
В этом году официальным указом было отменено празднование Нового года и Рождества, запрещены елки. Они были объявлены религиозной пропагандой и с ними повели решительную борьбу. “Рождественских праздников у нас не будет, – писала мама в том же письме, – у нас изменен календарь. Женичке же я устрою праздник после Нового года, когда освобожусь от диплома”. Был запрещен также колокольный звон. Москва вдруг погрузилась в пугающую слух тишину, тем более удручающую, что папа очень любил зимние праздники, которые возвращали его к воспоминаниям детства. Началось массовое закрытие церквей и снятие колоколов.
Помню поразившее меня шествие, которое я наблюдал из нашей комнаты. Из прекрасной розовой церкви Похвалы Богородицы, расположенной прямо у нас перед окнами, переносили сохранявшуюся там городскую святыню – чудотворную икону Нечаянной Радости – в церковь Успения на Могильцах. Священники в парадном облачении с хоругвями и пением акафиста, окруженные толпой плачущих прихожан, торжественно шли во главе процессии. Это зрелище до сих пор стоит перед глазами, вероятно, как последнее явление открытой церковной церемонии на улицах города. Теперь московские венчания происходили в Могильцевском переулке, скромно и таинственно, год от года уменьшаясь в количестве.
Отец вспоминал страшные времена изъятия церковных ценностей, против которого люди еще не боялись открыто выступать в печати, он напоминал об этом в письме Горькому, восхищаясь смелостью его протестов в то время, когда никто уже не смел открыть рта.
Пугали и приводили в ужас жестокие проявления насилия, которые совершались в деревне, где проводились сплошная коллективизация и уничтожение зажиточного крестьянства. Над страной во всей реальности вставала угроза голода. Мне кажется, что папочка именно той зимой ездил в колхоз, куда снаряжали писательские бригады. Возможно, что он тогда познакомился у Пильняка с недавно написанным “Котлованом” А. Платонова, где описываются эти события.
“Сейчас все живут под очень большим давлением, – писал он в Берлин 9 января 1930 года, – но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия в сравненьи с тем, что делается в деревне, <…> но по-моему, надо быть мужиком, чтобы сметь рассуждать об этом, то есть надо самому кровно испытать эти хирургические преобразованья; со стороны же петь на эту тему еще безнравственнее, чем писать в тылу о войне. Вот этим и полон воздух”[233].
Со стороны творческой и семейно-бюджетной это давление оборачивалось тяжелыми переговорами по поводу идеологического несоответствия последних глав “Спекторского” и папиным отказом от требуемой издательством переделки. Расторжение договора означало необходимость возвращения полученного в прошлом году и давно растраченного аванса.
Единственной отрадой этого страшного года стала для папы музыка, которая в ряду искусств продолжала существовать на прежней высоте. Помимо концертов старых знакомых исполнителей, в Москве появились Генрих Нейгауз и приезжавшая из Ленинграда Мария Юдина, которые приводили отца в восторг. С Нейгаузом папа познакомился через Асмусов, с которыми Генрих Густавович дружил еще с киевских времен. Возможности занятий философией были тогда крайне ограничены, и Валентин Фердинандович Асмус выступал в то время как литературный критик и заводил широкие знакомства в писательской среде. Его жена Ирина Сергеевна была горячей поклонницей поэзии Пастернака.
“У нас, нескольких его <Нейгауза> друзей вошло в обычай после концерта остаток ночи проводить друг у друга, – писал отец дедушке в Берлин. – Устраиваются обильные возлияния с очень скромной закуской, которую по техническим условиям достать почти невозможно. Последний раз он играл с Кенеманом[234]<…>. Потом до 6-ти часов утра пили, ели, играли, читали и танцевали фокстрот в Шуриной и Ирининой комнате; а Федичку к Жене перенесли”[235].
Маме очень не нравились подобные времяпрепровождения, нарушавшие жесткий режим папиной работы. Восторженное поклонение кокетничавших с ним женщин оскорбляло ее чувство. Отец писал тогда вторую, марбургскую часть “Охранной грамоты”. Ирина Сергеевна заказала ее окончание к своему дню рождения, а чтобы расположить к себе маму, стала ей позировать, ездила с ней гулять за город и проводила с ней много времени. Мама действительно сделала прекрасный ее портрет, Зинаиду Николаевну Нейгауз она рисовала уже в Ирпене.
Глубокой трагедией стало для отца известие о расстреле его молодого друга по ЛЕФу, поэта и критика Владимира Силлова. В высшей степени оскорбительна была форма, в которой ему сообщил об этом Семен Кирсанов как об обиходном и давно известном событии. Это было на премьере “Бани” в театре Мейерхольда, куда отец ходил с Ириной Сергеевной. Его возмутило усвоенное к тому времени представление о том, что упоминание об арестованных или расстрелянных друзьях стало “признаком невоспитанности”, как он писал в это время в венецианских главках “Охранной грамоты”.
В тот же день он кинулся к Силловым на Воздвиженку. У Ольги Георгиевны медленно заживал страшный рубец через всю руку, перерезанную стеклом, когда она пыталась выброситься из окна. Чтобы вывести ее из непреодолимого душевного мрака, папа водил ее в консерваторию на концерты Нейгауза, звал к себе в гости. С этого времени он открыто говорил, что ЛЕФ был отделением ГПУ.
Через месяц после известия о гибели Силлова застрелился Маяковский. Эти события связались в сознании отца страшным и тугим узлом. Узнав о случившемся от Якова Захаровича Черняка, папа позвал с собой на место происшествия Ольгу Силлову, считая, что это даст выход ее горю. Мама поехала раньше, не дожидаясь их.
“…Теперь даже нет желания куда-нибудь двинуться, подумать о лете, – писала мама Ломоносовой, – о необходимости вывести Женичку на воздух. 14-го в 10 ч. утра застрелился Маяковский. Борис Леонидович, да и я любили его, как никого другого. Такое чувство сейчас, что из Москвы, как от дорогой могилы, никуда не уедешь”[236].
Я не помню подробностей тех дней, которые восстанавливаю по отцовским письмам и другим документам. Вероятно, от меня старались скрыть ужас произошедшего, и из опасений моей нервной впечатлительности почаще отправляли из дому с Елизаветой Михайловной. Но разговоры родителей предшествовавших лет о трудности отношений с Маяковским, Асеевым и ЛЕФом мешали моему восприятию их горя, стирая его внезапность и безысходный трагизм. Для меня оно накладывалось на недавнее мамино глубокое переживание бабушкиной смерти. Я старался понять, спрашивал. В ответ мама рассказывала мне о том, как они дружили, собирались, танцевали. Как Маяковский вынимал меня сонного из кроватки. Она была железная с опускными веревочными сетками по бокам. Как в другой раз, днем, он играл со мной на полу в кубики. Как был обаятелен с ней самой. Словом, старалась приблизить его к моему сознанию и тем приобщить к Бориному и своему горю. Мне казалось, что Боря в своей печали от нас отдалялся – не пускал к этому больному, кровоточащему месту и, насколько помню, ни со мною о Маяковском тогда не разговаривал, ни при мне – с мамочкой. Это было слишком тяжело.
Поэтому для меня стал неожиданностью рассказ Леонида Вышеславского[237] о том, что в Ирпене папа был весь полон воспоминаниями о Маяковском, разбором и чтением его стихотворений. Думаю также, что у меня самого в то время внимание было защищено, оно не обращалось в ту сторону. Этому также способствовала Елизавета Михайловна, оберегая от тяжелых впечатлений. Да и была главная тема: окружающая тревога общественных изменений сказывалась на отношениях между родителями – и это поглощало все остальное.
Безжалостность воспоминаний часто останавливала меня, потому что возникающие картины виденного, не облагороженного последующими объяснениями и разумными оправданиями, казалось невозможным записать.
Весною того же года вновь возникли планы поездки за границу, свидания с родителями. Время папиной разлуки с ними исчислялось уже семью годами. Но начав хлопоты, он сразу убедился, что разрешения ему не дадут.
Оставшись без определенных планов, родители собирались воспользоваться предложением Анны Ивановны Трояновской[238], но инициативу летнего устройства взяла в свои руки Зинаида Николаевна Нейгауз. Она сняла нам и Шуре с Ириной дачи под Киевом, в Ирпене, куда они сами собирались вместе с Асмусами.
Ехали с посудой, бельем и тюфяками в узлах. Обычно нас собирал папа, удивительным образом умея упаковывать кучи разнообразных предметов в небольшие объемы. На этот раз в сборах чувствовалась неуверенность и, может быть, некоторые сомнения в целесообразности такой далекой поездки.
Папа, как всегда, задерживался в Москве в ожидании получения денег, для приведения в порядок комнаты после нашего отъезда и, главное, хлопот по поводу нашей поездки в Германию. Кроме того, он очень тревожился известиями о болезни его бабушки Берты Самойловны Кауфман. Чтобы успеть повидаться с нею, надо было срочно ехать в Ленинград. Но телеграмма о ее смерти пришла раньше, чем отец собрался туда.
Папа обратился к Горькому за помощью в разрешении на поездку за границу. Он писал ему в Сорренто 31 мая, что, откладывая свидание с родителями с года на год в надежде закончить начатые работы, он переоценил свою выдержку и силы: “Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю, – когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец”[239].
Но Горький не поддержал его попыток и посоветовал отказаться от своего намерения. Из переписки Горького с Г. Г. Ягодой известно, что в одном из писем от начала июня 1930 года Горький сообщал своему адресату, что отказал в просьбе Пастернака, боясь, что тот в силу своего “безволия”, поддастся влиянию эмигрантской печати. Так разлетелись планы нашей совместной поездки с папой в Германию и, вероятно, его последняя возможность увидеться со своими родителями.
Мне смутно вспоминается наш переезд в Ирпень с пересадкой в Киеве как нечто ужасное. Вагоны брали с боя, втаскивая огромные тюки вещей. На станциях стояли толпы ожидающих. Такого я еще не видал.
Первые впечатления от Ирпеня, которыми делились мама и Ирина Николаевна, тоже граничили с отчаянием, но папа надеялся, что на Украине будет легче с продовольствием, чем под Москвой.
От их переписки за тот месяц, пока папа был в Москве, сохранились только три маминых письма, папины пропали.
<3 июня 1930. Ирпень>
Борис Леонидович, вы вероятно сердитесь, что не получаете от меня писем, но в этом ничего плохого нет, а наоборот.
Я, Боричка, хотела из панического состояния придти в равновесие. Приехали мы поздно вечером, дня два нам нечего было есть, аппетит был волчий, а обращаться к Ир<ине> С<ергеевне> и З<инаиде> Н<иколаевне> неудобно было, потому что и они устали. В воскресенье был базар, куда я и отправилась в 4 часа утра, и теперь уже третий день сыты. Цены московские, денег будет уходить много, нет здесь совершенно разменной монеты, так что и десяти копеек не дают сдачи (об этом позаботься).
Дача наша хорошая, большая, теплая, участок хороший, цветут акации белые и жасмин. Лес вырубили, так что его нет, и ходить туда запрещено. Река далеко, да и вчера сказали нам, что будто бы запретили кататься на лодках наверняка, а может быть, и купаться (на днях это проверим). Настроение у меня пока бодрое, смущает больше всего отсутствие работницы. Относительно карточек, прописки, удостоверения о твоем заработке напишу потом.
Из пожеланий моих: всеми силами старайся осуществить возможность повидаться с бабушкой[240]. Если тебе кто-нибудь может купить сахар, то купи пуд и оставь дома, а получку придется привезти. На днях поеду в Киев. Погода здесь прохладная, а вечера совсем еще холодные. Что с московской жарой, как ты живешь, оставил ли тебя Пильняк в покое или, воспользовавшись отсутствием рычащей собаки[241], повадился.
Простору здесь много, перелески молодого дуба и березы, которые, переходя в участки дачные, потом тянутся уже не загороженными. Запахи, птицы.
Крепко тебя целую. Жду с нетерпением письма, вспомнила, что куда-то ты прислал мне письма раньше моего приезда. Относительно Поли пока ничего не могу написать; кажется, что это будет очень трудно, потому что раздобывать продукты очень трудно. Еще раз тебя целую.
Женя
Адрес: Ирпень. Пушкинская 13.
Воскресенье. <8 июня 1930. Ирпень>
Сегодня немного теплее, снегу у нас не было, но мороз был, померзла картошка и почернели молодые осинки и дубки. Утром рвала жасмин для себя и для остальных дам и нашла у нас в кустах гнездо – это соловьи у нас в саду живут. Вчера была в Киеве, поехали мы туда с Ириной в 6 часов утра, вернулись в 8 вечера. Киев очень хороший; ты, верно, его помнишь, но нас с Ириной поразило сходство его с Германией, широкие прямые улицы, обсаженные деревьями, и дома, по архитектуре напоминающие Германию. И Ирине так захотелось опять пошататься по тем чистым вымытым улицам, по базарам, заваленным цветами и овощами. Быт тот же, что и в Москве – очереди, озабоченность.
Стояли с час за детскими сандалиями и не получили. Обещала ко мне завтра приехать работница. Привезла себе несколько книг, между прочим, Жан Кристофа на французском, хочу читать его с Елизаветой Михайловной. Начала сегодня рисовать З<инаиду> Н<иколаевну>, вожусь с хозяйством, Женичка и Елизавета Михайловна здоровы, начали тебе письмо. Женичка очень рад был твоему письму, всем его читал и уже, кажется, знает его на память.
Когда ты думаешь приехать? У Ирины все время хворает Федюшок, и настроение несколько паническое, не из-за Феди, а вообще, очень ее огорчает, что нет купанья.
Советую тебе попросить Фросю у тебя все вымыть, и тогда тебе не надо будет так долго прибирать. Как подвигается Охранная грамота. Не забудь взять у Черемушкина рукопись. Напиши, какие у тебя соображения по поводу твоего пребывания в Москве и приезда сюда. Писать тебе у меня время есть, но трудно мне писать, хочется отмолчаться, немножко найти себя. Письма без лирики (хотя бы в потенции) дважды не перечитываются. Если не трудно, узнай поподробней о Моно и как отзовется на назначении мое отсутствие. Всего хорошего. Целую Шурочку. Привет всем остальным.
Женя
Позвони, передай привет Гите и Сене.
Женя
Доктор говорит, что у Федюшка ничего нет, легкая простуда, но температура держится на 37,5.
Прилагалось мое французское письмо – результат наших занятий с Елизаветой Михайловной и ответ на несохранившееся папино.
Дорогой папочка! Прошу приезжай скорей, потому что мне скучно без тебя.
Bonjour cher Papa! Je te remercie pour ta bonne lettre. Je mange beaucoup et je me repose. Il fait froid, pas de soleil, hier il a plu. Notre cuisiniиre a achetй au marchй des fraises assez mures. Je t’embrasse tendrement.
Ton fils E. Pasternak[242]
В письмах чувствуется мамино желание успокоить отца – она знала, что ее огорчения, вырастая у него до гигантских размеров, лишают его возможности работать и только отодвигают приезд. В них звучат отголоски недавней московской жизни, упоминается ее назначение на работу в МОНО (Московский отдел народного образования), где она должна была заниматься художественным оформлением школ. Ей хотелось зарабатывать и помогать отцу. Она много работала этим летом и начала рисовать еще до папиного приезда. В Ирпене она сделала портреты Зинаиды Николаевны Нейгауз, Ирины Николаевны, ее сестер Маргариты и Анны и брата Рудольфа Николаевича Вильямов, портрет Валентина Фердинандовича Асмуса. Она почувствовала свои возможности в искусстве, новые силы и обретенное мастерство.
В конце лета папа писал в Берлин родителям: “Женя большая первое время очень хорошо себя чувствовала тут, у нас был роман с ней, и она работала не менее моего успешно. Сделала несколько карандашных портретов с большим сходством и технической свежестью, прекрасный масляный этюд дуба с солнечным передним планом и тенистою заглохшей глубиной заднего, очень хороший натюрморт и много другого”[243].
Действительно, сохранившиеся от того времени мамины быстрые графические портреты удивительно передают живую натуру. Из пейзажей Ирпеня папа недаром выделил вид на наш участок с большим дубом посередине.
Папа с любовью вспоминал семейную обстановку этого лета перед расставанием с нами следующей весной:
Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся, Я вспомню покупку припасов и круп, Ступеньки террасы и комнат убранство, И брата, и сына, и клумбу, и дуб. Художница пачкала красками траву, Роняла палитру, совала в халат Набор рисовальный и пачки отравы, Что “Басмой” зовутся и астму сулят.Дачный поселок заполнял своими огороженными участками и правильно спланированными улицами островок смешанного леса, вернее перелеска, левады, как это там называли. В настоящий лес, расположенный довольно далеко, мы с Елизаветой Михайловной ходили через поле, заросшее чабрецом и полынью, с церковью на холме.
Время было тревожное. В наш дом приходили с обыском “изымать ценности”. Хозяйка успела что-то сунуть мне под матрас. Это были серебряные ложки и вилки. Я сделал вид, что сплю и меня не стали будить. Как она благодарила нас потом!
Папа собирался выехать 15 июня, но не смог достать билеты на этот день. Телеграмма опоздала, мама нашла ее по возвращении из Киева, куда ездила его встречать.
17 июня 1930. <Москва>
Гулюшка, вчера ездила тебя встречать в Киев, но ни тебя, ни даже вагона, в котором ты должен был находиться, не было (его по дороге отцепили ввиду неисправности). Пишу наспех, потому что Анечка[244] идет на почту и согласилась подождать, пока я напишу. Не ожидая тебя, не скучала, а не встретив, вдруг растрогалась и хочу очень уже видеть.
Если письмо тебя еще застанет – захвати пшена, оно в буфете, сахар-паек и тюфяк. Мыло, если есть. У Шуры попроси для меня карандаш или два Коинор. Отправь, пожалуйста Сенин рецепт Лидочке с просьбой ему прислать лекарство. Заборные книжки, если нас не выпишут, можешь передать Фришманам. Знаешь ли ты что-нибудь о Поле?
Хотела тебе написать совсем другое письмо, но Анечка сидит за спиной и ждет. Крепко тебя целую, жду. Утешаюсь, что немножко окрепну, пока ты приедешь. Сейчас мне как раз нездоровится, а я ходила в жару на базар и ездила тебя встречать, а потому сегодня совсем ослабла.
Пиши, пожалуйста.
Твоя Женя.
Мама снова ездила в Киев 20 числа и привезла папу, уставшего после мучительной дороги и ошалевшего от воздуха и радости свиданья. Ему очень понравился наш дом, и он радовался, как ребенок, просторным комнатам, “настоящим стенам” и удобству. Дом был кирпичный, зимний. На следующий день он уже сел работать – после отказа Ленгиза от публикации “Спекторского” папе предстояло пересмотреть его и подготовить к изданию в ГИХЛе. За лето было дописано вступление, которое помогало восприятию сюжета, переписаны некоторые главы, уточнен и отредактирован конец. Смертная московская тоска сменилась здоровой уверенностью в будущем, которую всегда вселяла в отца успешная работа.
“Попав на дачу с ее «лесной капеллой», колодцем и темными вечерами, ничем не просветляемыми за недостатком керосина, – писал он из Ирпеня родителям, – я был оздоровлен в сутки не близостью прекрасного сада, а прежде и разительнее всего, превосходством дачного комфорта по сравненью с квартирными условьями Москвы. Тут три комнаты с настоящими стенами, и в доме живут только две семьи: мы и хозяева. Вы себе не представляете, что это значит. Мысль о возвращеньи в город меня ужасает. Я хотел бы со всей полнотой воспользоваться не только рекой, лесом, солнцем и воздухом, но и настоящей квартирой, достойной званья человеческого жилища”[245]
Работа перемежалась чтением Ромена Роллана, с которым у отца завязалась тем летом переписка. Мама читала “Жана Кристофа”, папа – “L’âme enchanté”. Елизавета Михайловна принимала в чтении и обсуждении самое непосредственное участие. Мы с ней тогда читали Пушкина.
Папины разговоры с ней об атмосфере вокруг Николая II и отношения к нему в обществе нашли отражение в третьей части “Охранной грамоты”.
Много лет пробыв при дворе, она хорошо представляла себе обстоятельства последнего царствования, в которых ей виделись причины последующей исторической катастрофы. Царскую семью она считала далекой от реальной жизни в стране и трагически обреченной. Она говорила, что они как немцы ничего не понимали в России, любовь к которой афишировали. Открытое омерзение вызывал в ней Распутин и Союз русского народа, и причиной трагедии она в значительной мере считала близость царской семьи к этим силам. Я не помню ее отношения конкретно к Столыпину или кому-нибудь другому из просвещенной аристократии, потому что она глубоко чувствовала себя связанной с нею и ее стремлениями.
Впоследствии она подарила мне бронзовую медаль Всемирной выставки в Париже, которую получил ее муж князь Дмитрий Александрович Лопухин за образцовое ведение хозяйства в их орловском имении, откуда свежий хлеб, мясо и рыбу они отправляли прямо в парижские рестораны. Свойственная ее кругу жертвенность сказалась в том, что во время войны они продали свое прекрасное имение, и на эти деньги был организован большой полевой госпиталь, в котором Елизавета Михайловна работала старшей операционной сестрой.
Папа все-таки нашел, где купаться в Ирпене, но меня туда не пускали. На неделю к Елизавете Михайловне приезжал Ипполит Васильевич, и мы вместе отправлялись по грибы. Он меня учил, где какие грибы растут. Изредка к нам присоединялся папа, страстно любивший собирать грибы.
В ответ на письма ко мне от бабушки и дедушки с расспросами, как мне живется на даче, папа под мою диктовку писал:
Дорогая бабушка! На даче мне очень хорошо и весело и много я очень гуляю. Я на днях нашел, – мама мне его показала, – хорошенький маленький подберезник. А в первый грибной день мы нашли десять белых у нас на участке. Потом у нас есть лес подальше, грибной по названью. Мама и папа нашли там в тот же день двадцать белых грибов.
У нас была здесь три недели клубника, потом, – немного очень, – малина, есть в саду несколько яблонь, были уже вишни и прошли, теперь же поспевают яблоки и груши. Сегодня первый день мы ели печеные яблоки. Поспевают и сливы, и уже начинают попадаться на базаре помидоры.
У нас в саду есть две клумбы. На них растет табак, пионы, которые не цвели, резеда, настурции, помидоры. Цвели раньше лилии и было три цветочка метиолы. У нас дача чудная. В Ирпене много воров. Я помню как раз мы ходили с вами гулять в большой парк перед вашим домом и потом помню как мы с тетей Жоней ходили встречать вас на вокзал в Мюнхене. И помню мой надувной мяч. И помню одну мою глупость в том, что я раз выдрал из твоей шубы, бабушка, скунсовый хвост. Спасибо за письмо.
Днем родители работали, а вечерами все четыре дружественных семейства сходились в одном из перелесков, где, сидя на свежем сене, ужинали, говорили, читали стихи, философствовали. Ездили в Киев на концерт Генриха Нейгауза.
“А лето было восхитительное, – писал папа Ольге Фрейденберг, – замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, – работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене”[246]
В конце августа были написаны “Две баллады”, посвященные Генриху Нейгаузу и его жене, и через некоторое время стихотворение “Лето”, посвященное Ирине Сергеевне Асмус. В “Лете” вечерние разговоры за ужином в Ирпене сопоставляются с “Пиром во время чумы” Пушкина, написанном ровно сто лет назад, и одновременно с Платоновским “Пиром” – диалогом о бессмертии как любви к прекрасному.
И осень, дотоле вопившая выпью, Прочистила горло; и поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе — На пире Платона во время чумы.Вскоре по возвращении в Москву было окончено и стихотворение “Смерть поэта” о Маяковском. Мысли о близкой смерти, еще весной не дававшие отцу дышать и работать, теперь растворенные в воздухе гибнущей деревни, окрашивали “пиры” друзей желанием приобщиться к жизни во всей ее чувственной и духовной полноте на пороге полного прощания с нею. В этих обстоятельствах удивление и восхищение красотой жены друга, Зинаиды Николаевны Нейгауз, уже некоторое время пугавшее маму, переросло в открытое увлечение.
Приближалось время отъезда. Разъезжались не сразу. Под конец остались две семьи – наша и Нейгаузов. Папа, не желавший расставаться с располагавшей к работе комнатой, откладывал отъезд. Наконец, были заказаны лошади, чтобы ехать на станцию. Сборы затянулись до ночи. В них активное участие принимала Зинаида Николаевна. Эта “ночь сборов” потом появилась в стихотворении как первый толчок к пробуждению чувства, которое вскоре совершенно переменило нашу жизнь.
Жизни ль мне хотелось слаще? Нет, нисколько; я хотел Только вырваться из чащи Полуснов и полудел. Но откуда б взял я силы, Если б ночью сборов мне Целой жизни не вместило Сновиденье в Ирпене?В Москву мы приехали 22 сентября. Я был уже довольно большим мальчиком, на следующий день после приезда мне исполнилось семь, но подробности этого времени совершенно стерлись у меня из памяти. Я плохо помню Ирпень и совершенно ничего от той зимы.
Через четыре года, когда семейные трагедии отошли на задний план и все более или менее устроилось, папочка подарил Елизавете Михайловне второе издание книги стихов “Второе рождение” с такой надписью:
Елизавете Михайловне от крепко любящего ее Б. П.
Об этой книжке нечего распространяться: в ней слишком много следов того, как не надо поступать ни в жизни, ни в менее ответственной области искусства. Но она всегда напоминает мне, что все спасены и сохранены в целости благодаря Вам: что автора не было бы уже в живых, если бы Вас не было на свете.
Мне никогда не пришло бы в голову давать Вам эту книжку. Было бы наглостью так легко напоминать Вам, чьими сердечными силами подперты ее рифмованные фразы. Но Вы вскользь выразили желанье ее посмотреть.
Когда я напишу что-нибудь стоящее, настоящую человеческую книгу (и не стишки какие-нибудь!!), я попрошу у вас позволенья посвятить ее Вам.
Моего долга Вам не измерить. Вы это сами знаете, но не в этом дело, это бы меня не мучило. Грустнее то, что никакими словами мне не дать Вам понятья о моей признательности Вам.
Ваш Б. П.
8. XI. 34.
А в ту осень, поначалу все продолжалось, как прежде, снова были концерты Нейгауза и “пиры” после них, и папа весело описывал дедушке, как подымала его эта обстановка над общей подавленностью московской тяжелой атмосферы страха и тоски:
Вчера лушали Шумановский квинтет в малом зале.<…> Отлично играл Нейгауз, мастерски, brillante (allegro brillante), и всю струнную публику вел, как надо. Но как и куда идут нынешние артисты с концертов? Точно по подозрению в краже задержали, поваландали (ну, поиграли там), выяснили и отпустили. Холодные, абстрактные улицы, холодные усталые люди, усталые трамваи и вечера. Кончилось Allegro brillante, Роберт Шуман такой был, идет артист и думает: спасибо, что не побили. К себе нас тянули, им из Ташкента ученик сига привез и большую дыню. Но Жене на другой день рано надо было вставать и мы все упирались, так что от brillante пошли нас провожать до подъезда, скучнейше и обиднейше, – и мы еще предупреждали гостеприимно, что зазвали бы, да Жене вставать, и у нас суховато, звать не на что. И вдруг оказывается утром кету выдавали, а мы забыли. И забыл я, что за три дня перед тем вбежали и заорали: “За водкой очередь” и я побежал и стал. Так что и водка оказалась. И уломали, остались – (жена у него красавица, какой, по-видимому, судя по свидетельствам и судьбе, была Мария Стюарт) – остались и пили, я их обоих все Шуманами звал.<…> – Это к быту нашему и нашему гробовому веселью[247]
После объяснений с мамой в середине января 1931 года папа ушел из дома. Всю последующую жизнь мама страдала, вспоминая, что велела ему уйти, когда он откровенно сознался, что полюбил другую и не в силах разлюбить. Ей мучительно было думать, что она сама прогнала его, вместо того чтобы бороться за него и его отстоять.
В. Ф. Асмус предоставил папе свой кабинет. Там, на Зубовском бульваре, он дописал последние страницы “Охранной грамоты”, перемежая их любовными письмами к Зинаиде Николаевне.
Через две недели он перебрался в Петровский парк к Пильняку, который уехал в Америку. Он бывал у нас, разбирал свои бумаги. Все еще не носило черт окончательности.
Папа принес нам написанное в форме посмертного письма к Рильке Послесловие к “Охранной грамоте”. Там шла речь о двух женщинах как воплощении двух типов красоты: таящейся, нуждающейся в определенном освещении, и красоты пугающей и разящей наповал. Он сравнивал мамино лицо с женскими портретами раннего Возрождения. В Послесловии отразилось также оформившееся в то время представление о его неспособности к семейной жизни, и свое десятилетнее существование с мамой он трактовал как преступную по отношению к нам с ней попытку создать то, к чему у него не было “достаточных данных”. Это глубоко возмутило маму, и он отказался от публикации Послесловия.
Папа хлопотал о нашем отъезде в Германию, преодолевая немало трудностей и унижений, больно оскорблявших его, чтобы получить разрешение. В отчаянии он писал Ромену Роллану, который поговорил с Луначарским, и тот устроил нам заграничные паспорта.
Hourra! Devinez pourquoi?[248] начинал я свое письмо бабушке, – сейчас Мама привезла разрешение. Мне очень жаль дедушку, я когда приеду, Тебе помогу за ним ухаживать (Мы получили сведения о воспалении глаза у дедушки). – Твой поклон я передал Е<лизавете> М<ихайловне>, она благодарит за внимание и сожалеет, что не может с Тобой поговорить обо мне. Федюшок посылку и книги давно получил. Я ваши письма читаю сам, нисколько не утомительны, я читаю их с большим удовольствием. Е. М. решила, что теперь, когда я хорошо усвоил фр<анцузский> выговор, я начну нем<ецкий> яз<ык>. Крепко обнимаю. Твой Женя. 8 IV 1931 г.
Мамочка надеялась, что папа поедет с нами, но теперь, когда, наконец, были окончены “Спекторский” и “Охранная грамота”, задерживавшие его раньше, появились новые причины для отсрочки. Он обещал нам, что приедет через год.
Не бойтесь за Женю, – писал он в Германию. – Я не расхожусь с ней: в моем языке нет слова “навсегда”. На то ли на свете человек, чтобы к роковым вещам, как смерть, болезнь и прочее, прибавлять фатальности своего изделья? Я всегда видел его призванье в посильном уменьшении рока, в освобоженьи того, что можно освободить. И это не взгляд мой, не убежденье. Это я сам. Так прожил я эти два месяца. Так сошелся когда-то с нею и любил, и думал устроить жизнь, и ничему не научил. Она любит меня не щадя себя, самоубийственно, деспотически и ревниво. На нее страшно глядеть, за эти два месяца она спала с лица и переживает все это, как в первый день. Любить меня так, значит ничего не понимать во мне. Я ее не упрекаю, – разве она исключенье?[249]
Жонечка всей душой отозвалась на звучащую в этих словах боль. Она надеялась облегчить ее и, может быть, излечить, как четыре года тому назад. Она писала Боре 5 мая 1931 года: “Мне думается, или по крайней мере: мне хочется, поскольку это возможно, помочь ей. Мне кажется, что дружба и близость между женщинами – нет, я не стану писать, я жду ее приезда. Я многому научилась во время своей болезни. И тому, как односторонен и бесплоден романтизм теории и философствования – и тому, что важнее всего действительное общение между людьми”.
Мы уезжали 5 мая 1931 года. Накануне папа переехал к нам, чтобы помочь собраться. Он с обычной аккуратностью упаковывал наши чемоданы и мамины материалы для живописи, умудряясь всунуть все так, чтобы оно занимало как можно меньше места. К нам приходила Сарра Дмитриевна Лебедева. Очень грустно было расставаться с Елизаветой Михайловной. Я подарил ей небольшой блокнотик, чтобы она писала мне в нем письма в Германию. Она сохранила обложку от него на память и написала на ней, что это мой прощальный подарок.
Папа провожал нас на поезд на такси – таком же старом “Рено”, как пять лет назад. Мы снова ходили с ним смотреть на паровоз – как его сцепляют с поездом. Те же желтые международные вагоны с внутренней отделкой стиля модерн, узкие купе на двоих. Как папа любил всю эту обстановку путешествий, как разыгрывалось его воображенье и как аскетически он всегда лишал себя этого удовольствия! Когда поезд тронулся, папа побежал рядом с ним, постепенно ускоряя шаг, чтобы не отрываться от нашего окна. Я смотрел на него, радуясь и пугаясь, что он может упасть, когда кончится платформа.
Как обычно, он на следующий день взялся за письмо к маме.
6. V.1931. <Москва>
Дорогой мой друг Женичка!
Ты сегодня в пути, завтра к вечеру буду ждать телеграммы. Разумеется буду беспокоиться, и на этот раз еще больше обычного.
Все так устроено, что для того, чтобы быть твердым, надо быть безжалостным. Но нет, нет и нет, я с этим порядком не мирюсь. Что-то глубоко искажено в нем, и – лучшее что есть в жизни. Ты высоко и просветленно стоишь во мне в эти дни; мне грустно; я устал. И в то же время я хорошо и сильно люблю Зину, и это не только совместимо, но и неотделимо друг от друга: в моем сознаньи она и Г<енрих> Г<уставович> – люди, с которыми я всего родней могу говорить о тебе, они чтят тебя, они косвенно пережили тебя и все твое так, как никто, – исключая меня, разумеется.
На каждом шагу трогает порядок, заведенный тобой, следы твоей заботливости. Часто слышу твой и Женичкин голос: мерещится в неразличимом издали шуме женских и детских голосов за стеной и в столовой. Так легко поддаться особой, каждому известной, болезненной и полусумасшедшей печали: она бесплодна, она не обогащает, не разрывается творчеством; убить нас во славу близких – вот все, к чему она ведет и на что способна. Но эти жертвоприношенья от слабости. Не надо строить сердечную правду на них. Ты на меня сердишься? Ты недовольна? Но я хотел написать тебе; желанье было от ласковости мыслей о тебе; и я тебе пишу ласково, как думаю.
Жизнь должна тебе улыбнуться так же, как мне. Ты такая хорошая, ты так это заслужила! Ты вся истерзана сейчас, а чем богаче изболевшийся человек, тем он кажется себе беднее. Оттого ты и цепляешься за меня, то есть уверила себя, что любишь меня больше всех возможных возможностей. Последние же придут со здоровьем. И – придут, придут.
Женичка чудно подбежал к вагонному окошку. Молодец.
Напиши мне пожалуйста о наших. Меня страшно беспокоит папино здоровье. Прошу тебя, скажи мне всю правду. Расскажи им, как я живу, в оправданье моего молчанья. Скажи, что просьбу относительно Жониной подруги[250] исполнил, как просила. Ненавижу нашу квартиру. Но у нас в комнатах хорошо. Не надо ли чего Соне? Пусть пишут, как писали, – мне можно. Женичка, вероятно пишу тебе раньше, чем нужно: дня не прошло, как говорил с тобой. Но пойдут дела, – с судом, с квартирой, с фининспекцией. И за работу сяду. Уже совершенно отвык от Петровского парка[251]. И это в три дня! Целую и обнимаю тебя и Женёнка. И всех наших. Будь счастлива. Пиши.
Твой Б.
Вашу карточку двойную (для паспорта) наклеил на первую страницу лучшей книги Рильке, с которой не расстаюсь.
На этот раз детали путешествия я воспринимал отчетливо. Таможня в Негорелом с дотошной проверкой вещей и документов. Пересадка в другой поезд синего цвета с синей же обивкой стенок купе. Красивые пейзажи Польши, холмы и луга, заросшие массой полевых цветов. На следующее утро мы приехали в Берлин. Нас встречали бабушка и дедушка, который только недавно стал выходить. У него незадолго до этого было какое-то воспаление левого глаза, он не мог ни работать, ни даже писать писем и диктовал их бабушке. По дороге на вокзал бабушка купила свежего хлеба и угостила меня крошечной хрустящей булочкой – их называли “шриппен”. Мы поехали в их квартиру на Мотсштрассе, 6. Там было три комнаты и кухня-столовая с переносной газовой плиткой в нише стены: дедовская мастерская, спальня и проходная комната вроде гостиной с пианино, где бабушка занималась музыкой. Когда я спросил, где будем жить мы, дедушка подвел меня к окну и показал дом напротив, через улицу, где нам сняли комнату в пансионе.
Мы отправились туда к вечеру. Комната была небольшая, с одним окном. Ночью она освещалась газовой лампой с двумя цепочками – для зажигания и выключения. Мне мама постелила на диванчике. Обедали и ужинали мы за общим столом с довольно бойкой хозяйкой, оживлявшей застольный разговор. Я довольно быстро стал осваиваться в немецком, видимо, восстанавливались какие-то навыки, приобретенные пять лет назад.
15. V.1931. <Москва>
Дорогая Женя!
Я очень рад, что до полученья известий от тебя успею еще раз самостоятельно к тебе обратиться. Они могли бы повлиять на меня, то есть ограничили бы прямую мою естественность с тобою.
Я как о подарке мечтаю о времени, когда ты мне скажешь, что ты простила меня, что дальнейшее теченье моей жизни не причиняет тебе больше боли.
Спустя несколько дней после твоего отъезда Зина получила тревожные известья из Киева. Кс<ения> Петр<овна> сообщала, что концерт Г<енриха> Г<уставовича> при полном сборе и аншлагах прошел, по ее словам, вяло. Доиграв последнюю вещь программы, Гаррик ударил кулаком по клавиатуре, вскочил, побежал с эстрады в артистическую, споткнулся, упал и лишился памяти. Когда его привели в чувство, – разрыдался и плакал, не стесняясь присутствием администрации. Кс. Петр. предлагала Зине все вновь взвесить и обдумать и выражала робкое пожелание, чтобы она по крайней мере приехала на эти дни поддержать Гаррика и ему помочь, – сбивчивое, полное оговорок и извинений письмо, какие всегда в таких случаях пишутся друзьями. Зина поехала в Киев.
Я так подробно цитирую письмо Кс. П., потому что это – чужое. Все это нестрашно и неважно, и серьезность жизни говорит не на этом языке. Главное же, что это столь же мало Гарриков язык, как Зинин, или мой и твой. Я много по этому случаю говорил ей о тебе, о том, как удивительно ты собой овладела; о твоем достоинстве и выдержке последних дней.
Я люблю Зину и не разлюблю ее. Вероятно она нуждалась в том, чтобы я воспрепятствовал ее поездке и не захотел ее. Она сказала, что все будет по-моему, как я захочу. Но я отказал ей в такой поддержке. Напротив, мое искреннее убежденье, что она должна и может поставить сейчас Гаррика на ноги, как никогда, и только вырастет от этого. Это можно сделать в два-три дня и вернуться.
И вот я с ней в разлуке. – Обыкновенно, когда я оставался без тебя, для меня начинались неописуемые терзанья. Я исходил тоской о тебе, мне казалось, что ты все грустишь и тебе нехорошо, и никакого моего беспокойства о тебе недостаточно, чтобы твою опечаленность уравновесить, и все это наконец завершалось тем, что я убеждался в своей неспособности любить тебя так, как ты заслуживаешь и тебе это нужно. Я посылал тебе письма, одно нежнее другого, одно за другим, и всегда с таким чувством, что это я не мир строю с тобой, а заливаю какую-то пропасть, пропасть обиды или обмана, и ее никогда ничем не залить. Я вновь и вновь ловил себя на мысли, что таким мученьем жизнь не может быть ни для кого, ни для тебя, ни для меня, и значит наша совместность – ошибка. И как долго эту ошибку нельзя было исправить. Разлука с Зиной до того легка, что может показаться равнодушьем. Мне без нее, как без искусства, – я о своей вине перед ним не фантазирую, я знаю: его нет, а завтра оно войдет и я с ума сойду от счастья. Я именно не преступник перед Зиною. Мы оба преступники.
Я о тебе думаю много и хорошо. И впервые без всякой растравленности, с чистою совестью, легко, с радостной готовностью слушать тебя, быть тебе полезным, – с интересом. Когда будешь писать, напиши, как тебе: об обстановке и о людях. Мне хочется, чтобы тебе было хорошо, и если бы ты сама этого пожелала, но – серьезно, я был бы счастлив. – Больше я тебе таких дурных писем, как это, писать не буду. Его же я пишу из предосторожности. Я боюсь, что ты и дружбу нашу подвергнешь непосильному испытанью, что и дружбой этой невозможно будет дышать.
Я и тут не снес бы сознанья, что как я ни повернись, моя судьба и в качестве друга причинять тебе одни огорченья, если только я не ограничу своего дыханья одной тобою. Это можно свободно подарить, потребность же в этом, прямо показанная, – ужасает.
Сознавать себя единственной ставкой другого – невыносимо. У этого другого должны быть какие-то выходы, помимо тебя. Иных такая единственность подымает в собственном мнении, на меня же от нее веет душевным вампиризмом, это умерщвляет меня.
Ты была удивительнейшим образом собою, и была незабываемо прекрасна, когда зимой, в ответ на мое признанье (перед ночевкой у Полонских) сказала, что берешь все свои упреки назад, что не судишь моего чувства, раз оно серьезно, и отпускаешь меня. Останься на этой высоте, дай мне знать тебя такою.
Не пиши мне, пока не уляжется все у тебя, пока не сможешь написать мне просто, как товарищу: всякая другая попытка вновь и вновь бы растравила тебя.
Но напиши, если можешь, о наших (главным образом о папе) – Шуре, например. Так же извести своих, – Гита часто справляется. – Поскорее выясни насчет Лизы. Здоровье папы (Л. О.) меня крайне беспокоит. На днях напишу им и Жоне. Всякое известье о его состояньи будет легче нетерпеливой неизвестности, в которой нахожусь, потому что Жонины успокоительные сведенья, к тому же и косвенные, устарели, им уже больше двух недель.
Обними Женёнка. Открытку его, особенно трогательную тем, что слово Елесавета Михайловна занимает пол-открытки, получили. Она (Е. М.) часто заходит, страшно любит Женёнка. Последние дни болела печенью.
Сегодня уезжает Шура (прислуга), под крик и шипенье Пр<асковьи> Петр<овны> и тихие отзыванья меня в уголок Юл<ии> Б<енционовны>. Люди всегда верны себе и одинаково невозможны.
Мне хорошо, как зимой. Дай бог тебе всего лучшего. С<арра> Дм<итриевна> справлялась о тебе по теле фону. – Не отыщешь ли Савичей и не возобновишь ли былого знакомства? Тогда кланяйся им от души.
Твой Б.
Зинаида Николаевна со старшим сыном Адиком, которому было тогда пять лет, уехала в Киев 12 мая. Папа напрасно говорил, что разлука с нею ему легка. Через неделю после ее отъезда он сорвался вслед за нею, но к 27-му вернулся в Москву, чтобы принять участие в писательской поездке в Магнитогорск. По возвращении его ждало письмо от грузинского поэта Паоло Яшвили с приглашением в Тифлис. В начале июля он снова поехал в Киев, откуда, уже с Зинаидой Николаевной и Адиком, отправился в Грузию, где они провели в общей сложности три месяца.
Видя, какое впечатление производят на маму папины письма, дедушка достаточно жестко потребовал от него, чтобы он перестал ей писать, пока она сколько-нибудь душевно не успокоится.
В Берлине мы прожили три недели и 31 мая выехали вместе с бабушкой и дедушкой в Мюнхен к Жонечке.
Жоня и Федя сразу отправили маму в туберкулезный санаторий в Шварцвальде, в маленьком городке Шёмберг. Московские врачи, взволнованные ее истощением, пугали возобновлением туберкулеза. Она была на учете у фтизиатра. Опасность заражения вызывала естественное беспокойство за Жониных детей. В немецком санатории обнаружили, что открытого процесса в легких у нее нет, и мама в принципе не заразна, но ее тяжелое душевное состояние требовало неврологического лечения.
По прошествии почти месячного пребывания в санатории 2 августа мамочка писала Раисе Николаевне Ломоносовой, прося ее позволения приехать к ней в Лондон:
Чудный солнечный день – и ни одной близкой души. Ко мне тут очень хорошо относятся – но вдруг чувствую, что все чужое, чужое – о как печально и одиноко. Возьмите меня к себе. Мне близкой могла бы быть Жозефина – сестра Б. Л. Но она нервно-больна, а я сплошное волнение. Я приняла 7 кило и думала, что больше не буду плакать, но вот уже два дня, как опять то и дело подступают рыданья, но иначе, чем раньше. В Москву я не вернусь. Шлю Вам фотографии двух своих рисунков. Меня тут захвалили. Получила два небольших заказа, но не знаю, выполню ли их – это тяжело больные.
Недавно Л. З. Копелев переслал мне выписки из дневника Маргареты Буурман – одной из тех тяжело больных женщин, портрет которой мамочка нарисовала в санатории. Инициатором завязавшихся отношений был доктор Шеттлер. Он счел, что для мамы будет полезно познакомиться с безнадежно больной молодой женщиной, которая захотела оставить хороший портрет на память о себе своим сыновьям 9 и 12 лет. Она скончалась через год, а ее сын, Онно Буурман, теперь профессор медицины, действительно сохранил портрет и записки своей матери и по прошествии 60 лет ознакомил с ними меня.
Мама сделала в санатории три прекрасных карандашных рисунка, один из которых – доктора Шеттлера, очень внимательного врача и трогательного человека. Благодаря его заботе мамочка получила в Маргарете Буурман доброго и чуткого собеседника, интересующегося искусством и литературой, и своей одаренностью и доброжелательностью завоевала ее привязанность и восхищение.
В санатории мамочку называли “русской”, или просто “Russland”, “Россией”, так же ее называет Маргарета Буурман в своем дневнике. Позирование для портрета развлекало больную, ей было интересно наблюдать за сосредоточенной работой художницы. Она сразу обратила внимание на ее грустные глаза и поняла, как много тяжелого та пережила. Несмотря на самостоятельность характера и некоторую браваду, мама казалась одинокой и потерянной.
Она рассказала своей новой знакомой о своей юности, побеге из дому, ранних занятиях философией и живописью, о трудностях и голоде первых лет самостоятельной жизни, потом – о замужестве и рождении ребенка. Немка только никак не могла понять, почему семейство должно было тесниться в двух перегороженных комнатах и не могло приобрести другое, более удобное жилье. О своих отношениях с мужем мама не стала распространяться, сказав, что сейчас у них нет согласия друг с другом. Он как ребенок. Он заставил ее пережить много тяжелого. Мамочка показывала Маргарете наши с папой фотографии. Папино лицо своими огромными и грустными глазами произвело на нее странное, почти пугающее впечатление. Мама сказала, что у него глаза, как у лошади, и в профиль все лицо – немножечко лошадиное. Маргарета отметила также грусть в глазах мальчика. Мама жаловалась на мою чрезмерную чувствительность, с которой я переживал тяжелые события этой зимы. Она поделилась со своей собеседницей мыслями о смерти, которые ту удивили, – она была уверена и совершенно спокойно говорила, что умрет в 1937 году. Еще в детстве у нее были счастливые сны о смерти.
Она призналась также, что никогда не видела настоящих мужчин, что их на свете не существует. Если бы она могла опереться на руку человека, который бы ее вел, она стала бы спокойнее и пришла бы в порядок. Она говорила, что ей незачем сохранять верность своему мужу, потому что она ему не верит. Мужчинам нравятся глупые жены, и такие браки бывают более счастливыми. Эти слова вызывали у Маргареты острую жалость, она видела, как мама страдает, не зная, что ее ожидает в будущем.
Маргарета Буурман удивлялась, что можно вот так сидеть с чужим человеком из далекой и непонятной Москвы и чувствовать себя с ним такими близкими, как будто знакомы всю жизнь. Но иной раз ее подруга пугала ее болезненной резкостью и откровенной бравадой своих суждений. В ее словах слышалась страстная жажда свободы и протест против тысячелетнего господства мужчины. Муж должен быть опорой, но в то же время она требовала всю свободу себе и противоречила себе каждым словом. Она энергично протестовала, не соглашаясь признать себя современной женщиной, говорила, что она единственная архаистка в среде московских знакомых, потому что не может удовлетворяться поверхностными интересами. Но Маргарете она представлялась очень современной в своем отрицании консервативного уклада, в нежелании брака и детей, она хотела только любить и все отдавать искусству.
Маргарета Буурман восхищалась и удивлялась ее фантастичностью и горячим романтизмом, боялась, что та никогда не сможет быть счастливой. “Когда она любит, – записала она о маме, – она хочет, чтобы человек исключительно принадлежал ей и любил ее так же сильно, как она. Если это не так, то ей этого не нужно”. На вопрос, как же она решается оставить своего ребенка, мама сказала, что сейчас не может его видеть, потому что чувствует себя злой и безумной. Она пыталась покончить с собой, и это не получилось, но ей незачем жить и лучше умереть. С грустью и болью записывала мамина собеседница эти слова и добавляла от себя: “Ах, если бы у нее было хоть немного самообладанья. И такой эгоизм. Она хочет все время, чтобы ее любили, чтобы ее фантастический мир существовал на самом деле. Она не может удовлетворяться повседневностью. Бедная «Россия»!”
Мама часто поражала Маргарету своими неожиданными выходками. Ей не сразу удался портрет, и после двухнедельной работы и многочасового позирования она прямо во время сеанса внезапно быстрым движением разорвала его в клочки. Удивительны были резкие переходы от веселья к грусти и беспокойству. Иногда до мамы доходили какие-то смутные сведения о папе от Жони. Они всякий раз наводили на нее тяжелую тоску. Чтобы ее развеять, она уезжала из санатория в ближайший городок Либензаль и, чтобы не опаздывать к ужину, возвращалась на такси. Но и эти побеги не приносили утешения. Бледная и заплаканная, она жаловалась, что не может больше находиться в санатории и мучалась одиночеством и потерянностью. Все становилось ей далеким и чужим.
Однажды, когда они сидели вместе, но все же на достаточном расстоянии друг от друга и слушали стихи, которые читал им доктор Шеттлер, мама неожиданно вскочила и исчезла, не сказав ни слова. Оставшиеся были ошарашены. На следующий день она объяснила, что ушла потому, что была не в силах вынести глубокой грусти своей собеседницы. Ей захотелось ее обнять и утешить, а этого нельзя было сделать из-за опасности заразиться. И она не выдержала и убежала. Маргарете казалось, что мама своими выходками похожа на девочку Беттину фон Арним, переписывавшуюся с Гёте.
Иной раз, приходя к Маргарете, мама заставляла ее покидать постель, устраивала на балконе в шезлонге и радовалась вместе с ней прекрасной погоде или луне, высоко стоявшей над горами. Если была весела, пела ей русские песни и просила подпевать, хотя той было трудно запомнить слова. Им всегда было о чем поговорить. Мама иной раз смешила свою подругу, изображая и передразнивая докторов и общих знакомых. Однажды, когда Маргарете было лучше, мама со своей приятельницей, лаборанткой из другого санатория, водили ее под руки на небольшую прогулку. Иногда из леса, окружавшего санаторий, она приносила больной то букетик цветов, то стакан черники.
Когда разговор переходил на литературу, они обсуждали отношение Ромена Роллана ко Льву Толстому. При этом мама рассказала, что смогла получить заграничный паспорт только благодаря заступничеству Ромена Роллана, с которым переписывается ее муж. Они много разговаривали о Рильке и о поэзии вообще. Однажды мама принесла “Реквием” Рильке по Пауле Модерзон и прочла его вслух. Ее восхищало до слез, как замечательно Рильке описал художницу, в таких удивительных образах и так трогательно, как только муж может писать о своей жене. Мамочка говорила, что так любит эту книгу и страдает, читая ее, как будто это написано о ней самой. Она сказала, что ее муж перевел “Реквиемы” Рильке на русский язык.
Работа над портретом растянулась на два месяца. Временами казалось, что он никогда не будет окончен. Делались большие перерывы в сеансах – то одна, то другая плохо себя чувствовали и не могли работать. Мама жаловалась, что очень трудно перенести на бумагу мягкие и нежные черты лица ее модели. Но вот все препятствия были преодолены и работа завершена. Портрет сфотографировали. Мама ездила в город и купила для него рамку красного дерева. Маргарете Буурман очень нравилась импрессионистическая манера маминого одухотворенного рисунка, и она отмечала его живописность. Мама говорила, что ее любимый художник – Рембрандт.
После маминого отъезда Маргарета разослала фотографии портрета своим друзьям и родственникам. Все были в восторге от переданного в нем сходства и красоты рисунка. Ее брат, профессор искусств Ганс Янсен, и художница Элизе Козенгартен высоко оценили работу с профессиональной точки зрения и восхищались удивительным проникновением в самое существо модели. Брат отметил сочетание современной манеры рисунка с внутренней глубиной отношения к искусству, свойственной старой живописи. Маргарету поразили эти слова, так точно повторявшие то, что говорила о себе сама мама.
На прощание Маргарета подарила маме роман Петера Йенсена “Нильс Люне”, которым в юности зачитывался папа. Мама оставила ей на память книжку Рильке. Уезжала она из санатория 30 августа, взволнованная и счастливая тем, что скоро увидится со мной.
Мы с дедушкой и бабушкой сначала некоторое время жили у Жонечки в Мюнхене. У нее была большая трехэтажная вилла на Лапласштрассе. Розовый дом стоял посередине большого огороженного сада, его стены скрывались под вьющимися розами. Розы росли и на клумбах. Был маленький бассейн для купанья. Мои кузены, четырехлетняя Аленушка и годовалый Чарлик, были со мной очень ласковы. Их опекала бонна. Спал я в мансарде под крышей.
Федор Карлович работал в банке. Утром за ним присылали машину. На ней же он приезжал на обед, после которого полчаса спал, сидя в кресле. Потом уезжал снова до позднего вечера.
Тетя Лида тоже жила в Мюнхене – в отдельной маленькой квартире, которую снимала у любителя охотничьих трофеев: все стены там были увешаны оленьими рогами в разных видах. В ее квартиру входили прямо с улицы. Она ездила на велосипеде, который еще в 1922 году ей подарил Боря. Как я радовался, когда она сажала меня на раму и мы ехали кататься по городу!
На время Фединого отпуска мы вместе с бабушкой, дедушкой и Жониным семейством поехали в пансион на берегу горного озера Шлирзее, почти на границе с Австрией. Дедушка регулярно отправлялся на этюды, и я его сопровождал. По озеру ходил паровой катер, на котором мы плавали в городок, расположенный на другом берегу.
Сохранились фотографии, на которых в маленьком кафе на берегу озера были сняты Жонино семейство и семейство их друга доктора Гуго Шмореля, с мальчиками которого я познакомился. Старший Александр, Шура, возглавил во время войны антигитлеровскую группу друзей и был казнен. Его мать была русской из Оренбурга, русская няня воспитала его в православии. Недавно он был причислен к лику святых. Удивительным образом мы встретились с его младшим братом Эрихом Шморелем, когда недавно были в Мюнхене, и с их племянницей, когда были в Вене, где она учится русскому языку. Она показала нам фотографию в кафе и очень удивилась, когда я указал ей на этом снимке себя самого.
Жоня написала папе о нашей жизни, но само письмо не сохранилось – только папин ответ на него.
30. VII.1931. <Коджоры>
Родная моя Жоничка, какую ты мне радость доставила своим письмом, как нуждался я в нем!
Сейчас я точно в первый раз в жизни пишу тебе, так много у меня и кругом изменилось. Как ни нежны бывали мои письма к вам, как ни почтительны к родителям, я их всегда писал с высокомерьем спокойной совести, как старший младшим.
Сейчас же я обращаюсь к тебе в совершенной сконфуженности полного счастья. Оно в каком-то смысле делает меня ребенком, таким простым и ясным я никогда в жизни не бывал.
Место, где мы живем, считается детским курортом. Тут много детворы кругом. Старший мальчик З<инаиды> Н<иколаевны> с нами. Я ежедневно без счету думал о Женичке. В долгой неизвестности, предшествовавшей тво ему письму, я всей кровью сердца оценил, какой он бесхитростный и нежный, как не по-детски несебялюбив и отзывчив, как, по-видимому, заслуженно, что как бы это меня не мучило, – я ничего не знаю о нем. Как благодарить тебя за письмо? И как, какими словами или делами, – за вашу заботу?
Знаешь, Жоничка, только теперь я измерил, что как бы тих и скромен не был человек, его скромности никогда недостаточно перед лицом жизни. Он делает вид, что знает ее, чтобы не запутаться и сохранить достоинство в неизвестной обстановке. Тут решающим остается его самолюбье. Но когда любишь со всей безоговорочной естественностью, без всякого труда и сомненья, – правда становится дороже всего, и она так много дает, что самолюбье было бы тут вредною помехой. Тогда, оставаясь в тех же гостях у жизни, чувствуешь себя так тепло принятым ей, так по-братски, что забыв про защитный этикет, гостишь у нее откровенным невеждой. Но у восхищенья этого есть своя оборотная сторона.
Когда десять раз на дню я поражаюсь тому, как хороша З. Н., как близка она мне работящим складом своего духа, работящего в музыке, в страсти, в гордости, в расходованьи времени, в мытье полов, в приеме друзей из Тифлиса, – как, при большой красоте и удаче проста и непритязательна и пр. и пр., я никогда не могу отдаться этому восхищенью совершенно неомраченно. Значит ли из того, что она так прекрасна, что Женя дурна? О никогда, никогда! – И как бы беспредельно был бы я счастлив, если бы большинство человеческих голов не было устроено, как учебники формальной логики, и для них всякое положенье не означало бы основанья для вывода, исключающего противоположное утвержденье.
Нет, нет, всякий раз, устрашаясь этого рассудочного духа, призраком витающего повсюду и сосущего силлогизмы изо всего живого, я в одиночестве, когда З. Н. на полдня уходит с сыном вниз, чтобы мне лучше работалось, и я всего удивленнее думаю о ее прелести, я всегда с тоской останавливаюсь у этой убийственной черты, обязательной для черствых дураков, и с виноватой нежностью думаю о Жене, и всю ее вновь с первого дня перепроверяю. Клянусь жизнью той же З<ины>, самого высокого и дорогого, что есть у меня на свете, – мне Жени не в чем упрекнуть. Я душевно люблю ее, она ни в чем не виновата. Но, – положа руку на сердце, – не виноват и я, что жизни устроить мы не сумели. Другими словами – и не надо бояться этих слов, любить так как надо, чтобы делить в нашем случае существованье, мы друг друга не любили. И наверное, в этом виноват я, но с другой стороны, зачем стал бы я заводить эту вину, если бы она не завелась естественно? Так или иначе, но мы любили друг друга как-то по-другому, и так, хочу я сказать, как это возможно только сейчас, существуя врозь, открыто и широко дружа и ничем не вызывая друг в друге ощущенья даром понесенной и другим не оцененной жертвы.
Говорю тебе я это не зря. Примириться с тем безмолвным отсутствием Жени, при котором получается так, точно я вычеркнул ее полностью из жизни, выселил с земли, отлучил от воздуха и собственным приговором сослал в несуществованье, я не в силах. Даже и сознавая, что все это неправда, я этой неправды не снесу. Если бы мое счастье было меньше и мельче, оно вооружало бы меня против этого несправедливого обвиненья. Меня бы по-мещански и слишком по-мужски раздуло бы от счастья и, побагровев от него, я стал бы недоступен этому обличительному призраку. Но я именно с того и начал, что счастье мое так велико, что разоружает меня и уравнивает с природой, что оно наделяет меня чувствительностью травы.
Я хочу, чтобы ты знала, что власть Жени надо мной выросла, а не уменьшилась, что у ней есть возможность снова сделать несчастной себя и меня. Я не могу предугадать новых форм этого несчастья, потому что старые – совместная жизнь – уже испробованы и больше неповторимы. Но я хочу сказать, что измора чужим страданьем я не вынесу и внутренне солгу, но ему уступлю. И это тем мыслимей, что человек, с которым я связан, внутренне подобен мне и душевно свободен, то есть способен к самопожертвованью, и так же, как и я, не роняется никаким видимым “позором”. И все равно, все равно. Может быть и его поработят жалостью. Все равно, говорю я, как бы ни хотелось мне делить с ним одни радости, это будет снова только он, с кем я буду делить, если заставят страданья.
А теперь о моих мечтах, которые я бы назвал планами, если бы был самонадеяннее. Я обязательно приеду к вам будущим летом с З. Н., если она согласится, если пустят нас, если мы будем живы. Так или иначе, я заявлюсь к вам. К этому времени, в теченье зимы, я постараюсь сделать все, что может дать работа, чтобы впервые успешно реализовать западные возможности. Каким счастьем было бы, если бы к тому времени Женя справилась с болью и простила меня. Если бы она не то что вернула, а обрела совершенно новый и завидный мир в большой дружбе со мною во всё изумительное, небом данное нам человеческое “ты”. Только тут, в этой обстановке чистого и взаимно восторженного доверья можно было бы впервые увидать и решить, как нам жить и расти всем дальше, как воспитывать детей и что им сказать.
1. VIII.1931
Я не стану рвать написанное выше, но я себя им измучил. Мне все кажется, Женя смотрит со стороны и думает: и эти холодные слова, – это все, что осталось у него для меня? От нашей жизни, ото всех этих десяти лет? – Если можно, ничего не показывай ей. Знай ты одна, что все эти страданья временны, и, дайте срок, я все, все, все поправлю. Вот именно. Прими, что я ничего не писал тебе и не напишу, и что это воображаемое молчанье я себе позволяю не из безопасности, а по двум основаньям. Оттого, во-первых, что слова ужасны в таких случаях: скажи я, что в горе о Жене и люблю ее (что очень близко к правде), – получилась бы бессмыслица: стали бы напрашиваться выводы, означающие общее несчастье для всех и прежде всего для меня, и потому неисполнимые; скажи я, как я и сделал, и, что еще ближе к правде, как я сейчас живу, и эти слова получают видимость холодной безжалостности в отношенье Жени, страшно дорогой мне. Во-вторых, такое отмалчиванье я могу себе позволить, потому что вы тоже люди, и как-то знаете меня и что-то должны себе представлять о том, кто я и как живу и как мне. И наверное это всего ближе к правде.
Страшно жалко, что Шура, и в особенности Ирина ничего не писали вам. Они много видели и знают и, как судьи, беспристрастны. И, что всего важнее, они любят Женю.
Но я знаю, что дико, безбожно, неслыханно стеснил вас и – и Ах, что тут сказать!
Не говори о письме ничего и Женёночку.
Я как-то по-своему (на посторонний взгляд может быть и дико) продолжал свой разговор с ним и Женею. Папино письмо и особенно просьба не писать Жене испугали меня, я ему поверил, наступил перерыв, и теперь у меня нет духа к ним обратиться. Прежде это было естественно, по-родному, и я не знал, что это бессовестно. – Теперь…
Временно тяжелой, а потом счастливой для всех развязкой явилась бы моя смерть. Но сейчас я не могу.
И как по-другому бы написал я тебе, если бы: 1) не папино письмо, 2) не сдержанно-измученный и скрытноотстраняющий тон твоего; и 3) если бы с нами не был старший мальчик З. Н., вспыльчиво-эгоистичный и в отношеньи матери – грубый тиран. Наносный налет на прекрасном в своей подоснове ребенке, но – налет усвоенный в семье и издалека дающий картину жизни, непривычно противоположной нашей, втроем. И всякой новой вспышкой своего нестерпимого своеволья через противоположнейшее себе, через образ Женички, заставляющий меня вновь и вновь любить на расстояньи всех нас троих и втроем: Женю, Женёнка и меня: нашу жизнь.
И как по-другому бы написал я тебе, если бы со мною была только она, – лицо, характер, участь и назначенье, которые с такой силой собирают все женское воедино, как это было в Магдалине, – если бы со мной было только то, что я любил всю жизнь и вдруг нашел. И тогда бы это было действительно письмо отсюда, из Грузии, с ее красотами, с ее редким, неслыханным к нам обоим отношеньем, не щадящим ни сил, ни времени, ни крупных средств.
Мой адрес Тифлис. Коджоры, гостиница Курорт, комната 8.
Это письмо, как и следующее, от 6 августа, были переданы маме только через несколько месяцев и сохранились у нее среди других бумаг. Словам этого письма о взаимной переплетенности чувства к Зинаиде Николаевне с жалостью и мыслями о маме вторит стихотворение “Пока мы по Кавказу лазаем”:
Когда от высей сердце ёкает И гор колышутся кадила, Ты думаешь, моя далекая, Что чем-то мне не угодила. И там, у Альп в дали Германии, Где также чокаются скалы, Но отклики еще туманнее, Ты думаешь, – ты оплошала? ……………………………………… Не бойся снов, не мучься, брось. Люблю и думаю и знаю. Смотри: и рек не мыслит врозь Существованья ткань сквозная.6. VIII.1931. <Коджоры>
Горячо благодарю тебя за письмо, дорогая Жонюра, я страшно нуждался в нем и очень скучал по своим и за них беспокоился, ничего о них не зная. Ты мне эти мученья облегчила.
Я написал тебе в ответ длиннейшее письмо, и оно неделю пролежало в Коджорах над Тифлисом, оно при мне, но я его не отсылаю, потому что там была попытка растолковать тебе то, что у нас произошло, и этого нельзя сделать без логики, логика же менее всего уместна в случаях, подобных нашему. Потому что в ее формах получает характер злых счетов или роковых констатаций разговор о том, что всего менее на это похоже.
Мне хорошо, Жоничка, – я никогда так не любил Женюру и Женёнка, как сейчас, и верю и знаю, что им обоим и всем близким будет скоро так же хорошо, как мне, и во всяком случае лучше, чем в прошлом. Что во всяком случае все кончится светом и добром, ты увидишь. Больше ничего не хочу прибавлять, хотя рассказать есть много чего, потому что боюсь человеческой привычки принимать все с обязательными выводами из сказанного, а привычке этой подчинены и ты, и Женя, и все наши.
Только одно. Я знаю, как вам всем трудно, какими заботами я вас всех обременил и как стеснил. Тут я должник неоплатный и преступник, которому нет оправданья. Но и это, и это где-то как-то возместится.
Верь мне, верь мне, друг мой, и прости и поцелуй всех всех.
Твой Боря
Пусть не думают, что я им чужой или они мне чужие, что они стали хуже и дальше, или я. Все выправится, все осветится и уяснится, и это не слова.
Отсюда мне трудно написать толковее, для этого надо быть дома. Но это не первое мое письмо к тебе и во всяком случае всего яснее показало мне последнее перед этим, которого я не отсылаю, что с умом писать об этом значит без сердца, а сейчас без сердца я ни существовать, ни думать не могу. И много, много его у меня для всех, для самых близких, для моей семьи, для вас. Обнимаю.
Б.
По нашем возвращении в Мюнхен я стал очень скучать без мамы, по вечерам Жонечка сидела у моей кровати, пока я засыпал. Когда, наконец, мамочка приехала, я захотел с ней погулять по Мюнхену. По моей просьбе мы пошли с ней в Немецкий музей техники. Я с упоением лазил по стоявшим там самолетам и автомобилям, расспрашивая маму о том и о другом, мне все хотелось понять.
Но все было как-то странно. Нервность и раздражение чувствовались в разговорах и поступках. Мне кажется, что вскоре мы уехали в Берлин. Федя не выдержал и потребовал отдыха для Жони и своей семьи. Его можно было понять. Ее силы и нервы не выдерживали постоянного напряжения.
В Берлине мама получила письмо от папы, пересланное ей Жонечкой.
19. IX.31. <Кобулеты>
Дорогая Женюра!
Весной папа написал мне возмущенное письмо, в котором не узнавал меня и почти что от меня отрекался. В нем был совет: не писать тебе, чтобы тебя не волновать. Я ему подчинился. Не стану говорить, чего мне стоило это вынужденное летнее молчанье. Говорить об этом не время, – ты об этом скоро узнаешь.
Из Москвы я спишусь о многом, если не с тобою, то хотя бы с Жонею. Как бы ни была удивительна Зина, как ни чудесны были места Кавказа, нами посещенные, как ни трезвы советы Шуры или папы, направленные к твоему спокойствию, не это, конечно, я предполагал, расставаясь с тобою: не прекращенье твоего существованья для меня, не наступленье полной неизвестности относительно Женички. Особенно ранящей, по своей бессловесности неведенья, была для меня разлука именно с ним, хотя вы никогда не являлись мне врозь, и этих чувств разделить нельзя.
Я не жду ответа на это письмо. Повторяю, – определенные сведенья и прямые расспросы будут из Москвы, когда я узнаю, могу ли я писать тебе без страха, что это отразится на твоем здоровьи. Но 23-го – день рожденья Женички. Я не мог вообразить телеграммы, которая без помощи письма могла бы передать хоть что-нибудь из перечувствованного за это лето. Нет этого и в письме. Но в нем есть хотя бы мой голос, и он попадет к тебе и будет с тобою. Итак, до письма из Москвы, если ты позволишь. С Женёнком заговаривать не осмеливаюсь.
Обними и расцелуй его, и чем больше хорошего ты ему скажешь о нашем будущем, тем ближе будешь к правде. Обнимаю тебя. Твой Б.
Дорогая Жоничка!
Прочти пожалуйста это письмо и, если найдешь возможным, – передай его Жене. Мне очень трудно было без известий от вас. Из Москвы я запрошу тебя обо всем подробно и приведу в ясность денежные дела. Сейчас я на море близ Батума (в Кобулетах), откуда думаю возвратиться домой числа 10–15 октября. Краткость письма вызвана тем, что лишь сейчас получили комнату в гостинице и есть оказия через час отправить письмо с едущими в Тифлис.
Горячо благодарю тебя и твоих за сердечность в отношеньи Жени. Много, много о чем напишу из Москвы. На Москву надеюсь как на каменную гору.
Крепко целую папу, маму, Лиду, Федю и деток.
Твой Б.
Отец еще в мае, вскоре после нашего отъезда, получил предложение от Горького издать “Охранную грамоту” сначала в Германии, у Kiepenhauer’а, чтобы обеспечить себе всемирное авторское право на эту книгу. Он радовался тому, что деньги за издание, Горький обещал 3000 марок, помогут нам с мамой поехать во Францию и дадут определенную независимость. Сохранилось несколько папиных писем к секретарю Горького П. П. Крючкову, который должен был выслать деньги в Мюнхен на мамин адрес. Но ни издание, ни обещанье выплаты, переносившееся с одного месяца на другой, не осуществились. Из маминой переписки с Ломоносовой известно, что присланные ею деньги дали маме возможность продержаться в Берлине до конца года. Папа их компенсировал крупными суммами в Москве. Мы снимали комнату в пансионе, откуда мамочка писала Раисе Николаевне, благодаря ее за предложенную помощь:
Я надеялась, что родные Б. Л. особенно теперь помогут мне выбраться, то есть мне казалось, что они помогут мне растить Женичку и устроят мне возможность несколько часов в день работать. Но у них такой страх перед завтрашним днем. Ах, как трудно об этом говорить. Они старики, отцу исполнится скоро 70 лет. Они хотят покоя, а в наши дни все так беспокойно, а тут еще конечно волнующая, конечно пугающая моя судьба, а главное, Женичкина. Ох, это гораздо сложнее, но короче говоря. – Мы с Женичкой живем отдельно и должны сами справляться со своими трудностями. В основе этого лежит мудрость их возраста – вернуть поскорее (главным образом Б. Л., – пусть не рассчитывает на помощь других, пусть не сбрасывает на шею других свою семью со всеми трудностями и заботами) людей к долгу, к трудностям жизни. Я им очень благодарна за то, что они дали возможность мне летом восстановить свое здоровье и возились с Женичкой. И вообще я их очень люблю. Да, вероятно, и они нас.
Женичке 23-го исполнится восемь лет. Ему нужно в школу. Он за лето стал читать, писать и как-то объясняться по-немецки, в Москве он столько же знал по-французски…
Сама я с Москвой не переписываюсь, потому что меня еще в самом начале заставили принять это решение. В письмах Б. Л. все перевернуто, выводы совершенно не совпадают с предпосылками, и я теряю окончательно равновесие, нет это слабо сказано. Я нахожусь тогда на границе безумия и боюсь очутиться на той стороне, а потому совершенно отказалась от любых сведений из Москвы… И вот представьте себе Берлин, гостиницу, в одной из комнат диван и в углах дивана меня и Женичку. Женичка сидит книжку читает, а я – но каким путем войдет в эту изолированную и оторванную от всего мира комнату – реальная жизнь, как стать на ноги, как перестать бояться жизни… Но дорогая Раиса Николаевна, не насилуйте себя в своих симпатиях ко мне и в возможностях мне помочь. Откровенность родных Б. Л. по крайней мере не создает никаких иллюзий и поможет мне поскорее прийти к какому-нибудь решению[252].
Ко дню моего рождения папа послал телеграмму в Мюнхен, не зная, что мы уже в Берлине. Жонечка звонила нам по телефону и вместе со своими и Лидиными поздравлениями прочла и ее:
GRATULIERE UMARMЕ KUESSE SCНREIBE VON MOSKAU MITTE OKTOBER= =BORIS=[253]
Сохранилась открытка от мамы из Берлина в Мюнхен с благодарностью за пересылку папиного письма, посланная 6 октября:
Дорогие Лидочка и Жоничка, мы с Женичкой очень, очень вас благодарим за рождение. Федю я благодарила здесь и просила вам тоже передать. Здесь уже неделя, как пребывает Эренбург. Не знаю, писала ли Вам мама, что если мы получим визу, то уедем с Женичкой в Париж. Эта возможность нас всех волнует все это время. Спасибо за пересылку Бориного письма. Лишнее говорить, что я разучилась его понимать. Но думаю, что при желании напишет он когда-нибудь более понятно.
Крепко вас всех целую. Женичка часто вспоминает Аленушку.
Ваша Женя.
Крепко вас обоих очень целую, не пишу, потому что все еще не у дел.
Меня отдали в немецкую школу. Мама надеялась в освобождавшееся время начать работать. Но из этого ничего не вышло. Занятия начинались в 7 часов. Приходилось вставать в 6 часов каждый день. Меня тошнило от непривычки к раннему вставанию и от страха перед учителями, которые били линейкой по пальцам мальчиков, плохо выучивших урок. Хотя мне самому это не грозило, – я был иностранцем, но, видя остававшиеся от такого обучения синие полосы на руках своих сверстников, я страдал в полном смысле слова физически. И меня рвало каждое утро.
Обещанного письма от папы, которое он собирался написать сразу по приезде в Москву, мы не получили. По-видимому, на нем мама строила свои расчеты на будущее. Не дождавшись, 1 ноября она позвонила в Москву. Разговор шел о поездке в Париж, куда маму тянуло. Там в это время жил Роберт Рафаилович Фальк, ее любимый учитель по ВХУТЕМАСу. Мама могла рассчитывать на его помощь в первом устройстве. Эренбург приезжал в Берлин и посодействовал в получении визы.
Но снова вставал вопрос, что делать со мной. Папа все еще надеялся, что родители и сестры возьмут на себя заботу обо мне и освободят от этого маму. Но его уверенные слова о том, что все уяснится и выправится в самом скором времени, вселяли надежду в быстрое разрешение всех трудностей и восстановление нашей семьи. Им казалось, что их вмешательство и оттяжка нашего возвращения в Москву может только нам повредить.
Сразу после телефонного разговора мама написала отцу.
1 ноября 1931. Berlin
Я пишу это письмо ночью.
Бессонным ночам нет счета – поэтому не удивляйся. Ты заткнул мне рот на 6 месяцев, поспешив написать мне письмо. И не дал вырваться тем ласковым, близким мыслям и словам, которые я довезла до Берлина, оставаясь, как в последний день все время с тобою.
Ты ведь ходишь с расстегнутыми штанами. Люди делают вид, что тебя понимают и слушают, а отвернувшись удивляются, что ты не понимаешь в чем дело.
Я не хочу шататься по миру, я хочу домой. Я за девять лет привыкла быть вместе и это стало сильнее меня. Я хочу, чтобы ты восстановил семью. Я не могу одна растить Женю.
Если вопреки всей правде ты не хочешь быть с нами вместе, возьми, но не в будущем, а сейчас, Женю. Учи его понимать мир и жизнь. Я не могу, у меня выдернут стержень, у меня все изболелось. Когда просыпаясь утром, вдруг и как только он умеет попадать прямо в твой сон, с которым ты не успела еще расстаться, он говорит: “Мама, но мы не останемся здесь, мы вернемся домой в Москву” я реву и на целый день лишаюсь рассудка. Я хочу иметь дом, он подслушал мою тоску, мое одиночество.
Я звонила тебе сегодня по телефону. Ты не понял, какой тоской был вызван этот звонок. Молю Бога, чтобы расстояние и телефон были причиной того чужого и холодного голоса, который я слышала.
Неужели непонятная дикая потребность во что бы то ни стало убить нашу близость принесла уже такие результаты. В том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не знаю, зачем мне ехать в Париж, зачем таскать за собой Женю. Он пишет, читает по-немецки, начал ходить в немецкую народную школу, французский успел забыть. Пробыв месяц, два в Париже (ты скажешь, зачем два, больше, до весны, – а что там делать, можно посмотреть, поучиться – но работать, жить можно только дома, а потому должен, должен существовать дом), восстановит французский, забудет немецкий.
Боже, Боже, я не могу понять, как, почему этот кошмар въехал в мою жизнь, ни зеркало, ни люди не дают мне ответа. Я жду и дико боюсь того момента, когда утрачу совсем рассудок и отвернувшись от испуганных Жениных глаз и его беспризорности, прикончу свою боль. Больно, больно, не хватает воздуху. Я не героиня, я не могу ею быть, у меня нет сил. Помоги. Спаси меня и Женю. Пусть Зина вернется на свое место.
Неужели же я как-то по-другому устроена. Стоит мне представить тебя на углу какой-нибудь улицы… А у тебя? Неужели думать и чувствовать так с кровью и плотью неправильно. Неужели мир устроен совсем наоборот и как я могу тогда в нем существовать.
В твоих первых письмах все было перевернуто. Я ждала и ждала, чтоб ты во сне или наяву все опять стал понимать. Я знаю, что у тебя бывают такие минуты. Когда же они возьмут верх, что может этому помочь? – Мое здоровье, мое присутствие, улыбка, мольба?
Все это вызвано ожиданьем письма и разговором с тобой по телефону.
<2 ноября 1931. Москва>
Женюра, я много писал тебе. Это, – должна догадаться ты, – не первое письмо. Мы были с Зиной на Кавказе. Мы были также однажды там с тобой. Я был там с тобой и Жененком, с вами, – моею жизнью. – Я живой человек, Женюра. Ты легко догадаешься, как беспросветно грустно становилось мне временами при этих параллелях и воспоминаньях, как меня душили слезы при мысли о вас.
Воображенье должно подсказать тебе, что нечто подобное твоей печали творится и со мною, что в своем страданьи ты не одинока. Зачем я говорю это тебе? Для того, чтобы слабейшие стороны твоей души не завидовали мне, а лучшие и сильнейшие помнили, что пока ты страдаешь, это делается и со мной, что это страданье нас связывает; что у нас есть связь, что мы не чужие друг другу. И эта связь могла бы стать радостною связью, если бы ты помогла мне, если бы захотела понять, к чему я тебя зову.
Вчера мы разговаривали по телефону. Еще раз, – я живой человек, мой друг. Если бы это показали в кинофильме, посторонний разревелся бы. А я – участник, я кровью сердца ощущал вас там на этом страшном расстояньи, его и тебя, далеко, далеко, – я угадывал подробности того недоступного дня в Берлине, и как вы ушли, тени ваши на панели. Как опустошенно тихо стало потом! Точно нас всех втроем утопили, и пошли круги по остаткам дня.
Ты легко догадаешься, чего мне это все стоило. Я не сразу овладел голосом. И ты, разумеется. В чем же дело, друг мой? Надо жить, надо совладать с этим. Дай мне помочь тебе так, чтобы что-нибудь получилось, а не так, как тебе это кажется единственно возможным в судорожности твоего огорченья. Помоги, помоги мне, а то я опущусь и в том новом и оставшемся напряженьи, которое у меня навсегда к тебе осталось.
Поезжай в Париж, если это надо. Жаль, что придется Женичку взять из школы, не надо бы его трепать. Лучше было бы, если бы ты смогла ради него продержаться в Берлине.
Мы увидимся, сговоримся, – трудно писать. Мы увидимся либо там, либо здесь, это зависит от тебя, от хода твоей жизни, от того подвинешься ли ты вперед в душевной крепости, или нет.
Главное, чего тебе недостает. Ты должна понять, что я не бросал тебя, что никакого пораженья ты не потерпела, а что, наконец мы сделали то, что пробовали сделать раньше. Что речь не о тебе, а о семейной нашей жизни, которая не удавалась нам и длящаяся неудача которой обижала тебя, а меня делала перед тобою без вины виноватым. Ты часто признавала надобность этого шага. Ты сама говорила, что мне надо уйти и сказала это в последний решающий раз. Понимаешь ли ты, что я не упрекаю и не оправдываюсь, а только напоминаю тебе, что ты не жертва, что ты – участница, что пришли мы к этому сообща, и бывши равными, мы равными и остались.
Когда я все это вижу перед собой и охватываю со всем сердечным теплом, на которое способен, благо становится мыслимее и ближе для всех нас в моих глазах, чем оно было раньше. Ну же, будь умницей и не падай духом. Когда-нибудь ты увидишь, как я был прав и как мне было больно в этой правоте, пока ты ее не признавала.
И все это будет легче при свиданьи, переписываться об этом нельзя. Напиши мне подробно о Женичке, в особенности, если ты действительно поедешь в Париж. Я хочу и могу писать ему, но чтобы говорить с ним совсем естественно, должен знать, в каком положенье мое письмо его застанет. Целую тебя. Счастливой дороги.
Твой Боря.
После телефонного разговора маме стало совсем плохо, и ее срочно поместили в нервную лечебницу. Меня забрали из школы, и я переехал к бабушке и дедушке.
Учить меня русской грамоте взялась жившая неподалеку Вера Александровна Рещикова, дочь высланного в 1922 году профессора Петровской академии. Дедушка засветло отводил меня к ней, стояла холодная осень, и мы топили коксом угольную печь в ее комнате. Уроки кончались, когда уже было темно, и ее отец Александр Иванович Угримов отводил меня обратно, заодно прогуливая свою большую охотничью собаку.
Бабушка регулярно занималась музыкой. Раза два в неделю к ней приходила Розалия Александровна Розенфельд играть с листа в четыре руки симфоническую музыку. Когда бабушка играла Шопена, я заслушивался, сидя с ногами в стоявшем в гостиной кресле. Дедушке понравилась моя поза, и он сделал с меня несколько рисунков.
На одном из них он передал сосредоточенный взгляд семилетнего мальчика, зрачки глаз которого устремленные прямо на зрителя, вызывают некоторый страх, отраженный в них. Папа никогда не видел этого портрета, но, глядя на него, невольно вспоминается его описание сына из романа о Патрике, писавшегося им в 1930-е годы: “Вглядывались ли вы когда-нибудь в Шуру как следует? Чертами лица он в Тоню, а их жизнью и игрою – в меня. Глаза у него не от нас, это свое, но лучше бы этого не было. В них мольба и недетский испуг. Точно это не зрачки, а руки, вытянутые в отвращенье близящегося несчастья… Так смотрят обманутые. Это я заманил его, залучив в жизнь несуществующими надеждами”[254].
По утрам я очень любил сопровождать дедушку, когда он ходил за продуктами. Меня особенно поражало, как легко и быстро в мясной лавке нарезали по его заказу разные сорта колбасы и ветчины, как вкусна была свежекопченая рыбка и красивы всякие экзотические фрукты, развешенные в овощных лавках. Но всего этого покупалось очень помалу. В Германии был кризис, люди голодали не от отсутствия продуктов, от которых ломились прилавки, – а от безденежья.
Помню, когда мы жили с мамочкой в пансионе, к нам часто приходил молодой поэт Подчус. Мама посылала его со мной гулять в парк, пока она работала по утрам. Он был всегда очень голоден, и мама подкармливала его нашим пансионным обедом. Он носил пиджак, протертые места которого замазывал чернилами, и никогда его не снимал, потому что рубашки у него не было, а только манишка с галстуком. К сожаленью, я ничего не знаю о его дальнейшей судьбе.
16. XI.31. <Москва>
Дорогая Женюра, мне очень трудно писать тебе: постоянно о тебе думаю и люблю.
Так когда-то я думал о Марине или любил весь Ирпень и это огорчало тебя. Теперь это огорчает Зину.
Ты не представляешь себе, в какой грусти обо всем случившемся я нахожусь почти сплошь. Хотя теперь она вызывается тобою, но это та же самая грусть, которая однажды так смутила тебя и И<рину> С<ергеевну>[255] при чтеньи вступленья к Спекторскому.
Я себя никогда в достаточной степени не понимал, а то я был бы с тобой настойчивее. Помнится осенью в Ирпене я сказал тебе, что как бы я ни глядел в сторону, все же хорошо, что я твой муж, и ты должна была бы в сознаньи, что ты моя жена, черпать больше надежности, чем ты имела обыкновенье. Ты, разумеется, взорвалась; ты решила, что я предлагаю тебе гордиться мною. Я же и сам не знал, какой предосторожностью мне это внушалось: это был голос заботы о сохраненьи семьи и брака.
В переписке невозможно во все это вдаваться. Я только хочу предупредить тебя, что много надежд возлагаю на нашу встречу. Все гораздо лучше и легче, чем ты может быть думаешь.
Напиши мне, где ты и что, с кем встречаешься и что думаешь делать. Послезавтра мы едем в Ленинград на несколько дней, я боялся, что в мое отсутствие придет письмо от тебя и пролежит в одиночестве: так вот, эти несколько слов ему навстречу.
Весною в Киеве Зина поссорилась с И<риной> С<ергеевной> на всю жизнь и я Асмусов со дня твоего отъезда не видел и не скоро увижу. У нас часто бывает Гаррик, – и больше я ничего не скажу, – ему приходится бороться с постоянным страданьем, но именно об этом не хочу распространяться.
Из Одессы мне вернули деньги, посланные родственнице Р<озалии> А<лександровны>[256], и лишь в тот же день пришла ее открытка о том, что больше посылать не надо. Она не проставила №№ дома и квартиры при адресе (Волхонка и больше ничего), и открытка два месяца ходила в адресный стол и обратно.
Тебя очень любит Кира[257]. Многие стоят за тебя горой. Меня это радует. Раньше весны сюда не собирайся. Но только из соображений здоровья.
К чему я все это пишу. Знай, что мыслями я всегда с вами. Это мне стоит больше сил, чем ты думаешь. Но не все в моей власти, как не было в ней и тогда, когда так много решающего было дано тебе, почти что первенство, а не равенство, и ты представляла нашу жизнь несчастьем, и я заражался твоим представленьем, между тем как, вижу теперь, – это была хорошая жизнь, которой сейчас жалко.
Параллель с Зиной сводится лишь к тому, что в совершенно несходных условьях ко мне возвращаются настроенья, от которых всего грустнее мне первому, и которые всегда обижали тебя, и теперь внушают сходную недоверчивость ей, – настроенья, по-видимому для меня естественные, и корни которых лежат вне любви и личной верности. Параллель с Зиной, не только не ищущей первенства или равенства, но совершенно подчинившей всю себя, досугом и силами, мне, – заключается только в том, что она сомневается в моей любви всякий раз, как я уношусь далеко в сторону, и теперь, в силу случившегося, всегда – в твою; и она ошибается и не понимает этого, как не понимаешь ты, и мне некому это объяснить, потому что это не “Тришкин кафтан” (твое выраженье); он-то понятен. А это глубже и никому не нужно. Поцелуй Женичку. Напиши мне, пожалуйста, и о деньгах.
Твой Боря
В ожидании нашего возвращения папа кинулся в Ленинград в поисках квартиры для себя с Зинаидой Николаевной. Ранее его поражали там более свободные и благополучные жилищные условия, сравнительно с московскими. Найти квартиру в Москве было абсолютно безнадежно, на Ленинград, куда его тянуло со времени Тайц, он еще возлагал некоторые надежды, оказавшиеся тщетными. Нам с мамой возвращаться было некуда.
Между следующим письмом и предыдущим, от 2 ноября, было еще одно, не сохранившееся. Они были посланы папой на адрес дедушки и переданы маме только после ее возвращения из санатория. В ответ на ее предложение не откладывая на год, приехать к нам в Берлин, он писал:
27. XI.31. <Москва>
Женюра, я не могу собраться сейчас за границу и не хочу: ты знаешь, это всегда бывает связано у меня с ощущеньем права, а последнее, – с работой; и вот чувства права на поездку у меня сейчас нет. К весне или весною я имел в виду съездить к тебе, чтобы с вами повидаться, в том случае, если бы ты осталась за границей. Тут, разумеется, я бы ни в каком другом мотиве не стал нуждаться: желанье видеть тебя пересилило бы все другие.
Сейчас я получил твое письмо и поспешно на него отвечаю. Ты спрашиваешь, собрался ли бы я сейчас на запад, я говорю, – нет.
В остальном не могу тебе сказать пока, то есть сегодня же, ничего дельного. Кроме денег, которых у тебя будет, надеюсь, всегда больше, чем ты захочешь принять, я ничего для тебя не успел сделать. Когда ты думаешь приехать, и нужно ли тебе так торопиться?
Я не знаю, показали ли тебе наши какое-нибудь из моих писем? Их было два, и самым существенным, то есть таким, в которое было вложено всего больше души и значащей правды, было первое, написанное вскоре после нашего телефонного разговора.
Они в интересах твоего спокойствия его от тебя скрыли, но если передали второе, то должны были показать и первое, потому что без него оно получает искаженный смысл, способный ввести тебя в заблужденье.
Смысл же всего вкратце таков. Я люблю тебя, но в успешность нашей совместной жизни, если бы обстоятельства даже позволили нам возобновить ее, не верю. Вероятно, к нашему обоюдному счастью этого не будет, то есть я верю, что ты не заставишь меня уступить себе, губя этим себя и меня.
Будь мужественнее, Женюра, и все будет хорошо.
От Бубчика[258] получил на днях деловое письмо. Кланяйся ему и Фросе, и скажи ему, что отвечу ему на днях.
Обними крепко Женёночка. Лучше бы тебе все же досидеть до весны, и он бы в школу походил. Но видно тебе там очень тоскливо, раз не сидится. Пиши мне. Целую тебя. Ни о чем не жалей. Ты приобрела, а не потеряла.
Твой Б.
<Конец ноября 1931. Берлин>
Какое счастье, когда можно так плакать вовсю, как я сейчас реву, это когда горе заходит так далеко, что рвется само наружу. Мне кажется, что нам не придется никогда больше слышать друг друга. Как смогу, потому вразброд, попробую что-то сказать. Я уезжала из Москвы, я сильно тебя любила, как наивно думать, что я овладела собою и думаю о чем-либо другом, я просто была с тобой и тебя любила. Так же я ехала, так же во Frankfurt’е вышла с Женичкой в вагон-ресторан и, глядя и живя за двоих, то есть вместе с тобой, расплакалась глядя на весь омытый утренний весенний пейзаж. Так приехала я в Берлин и сказала твоей маме: “о как радуют все мелочи, как хорошо бы, если бы Боря мог бы таким мылом умыться”, – всякая мелочь напоминала твои вкусы.
Мое письмо не успело к тебе уйти – ты предупредил его своим. Я уехала из Москвы, я помнила твои слова – ты и Женичка моя семья, я не заведу себе другой, Зина не войдет в мою жизнь – эта радость – весна, с которой я не могу сейчас бороться, – и помнила, как ты ходил в последний день со мной по улице, как ты всем и каждому говорил – это моя жена, как будто жизнь наша начиналась вновь, ты надел кольцо в тот день.
Ты незадолго до моего отъезда говорил мне, что возвращаешься домой, и на вопрос мой: “потому ли что я уезжаю”, – ответил, что нет, – это было в тот день, когда была Сарра Дмитриевна. Я не писала тебе, я не хотела тебе мешать, я думала, что где-нибудь, на каком-нибудь углу ты найдешь нас снова и напишешь, что без нас тебе жить трудно, и очертя голову я брошусь к тебе навстречу. Я так глубоко верила (потому что любила тебя и нашу жизнь с Женичкой), что не может быть, чтоб ты не вернулся, так уже давным-давно при Шуре и Ирине я расставалась с тобой, веря, что ты от нас не уйдешь.
Зачем ты сейчас говоришь, что наша жизнь для меня была пыткой, зачем сейчас уверяешь в этом других, было многое и разное, но связь наша, дружба и жизнь крепла. Ведь проще всего вспомнить последнее лето, – все вначале были несчастны, я была спокойна, а когда ты приехал, счастлива, люди ворвались в нашу жизнь – ты ее не защитил. Ох как трудно писать – но я буду вразброд, вперебой – как-нибудь поймешь. Мне вчера только прислали два твоих письма, а сегодня твой папа читал мне кусками твои письма к ним. – Я ничего не понимаю. Моя голова пухнет. Я плачу как проклятая – неужели же все правы, а я – виновата. За что, за то, что любила так крепко тебя, – за то, что мучилась, когда вместо того, чтоб отвести повод моей ревности, ты убеждал меня в обратном.
До 26 года были у нас другие неурядицы, может, тогда я боролась за какое-то равенство или неравенство (нелепые слова), но потом – зачем ты об этом опять говоришь, разве я тебе жизнью не доказала, к чему вспоминать пустяковые разговоры, разве ты не работал с утра до вечера, разве не было у нас в доме максимально уютно – ох, мне стыдно это тебе говорить, ведь из воспоминаний можно разное вытащить.
Но я все не о том, я не знаю, о чем тебе писала мама – но куски твоего письма, которые мне прочли, – у меня от них волоса становятся дыбом. Я попробую коротко тоже рассказать о моих семи месяцах здесь (но, вероятно, все правы – я виновата и слава Богу, что от этого еще плачется сейчас так хорошо).
Когда узнали, что около тебя есть другой человек, то все сразу страшно испугались. Ты говоришь мне о поддержке, мне больше приходилось что-то непонятное мне самой защищать, говорить, что что-то случилось, но может, обойдется, а вместе с тем и плакать и убиваться. Оказалось, что у меня туберкулез и надо в Sanatorium – это как-то разрядило, на время у всех оказались временные обязанности. Помни, что я все время никого старалась не обвинить, ни тебя, ни Зину, что я сама искала и тебе же преподносила каждому оправданье. Так же и сейчас, я ни одной секунды не обвиняю твоих родных – это просто моя судьба, моя жизнь, мой крест, под которым страшно тяжело.
За три месяца у меня ни разу никто не был, Жоня бы приехала, но ее не пускали, это, во-первых, а во-вторых, она знала, что она в дальнейшем мне помочь не сможет, что Федя не позволит – а зря только разговаривать не хотела. В чем она предполагала реальную помощь, о которой и я, конечно, могла мечтать, чтоб мы остались, пока суд да дело, в München’e. Женичка бы ходил в школу, потом был бы на воздухе, в саду или с детьми, я бы понемногу работала. Еще до моего приезда в München, когда еще ни о чем не было разговору, Федя сказал Жоне… – ну да, ладно, я ведь не хочу так подробно – всякий прав, у всякого ведь свое, но в итоге я умоляла оставить меня с Жоничкой на 4 дня, чтоб папа с мамой уехали, мне не хотелось, чтоб нас, как багаж опасный, поскорее увозили, я только вернулась из Sanatorium, и Федя в истерике почти что мне сказал – это мой дом и моя жена, я хочу, наконец, чтоб у меня дома был покой.
Но я все это пишу через силу, – к чему? Я могу только сказать что не могла Жоне писать ни слова о себе, потому что я ведь не могу огорчать папу, маму твоих и ссорить Федю с Жоней. Ведь они все, папа, мама, Федя, в конце концов правы – “я или не должна была уезжать – или осенью должна была быть в Москве”, – это их слова, – и тогда, вероятно, ты бы расстался с Зиной, как пишешь об этом в письме к маме. Но ведь я не сомневалась в том, что мое отношение и мое желание быть вместе ты за последние месяцы моего пребывания в Москве узнал, его помнишь, его видишь. А как же силой, а как же хитростью?
Почему я тебе не писала – я привыкла с тобой разговаривать один на один, потом ведь когда тебе без нас грустно и ты отчаиваешься – ты можешь все вернуть, а я – мне остается только отчаиваться. Я карабкалась всеми силами. Я написала Р<аисе> Н<иколаевне>. По приезде в Берлин подсознательно желая нам блага – то есть отправить нас поскорее к тебе, нас оставили одних, чтоб я на деле убедилась, что мне одной с Женичкой не справиться – что мне нужно только думать о том, как бы поскорее вернуть тебя к нам (и, конечно, они оказались правы).
Я вставала рано-рано утром, отводила Женичку в школу, потом пыталась рисовать, часов в 11,12 забирала его из школы и с 7 часов вечера не выходила, потому что мне казалось, что ему грустно будет, если он проснется. Я ждала писем, главным образом от тебя, а еще из Парижа, потому что проездом Эренбург, увидав мое одиночество и страх перед всем, – а страх был не случайный, в Германии, правда, плохо, и родители твои не раз мне об этом напоминали, боясь, что и мне и им придется плохо, – стал уговаривать меня поехать в Париж. Папа твой тоже, видя, что я кое-как справляюсь, что деньги у меня пока есть, тоже мне сказал, что если я и правда о работе мечтаю, то место мне только в Париже. Савичи писали мне трогательные письма. Мне казалось, что у меня будут русские книги, что я смогу тебе рассказать про Париж.
Два месяца я ждала, когда получила визу, тоска по тебе была так велика, что я позвонила, и тут случилось, – как же мне было собираться в Париж, когда все тянуло домой, а ты говорил с Волхонки, ты все угадал, но я действительно пошла ко дну, начались ночи напролет с тобою, когда я просыпалась с диким страхом, понимая, что ты на Волхонке и не один, что я никогда никуда не доеду, потом начались боли под ложечкой, в затылке, потом сознание, что Женя все видит, понимает, что я ради него не могу себя победить.
Я умоляла папу и маму взять нас на время к себе, что мне очень больно, очень страшно, они плакали, они трогательные и страшно хорошие, но они были очень напуганы тем, что со мною вдруг случилось.
С трудом для себя взяли Женичку, а меня врач отправил в Sanatorium, где мне что-то вспрыскивали, массировали, давали пилюли от страха. Через 10 дней я оттуда уехала, я пришла немного в себя, там было очень дорого. Теперь я несколько дней, как живу загородом в одном доме с Бубчиком. Подождали, пока я немного пришла в себя, теперь вчера дали мне письма.
Как же я могу с тобой когда-нибудь увидеться, когда ты, как что-то очень счастливое, преподносишь – остаться с Зиной, взять Женичку, что Ирина с Шурой не понимали, как это ты хотел к нам вернуться. В состоянии тоски и отчаяния я писала тебе письма об осени, о том, что все возвращаются домой, – что ж ты значит решил, что наш дом с тобой уже не наш, что можно и без меня. Зачем же, зачем же мне тогда с тобою видеться, ведь ты уже решил, что у нас дома нет.
Ну хватит. Твоим родителям письма кажутся чудными, они читают там слова любви к нам и желания всем пожертвовать ради них и нас, они читают то, что им хочется, что понятно им и ясно. Ты так плохо видишь нас с Женичкой, ты то возвышаешь до героев, – то низводишь до кого-то жалкого, кто всегда упрекает и плачет. А мы совсем простые. Мы случайно в K. D. W. (помнишь, как плохо мы вышли в 23 году) для визы в Париж вышли хорошо. Стыдно мне, что посылаю тебе карточку, объяснять этого не стану.
Женя
После санатория маму пригласили к себе папины друзья Иван Эдуардович и Ефросинья Ивановна Саломоны, которые жили недалеко от Берлина. Меня восхищала самостоятельность их сына Марка (по-домашнему Маки), который был на год старше меня и один ездил в Берлин на поезде. В нем воспитывали мужественность и независимость, приучали к холоду, и он ходил зимой в одном свитере и коротких штанах с носками и голыми коленками. Он увлекался всякой техникой и объяснял мне устройство пистолета и электрического звонка. Бедный мальчик, ему полностью пригодились выносливость и закалка, которые в нем воспитывали. После возвращения в Москву его родители были арестованы, а он попал в детский дом. Отец, больной туберкулезом, вероятно, был расстрелян, а освобождения и возвращения из ссылки своей матери ему не удалось дождаться. Она не могла даже узнать, когда и при каких обстоятельствах он погиб.
<Декабрь 1931. Москва>
Родной мой друг!
Прости мне последнее коротенькое письмо. Прости мне мою вину, прости горечь, которую тебе ежедневно приносит всякая твоя мысль обо мне, прости мне мое преступленье. Прости, то есть найди силы признать их как факты, чтобы жить, постепенно выходя из-под их власти. Найди эти силы, как и я находил их, чтобы умиротворять и сглаживать наши былые трения, как нахожу их сейчас, чтобы жить, потому что никогда еще я не жил так странно, как это последнее время: все идет мне навстречу облегчая каждое движенье. Я должен был бы благословлять жизнь, как никогда, а я ничего не делаю и ни за что не могу взяться, потому что, разумеется, мне никогда не справиться с тоской, которую во мне вызывают твои непобежденные страданья. Ради Бога, не пойми это, как упрек: все, что делается со мною по твоему поводу, совершается против моей воли, само собой, а не ради или из-за тебя. Мне больно, потому что больно тебе, а ты часть моей жизни.
Когда я встал сегодня, меня ждало твое большое письмо. Я прочел его до топки, полуодетым. Сейчас сильные морозы, и у нас нет дров. Имеющиеся ордера на них еще труднее реализовать, чем прошлую зиму. Топим щепой со строек, и у нас очень холодно. Пришла Ирина, они уже переехали и больше у нас не живут, – я дал ей прочесть твое письмо, а сам стал растапливать. Когда я затопил, я нашел ее в слезах. Ее потрясло, как и меня, то, чем твое письмо так велико и сильно: высота твоей нравственной правоты, – твоя правда. Читали и переговаривались мы в совершенной тишине. Зина спит. Она встала сегодня очень рано и отвела своих ребят в первый раз в детской сад, потом, вернувшись, легла досыпать недоспанное.
Не плачь и не убивайся, моя Женюра. Давай поговорим спокойно. И во-первых. Не пугайся загадочности происшедшего. Мы это в предположеньи не раз обсуждали, мы долго на словах привыкали к тому, что произошло на деле. Не относись к случившемуся как к наказанью. И главное, – об этом я тебе уже писал, – не отделяй себя в своей муке от меня: нас это постигло обоих.
Ты помнишь зимний вечер, когда невозможность дальше жить вместе встала предо мною с такой тоской, что ясности насильственного конца, пережитого в воображеньи, и мысли, что с тобою, близкой и любимой я успею проститься, а с Зиной, страшно любимой той недомашней, убийственно мгновенной любовью, какую можно проверить именно мигом прощанья со всею жизнью и со всею землей, проститься не успею, было достаточно, чтобы я разрыдался и все при этом обнаружилось. Я чувства к Зине не выдумал, оно родилось само. Ведь я ушел не из мести тебе, не для того, чтобы что-то сперва доказать и затем вернуться. Я ушел в результате долголетних бесед с тобой и размышлений, в итоге их и тех новых, свежих толчков, которые принесла с собой жизнь. Я ушел естественно и без вызова, ушел потому, что для того, чтоб жить, стало нужно действовать.
Я пишу это для того, чтобы ты не считала себя обманутой. Но еще меньше поводов у тебя думать, что ты кого-нибудь обманула, что в ложном свете представила все случившееся, что в своих словах обо мне неправильно изобразила мое к тебе отношенье, что оно хуже и меньше, чем ты отзывалась о нем.
Дорогой мой друг, ты с большой болью, и как бы оправдываясь, приводишь мои слова, говорившиеся тебе весной и в дорогу, на прощание. Но если ты отвлечешься от их житейской точности, от частного их смысла, постоянно видоизменяемого вперед идущей жизнью, к которой надо всегда приспособлять основное существо, чтобы видеть его не только в душе, но и в осуществленьи, то ведь в главном я не обманул тебя и к нашему общему горю, увы, не обманулся: несмотря на все то, что я скажу тебе ниже, я не могу и не хочу твердо и самовольно распорядиться тобой, как разведенною женой, я не могу отстранить тебя и как-то тебя отставить, я не могу, что бы ни говорил мне разум, – (а теперь также и новый долг) вообразить тебя где-то помещенной только по моей, а не и по твоей, также, воле. И скорее сломится моя, чем я пожелаю согнуть твою, – так живы твои права на меня, так признаю я их естественную власть надо мной, их уместность в моем сердце.
Я всегда хотел, чтобы ты это знала. И если бы ты это знала тверже, глубже и мужественнее, чем на самом деле, это вера спасла бы тебя среди последних испытаний: ты по-другому, вероятно, воспользовалась бы своей душевной властью надо мной, чем теперь. У тебя хватило бы способности отделить связь и встречу наших достоинств, ничем не затронутую и только исстрадавшуюся от вечных разговоров не о ней, точно этой связи не существует или без нее можно жить и ее не стоит ценить, от той брачной связи, которую мы насильственно разорвали, потому что в разное время, но оба одинаково не удовлетворялись ей.
Я пишу тебе это письмо третий день. Я пишу его урывками. Передо мной фотографическая карточка из твоего письма, – ты и он. Как ты похорошела! Но какие вы грустные-грустные! Ты не представляешь себе, какие разрушенья производит эта карточка в моей душе. Она исходит по вас слезами. Что я сделал, что я сделал! И ты еще всегда возмущалась мной, что я ограничивался словами, что – не решался. Ты не знала тайны моей уступчивости, моей преданности привычке. Самонадеянность обманывала тебя, ты переоценивала свои силы. Я же боялся того моря сожаленья и раскаянья, которое, – знал я, – мне придется перейти вброд. Оно мне открылось летом и я все еще не могу его пересечь.
Зачем ты меня любишь так ультимативно-цельно, как борец свою идею, зачем предъявляешь жизни свое горе, как положенье или требованье, вроде того, что ли, что вот, дескать, мое слово, теперь пусть говорит жизнь, и я умру, если она скажет по-другому. Зачем ты не участвуешь в жизни, не доверяешься ей, зачем не знаешь, что она не противник в споре, а полна нежности к тебе и рвется тебе это доказать, лишь только от отщепенчества предварительных с ней переговоров, на которые она тебе не ответит, ты перейдешь в прямую близость к ней, к сотрудничеству с нею, к очередным запросам дня, к смиренному, в начале горькому, затем все более радостному их исполненью.
Но напрасно я пишу о тебе. Как бы я ни любил тебя, как бы ни жаль мне было нашего былого дня, служившего домом Жененку (ведь все те же вещи окружают меня и говорят его голосом!) – думать и хотеть за тебя я не в силах и не в праве.
Потому что я сел писать тебе не по адресу твоей тоски, а под давленьем моей собственной и единственное дельное, что я могу сказать, это: как справляюсь я с нею, как живу еще и на что надеюсь?
И хотя тебе, может быть, и хуже, прими во вниманье, что твое страданье не плодит ложных выводов и ни на кого не бросает незаслуженной тени. Мое же протекает рядом с человеком, которого я люблю, который любит меня, принес мне много жертв и принесет еще больше, и которого это мое двоенье ставит в двойственное положенье.
Итак, в каком-то отношеньи мое несвободное страданье еще невыносимее твоего свободного. Как же, – говорю я, – я живу еще; что вдыхает в меня жизнь, что поддерживает?
Я живу надеждой на встречу с тобой, на какую-то другую жизнь – я ее не знаю и не знаю как назвать – но которая постепенно родится не из таких страшных вещей как твои последние испытанья и мои настроенья; которая даст тебе покой и здоровье, которая оденет нас теплом и светом и вернет нам троим утраченную улыбку. Я надеюсь на жизнь, которая начнется с бесстрашного признанья действительности и обойдется без принципиального (по-брандовски[259]) ее кромсанья.
И так как я тут говорю о себе, то слушай. Предохрани меня от нового разрыва: от него, как и от разрыва с тобой, не получится добра. Я люблю Зину и никогда не мечтал, чтобы кто-нибудь меня так полюбил, как она. Прости, я не хочу унизить силы и чистоты твоего чувства, – я не сравниваю. Но мне хотелось бы опять найти тебя без насилия над ней и над собою.
Когда я начинал это письмо, я думал, что удачнее выражу тот образ, который всегда стоит передо мной и меня спасает: образ нашей встречи. Днями принимаешь людей и у них бываешь. На каждом шагу наталкиваешься на факт семьи и святости дома. Видишь детей с отпечатком спокойного воспитанья, материнского, рождающего улыбку, – не скаредного, не надрывно-трагического. И тогда по-новому – теперь в разрыве с тобой, как когда-то в сожительстве – открывается старая моя рана. Как это случилось, что я, не изверг и не кретин, – с моей чувствительностью и, – думаю, – добротою, сделал несчастными два существа, которым должен был и, вероятно, хотел принести счастье, – я, так тяжело это переносящий сейчас, я, – человек семьи и дома? И, Гулюшка, мне становится так страшно, так ужасно тогда, что я бы задохнулся, если бы не вспоминал каждый раз, вновь и вновь, что по незаслуженному, чудесному счастью все мы еще живы втроем – и увидимся. – И это так много, что хочется говорить только об этом, только об этом.
Позволь мне кончить письмо: ты не представляешь себе что за мука строить из слов, из бесконечно сменяющихся словесных внушений мост, который должна была бы теперь достроить ты, запросив свое чувство справедливости и память, и одушевившись наконец жизнью, жизнью и верой. Позволь кончить, и уже больше не касаться в письмах (это слишком трудно) – основного и первопитающего: размеров и естественной прирожденности твоих прав на меня, – моих чувств к тебе. Потому что объясненья эти остаются для всех непонятными. Всем кажется, что если я люблю Зину и с тобой разошелся, я не могу или не должен больше тебя любить, что если даже это и так, я должен победить себя, чтобы не повести тебя и себя к новым терзаньям. Позволь больше не трогать этого в переписке, так как нам дано счастье свидеться, помогать друг другу и встречаться.
И – несколько деловых просьб. Ты не можешь себе представить, как остра, временами, моя потребность в твоем присутствии, как естественно, иногда, мое нетерпенье в отношеньи твоего приезда.
И все же, – надо быть здоровее, уравновешеннее, смиреннее и спокойнее, друг мой, чем это у тебя в правилах. Нельзя бросаться очертя голову, как на пожар, по первому сигналу чувства, в особенности, когда оно судорожно, надо жить в сознаньи неисчерпаемости источников жизни, во всяком случае – духовных.
Если можешь, взвесь основательно, надо ли тебе возвращаться сейчас же. Невзирая на кризисы и на то, что со стороны моих родных ты не нашла той сердечности, в которой я, дурак, был почему-то уверен, – есть за границей преимущества (ну хотя бы климата и относительного благоустройства), которые ты утратишь, переехав границу. Надо ли тебе возвращаться зимой? Пусть не останавливают тебя денежные затрудненья. Хотя торгсин совершенно видоизменяет все в этом отношеньи возможности и расчеты, но свет не клином сошелся, – если бы ты пожелала, я – (не в день или неделю, в месяц, – скажем) мог бы что-нибудь для тебя наладить через Цвейга или Роллана или заграничные издательства. Сообщи мне об этом вовремя, потому что это будет сложная процедура: не сразу же я брякну о деньгах, – мне никто на свете ничего не должен, я же – многим, и первой – тебе.
Но и в том случае, если такая зимовка на западе тебе не улыбнется, заблаговременно, и не менее, чем за месяц вперед, предупреди меня о своем возвращеньи: мне и тут хочется приготовить тебе денег и надо позаботиться о комнате и о многом. И, предупредив, будь готова к тому, что потом, по извещеньи, я могу тебя вызвать телеграммой и тебе надо будет ехать: если комната, например, будет в руках, ее опасно будет упустить, ты ведь знаешь сама.
Кончу тем, с чего начал. Прости мне все, прошу тебя, прости, моя родная.
Крепко и всей душой обнимаю тебя.
Б.
По возвращении в Москву воспоминания о нашем былом доме и, как папа пишет в этом письме – “служившем домом Женёнку (ведь все те же вещи окружают меня и говорят его голосом!)” возникали во всей болезненной живости при соприкосновении с предметами домашнего обихода. Папа писал сестре, что “совокупность чувств, вращавшихся вокруг Жени, усугубилась тождественностью обстановки: я точно учил вещи, связанные воспоминаньем с нею, предавать ее”. Запомнившееся тогда чувство откровенной враждебности неодушевленных предметов обстановки нашло впоследствии отражение в пьесе “На этом свете”, которую отец писал во время войны, и в черновых вариантах к роману “Доктор Живаго”. Так же, как папа в это время, Юрий Андреевич болезненно воспринимал, точно “нож в сердце”, когда Лариса Федоровна укладывала Катеньку в кроватку его сына, и удивлялся ее нечуткости. Ему казалось, что одушевленные его чувством тоски вещи сохраняли верность прежним хозяевам.
Упоминание в письме торгсина меняло отношение к сбережениям в Берлине, которые папа пополнял в расчете на то, если бы мы с мамой остались за границей. Но так как папа наотрез отказался приезжать, мама стала торопить свое возвращение в Москву.
Какие-то суммы из сохранявшихся там папиных денег потом присылалась мне на фрукты, которые продавались только в торгсине, и которых не было в открытой продаже.
Я вспоминаю, как бабушка тогда то ли ко дню моего рождения, то ли для поступления в школу покупала мне все необходимое. Мы с ней отправились в огромный магазин детских товаров, который называется KDW. К нам приставили приказчика со стулом, который он тянул за собой за высокую спинку, – на него накладывалась горка отобранных бабушкой вещей. Результаты этой экспедиции заняли большой фибровый чемодан, купленный для этого случая, и который пережил тяготы войны, эвакуации и перемены нескольких квартир. Тогда была куплена мне непромокаемая суконная пелерина “лоден”, под которой можно было носить школьный ранец, и которая вызывала удивление и насмешки моих московских сверстников. “Лоден” верно служил также и нашим детям. Купленные тогда белые рубашки с отложным воротником баварского фасона я носил вплоть до войны. Какой-то свитер из тех, что купила мне бабушка, донашивала кузина моей жены в 1960-е годы. Дотертый до дыр купальный халатик и сейчас лежит у нас на дне того берлинского чемодана.
Я ничего не понимал в происходящем. Все закрывала нестерпимая жалость к мамочке, которую я старался утешить, но в ответ на мои вопросы или высказанные пожелания она заливалась слезами или выбегала из комнаты. Она писала тогда Ломоносовой:
Дорогая Раиса Николаевна! Вы, может, догадываетесь, что мне было очень тяжело, и что поэтому я Вам не писала. Большое Вам спасибо за готовность прислать мне деньги. Мне было так тяжко, что нервы не выдержали, и я попала в руки врачей. Теперь окончательно убедившись, что мне страшно жить одной, я собираюсь еще в декабре уехать в Москву, хотя меня там ждут сплошные муки. Б. Л. предложил мне на словах счастливое будущее, на деле занял другой семьей уже мою комнату и говорит, что надеется, что я по своей воле с ним расстанусь. И так мы поедем с Женей неизвестно куда, комнаты у нас пока нет, неизвестно зачем, но куда же нам деваться и как жить. Вновь пробовать свои силы в Париже или временно найти покой около Вас – я решила выбрать самое плохое – Москву. Там какой-нибудь конец да будет.
О деньгах я, если можно, Вам еще напишу, я и сама толком не знаю, как с ними лучше поступить и сколько мне понадобится для отъезда[260].
18 декабря, за несколько дней до нашего отъезда, дедушка написал папе Боре письмо:
Дорогой Боря! Сколько тебе писать надо бы и по разным вопросам, и ужасно то, что наперед знаешь, что это зря, ни к чему, ибо ты и вообще вы все делаете, не думая наперед о последствиях и безответственно и, конечно, тебя также очень жаль и особенно нам – до того ты, несчастный, сам запутался!! И вместо того, чтобы по возможности распутывать и до возможных пределов уменьшать обоюдные страдания, ты еще больше запутываешь и ухудшаешь! Зачем ты Жене пишешь такие письма, которые она принимает не так, как ты хотел бы, а так, как ей хочется, то есть письма твои носят характер влюбленности настоящей, действительность же и факты говорят противное. Как ты себе представлял и представляешь – не говоря о Жене, но несчастного Женёнка, который попадет не на Волхонку, а в какое-нибудь другое место и что она ему сможет на его умные и взрослые (он ведь удивительно тонко чувствует) вопросы ответить? И поэтому я и мама повторяем еще раз и убедительно просим тебя, как и З<инаиду> Н<иколаевну>, на эту просьбу и совет обратить сугубое внимание – эта просьба единственное, что может хоть временно облегчить общее несчастье. Вы обязательно должны сейчас же уехать оба в Ленинград, скажем, и освободить эту комнату. Если она – Женя с ребенком сможет с вокзала въехать в свой угол, то это уже будет некоторым душевным облегчением… Потом: имей мужество не быть двойственным перед нею. Это ее убивает[261].
Накануне отъезда мама писала Ломоносовой:
Собираю последние силы, чтобы уехать, если Бог даст не свалюсь, то во вторник 22 уеду. Деньги взяла у родителей Бориса Леонидовича, а Вас буду просить послать на их имя… Жить буду у брата[262].
Мы уезжали из Берлина 22 декабря. Шел дождь со снегом, на перроне стояли бабушка и дедушка. Бабушка плакала, и я не понимал, отчего так горько. Тем более я не мог представить себе, что вижу их обоих в последний раз в жизни.
Вероятно, придя домой, в тот же день, дедушка позвонил Боре в Москву по телефону, проверяя, освобождены ли комнаты на Волхонке к нашему приезду. Папа в слезах обещал, что они уедут.
Но что можно было сделать, если в Москве для нас не было жилья, и отец никоим образом не мог его достать. Дедушка, по старой памяти, советовал ему снять номер в гостинице, но это был совершенный абсурд. Папа писал потом Жонечке, что был без памяти и готов был поступить так, как требовал дедушка и “вернуться к прошлому, к семье – нет к жертве и мученице, к Жене”. Звонок из Берлина представлялся бредом, гипнотическим внушением – после девятилетней разлуки разговор был посвящен только делу, только внуку и больше ничему: “Квартира должна быть очищена”. “Этого нельзя было исполнить. Москва на годы прикрепляется к тому, за чем застает. Годами подготовляются передвиженья, переезды, перемены, нужные – если жить, а не прозябать, – к минуте”[263].
Принять нас на Волхонке – значило выселить Зинаиду Николаевну с двумя детьми, и именно об этом просила мама в своем письме. Ультимативный тон телефонного разговора с Берлином, как и дедушкиного письма, тут же стали известны Зинаиде Николаевне, и она собралась переехать в Трубниковский переулок, сообщив об этом Генриху Густавовичу. Тот мгновенно приехал. После тяжелого разговора с папой, в котором Нейгауз обвинял его в предательстве по отношению к любящей его женщине, интересы которой он должен защищать, Зинаида Николаевна осталась.
От путешествия домой у меня сохранились в памяти отдельные моменты. До русской границы мы ехали в поезде с передвижными стенками между купе. Можно было из нескольких двухместных составить что-то вроде салона. В таком салоне в том же поезде возвращались из-за границы знаменитый врач Лев Григорьевич Левин с женой Марией Борисовной. Через несколько лет он был обвинен в убийстве Горького и расстрелян, его старший сын Владимир Львович, служивший в наркомате иностранных дел и вступившийся за отца, был арестован вслед за ним. Но тогда, в поезде, ничто не предвещало его страшной судьбы, – мы заходили к ним, сидели вместе, пили чай. Они помогали нам с вещами, когда ночью на границе надо было пересаживаться в другой состав.
С утра я начал ждать Можайска, думая, что папа, как в прошлый раз, приедет нас встречать. Поезд быстро мчался по снежной равнине, перемежающейся лесами. В Можайске никто не пришел в вагон. При подъезде к Москве я жадно всматривался в знакомую панораму, удивляясь, что не видел самого заметного в ней – золотого купола Храма Христа.
Быстро темнело, это были самые короткие дни в году. На темном московском перроне стоял папочка с лицом, мокрым от слез, что я почувствовал, когда он поднял меня, чтобы поцеловать. Носильщик, такси. Вещи втащили в нашу квартиру на Волхонке. Было холодно и неуютно, из разбитых и заклеенных бумагой окон дуло. Ощущение чужого дома, никакой радостной встречи всей квартиры, как прошлый раз. На столе нас ждал остывший ужин: картошка с селедкой.
Но страшнее всего был вид из окон, куда меня подвел папочка. В лунном и фонарном свете громоздились груды каменных глыб и битого кирпича от недавно взорванного Храма Христа Спасителя.
В соседней комнате я увидел две полузастеленные кроватки. Вскоре должна была прийти Зинаида Николаевна с детьми. Может быть, папа думал, что мы будем жить в освободившейся Шуриной комнате (он переехал в построенный им как архитектором дом на Пречистенском бульваре), но это было совершенно нереально. Мамочка рвалась уйти. Нас повезли к дяде Сене в Арсеньевский переулок.
Это были те самые две комнаты в коммунальной квартире, где прошли последние годы моей бабушки Александры Николаевны, где четыре года тому назад она скончалась. Здесь нас первым делом сытно накормили. Хозяйством дяди Сени занималась Гитта, заимствовавшая у бабушки ее умение и любовь вкусно готовить.
Приученный к тому, что дома надо вести себя тихо и не шуметь, я первым делом, когда мы приехали, и Гитта взяла меня на руки, чтобы поцеловать, спросил ее на ухо, можно ли у них громко разговаривать. Она удивленно ответила: да, конечно. – “Вот здорово-то!” – заорал я во все горло и чуть не оглушил ее.
Через несколько дней мы отпраздновали очень грустное мамино рождение. Приходил папа, приносил подарки, детские книжки. Гитта превзошла саму себя, изобретая угощение. Она перекормила меня сладким до тошноты, подбирая всевозможные лакомства, несмотря на трудности с продовольствием.
Папочка часто приходил к нам, брал меня с собой на прогулку. Он видел, как мы стесняли Сеню и Гитту, как мама рвалась домой. Его душевные колебания, перемежавшиеся обещаниями вернуться к нам, воспринимались его друзьями так же, как отнесся к ним и Генрих Густавович, – как к неслыханному безумию и предательству. Папа Боря все это откровенно пересказывал маме. Видя, что при этом делалось с ней, дядя Сеня не выдержал и потребовал, чтобы наша площадь была освобождена.
Это было очень тяжелое время, и ему посвящены самые страшные стихи “Второго рождения”.
В конце января мама сообщала об этом в Берлин:
Дорогие бабушка и дедушка! Мой адрес теперь Волхонка. Мы переехали сюда с Женичкой уже с неделю. Сперва было трудно убирать, быть с Женичкой и все на фоне страшного душевного напряжения. Теперь уже есть работница и Женичка ходит к учительнице на 3 ч., где занимаются очень хорошие детки 5 человек, но кажется 2-е больны. Учительницу помогла найти Ольга Александровна Бари. Это далеко на Молчановке. Дети тоже по сравнению с Женичкой очень мало развиты и мало знают – но все-таки это хорошо. Больше всего хочется сохранить ему языки и об этом я сейчас думаю и стараюсь найти немку, чтобы занималась с ним два раза в шестидневку, у нас теперь шестой день отдыхают, а 5 работают. По французски я хотела, чтобы занималась Елизавета Михайловна. Я хотела, чтобы это были только уроки, быть может раза два в шестидневку. Ведь Женичка уже большой и к чему, чтобы около меня было столько помощников, когда ко мне возвращается душевное равновесие, я со всем справляюсь. Но… Так вот так я хотела, но Елизавета Мих. определенно хочет быть с Женичкой какую-то большую часть дня и хочет приходить с 4 ч. до 8. Конечно, каждый несмотря на то, как бы благороден он не был, хочет так, как ему лучше и, вероятно, я на это соглашусь, но только до весны… На Борю страшно влияют люди. – Это вы, вероятно, знаете из его юности. Это вы, вероятно, знаете по тем скандалам, каким-то периодам, когда, вероятно, он отрицал даже и вас, а потом проясняется что-то очень настоящее, и он вам возвращает сторицей своею близостью к вам и добротой. Это вы знаете по письмам его, когда он наговорит нелепых оскорблений, а потом у него все перевернется.
Борю любят люди, к которым он попадает: за его одаренность, за доброту, за возможность его использовать, а он еще за это поблагодарит… Сообщу вам факты, но все они держатся еще на волоске, потому что Боря в течение дня перекидывается от желания к нам переехать до окончательного развода. З. Н. с детьми вернулась на квартиру к мужу. Восстановится ли их семейная жизнь или нет, меня, конечно, это не трогает, но на Борю очень влияет. Боря живет у Шуры и Ирины и мы с ним видимся.
Целую зиму все по-разному рассовывались и перетасовывались. Зинаида Николаевна перевезла мальчиков в Трубниковский к Генриху Густавовичу и приходила к ним днем, чтобы за ними ухаживать и кормить. Вечером, уложив их спать, она возвращалась к Шуре, который приютил их с папой в своей новой квартире, в которой еще шла внутренняя отделка. Они спали на полу в той же комнате, где Ирина и Шура. На Волхонке, куда мы переехали, одну из наших перегороженных комнат занимала подруга Зинаиды Николаевны Вера Васильевна Смирнова с тяжело больной дочерью Иришкой. Мама учила ее рисовать и присматривала за ней, когда Вера Васильевна уходила на службу.
Первой не выдержала Зинаида Николаевна и вернулась к Нейгаузу. Отец пытался покончить с собой, травился. Зинаида Николаевна отпаивала его молоком. Они помирились.
Папа часто бывал у нас, но это вызывало у мамы истерики. Желая защитить ее, я плакал и кричал: “Когда это кончится? Так нельзя, ты должен вернуться! Я просто тебя не выпущу”. У меня было даже припрятано полено, на тот случай, чтобы он у меня не вырвался.
Я всегда относился к отцу с обожанием. Я и тогда хорошо понимал, что прекраснее, умнее и добрее его человека не существует. Для меня весь мир делился на него и всех остальных людей. Несмотря на все, так же оказалось и для мамочки. После их расставания, хотя отцу казалось, что она легко найдет другую судьбу, она не нашла ему замены.
О своих приходах к нам папа писал тогда в стихотворении, которое всегда вызывало у мамы резкое неприятие:
Стихи мои, бегом, бегом. Мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, Где дней порвалась череда, Где пуст уют и брошен труд, И плачут, думают и ждут. Где пьют, как воду, горький бром Полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб как лебеда, Есть дом, – так вот бегом туда.“Женя временами делает усилья, овладевает собой, живет, ходит в гости, – писал папа Жонечке в феврале 1932 года. – Потом вдруг все это срывается. Она страдает ужасно и говорит, что без меня не будет жить. Хуже всего, что в этом состояньи она ничем не может быть для Женички, то есть тяготится не им, а своим бессильем совершенно разбитого человека в отношеньи его и тем, что заражает его своим настроеньем. Она предлагает мне взять его, но в данную минуту мне взять его некуда, потому что я и Зина можем существовать фантасмагорически, везде и нигде, Женёнка же в эти условья нельзя ставить”[264].
Когда у Шуры и Ирины кончился, наконец, ремонт, Зинаида Николаевна с папой снова обосновались там. Из дневника Корнея Ивановича Чуковского известно, что 31 марта там собирались друзья, и мама первый раз была у них в гостях. Чуковский заметил, какое недовольство вызвало ее появление у Зинаиды Николаевны и с каким трудом мама преодолевала неловкость ситуации.
Я думаю, что этот вечер стал определенным знаком маминого выздоровления, хотя, вероятно, тяжело был пережит.
Таким же сильным впечатлением было папино чтение стихов “Второго рождения” и их обсуждения в ФОСПе.
Для папы зима 1931/32 года, кроме всего прочего, была временем резких нападок литературной критики, которая приняла в штыки выход в свет “Охранной грамоты” и единодушно оценила ее как “вылазку классового врага”. Книга была изъята из библиотек.
И вот 6 и 11 апреля 1932 года был назначен “литдекадник”, как это тогда называлось, посвященный обсуждению новой книги стихов Пастернака. Мама пришла туда вместе с Яковом Захаровичем Черняком, который был очень внимателен к ней в то время. Отец читал подряд все стихи “Второго рождения”. Потом состоялась дискуссия, в которой столкнулись противоположные мнения: резкие и жесткие оценки новых стихов сочетались с одобрительными словами, но порою настолько наивными, что трудно было понять, к чему они относились. Отец был подавлен откровенной травлей. Его взял под свою защиту красный моряк Всеволод Вишневский, который сказал, что новые стихи Пастернака помогут нам, когда придется идти и брать Карпаты или Альпы. Вероятно, он таким образом понял стихи из “Волн” о войне за завоевание Кавказа.
Психологические семейные сложности усугублялись мучительными трудностями житейскими, распределением карточек, продовольственных талонов и т. п. Сохранилась папина записка карандашом по поводу книжки на покупку промтоваров, без которой Зинаида Николаевна не могла получить ни необходимого постельного белья, ни чего другого. Записка свидетельствует об удесятеренной сложности самых элементарных действий, составлявших тогдашний обиход:
Женя, уступи, пожалуйста, если возможно, иждивенческую промтоварную свою книжку Зине. Если можно, сделай это в границах просимого: то есть только эту книжку, без отказа от всяких других, от встреч со мной и пр. Потому что последнее было бы равносильно неисполненью моей просьбы.
Прошу тебя об этом без тревоги за тебя, потому что если бы узнал, что отдача этой книжки оставляет тебя без выхода, постарался бы найти какой-нибудь другой (денежный и т. п.).
Этим ты можешь облегчить мне кое-какие затрудненья. И не делай из этого истории.
В начале мая я тяжело заболел скарлатиной. Лежал я в бывшей Шуриной комнате, до сих пор вспоминаются кошмары, мучившие меня в бреду. Боря вернулся на это время к нам. Он много сидел со мной, хотя видно было, как это его тяготило. Он перебирал свои бумаги и кипами жег в печке. Мама пыталась этому помешать, кричала и плакала. Он отдал ей свои и ее письма, она буквально из печки вытащила их сама. Видимо, тогда был сожжен роман о Люверс, который он ей читал в 1921 году, и многое другое из ранних вещей.
Незаметно жизнь как-то налаживалась, особенно в те часы, когда приходила Елизавета Михайловна. В ее присутствии все обретали свое потерянное достоинство и силы терпеть. Ранней весной я какое-то время жил у нее в Мертвом переулке. Она говела перед Пасхой, много молилась дома и ходила в церковь Успения на Могильцах. Несколько раз она брала меня с собой на службу. На моем отношении к христианству, вероятно, сказалась красота ее веры, сложившейся в лучших русских аристократических традициях и освещенной страданиями и лишениями, которые выпали на ее долю. Впоследствии, когда я стал самостоятельно думать, я понял глубокую связь между ее верой и широким христианством отца, которое не зависело от церкви и богослужения. Это было сугубо индивидуальное отношение к религии, высокое в своем понимании истории как Царства Божия.
Ко времени моей болезни папе удалось, наконец, добиться права на получение квартиры, не отдавая в обмен комнат на Волхонке. Своим спасителем папочка называл Ивана Васильевича Евдокимова[265], который был председателем хозяйственной комиссии Союза писателей и заведовал распределением квартир в Доме Герцена на Тверском бульваре. Лишней не было, и они с Петром Слетовым[266] решили отделить по комнате от своих собственных квартир для папы с Зинаидой Николаевной. При этом получались две небольшие комнаты – одна из них проходная – и кухонька с дровяной плитой.
Они с мальчиками Нейгаузами вселились туда на последней неделе мая, не дожидаясь окончания работ по перепланировке бывших помещений Датского банка в жилой дом. На лето, взяв с собой кузину Генриха Густавовича Наталию Феликсовну Блуменфельд, чтобы следить за детьми, они поехали в Свердловск по приглашению тамошнего обкома.
В то время существовала карточная система. Страна голодала. Кроме обычных карточек были закрытые распределители, где выдавали продовольственные пайки по специальным “заборным книжкам”. Папочка, уезжая, оставил эти книжки нам. Большим подспорьем маме была новая прислуга, Елена Петровна Кузьмина, удивительной души женщина из подмосковных крестьян. Жила она у сестры по соседству, в самом начале Пречистенки, а потом и вообще переселилась к нам.
Беспокоясь об устройстве нашего летнего отдыха, папа заказывал для нас с Елизаветой Михайловной путевки на два месяца в писательский дом отдыха в Голицыне или Малеевке и писал нам из Свердловска, чтобы узнать результаты своих хлопот.
23. VI.32. <Свердловск>
Дорогая Женя!
14-го я послал телеграмму с упл<аченным> ответом Шуре, а 16-го такую же – тебе. Уже и с отсылки твоей прошла неделя, а ответа ни на одну из них до сих пор нет. Я не знаю, что с вами со всеми, и как устроилось дело с твоим летним отдыхом. Неужели ты не телеграфируешь и не напишешь мне? В том и другом случае адресуй: Свердловск. Обком партии. М. Э. Бродскому, для меня. Если бы даже так случилось, что мои телеграммы не дошли, и ты не запомнила адреса, то ведь он известен Гаррику[267], а ты, по всей вероятности, с ним уже после дезинфекции виделась?
Что касается нас, если тебе это интересно, то никакой дачи все еще нет, обещают со дня на день и не дают уехать. Мы впятером все еще в том же номере (из 2-х маленьких комнат) и до сих пор не прикреплены ни к какому из распределителей. Жаловаться нельзя, потому что обедать и ужинать ходим в столовую ОГПУ, и следовательно, не голодаем, а в отношеньи остальных удобств не слишком взыскательны. Но ради этого бездельного сиденья в пыльном городе со все еще длящейся и бесцельной неопределенностью так далеко ездить не стоило, и так как я местность, в которой дача предположена, уже видел, и это хуже Сокольников в их пригородной части, то поездку надо признать совершенною неудачей. Обнимаю тебя, Женичку и целую руку Ел<изавете> Мих<айловне>. Твой Боря
4. VII.32. Свердловск. Обком партии М. Бродскому для меня
Дорогая Женя!
Простите меня, ты и Женичка, что все вышло так плохо. Я не знаю еще, к чему привели твои дополнительные хлопоты, и где вы сейчас. Когда я уезжал, мне гарантировали, что в случае, если в Голицыне 15-го июня не будет открыто, вас поместят в Малеевке. Возможности помещенья в Малеевке были с самого начала, но только с 1-го июля, и так как эта перспектива была для тебя неприемлема по отдаленности срока и длительности ожиданья, то заблаговременная кандидатура на этот дом отдыха была упущена. Мне все же кажется, что со мной вероятно не шутили, отводя места в несуществующем санатории, и может быть как-то можно в дальнейших поисках опереться на это неисполненное обещанье.
Я хочу сказать, что и горком должен либо что-то тебе дать, либо помочь найти что-нибудь взамен. Если у тебя ничего еще не вышло, обратись от моего имени с этой просьбой и рассказом об этой безобразной истории к Абраму Марковичу Эфросу, у него есть связи и в Цекубу, и на него можно положиться. Но наверное ты и сама уже чего-нибудь достигла.
Об одном я не жалею: что не взял Женичку сюда с собой. Я все еще пишу тебе из города. Местные условья были бы для него непривычны. Единственное, что осмысливает наше пребыванье тут, это хорошее питанье. В этом городе нас прикрепили к столовой ОГПУ, мы там обедаем и ужинаем. Но это же обстоятельство в то же время и обессмысливает мое здешнее пребыванье: на эти хожденья мы тратим ежедневно в общей сложности по 5 часов, так что время незаметно все уходит на большие концы между гостиницей и столовой. В последнее время опять тут расхворалась легкими Зина, но ты этого Гаррику не говори, все это в легкой форме и может быть на даче улучшится. Тут отвратительный континентальный климат с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемащиваемого и исковыренного многочисленными стройками. Самумы эти неописуемы и никакие слова не способны это передать.
Мне часто бывает больно и грустно от неизвестности и тревожных предположений о вас, которые она рождает. Второго числа вечером я звонил вам в Москву, но телефон ваш был в неисправности или, как ответили, – выключен за невзнос платы. В последнее мне не верится: вероятнее всего, что все уже спали или за уличным шумом не слышали телефонного звонка.
Телеграфируй мне, пожалуйста, или напиши, где вы и что с вами, и – главное, есть ли у тебя деньги.
Обнимаю тебя и крепко целую Женю. Сердечный привет Елизавете Михайловне.
Твой Б.
7. VII.32. <Свердловск>
Дорогая Женя!
Я все дни думаю о Женичке и меня беспокоит, как бы ты не упустила сроков к определенью его в школу. Вероятно это надо сделать в конце лета. Осенью, когда мы обыкновенно возвращались и возвращаемся в город с дачи, это бывает уже поздно, и тогда вакансий не остается. Я боюсь, что вскипев по поводу моей озабоченности, как пустой фразы, ничем и нигде, как только на бумаге не проявляемой, ты в этой моей несостоятельности и в своих счетах со мной всю суть вопроса и усмотришь, позабыв, что Женичке перевес твоей правоты над моей неправотою школы заменить не может. Я не умею этого сказать так, чтобы это не показалось упреком, но это неудача выраженья: в мысли моей никакой укоризны тебе нет. Посоветуйся, пожалуйста, с Ольгой Александровной. Узнай, какая из близких по району школ считается лучшей. Если этого не знает она сама, то может быть, назовет тебе лиц, которые могут помочь тебе это выяснить и расскажут, какие формальности требуются для помещенья в школу. Если потребуются какие-нибудь просьбы лично от меня, сообщи мне пожалуйста все заблаговременно с точными данными, кому писать и кто это такой.
Не суди меня слишком зло и строго. Я знаю, что у тебя для этого много оснований, но пройдет время, и ты увидишь, что все придет к лучшему: я только не могу все это сделать сразу. Все у нас делается страшно медленно в России, и в особенности сейчас. Как ни снисходительно я к тебе относился, многое, вызывавшееся обстоятельствами, я несправедливо приписывал лично тебе. Справедливость приходит с опытом. Может быть если бы ты была на месте Зины, то есть второю, а не первою, я был бы терпеливее и не так замкнуто скрытен в минуты сдерживаемого отчаянья. Мне теперь легче не только потому, что З<ина> зрелее и покладистее тебя, а еще и потому, что и я стал старше и терпеливей.
Но мне и труднее во много много раз, чем во время оно, потому что пока я заботился только о нас троих, я мог сохранять свою художественную и бытовую независимость нетронутою. Я мог пренебрегать возможностями, которые предоставляла связь с организациями (Цекубу, профсоюз и пр.) уже и тогда. Теперь я знаю, что ведя частный образ жизни почти что не по средствам, я инстинктивно следовал моему собственному предрасположенью, чтобы ничем не связывать своего вкуса и досуга. Тогда же я этого не сознавал, и порой бывал несправедлив к тебе, в тебе одной заподазривая причину столь обременительного и противного времени хозяйственного режима.
Сейчас, в силу удвоившихся, если не утроившихся, забот, мне приходится обращаться за помощью к инстанции, которой я всегда пренебрегал. Справиться со всем частным путем я не в силах. Я потому и принял уральское предложенье, что жизнь вторым домом, при одновременном обеспеченьи первого, собственными частными силами, жизнь, как это понимали мы или Нейгаузы или Асмусы в Ирпене, мне будет не по средствам. И – удивительное дело. Знаешь, чем мне уже пришлось поплатиться за это обращенье? – Производительностью, – как это ни странно.
Казалось бы, что сев на шею организации, чего я раньше не делал, я должен был бы обречь себя, в смысле труда, на каторгу, и придти к положенью, в котором днем и ночью отрабатывал бы относительные блага, от нее полученные. Казалось бы, что разросшиеся обязательства тем сильнее должны были бы меня засадить за работу. Но случилось совсем наоборот. Государственная поддержка оказалась областью безвыходно противоречивой. Овладенье льготами, которые она решила мне тут предоставить, потребовало от меня целого месяца вынужденного безделья. Весь он ушел на хлопоты и досаднейшее выжиданье исполнений по ряду хозяйственных распоряжений, досадных в особенности тем, что обещанья все время давались близкие, и всё на завтра, на сутки же располагаться работой не тянуло и суток этих, в каждом отдельном случае, не было жалко. В теченье этого месяца я ничего решительно не видел специфически заводского или такого, зачем бы стоило ездить на Урал.
Более того, никогда, даже в берлинское свое сиденье за Диккенсом я не уходил так далеко от своей природы в совершенно животном и абсолютно пассивном прозябаньи, все время перемежаемом звонками по телефону и хожденьем по всяким ведомствам. Этого не понять, это должно показаться невероятным, если этого не испытать на месте. В городе имеется телефон, но он каждый день портится и всегда в тот момент, когда ты именно по нему завязал и уже довел до половины дело. В гостинице есть электричество, но оно гаснет как раз в тот миг, как ты стал что-нибудь делать, исходя из его наличности. То же самое с водой, то же самое с людьми, то же самое со средствами сообщенья. Все они служат лишь наполовину, достаточную, чтобы оторвать тебя от навыков, с помощью которых человек справляется с жизнью, лишенной водопровода, телефонов и электричества, но вполне мыслимой и реальной, пока она верна себе.
Мы должны были переехать вчера на дачу, но машины не подали, потому что весь день был дождь и дороги размыло. Я не знаю, попадем ли мы туда сегодня. Перспективы такие. Лета осталось два месяца. Если я засяду там на этот срок за работу так, как я сейчас есть, это в лучшем случае будет какая-нибудь субъективная отсебятина о чем-нибудь личном, как до сих пор, то есть нечто такое, что и в Москве, в старых домашних условьях ставило меня в незавидные условья и делало год от году смешнее, и что особенно смешно будет именно тут, за 2000 верст от Москвы и не где-нибудь, а на Урале. Итак, такой план был бы заведомым пораженьем и для того, чтобы осмыслить тяжелую поездку в такую даль, остающееся время придется потратить на что-нибудь другое. Я и думаю поездить по заводам, и возможность к тому кажется представится. Художественно же реализовать все это придется гораздо позднее. Последнее нимало не пугало бы меня, если бы не авансы, которые я этою весной забирал тысячами. По всем ним я обязался сдать осенью объемистые произведенья, и вот, как именно я буду выкручиваться тут, я боюсь и думать. Обещаньями и обязательствами я себя связал так, как никогда, а прожил около полугода до тоскливости бесплодно. Мне грустно и страшно, за себя, за тебя, за Женю, за З<ину>, за детей, – за всех.
И все же я не теряю надежды. Вероятно ты незаслуженным образом помогаешь мне, и я лишь этого пока не знаю и вдруг узнаю. Да и того, что знаю я, достаточно, чтобы быть огромною поддержкой. Ты работаешь, пишешь ты, и, следовательно, надо думать, здоровее душой, чем во время Жениной болезни, оторвавшей тебя от жизни. Ты, вероятно, здоровее нравственно, и может быть это испытывает Женичка на себе; ты может быть ласковее с ним, и ему не так одиноко. И опять ты наверное думаешь, что все это фразы, и сердишься. А я часто льщу себя такими иллюзиями и переполняюсь благодарностью к тебе, их рисуя. И наверное все это так. Напиши мне, прошу тебя. Обнимаю крепко вас обоих.
Ваш Б.
Мой адрес. Свердловск. Пушкинская II-й дом Горсовета 4-й подъезд, кв. 43 Н. И. Харитонову для меня.
Но точно так же, как обкомовские обещания в Свердловске, так и писательские в Москве равным образом обманывали и папу и нас, и из его хлопот по поводу дома отдыха ничего не получилось. Мама по его совету обратилась в профсоюз работников искусств, Рабис, где ей удалось достать одну путевку в Кисловодск. Желание поехать туда, кроме всего, подкреплялось тем, что в Кисловодске жила ее кузина Фирочка Беркович, работавшая врачом в поликлинике.
Уехав из Москвы, мы впрямую столкнулись с катастрофическими последствиями коллективизации. Маму, слава Богу, кормили в санатории, но никаких курсовок для нас с Елизаветой Михайловной получить было невозможно, столовые обслуживали только прикрепленных. Рынка, на который мы рассчитывали, не существовало. Единственное, что могла предложить нам Фирочка, это устроить меня в городской детский сад, куда Елизавета Михайловна поступила учительницей. Кормили там впроголодь, манными котлетами, в которых попадались щепки. Мы снимали какую-то комнату, выходившую в грязный двор с огромной открытой выгребной ямой.
С утра мы торопились поскорее уйти в парк, где сидели на лавочке и читали с Елизаветой Михайловной французские книжки. Как-то раз кто-то, проходивший мимо нас, узнал ее в лицо. “Султанша!” – изумленно вскрикнул он. Она подала ему знак не выдавать ее. Оказалось, что этот человек знал ее в молодости, когда она была наследницей Минеральных Вод. Она мне рассказывала, что там прошли ее детство и юность, там находился дворец ее отца. Каждое лето съезжались многочисленные родственники с детьми. Теперь они в большинстве своем погибли, кое-кому удалось уехать за границу. Они предлагали Елизавете Михайловне эмигрировать, но она решительно отказалась и вместе с Ипполитом Васильевичем, который разыскал ее в Тифлисе, по разрешению Кирова выехала в Москву.
В городе была чудовищная грязь и желудочные заболевания, и я вскоре заболел. Слава Богу, это была не холера и не дизентерия, которые свирепствовали вокруг. Иногда мама, желая меня подкормить, угощала молодой картошкой в столовой санатория, где я ее навещал, но с непривычки это приносило мне только новые мучения. Кроме того, у меня начался жестокий фурункулез. Фирочка пробовала меня лечить, и для укрепления нервов мне были прописаны циркулярный душ и хвойные ванны. Елизавета Михайловна лечила целебными грязями больные суставы рук и ног, отмороженные на снеговой повинности.
С ее помощью я написал папе письмо, сообщив ему, где мы находимся. Название маминого санатория “Теберда”, на который мы просили его адресовать ответ, ввело его в заблуждение. К сожалению, кусок от второй страницы его письма оказался оторван, пропущенные строчки не восстанавливаются.
4. VIII.32. <Свердловск>
Дорогой мой Женичка.
Горячо благодарю тебя за твое письмецо. Когда бы не ты, я так бы и не узнал, где вы и что с вами. Но и теперь мне неясно, в Теберде ли ты с Елизаветой Михайловной, или же так только называется один из санаториев в Кисловодске, подобно тому как прежде гостиницы назывались Лондонами и Парижами, никакой географической радости не представляя. Если ты и взаправду в Теберде, то это большое счастье. Говорят, это одно из лучших мест Кавказа и таким образом, благодаря маме и Елизавете Михайловне, у тебя уже в такие ранние годы составится представление о красотах горной природы. Если же это не так, и вы в Кисловодске, то может быть не плохо и в нем?
Хорошо ли вы питаетесь, сытно и вкусно ли? Удалось ли маме устроить вас и себя на продолжительное время, или же только на один месяц, как это в большинстве случаев разрешается? Все это мне хочется очень знать, но отсюда до вас, и обратно, – такая даль, что я не знаю, успеешь ли ты мне ответить. Во всяком случае раньше сентября я в Москву не вернусь, и адрес здешний оста<…>[268]
На конверте написан он рукою Елизаветы Михайловны. Огромное ей спасибо за все, за все. Крепко поцелуй от меня ее и маму.
Я тут в письме нарочно умалчиваю о делах, которые важнее всего, о том, что может быть часто волнует тебя, а меня мучит беспрестанно. Я не заговариваю об этом потому, что все это слишком серьезно для письма, а не потому, что считаю тебя маленьким. Я знаю, что уже и сейчас могу обо всем говорить с тобой, а года через два мне будет разговаривать с тобой легче <…> отвечу на все твои вопросы. Главное же, этой зимой может быть уладятся дела квартирные, и может быть из этого проистекут улучшенья для всех и, главное, для тебя.
Ты же не грусти пока, и верь, что если бы я не думал, что когда-нибудь (и скоро) все это придет к лучшему, я бы не жил и ничего бы этого не произошло.
Крепко люблю тебя и обнимаю. Если вы с мамой живете в разных местах, передай ей, что я был бы страшно рад и ей благодарен, если бы она мне написала. Еще раз целую тебя.
Твой папа.
<Август 1932. Свердловск>
Дорогой мой Женичка!
Я писал бы тебе каждый день, если бы дело было только во мне, и если бы я ждал для тебя от этих писем какого-нибудь толку. Но права мама, говоря, что одними словами ничего не сделать, и когда я об этом вспоминаю, мне стыдно писать тебе.
От тети Ины узнал ваш адрес более подробный, ты мне не такой длинный сообщал. Я написал тебе раз по нему и не уверен, дошло ли письмо.
От той же тети Ины узнал, что ты все время хворал желудком и страшно огорчился. Каким крепким приехал ты от бабушки! Помнишь, я с тобой от дяди Сени пошел гулять, еще мы виноградного соку купили и ты мне рассказывал о книгах, какие читал.
Мама телеграммою попросила меня похлопотать по телефону, чтобы вам продлили срок пребыванья в санатории. Я мог только телеграфировать человеку, указанному мамой, потому что я не в городе, и так устроить, чтобы в город попасть, когда телефон и тут и в Москве будет свободен, отсюда было трудно. Не знаю, что получится из моей телеграфной просьбы и не верю в ее удачу.
Сейчас нельзя сказать, кто из нас раньше в Москву попадет, но во всяком случае к середине сентября мы увидимся, и теперь этой радости не долго ждать.
Дорогой мой мальчик, крепко обнимаю тебя. Меня огорчило, что мама ни разу с Кавказа мне о тебе не написала. Много тебе хочу сказать и о многом спросить, но все это откладываю до живой встречи.
Я живу на озере Шарташ в пяти верстах от г. Свердловска (бывш. Екатеринбург). Здесь очень хорошо и дни стоят замечательные. Но дождя так давно не было, что где-то поблизости начались лесные пожары. Все время туман и солнце в нем – красное, похожее на луну. Это – лес горит и все застлано легкой гарью. На днях нашу дачу обокрали, взломали замок в нашем отсутствии.
Поцелуй маму и Елизавету Михайловну. Крепко, крепко тебя обнимаю, золотой мой.
Твой папа.
Мы с трудом дождались конца санаторного срока. Возвращались в Москву кружным путем, поезда объезжали области, вымиравшие от голода и холеры. После Кисловодска Москва показалась нам благоустроенной и благополучной, Елена Петровна быстро поставила меня на ноги.
Вскоре по приезде 29 сентября я писал бабушке и дедушке в Берлин:
Дорогие Бабушка и Дедушка! Как вы поживаете? Спасибо вам за ваши милые письма. Письмо, которое вы выслали 7-го августа, мне передали уже в Москве неделю тому назад. Очень жалко, что мы не жили у дяди Осипа, так как в Кисловодске все время шли дожди. Теперь и здесь дожди – осень. В школу еще не поступил. Аленушке отвечу в следующем письме, так как у меня нарыв на голове и ячмень и я пишу самое необходимое. На зиму еще не устроились. Целую вас крепко. Ваш Женя.
Судя по этому письму, было предложение провести лето в Касимове, у дяди Осипа Кауфмана, бабушкиного брата, который когда-то вылечил папу от фурункулеза, мучившего его в голодные годы. В Кисловодске мы жалели, что не приняли его приглашения.
Вскоре к нам пришел папа. Его лето тоже было неудачным. Вид эшелонов ссылаемых крестьян и голодных женщин с детьми, приходивших под окна обкомовской обжираловки, заставил его взорваться и наговорить грубостей устроителям своей командировки и раньше времени уехать с Урала, ничего не написав из предполагавшихся работ. Обиженный обком требовал назад данные ему авансы, папа оказался в долгу на огромную сумму и собирался отрабатывать переводом Вагнеровских “Нибелунгов”.
В один из первых дней, когда он к нам заходил, он, как обычно, взял меня с собой погулять. Мы пошли по бульварам и разговаривали обо всем самом важном для нас обоих, о жизни в Кисловодске, о мамином состоянии, о его пребывании в Свердловске. Папа хотел показать мне свою новую квартиру на Тверском бульваре, меня радовала встреча с Адиком и Стасиком (тогда он звался Ляликом).
Об этой прогулке папа писал дедушке в Берлин:
В прошлом году, в самые мучительные для Жени моменты у нее вырывалась просьба, чтобы я взял Женю к себе. Потом мы уехали на Урал, они в Кисловодск, и все лето мы с Зиной лелеяли мечту, что по возвращении в Москву Женя будет жить у нас. В первую же встречу с ним я увел его прогуляться и повел с Волхонки на Тверской бульвар к нам и в гости к мальчикам. Дорогой он говорил со мной, как взрослый, и у меня текли по лицу слезы от той трагически зрелой и сдержанной деликатности, с которой он касался до всего, как ему казалось “моего” и пробовал соединить с этим свое, свои пожелания и предположения. Он посвящен во все и все знает и понимает, и смысл этой прогулки и посещения Зины и Ади и Ляли был тот, что и он был бы не прочь к нам переехать – (только затем, чтобы жить со мной, как он счел потом нужным мне объяснить). Мальчики (старшему 7, младшему 6 лет) с Ирпеня его не видели и встретили с шумной радостью. Он для них часть меня, а меня они любят. Было уговорено, что до каких бы то ни было решений он будет ходить к нам. Но потом выяснилось, что я Жени не понял, что то была истерика у ней, и она с Женичкой расстаться не хочет и не может[269].
Когда я вернулся домой и с разбегу выпалил, как мне понравилось у папы, мама не сказала ни слова. Постепенно меня начали одолевать сомнения и что-то похожее на раскаяние. Я все время возвращался к этой теме. Вот как мама записала этот диалог много лет спустя:
“ – Мама! Я был с папой у Зинаиды Николаевны. Знаешь, что мы решили. Ты будешь работать, а я буду жить с ними, я буду приходить к тебе в гости, там мальчики, мне будет весело.
– Хорошо, сынок, тебе там правда показалось хорошо? К вечеру:
– Мамочка! Я буду без тебя скучать и часто к тебе приходить.
– Хорошо, сынок, успокойся, все будет хорошо”.
Уже в кроватке: “Мамочка, это папа и Зинаида Николаевна так меня уговаривали – а мне не хочется, мне очень хорошо с тобой. Ты знаешь, – почти засыпая, – папа с Зинаидой Николаевной…”
В эти дни у меня росло ощущение, что я с кондачка сделал что-то недостойное, граничащее с предательством, и через некоторое время я очнулся в сознании того, что должен делить с мамой ее одиночество и быть ее защитником и, если смогу, душевной опорой. Я стал воспринимать как неизбежное папин уход и понял, что мне надо остаться с мамой. Я отказался впредь ходить к папе и Зинаиде Николаевне, и мы не встречались с ней вплоть до войны. Папочку это очень огорчало и сильно осложняло его и без того трудную жизнь.
Через некоторое время мы поменялись с папой квартирами, папа перевез нас на Тверской бульвар, где к этому времени ремонт уже подходил к концу, а сам с Зинаидой Николаевной снова занял комнаты на Волхонке.
“Мы вчера с Женичкой переехали с Волхонки, – писала мама в Берлин, где очень волновались нашей жизнью, – а Боря переехал на Волхонку, он надеется к весне получить для себя новую квартиру… У нас отдельная, еще не оконченная квартирка из 2-х маленьких комнат в нижнем этаже, окна выходят на Тверской бульвар. Я здоровьем и телом плоха, но духом крепка, все желания мои теперь направлены к тому, чтобы самостоятельно выбраться в жизнь, когда это реально начнет налаживаться, буду вам писать”.
Елизавета Михайловна, помогавшая мне в переписке с бабушкой и дедушкой, по их просьбе стала регулярно сообщать им семейные подробности. Ее письма, как и мои, сохранились в Оксфорде. Хочу привести ее сообщение:
Глубокоуважаемые Розалия Исидоровна и Леонид Осипович! Я очень виновата и перед вами и перед Женей не отправив этого письма вовремя, но извинением мне то, что и у меня и у ваших много было хлопот и забот. Долгие переговоры, в какой квартире кому жить? с кем останется Женя? Многое тяжелое в письме не опишешь, в результате: Бор. Л. переехал с новой семьей на Волхонку, а Е. В. на его квартиру в дом писателей на Тверской бульвар. Отдельная квартира, 2 светлых комнаты и крошечная темная кухня, ванна, 1-ый этаж, центр<альное> отопление, во дворе садик, окна на Тверской бульвар. Женя наконец, кажется через неделю пойдет в школу, проходит последний ячмень, – ну намучался он, бедный, то нарыв, то ячмень! В квартире светло, надеюсь будет тепло, кончают делать плитку, все будет чисто и ново. Женя будто порозовел за эти две недели, до слез был жалок, когда его спросили с кем он будет жить, бросился к отцу, но на утро, проснувшись остался с матерью. Меня спросил Б. Л.: “Ведь естественно мое желание взять Женю”; я ответила – да; но неестественно, чтобы ребенок был не у родной матери! Я еще ни разу в жизни не видела хорошей мачехи, у которой были свои дети; этой фразы я не успела ему сказать, так как он ушел в другую комнату. Когда заходит к Жене, то я вижу, что он мною не доволен, и мне больно, ведь я его люблю, и мне его очень жаль. Очень прошу в ответном письме ни о чем не упоминайте, так как лично писем не получаю.
Федя здоров, в детском саду. Ал.<ександр> Л.<еонидович> в Крыму, в командировке, но и отдыхает. Ир.<ина> Н.<иколаевна> здорова. Ваша Ел. Мих.
На Волхонке все еще в одной из наших комнат жила Вера Васильевна Смирнова с дочкой, но, по-видимому, вскоре она получила свою собственную и уехала. Там было теперь в общей сложности три большие комнаты вместе с бывшею Шуриной, в которой была сделана папе тихая и удобная комната для занятий. Он мечтал об этом еще прошлым летом, когда писал:
И вот я вникаю на ощупь В доподлинной повести тьму. Зимой мы расширим жилплощадь, Я комнату брата займу. В ней шум уплотнителей глуше И слышатся будет жадней, Как битыми днями баклуши Бьют зимние тучи над ней.За четыре дня, на которые папа ездил в Ленинград, чтобы окупить летние долги авторским вечером чтения, Зинаида Николаевна позвала стекольщика вставить стекла, выбитые зимой взрывной волной при разрушении Храма Христа, сама перетянула продавленные диваны и натерла пол. Приехавшие из Елизаветграда родители Генриха Густавовича Нейгауза передали ей пианино и кое-какую мебель.
В начале ноября мама писала в Берлин в ответ на беспокойства бабушки и дедушки обо мне:
Женичка Вам написал письмецо, получили ли Вы его. Он занимается с Елиз. Мих. по-французски два часа в день, надеюсь, что к концу месяца пойдет в школу и тогда Елиз. Мих. будет приходить 3 раза в неделю, по-немецки он тоже занимается с немкой два раза в неделю, она просит, если можно прислать новую немецкую грамматику, как теперь проходят в Германии. Он много и с увлечением читает Майн Рида, Жюль Верна, теперь у него “Князь Серебряный” Ал. Толстого. Нарывы у него Сл. Богу прошли. Озорник и лентяй он большой, но трогательный и умненький. Стал много веселей и спокойней. Сегодня он мне говорит: “А почему Черт – существительное, ведь он не существует”, а вечером уже в кровати пристал ко мне “Откуда человек и все, что живет, как образовались материки и звезды, что всему началом и как бы об этом почитать?” У меня только-только кончили красить, плиту складывать и т. д. Немного работаю, пока дома, все портреты рисую, весной как-то работала на одном съезде за четыре дня нарисовала 8 человек, надеюсь на заказ и очень как раз теперь угнетаюсь, что не умею наладить энергичную работу. Я за эти два года совсем разболталась и оторвалась от работы и от среды.
Папа устроил меня в школу на углу Малой Бронной и Патриарших прудов. 20 ноября мама сообщала об этом бабушке:
Дорогая бабушка, только что проводила Женичку первый раз в школу и, конечно, всю дорогу вспоминала Вас, как Вы пришли в прошлом году. Он проснулся сегодня в 4 ч. ночи и стал меня будить: “мама, вставай, уже время вставать, опоздаем в школу”. Потом долго не спал. Оставила я его сегодня на пробу. Помещение очень плохое, но учительница милая. Остался он бледненький и растерянный.
Крепко Вас целую. Ваша Женя.
Наша семья теперь состояла из Елены Петровны, которая готовила еду и убирала – благодаря ей мамочка могла заниматься живописью, регулярно приходившей Елизаветы Михайловны, мамы и меня. И я чувствовал, что оставлен при маме, что я уже ее часть, а не отцовская, потому что я от отца ей отдан. Папа тоже это понял и с тоской писал об этом дедушке:
Единственное, что меня продолжает озабочивать, так это судьба Жененка. Хотя его теперешнего состоянья не сравнить с ужасами прошлого года (он с матерью в уютной квартирке и я всегда застаю его шаловливым и даже до тоски, чуть-чуть чрезмерно дурашливым; кроме того он в восторге от школы, в которую я его не без труда среди года определил). Но меня интересуют не одни настроенья его: он ребенок, и мере имеющихся для него и только наполовину использованных ресурсов не судья. Для него можно было бы сделать гораздо больше, если бы, по простительным странностям самолюбья, этому не сопротивлялась Женя. Одного ее воспитанья для него будет мало. Исподволь ему надо бы было бывать со мной. Я часто бываю там, но там, как всегда и прежде, я слишком растворяюсь в атмосфере Женина требовательного и принципиального мира, которым дышит Женёк всегда и без того. Бывать со мной значило бы бывать у нас, на Волхонке, потому что только тут я вполне я, естественен и реален[270].
Моя затянувшаяся инфантильность и шаловливость были следствием того, что я был единственным, любимым, окруженным вниманием и избалованным ребенком, что создавало почти не расчленяемое на отдельные эпизоды ощущение атмосферы дома, когда я знал, что все просьбы выполняются, что праздники делаются для меня, что каждый раз мне готовятся подарки. Но этот радостный эгоизм, окрашивающий первые 7 лет, был сильно придавлен последующим. Но для мамы я продолжал оставаться маленьким, что и наводило папу на грустные размышления.
Как писал отец, он определил меня в школу, прямо во 2-й класс. Во дворе я подружился с племянником давнего папиного друга Константина Аристарховича Большакова Димой, семья которого жила в заднем крыле нашего дома. Их соседями были Андрей Платонович Платонов с сыном Тошей. Рядом с нами были квартиры Ивана Катаева с женой Машенькой, Михаила Прокофьевича Герасимова и др. В левом флигеле Дома Герцена некоторое время жили Мандельштамы.
Мы получали готовые обеды в литфондовской столовой, а “заборную книжку” в распределитель отдали папе и Зинаиде Николаевне, которые иначе оставались без возможности прокормиться.
Памятуя мое берлинское увлечение музыкой, бабушка распорядилась, чтобы ее рояль при нашем переезде папа отдал мне, и его перевезли к нам в квартиру на Тверском бульваре. Мне так и не удалось оправдать этот подарок, мои уроки музыки не увенчались успехом. Но приходя к нам, папа подолгу играл на нем. Этот инструмент обладает удивительным звучанием, бабушке самой предложили выбрать его на фабрике Бехштейна в 1880-е годы. Папина игра на рояле была продолжением нашей прошлой совместной с ним жизни, когда он регулярно вечерами импровизировал. На Волхонку привезли пианино, на котором иногда играла Зинаида Николаевна, профессиональная пианистка. При ней папе было стыдно несовершенства своей музыкальной техники, и он играл только у нас. Я очень любил папину музыку, она возвращала меня в детство, но совсем забыл, как он по вечерам, когда я засыпал, особенно, если был болен, тихонько пел мне колыбельные и разные другие песни. Это мне напомнила мама, когда много позже, услышав, как я напеваю какие-то русские народные песни, говорила, что это у меня от папы, что их мне еще папа пел, и они бессознательно всплыли у меня в памяти.
Но главным было, конечно, папино чтение своих стихов. Кроме того, он очень любил читать Пушкина – “Полтаву”, “Медного всадника” и другое. На Волхонке это было постоянным сопровождением и наполнением нашей жизни. Когда мы жили на Тверском, это стало редко, и, кроме того, у папы изменилась сама манера чтения. Для него в молодости чтение было повседневностью, он это делал без всякого усилия, переходя от монолога к чтению, причем он читал удивительно, я никогда не слышал, чтобы так кто-нибудь читал. И вот эти его чтения недавно написанного были самым замечательным, что я в своей жизни запомнил.
Через месяц после нашего переезда на Тверской бульвар всех потрясло известие о гибели Надежды Аллилуевой. Папа был взволнован, глядя из окон на траурную процессию, проходившую по Волхонке, прямо перед окнами. Сталин в серой шинели шел, склонив голову, за гробом, который везли на катафалке на кладбище Новодевичьего монастыря. Помню свое недоумение, высказанное папе: как Сталин может после случившегося продолжать жить по-прежнему. Боря мне объяснял, что для царей семейные драмы имеют другое, не абсолютное значение, что это им не так важно и вместе со всем остальным входит в их политическую жизнь. Мой вопрос был задан, вероятно, в связи с папиной припиской к писательскому письму с соболезнованиями Сталину по поводу его потери.
Глава V (1932–1945) Тверской бульвар и эвакуация
Наша жизнь постепенно входила в нормальные рамки. Я пошел в школу на Патриарших прудах, иногда папа заходил за мной после конца занятий, и мы возвращались вместе, разговаривая о разных делах. Он интересовался моим отношением к товарищам, расспрашивал об учителях, с которыми познакомился сам. Многое из моих рассказов я недавно нашел в его письмах к дедушке.
У нас завязались теплые отношения с соседями по дому. Укреплялась мамина дружба с Саррой Дмитриевной Лебедевой, жившей тогда на Петровском бульваре, Ниной Станиславовной Сухоцкой, племянницей Алисы Коонен, через нее с Александром Румневым и всем Камерным театром. Неподалеку жила мамина однокурсница по ВХУТЕМАСу Елена Михайловна Фрадкина со своим мужем Евгениям Яковлевичем Хазиным, братом Н. Я. Мандельштам. Мама стала много работать. Устраивались рисовальные вечера, на которые приходили друзья художники и приглашалась модель. Мама получила заказ на серию портретов начальствующего состава бронетанковых войск, которые выставлялись в военной академии. Вероятно, предполагалось издание книги, но вскоре все командиры были арестованы и разговоры об этом стали опасными.
Радуясь приобретенной маминой самостоятельности, к которой она так давно стремилась, папа писал о ней дедушке:
“Она сделала ощутительные успехи в рисованьи. Только теперь научилась она передавать живое сходство в рисунке, и в какой-то манере, очень по своему благородству особенной, хотя и робкой. Она перерисовала много военных из высшего командного состава (целую академию). Она так неплохо нарисовала Пильняка и Веру Инбер, что я сам предложил ей посидеть моделью для одного из ее заказов, и сделала она меня не только лучше одного гравера[271], рисовавшего меня в те же сеансы, но лучше всех, когда-либо рисовавших меня, за вычетом, разумеется, одного тебя, папа”[272].
Мне тоже очень нравился этот портрет, и мама потом подарила мне его на день рождения. Его повесили у меня в комнате, чтобы я не скучал по папе вечерами, ложась спать и вспоминая, как он укладывал меня и сидел со мной, дожидаясь, пока я засну. Теперь, просыпаясь утром, я говорил, глядя на него: “С добрым утром, папочка”, а вечером, прощаясь: “Спокойной ночи, папочка”. К сожалению уголь, которым сделан портрет, не был закреплен, и с течением лет он сильно осыпался.
То ли в этом году, то ли в следующем мамочка, узнав, что мне после рассказов в школе о майском военном параде очень захотелось пойти на Красную площадь, сказала об этом папе. Тогда по билетам пускали на трибуны для зрителей по сторонам мавзолея, и папе дали именной билет. Он пришел к нам и сказал, что сам он не пойдет и пусть со мной пойдет мама. “Меня, Боря, не пустят”, – возразила она. “Какая чепуха?”, – и он взял чернильную резинку, стер “Б. Л.” и написал “Е. В.” Мы пошли. Две заставы нас пропустили, а на третьей стоял человек, который посмотрел на билет и спокойно сказал, чтобы мы шли обратно – он нас дальше не пропустит. “Как же так, почему”, – заволновалась мама. Он ответил: “Спросите у вашего мужа”. На билете остались от чернил нестираемые точечки. Мы повернули обратно, но по дороге встретили кого-то из знакомых, который взял меня с собой. Мама вернулась домой. И мы долго еще боялись, что папочке влетит за подделку. Он храбрился и уверял нас, что все обойдется и ничего плохого не будет.
У папы в это время стали часто выходить книги и постепенно выравнивались его возросшие денежные расходы. Он выписал из Берлина некоторое количество марок нам и Зинаиде Николаевне на торгсин, где я очень любил покупать писчебумажные принадлежности, коиноровские карандаши, перья, тетради и ластики со слоном.
Сохранилась папина записка по поводу одного маминого выхода в гости. Не знаю, куда именно она тогда ходила, но по стилю и расположению текста эта записка – дарственная надпись на книге и была вложена, вероятно, в однотомник, вышедший в Ленинграде в это время и надписанный маме в тот же день, 15 мая 1933 года:
“Жене, 15-го мая вечером, когда ты предложила по телефону проводить тебя из гостей домой, и я хотел и не мог этого сделать. Всегда ясной и независимой – от всегда жал кого.
Другу от этой дружбы недостойного.
15-го мая вечером.
Боря”.
На однотомнике он написал: “Тебе, Женюра, милый друг мой.
Боря
15. V.33”.
Через три дня был подарен и надписан сборник папиной прозы “Воздушные пути”:
“Еще привет, Женюра. Целую Женичку.
Твой Боря
18. V. 33”.
Мама говорила потом, что на долю их совместной жизни с папой пришлись годы безденежья и трудностей с изданиями, а вторая женитьба совпала со временем широкой папиной известности и большого количества выходивших тогда книг. Это – не совсем справедливо, потому что именно на начало 1930-х годов приходится запрещение папиного собрания сочинений и переиздания “Охранной грамоты”, вынутой в последний момент перед набором “Воздушных путей”. Сопоставляя производительность того и другого времени и располагавших к работе условий, которые отцу создавала Зинаида Николаевна, это было время неудач с прозой, которую папа тогда писал, и долгого перерыва в писании стихов. Так что, несмотря на отдельную комнату для работы, полученную в наследство от уехавшего Шуры, папа часто должен был ее покидать для участия в общественной жизни, поездок в командировки, дома отдыха и санатории, что составляло теперь большую часть его жизни.
В это время к маме стал часто приходить в гости Борис Пильняк. Он позировал для портрета, который потом погиб при его аресте. Пильняк часто заезжал за мамой на своей машине, и они ездили кататься. У него был небольшой дом с садом на Ямском поле. Мне он подарил толстую палку из тяжелого дерева японского каменного дуба, как он его называл. Вероятно, в июне он возил нас в Коломну к своей первой семье. У него был двухместный “форд” с двумя дополнительными местами в открывавшемся багажнике. Впереди сидел он с шофером, а мы с мамой сзади. Выехали вечером и приехали поздней ночью. Следующий день мы провели в Коломне, где его дочка катала меня на лодке по Москве-реке и Оке. Их маленький бревенчатый домик стоял в самом Кремле или поблизости от него.
В письмах в Берлин папа часто рисовал картинки нашей с мамой жизни:
Сейчас был у Жени. Светло у них, чисто. Маленькие, маленькие две комнаты. Молодцы они оба, как живут, как держатся!! Женек мне “Таинственный остров” вслух читал, подперши голову рукой. Читал, как корабль пиратов на воздух взлетел, и как с берега стали ловить обломки, и прозу эту читал, как лирику, очень благородно, нараспев, печально, и был очень красив в профиль, очищенно красив, чуть-чуть даже капризно изящен. А Женя напротив него сидела и палитру чистила, умная, грустная, дружелюбно понимающая. А когда я домой пошел – (ну, откуда быть юмору!) я подумал, что вот ведь они сейчас такие, какими я всегда желал, – нет, в тысячу раз чудеснее, но в желаемом именно направленьи: и такими сделала их печаль, моя и их, и то, что я им не мешаю быть естественными, как мешал всегда ежеминутной ревнивой критикой, все боясь, что они кому-нибудь не понравятся[273].
Папу беспокоил мой продолжающийся фурункулез, и он покупал мне фрукты в торгсине, летом устроил мне путевку в детский санаторий ЦЕКУБУ в Поречье под Звенигородом.
Я был там в младшей группе и очень страдал. В старшей заметной фигурой был Миша Левин[274], и он сохранил об этих лагерях самые светлые воспоминания. Впоследствии мы часто сравнивали свои впечатления. Они жили в палатке на краю двора, играли в разные спортивные игры и ходили в походы. Нас тоже водили в походы, а жили мы в прекрасном старинном доме с огромными комнатами, где стояло много коек, и мальчики постарше проявляли себя, как полагается по возрасту, полным отсутствием способности не мешать жить соседям. Особенно бедствовал мой ближайший сосед, который не умел просыпаться ночью, чтобы сходить на горшок. Ему доставалось сполна, я ему сочувствовал и даже пробовал защищать. Мы пытались однажды сбежать домой. Словом, все было по Диккенсу. Единственной моей отрадой были белые грибы, которые в несметном количестве росли по склону к Москве-реке, где был старый парк или скорее – березовая роща.
Из педагогических соображений свидания с родителями были разрешены только один раз в месяц, и я безумно скучал по дому. Об этом стало известно маме от одной ее знакомой, дочка которой тоже была у нас в санатории. Сначала ко мне ездила мама, но воспитательница не велела ей видеться со мной. Потом поехал папа, но это тоже было за два дня до срока родительских посещений, он рассчитывал только поговорить с воспитательницей, но я увидел его сразу, как он пришел, и мы провели с ним вместе около часу. Мы гуляли по березовой роще и разговаривали. Наверное, я рассказал ему, как третировали нас с соседом старшие мальчики, как мы хотели убежать и нас поймали.
Во всем, что я пишу о папе, в первую очередь вспоминается, каким исключительным, важным событием для меня было любое его участие, внимание, появление и проявление. Это, безусловно, относится ко времени после 1931 года, но и до этого было тоже.
Папочка всегда был глубоко погружен в собственные мысли и жил как бы в своем мире. Когда я его из этого мира выводил, то никогда не знал, к чему это поведет. Самый, пожалуй, разительный пример – как раз мое возвращение из Поречья.
Предполагалось, кажется, что я пробуду там два месяца. Не знаю, выдержал ли я и половину срока, но пришлось меня забирать оттуда раньше времени. К моему полному изумлению и звонкой радости, за мной приехал папа. Собрали вещички и отправились на станцию. Я был счастлив и, вероятно, болтал без умолку. Во всяком случае помню, как мы сидели друг против друга у окна вагона, и папочка, наклонившись ко мне, слушал, кивал, что-то отвечал ласково и задумчиво. Время от времени он говорил что-то о веснушках, которыми я в том возрасте густо покрывался летом. Но я не обращал внимания на эти отступления и изливал ему всю горечь накопившегося одиночества и унижения, радость того, что это позади и переходит в разряд забавных приключений.
Мы приехали домой. Передавая меня маме, Боря произнес длинную речь о том, что мне надо любым способом, не откладывая, вывести веснушки, а то они станут причиной моего пожизненного несчастья. Это было очень страшно. Все, что меня так радовало в нашей поездке и казалось обретенным взаимопониманием, свелось к одной мучительной, устойчивой и все заслонившей теме.
Как, если вдруг – родимое пятно, В котором он невинен…[275]Мне кажется, что этими веснушками пропиталась долгая полоса наших последующих отношений, о них есть в письмах к дедушке и бабушке, о них вспоминал папочка в последнее свое лето в 1959 году, когда мы жили с ним в Переделкине, в письме к Жаклин де Пруайяр[276], объясняя этот дефект отразившейся на мне недостаточной любовью к моей маме.
Мои веснушки пугали его как болезнь, порча, опасность появления подавленности и психологической забитости, той самой, о которой я рассказывал ему, жалуясь на унижения в лагере. Но он думал по-своему, не совпадая с тем, о ком заботился. У него была своя логика и своя теория соответствия внешнего и внутреннего совершенства. Я никак не мог связать свой рассказ о жизни в лагере с веснушками, а он видел в них причину моего одиночества и неумения дружить со сверстниками, и энергия сделанных им выводов была следствием самообвинения в несовершенстве того, что он создал и потом лишил заботы.
Он не хотел меня (и еще более – потом Лёнечку) ни в чем вести за собой, наставлять на свой путь, стеснять и поэтому не слишком приближал к себе. Существовали, конечно, для этого и другие причины. Если ему нужна была помощь, то он старался не прибегать к нашей, а если решался на это, то обязательно перед тем допытывался, не помешает ли это как-нибудь нашим планам. И я, в свою очередь, когда вырос, позволял себе звонить ему по телефону и просить о чем-то, требовать внимания только в крайних случаях, которые казались мне или маме очень важными.
Папино отношение к близким было основано на свободе взглядов, он никогда не хотел влиять на чье бы то ни было мнение или понимание вещей. Он оберегал меня от поучений, изложения своих концепций, навязывания себя и своей философии. Любовь для него – это свобода, а не подчинение себе. Внешне это выражалось в наблюдении, покладистости, легком выполнении прямых просьб, если он не был против, и желании не испортить дело своим вмешательством. Речь идет, конечно, о том времени, когда мы жили врозь.
К общению он всегда относился профессионально, это была форма самоотдачи, даже по отношению к случайному встречному. Но если я не смел никогда пытливо его расспрашивать и ждал от него самого свободного рассказа о том, что он хочет рассказать о себе, то другие могли не считаться с этими правилами, могли послушать его и уйти, если это им не надо. Поэтому перед посторонними папочка спокойно развивал свои мысли, пускался в откровенности, не боясь лишить их свободного отношения к своим взглядам, с которыми они могли не считаться.
В конце августа 1933 года составилась писательская бригада на Кавказ, в Азербайджанскую его часть, которую папа еще не видел, и ему предложили в ней участвовать. По предложению Бориса Пильняка в бригаду была включена мама в качестве художника. Но чтобы не обижать Зинаиду Николаевну, для которой такая совместность была бы неприятна, папа перед самым отъездом внезапно отказался.
На время маминого отсутствия к нам переселилась Елизавета Михайловна, почти каждый день приходил папа. Мама писала нам с дороги.
Батум. 23 августа 1933
Дорогие Елизавета Михайловна, Женичка и Боря.
Только что сели в поезд Батум – Тифлис – Баку. Теперь 9 ч. утра по Батумскому времени, в Тифлисе будем в 11 ч. вечера. Вчера с помпой нас возили по Батуму. Были мы в Ботаническом, в Чакве (чайный совхоз), купались, обедали в Кабулетах. Из Чаквы хотелось мне отсыпать тебе, Боря, одну-другую пригоршни черного только что из-под машины чаю. О Кабулетах я совсем забыла и вдруг шофер назвал, а я вспомнила строчки[277].
Киска, Женек, выломала я и везу тебе бамбук, сорвала тебе зеленый апельсин.
Без передышки с парохода на автостанцию. Шурша из-под шин рассыпались камешки, поворачивались и поклонялись горы, веером врезалась и падала тишина, кружилась голова, море, дорога, бамбук и пальмы, чай и мандарины, в сознании горы превращались в зеленые холмики, а море в блюдечко, как будто перевернули бинокль.
В Тифлисе маме по протекции Пильняка показали собрание живописи грузинского художника Нико Пиросманишвили[278], находившееся в подвале художественного музея. Оно произвело на нее огромное впечатление, о котором она вспоминала всю жизнь.
У отца был подписан договор на книжку переводов грузинской поэзии. Он не знал грузинского языка и нуждался в подстрочниках, которых никак не мог получить от своих друзей. Он добился, чтобы его включили в другую писательскую бригаду, которая пробыла неделю в Грузии в конце ноября 1933 года. Сохранились две открытки, посланные им оттуда.
<22 ноября 1933. Тифлис>
Дорогие мои мама и Женичка!
Все ли у вас благополучно. Было бы большим счастьем для меня, если бы вы телеграфировали мне об этом в Тифлис, Грибоедовская 18, Табидзе, мне; но в телеграмме должен быть и привет им от тебя, Женя. Очевидно, ты тут по себе оставила очень хорошую память и очень им понравилась. Как ни близко это моему сердцу, но чувство такта запрещает мне вдаваться в подробности при этих разговорах. С большой теплотой говорила о тебе Нина Александровна, жена Тициана[279]. Но мы, то есть члены бригады, почти с ними не видимся. Одни мужья разделяют с нами наши разъезды (мы были в Зестафони на ферромарганцевом заводе и в Кутаиси на Рионской электростанции), а жен совсем не видно только Н. А. Табидзе в вечер приезда встречала нас, среди других, на вокзале. Тамары Георг<иевны>[280] до сих пор не видал, хотя мы уже 5-й день тут. Я живу в одном доме с Колей Тихоновым и Гольцевым[281]. Есть ли у вас деньги и здоровы ли вы, ты, Женя, и ты, Женёчек? Пожеланья ваши помню, но пока ни минуты свободной не было, пьем без отдыха и срока, боюсь заболеть. Крепко вас обоих целую. Всем сердечный привет, особенно Елиз<авете> Мих<ихайловне> и Иппол<иту> Васильевичу.
Ваш папа Боря.
<23 ноября 1933. Тифлис>
Дорогая Женюра, вчера ночью был в подвале под музеем, имел случай разделить твое восхищенье и достал тебе около 50-ти снимков с Пиросмани, какие были. Я хотел выехать завтра, 24-го, потому что для дальнейшего промедленья никаких причин больше нет, но в полученьи билета я завишу от Павленки, а он не отпускает меня раньше 26-го. Мы тут совсем прожились, и боюсь, дорогой Жененок мой, что на покупку коврика тебе у меня денег не хватит, мы достанем не хуже в Москве, но зато сластей каких-нибудь я тебе привезу, а также кусочек ферромарганца из Зестафонской электроплавильной печи. Хочется поскорей отсюда, тем сильнее, что, прыгая по камням вокруг Кутаиса, я привел в негодность свои калоши, а тут сыро и холодно. Крепко вас целую и обнимаю. Всем привет. Б.
Фотографии работ Пиросманишвили, которые привез тогда папа, сохранились у нас до сих пор. Я очень любил их рассматривать и читать смешные надписи. Мама много рассказывала про тифлисские кабачки, для которых Пиросмани делал свои картины.
Вероятно, именно этой осенью, после возвращения из поездки, Пильняк сватался к маме, но она ему отказала. Через некоторое время он женился на Кире Георгиевне Андроникашвили.
Зима 1933/34 года прошла в сменяющихся детских инфекционных болезнях мальчиков Нейгаузов, болели также Зинаида Николаевна и сам папа, что сильно сокращало количество его приходов к нам. Он много сидел над переводами с грузинского, сделал большую поэму Важа Пшавелы “Змееед” и периодически публиковал отдельные стихотворения Табидзе, Яшвили и Чиковани. Он рассказывал нам, что так мучился со “Змееедом”, что весь “заважапшавел стрептококковой сыпью”.
В середине мая арестовали Мандельштама, отец хлопотал за него через Бухарина. Со мной о таких вещах не говорили, но эти события близко касались мамочки, тесно связанной с кругом ближайших друзей и родственников Мандельштамов. Я хорошо помню самого Осипа Эмильевича, его характерную позу с закинутой головой – в длиннополой шубе с тросточкой он ходил через двор обедать в литфондовскую столовую. Помню, как смеялись над ним наши дворовые мальчишки. Они с Надеждой Яковлевной вскоре получили новую квартиру в Нащокинском переулке и уехали из Дома Герцена.
На лето папа с семейством собирались в писательский дом отдыха под Тулой, в удивительное старинное имение на высоком обрывистом берегу реки Упы. Их путевки начинались с 1 июня, в этот день папа выписал маме доверенность на получение денег и карточек, так как в Одоеве они должны были жить на всем готовом. Как любопытный документ времени приведу текст этой “Общей доверенности”, сохранившейся у мамы.
Полученье причитающихся мне гонораров, продуктов и проч. карточек для числящегося на иждивении моем, но проживающем при матери, сына моего Евгения, равно как всякого рода могущих случиться выдач и пр. и пр., доверяю Евгении Владимировне Пастернак.
Б. Пастернак.
1. VI.34.
Подпись руки Б. Л. Пастернака удостоверяю
За управдома Комакадемии при ЦИК СССР
3. VI.34. <неразборчивая подпись>.
Для нас мама сняла дом в деревне Марьино близ Звенигорода, и мы отправлялись туда 3 июня. Папин отъезд задержался почти на месяц из-за тяжелого и затяжного воспаления легких у Зинаиды Николаевны. Папа писал нам об этом как о причине, мешавшей ему приехать в Марьино. Кроме того, в его записке есть скрытый намек на недавний разговор со Сталиным, который звонил ему по телефону, интересуясь причиной папиного заступничества за Мандельштама. Сталин исподволь выяснял, насколько широко известно стихотворение Мандельштама о кремлевском горце, за которое он был арестован. Переведя разговор с этой темы, папа высказал пожелание поговорить с ним “о другом” – “о жизни и смерти”, после чего разговор был неожиданно прерван. Папа некоторое время ждал возможного продолжения этой истории, что его также задерживало в Москве “в придачу к горлу”, как он пишет. Не зная, как себя вести и не решаясь назвать причину своего сидения в городе, в карандашной записке, переданной через Елену Петровну, папа откладывал подробный разговор до встречи. Эта записка позволяет точнее датировать телефонный звонок Сталина и время пересмотра дела Мандельштама.
11. VI.34. <Москва>
Дорогая Женя!
Вначале я мечтал в десятых числах попасть к вам. Но это никак не выходит. К З<ининому> воспаленью прибавился грипп, в доме делается неведомо что, Пр<асковья> Петровна со всем справиться не в силах, круглые сутки грохот, пыль и грязь, а ко всему и у меня без температуры сильно болит горло, вероятно это легкий грипп, который я переношу на ногах. Вы не беспокойтесь, лично для ваших опасений никаких оснований нет, то есть я здоров и со всеми трудностями слажу; – я хочу сказать, что хотя трудностей этих много, все они идут по далекой тебе линии и чужой.
Объяснила ли тебе, Женюра, Лена, что теперь стали выдавать новый сухой паек (кажется 30 яиц, 2 кило сыра и 2 кило масла, – может быть ошибаюсь), который ты сможешь получать полностью в месяцы нашего отъезда? Хотя мне очень бы хотелось к вам приехать, возможно, что первым свиданьем с тобой будет встреча с тобою в Москве числа 15–16-го, как ты, кажется собиралась. Не сердись на меня. Я тебе еще кое-что расскажу, что меня тут задержало, в придачу к горлу.
Крепко расцелуй Женёчка. Загорает ли он? Правда ли все так хорошо (кроме твоей ноги), как мне передавала Лена? В ладу ли вы с хозяевами? Как здоровье Елизаветы Михайловны. Сегодня тут первые проблески жары, которые меня должны были бы пугать как городского жителя, и радуют при мысли о вас. Поцелуй, пожалуйста Елизавету Михайловну и Женичку. Привет Лене.
Твой Б.
Грохот, пыль и грязь целые сутки, о которых папа писал нам, объяснялись работами по проведению метро открытой сапой, которые шли по Волхонке прямо под окнами. Это был героический труд комсомольцев, и им восхищались все газеты, но нечеловеческие условия этого способа работы губили жизнь и здоровье не только самих рабочих, но лишали возможности открывать выходящие на улицу окна, пыль проникала сквозь все щели, болело горло, закладывало грудь. Именно с рассказа об этом грохоте, мешавшем слушать телефон, начал папа свой разговор со Сталиным, что с юмором отмечала Н. Я. Мандельштам в своей записи этого эпизода.
Елена Петровна регулярно приезжала в Москву за продуктами, и от нее папа узнал, что у мамы разболелась нога, которую она подвернула еще до отъезда во время игры в теннис и перетрудила, когда обошла несколько деревень в поисках дачи. Мама приехала в Москву раньше, чем папа ее ждал, настолько ей стало плохо. Хирург, ее двоюродный брат Зиновий Давыдович Лурье, осмотревший ногу, нашел отколовшийся кусочек маленькой косточки в стопе и велел ей выдержать какое-то время в постели с компрессами.
“Мы с Женичкой живем под Москвой в деревне, – писала мама Ломоносовой. – Я ничего не делаю, потому что два месяца тому назад подвернула ногу и считая это пустяком, слишком много ходила, как раз было то время, когда нужно было подыскивать что-либо на лето, а потом шесть дней тому назад снимок показал, что у меня сломана косточка. И теперь я либо лежу под яблонями в саду, либо потихоньку брожу с палочкой. У нас очень хорошо. Женек купается в Москва-реке и бегает целыми днями… На выставке молодежи сейчас в Москве висят два моих портретика одного молодого ученого и одного композитора[282], из-за ноги я еще не видала, как они там выглядят”[283].
Вместо нее к нам в Марьино приехал папа. Вскоре он писал нам о своем впечатлении.
17. VI.34. <Москва>
Дорогая Женюра, я все в себя не могу придти от восхищенья, так мне у вас всё понравилось! Твое порученье насчет Маруси исполнил. Платёж в М. Т. П.[284], ранее предполагавшийся 16-го, перенесен на 20-е. Я звонил им, и меня уверили, что ты 20-го по доверенности деньги получишь без всякого затрудненья. Но так как я боюсь, что у тебя до этого дня не хватит, то посылаю тебе 500 руб. не в счет тех, а просто к тем еще в придачу. Однако ты платежа в М. Т. П. все-таки не проворонь!
Мне очень не хочется ехать 19-го, и если можно будет отпроситься, то не поеду. Если же это не выйдет, то повидаться нам не удастся, и тогда я постараюсь попасть к вам между 25-м и 30-м. На всякий случай позвони мне 19-го. Всего лучшего.
Еще раз спасибо за чудные полдня. Крепко целую Женёчка.
Боря.
28. VI.34. <Москва>
Дорогие мои! Кажется едем наконец 30-го, то есть попробуем – рано говорить. Не знаю, получил ли комнаты (требуются две), – много поехало народу. Написал сегодня требующиеся доверенности Пр. Петровне. Если будут какие недоразуменья, помни, Женя, тов. Ляшкевича, и все через него узнавай и улаживай. Если выяснятся какие-нибудь невзносы или недоимки мои, погашай их в счет будущего возмещенья только в том случае, если от этого можешь пострадать ты сама.
Как здоровье Елизаветы Михайловны? Как твоя нога? Что ты, Женёночек мой? Питайтесь, не скаредничайте, ни в чем себе не отказывайте. Поотлежись, Женя, по всем правилам гигиены, не срывай леченья, после будешь жалеть. Пишите.
Пишите по адресу: гор. Одоев, Московск. обл. бывшей Тульской губ., дом отдыха № 3 Союза Сов. Пис. Б. Л. Пастернаку.
Пишите, не оставляйте в тревоге и неизвестности. Всех целую и обнимаю.
Б.
Мы жили в большой избе вчетвером с Елизаветой Михайловной и Еленой Петровной. Кроме того, была отдельная комната под мастерскую, где мама писала соседскую девочку, несколько старше меня, в большой соломенной шляпе. Это одна из самых удачных ее работ.
Хозяева были пожилые, а их взрослый сын жил рядом в маленькой избушке. Не то он был школьный учитель, не то – техник. Он знал много интересного, был нездоров – может быть, это был туберкулез, – бледен и слабогруд. Курил и кашлял. Он много возился со мной, давал читать книжки, помню, что он подарил мне детскую переработку Тита Ливия “Меч Аннибала”. Учил вырезать корабли из сосновой коры. Он сам сделал детекторный радиоприемник и слушал разные передачи. Потом в Москве я соорудил себе похожий. Через год я узнал, что осенью его убили в лесу бандиты.
Я не запомнил папин приезд в Марьино, наверное, это было очень коротко. Потом он уехал в Одоев, и мы не виделись целое лето. Оттуда он послал нам две открытки.
<4 июля 1934. Одоев>
Дорогие Женюра и Женичка! Получили ли вы мою открытку? Я уже в Одоеве, куда с невозможными трудностями добрались вчера вечером. Когда я с Шурой были маленькими, усадьбы такого типа, как здешняя, уже в большинстве сдавались частями на лето, как, например, Райки, Молоди и др., и мне это место много напоминает знакомого. В смысле живописности место просто выдающееся, но мы приехали поздно, и комнаты получили небольшие, в мезонине, с полудня до самого заката обращенные на солнце, так что несколько жарко; за два дня я загорел, точно на Кавказе.
Вот бы хорошо было, если бы вы мне написали! Как нога твоя, Женюра? Загораешь ли ты, Женёк? Хорошо ли питаетесь? Ведь теперь книжка у вас будет безраздельно, и должны вы откормиться, как на выставку. Надо бы и Елизавете Михайловне основательно поправиться и отдохнуть. В глубине души я очень рад, что из двух возможностей (дом отдыха или дача с самостоятельным хозяйством) вторая выпала на долю вам, а не нам.
Итак, сообщите про здоровье. Адрес сообщил в открытке, посланной из Москвы. Так как я не уверен, дошла ли она, то эту адресую в город.
6. VIII.34. <Одоев>
Дорогие мои мама и сынок! Спасибо за письмецо ваше. Чудно ты пишешь, Женек дорогой. Много ли ты наловил рыбы? Ты не унывай, если покамест ничего не поймал, это и со взрослыми случается. Тут были рыболовы-любители, они день и ночь на реке возились без особенного прока. А пока они вылавливали по пескарю в сутки, тут один колхозник из деревни выследил в омуте и поймал двухпудового сома. На одну наживку этому зверю пошла 3-х фунтовая щука на крючке, величиной с дверной!
Спасибо за промокашку. Я совсем не забываю об авторе твоего уюта, то есть о тебе самой, Женюра-мамочка. Разумеется, его не было бы без твоего искусства, но это не исключает моей благодарности тем чудным спутникам в труде, которых тебе посылает судьба.
Мне очень не хочется на съезд, потому что я тут заработался и обстановка подходящая. Я написал в Оргкомитет, и если мне позволят не явиться, я, может быть, просижу тут до середины сентября. Справишься ли ты тогда с деньгами? По моим расчетам это невозможно. Но об этом отдельно в другой раз. Очень рад, что ты здорова.
Крепко целую вас. Всем привет.
Папе не удалось отпроситься и пришлось бросить работу и ехать на Съезд писателей. Мама ездила в Москву, чтобы повидаться с ним.
“Приехала из деревни в город и застряла из-за съезда писателей на несколько дней, – писала мама Ломоносовой. – Борис Леонидович, который живет с семьей под Тулой, приехал на съезд, и эти дни мы были вместе, опять попала к прежним друзьям и знакомым, опять всколыхнулось старое”[285].
Мы с Елизаветой Михайловной внимательно следили за ходом Съезда, в котором папа принимал активное участие. Читали выступления, публиковавшиеся в газетах, делали вырезки с упоминаниями о нем и текстом его речи.
Кроме того, Елизавета Михайловна мне много рассказывала в то лето о своей жизни в мирное время, о воспитании сына, об орловском имении Лопухиных. Елена Петровна нас замечательно кормила, мы ходили ее встречать на станцию, помогали тащить тяжелые сумки. Молоко, хлеб и овощи покупали в деревне. Мы развели свой огород, который меня очень радовал.
Лето в Марьине запомнилось мне на всю жизнь как самое беззаботное и радостное. Деревня стояла на высоком холме. Недалеко протекала Москва-река с быстрым течением и чистой водой. Ежедневно ходили купаться, после чего растирались жестким полотенцем. Елизавета Михайловна задалась целью закалить и укрепить меня физически. Я пробовал удить рыбу. Погода была ясная и солнечная, почти не помню ненастных дней. Ходили мы и в далекие прогулки вдоль высокого берега реки, в прекрасные сосновые леса, среди которых стояли еще не изменившие свой привычный облик деревни и дачи. Все было налажено, привольно и на редкость спокойно. Там я впервые видел настоящую молотьбу цепами на току, по кругу. Остатки этого тока еще сохранялись в 1961 году, когда мы снова жили там со своими детьми и гуляли с Татьяной Ильиничной Коншиной[286]. Время, проведенное в Марьине, принесло нам всем душевное выздоровление.
Папа вернулся в Одоев и пробыл там половину сентября. На следующий день после приезда он пришел к нам на Тверской бульвар. Какая это была радость! Незадолго до этого мы получили по почте из Грузии только что вышедшую поэму Важа Пшавелы “Змееед” в его переводе. Меня очень взволновала эта сказка, мы спорили с Елизаветой Михайловной по поводу ее конца, мне было жалко героя, который каким-то образом ассоциировался у меня с папой Борей, потому что он тоже умел понимать язык деревьев и трав. Оказалось, что папа, напротив, осуждал его за чрезмерное высокомерие и жалел его жену.
Этот год я прожил с чувством уверенности в том, что жизнь идет, как надо, а не служит лишь источником волнений и тревог.
В конце года мама в свой день рождения описывала Ломоносовой нашу жизнь:
“Я ездила в Ленинград, бегала там по музеям, потом вернулась в Москву, радуясь, что я опять дома (в гостях хорошо, а дома лучше) и взялась энергично за работу, начала четыре холста маслом, четыре портрета, в Наркомпросе подняли вопрос о том, чтобы меня законтрактовать, это значит ежемесячно платить мне деньги и этим дать возможность работы. Но модели мои одна за другой исчезли, одна заболела, другая развелась с мужем, третья поступила на службу, осталась только одна. Начались темные декабрьские дни, когда почти невозможно работать, простудилась я, на несколько дней слегла, встала с головной болью и большой тоской, с которой и сейчас не расстаюсь. У меня бывает периодически такое настроение, когда ничто не приносит радости – когда живешь с трудом”[287].
С середины года папа перевел меня в другую школу, так называемую образцовую, – его пугали преступно-проститутские переулки Малой Бронной. Новая школа № 25 находилась в Старопименовском переулке. О моих первых впечатлениях от нее папа писал дедушке в Берлин:
“Он находит, что она не столько показательная, сколько показная, что в прежней, обыкновенной, было больше дисциплины, и мальчики и девочки, дети более бедных родителей и средних людей, умнее были, чем в этой, менее доступной. Учится он хорошо и всем на свете интересуется. Идет первым по родному языку и литературе, но и успешно чинит радио у знакомых, занимается в кружке по физике и пр. и пр.”[288].
В этом же письме от 14 марта 1935 года папа описывал мой поход на международный шахматный турнир, который проходил в Музее изящных искусств. Увидев как-то меня за повторением сыгранных партий, он взял меня с собой к Тициану Табидзе и Паоло Яшвили в номер “Метрополя”. Этот эпизод запомнился мне особенно ярко. После недолгого разговора папа оставил меня на их попечение, а сам ушел. Началось, конечно, с Лукулловского угощения, доставленного в номер. Я тогда любил поесть и по достоинству оценил жратвенную и лимонадную роскошь. Тициану нездоровилось, или он ждал чьего-то прихода. Он сидел на диване, подвернув под себя ногу, и улыбался. За меня взялся стриженный бобриком смуглый и молодцеватый Паоло. Сначала мы пошли в какой-то магазин, где по просьбе Паоло возникали неожиданные вещи, вроде настольной лаборатории “химик-любитель”, или чего-то для мамочки – у меня спрашивали советов. Я не очень понимаю, как это потом попало к нам домой, потому что экспедиция продолжалась. В те дни Москва объявила себя шахматной столицей мира, съехались Ласкер, Капабланка, Флор и наши восходящие звезды – такие, как Ботвинник. Яшвили отправился в зал, где шел турнир, и стал собирать для меня автографы участников на форзаце купленной тут же шахматной книжки. Ботвинник и Флор надписали кроме того свои фотографии. Мы вышли, когда уже темнело, кажется, шел снежок. Паоло позвонил маме, чтобы она не волновалась, за мной пришел Боря и доставил меня домой в состоянии счастливого обалдения. “У него под мышкой и в карманах, – писал папа родителям в Берлин, – было столько предметов, что он не знал, как ими ловчей распорядиться: апельсины, книжка по шахматам, фотографии знаменитостей с надписями. И вприпрыжку поспешая за мной, все жевал что-то вынимая в кулачке из кармана пальтишка. Оказалось, это остаток булочки, начатой в кафе и потом припрятанной. Славный малшьчик”[289].
Книжку с надписями я подарил потом своему другу Натану Давыдовичу Мейерфельду, когда нашу кафедру теории танков разогнали, а его послали служить на Курильские острова.
Той зимой папа был как-то особенно нежен к нам с мамой и внимателен к нашим новым друзьям. Мама активно участвовала в выставках, устраиваемых Союзом художников. Она сделала прекрасный портрет композитора Льва Книппера. Познакомилась с Хачатурянами и писала его жену Нину Макарову, его самого позже – в последний год перед войной. Арам Ильич вспоминал потом, что именно во время позирования у нее ему пришла в голову мелодия его знаменитого вальса к Лермонтовскому “Маскараду”, и он впервые сыграл ее на нашем рояле.
Галина Лонгиновна Козловская, жена композитора[290], записала в своих воспоминаниях, что мама “обладала великим чувством дружбы. Своим друзьям, которых любила, отдавала себя всю, но эта любовь окрашивалась странной ревностью <…>. Она никогда не скрывала своих симпатий и антипатий, относилась непримиримо к людям и явлениям, которые считала дурными. И стараниями таких людей утверждалось расхожее мнение, что Женя трудный человек. Действительно, характер у нее был сложный, и сама она от этого часто страдала. Но удивительно, что резкость ее характера исчезала в живописи. Я не знаю, что она взяла у своего учителя Фалька, но кисть ее была лирична и полна удивительной нежности к самим моделям”.
“Нужно сказать, – вспоминала Козловская, – что природа наделила ее редкой силой – силой женской притягательности, и поклонение многих, увлекавшихся ею, казалось не оставляло места для тоски и одиночества”.
Галина Лонгиновна была прекрасной певицей с хорошим контральто. Она познакомилась с мамой в гостях у Елены Раковской, жены поэта Уткина[291], живших в одном с нами доме. Мама написала ее портрет, они подружились.
Козловская так описывала свой первый приход к нам: “Две комнаты, выходившие окнами на Тверской бульвар, были наполнены солнцем и светом, и в них ей, видимо хорошо работалось. Мольберты и подрамники стояли у стен, здесь было удивительно чисто, несколько предметов старинной мебели придавали комнате вид легкого, ненавязчивого изящества – ни следа богемного неряшества и беспорядка. А сама хозяйка, стройная и красивая, с особым разрезом, казавшихся узкими глаз, с той же белозубой улыбкой «взахлеб», была прелестна и в полной гармонии со своим жилищем”.
Часто приходя к маме в эти годы и приведя к нам в дом своих друзей, Козловская говорила, что ни у кого не встречала “более глубокого понимания поэзии Бориса Леонидовича и более глубокой любви к ней”. Стихи Пастернака она открывала для себя в “жгучем упоении Жениного голоса. Это чтение было какой-то особой потребностью ее души”. Встречая у нас папу, Галина Лонгиновна увидела, как нужны были ему мамино понимание и любовь. Принося к ней только что написанные вещи, “он в ее отзывах получал для себя нечто важное и нужное. Мало кто знал тайну этой необорванной духовной связи”, – писала она.
Должен сознаться, что я долго не замечал ничего тревожного в папином состоянии той зимой. К весне он перестал приходить к нам, объясняя тем, что его мучила бессонница и он плохо себя чувствовал. Обследования у врачей не показали ничего страшного, кроме сильнейшего нервного утомления. Мама писала Ломоносовой:
“А эта весна печальная и тревожная. Борис Леонидович не здоров, сейчас он в доме отдыха, а с первого, кажется его положат в больницу. У него острая и запущенная неврастения, подробнее не могу пока о его состоянии ничего сказать, потому что сама не знаю… Написал ли Вам Борис Леонидович? Он Вас очень любит, может, только болезнь помешала, потому что он совсем разбит, в разговоре при каждом слове начинает плакать”[292].
А мы сразу по окончании занятий в школе уехали из Москвы в маленькую деревню Степановское, рядом с Александровкой, что было особенно дорого мамочке по воспоминаниям 1925 года. Нас сманили туда Козловские. Их дом стоял на краю и немного на отшибе. В избе была смесь крестьянской утвари с мебелью красного дерева и коллекцией музыкальных инструментов. Рояль, органчик, что-то из духовых и струнных.
Мы сняли крайнюю избу в деревне, ближайшую к перелеску, за которым стоял домик Козловских. Переезжали на грузовике. При доме нам дали огородные грядки и вспахали лошадью. Елена Петровна, отстранив мою помощь, удивительно ладно и красиво подняла гряды и засеяла. Мне кажется, что я потом все же принимал участие в прополках и поливках. Свеклы, моркови, репы и брюквы было собрано много. Салат, редиску и укроп ели все лето.
Мама написала там еще один портрет Гали в клетчатом пиджаке – одну из лучших своих работ, которая потом неоднократно выставлялась и репродуцировалась.
<Начало июня 1935. Москва>
Золотой мой Женёк.
Горячо благодарю тебя за оба письма, – очень они меня порадовали. Спасибо также за ландыши, вторгшиеся струею свежести на нашу бредовую Волхонку. Успокойся, детка, в Одоев я не поеду. Хотя все это выйдет гораздо дороже (что очень огорчает З<инаиду> Н<иколаев>ну), а также и труднее, чем если бы мы поехали на все готовое в дом отдыха, – тем не менее сняли мы дачку под Москвой, невдалеке от Болшева, в Загорянском, чтобы быть, на всякий случай, недалеко от Москвы.
Исследованья все получились довольно утешительные: малокровья у меня нет, расширенье сердца не большое (13 см), почки в порядке, сахару нет, – соли (небольшая склонность к подагре), – некоторое затвердение в легких, – словом пустяки. Глупо, что я это тебе пишу, – скорее сообщаю, имея в виду маму.
Я совсем бы выздоровел, дружок мой, когда бы только нормально спал. Но в последнее время стал я спать по 6 час. в сутки, и никак не могу нагнать своих прежних 8-ми. Говорю с такой уверенностью, потому что у меня резко к лучшему изменилось настроенье и вообще все, за вычетом сна, улучшилось. И вот, если бы восстановился и сон (а он даже укоротился против того времени, что я к вам заходил), то с Божьей помощью все пришло бы в порядок. Хорошие симптомы: мне хочется выздороветь, хочется не головою и воображеньем, а всем нутром и телом, как бывает хочется есть; хочется выздороветь, хочется написать хорошую вещь, хочется жить хорошо; и вообще: я опять себя чувствую тем самым (без придаванья этому какой бы то ни было объективной цены, а лишь для себя, внутренне) кем, в лучшие свои минуты, чувствовал себя всю жизнь. И вот если бы только начать спать как следует, даю тебе слово, все пошло бы как по маслу.
Очень рад, что у тебя нашлись товарищи для прогулок. Гуляй, лазай по деревьям, загорай, мне хотелось бы, чтобы ты был сильным и мужественным, – не надо быть трусом. Если мама при этих словах улыбнется, то, во-первых, если я даже сам не таков, каким хотел бы тебя видеть в будущем, это не резон, чтобы мне не желать для тебя лучшего, нежели дали мне моя природа и воспитанье. А во-вторых, это и неправда: мама меня знает только с одной, несколько своей, стороны: вырастешь, она может быть и сама тебе что-нибудь расскажет; или – я.
Я только то хотел сказать, что у тебя есть все задатки быть тем, чем бы я хотел, чтобы ты был.
Ну я записался, хочу еще маме написать. Прощай, наслаждайся отдыхом, ешь побольше.
Твой папа
Дорогая Женюра, спасибо за письмо. В разгар нездоровья, прочел пьесу Ломоносовой[293] (ничего, думал будет хуже), и ей, также и за тебя, ответил.
На душе у меня лучше, и все бы хорошо, если бы я больше спал. Хотел поподробнее написать тебе о сужденьях врачей и о том, что я думаю предпринять в ближайшем будущем, но все это еще пока неясно из-за неудобств городской квартиры. Советуют до дачи полечиться гидротерапией, но для этого надо остаться в городе. Шура с Ириной дома хозяйствовать не будут (обедают на службе) – вообще все это неясно еще, то есть об этом рано говорить.
Рад, что тебе на даче нравится и что собираешься работать. Деньги в середине месяца будут, оставлю их Людв<виге> Б<енционовне>.[294]
О книжках Лена сговорилась с Зиною, и позволь мне на этот раз в эти дела не вмешиваться и даже их не касаться. Хотя я стараюсь ничего дурного в моем состоянии не замечать, все же стоит мне поднять какую-нибудь незначительную тяжесть или немножко взволноваться, как сейчас же начинается трепыханье сердца. Хочу верить, что это – временно. Будь здорова, еще раз за все большое спасибо. Поцелуй крепко от меня Елизавету Михайловну.
Твой Б.
Тем летом два момента были показательны для моего характера и вспоминаются теперь со стыдом.
Деревня стояла среди прудов, в которых было полно карасей и раков. Рыбу ловили вершами, и я загорелся, представляя себе, как буду снабжать рыбой всю семью. Мне купили сетчатую вершу. Я ее несколько дней ставил в пруд и вынимал по четыре-пять карасей. Но этого хватило очень ненадолго, и полезное занятие было вскоре заброшено.
Лошадей еще в то время не перевели, и их ежедневно гоняли в ночное. Дети дачников принимали в этом участие. У меня был знакомый мальчик, года на два старше меня, он уже раз или два ездил в ночное, и мне захотелось тоже. Лошадей собирали посреди деревни у колодца. Меня подвели к рослому рыжему мерину, на которого я взобрался с приступки у колодца. Взял в руки обороть и тронул. Но мне стало донельзя не по себе и я слез у околицы, несмотря на стыд и угрызения совести. Елизавета Михайловна меня утешала, а мама была даже рада, как мне теперь кажется.
Живописные места кругом были особого свойства. В них угадывались двухсотлетние липовые аллеи, цвели в неожиданных местах редкие садовые цветы и попадались фундаменты больших зданий, растасканных на кирпич и сожженных. Елизавета Михайловна кое-что понимала в географии здешнего одичания и называла знакомые фамилии бывших владельцев этих подмосковных усадеб. Одна их них, с прудами и прекрасной лиственничной аллеей, принадлежала Шереметевым.
В то лето мы часто сидели в перелеске недалеко от снятой нами избы и читали “Войну и мир”. Ходили встречать Ипполита Васильевича и Елену Петровну, которая ездила за пайком. До станции мы не доходили, а сидели на горке примерно на полдороге и ждали. На поезде доезжали до станции Нахабино и шли через деревню Виледниково, пересекая Истру. Поездов было немного, и выходили к определенному. Ипполит Васильевич рассказывал мне о мировой войне и, бродя в поисках грибов по холмистой местности, представлял, как действовал бы на ней уланский полк, командиром которого он кончил войну.
Мне казалось, что папа приезжал к нам, – в новом плаще и с сумашедше напряженными глазами он на считаные минуты заехал попрощаться с нами перед отъездом в Париж. Он почти ничего не мог сказать от волнения и со слезами целовал меня, а я не понимал, что с ним и чем он так огорчен и встревожен. Из его слов мы с трудом могли понять только, что его вызвали и в категорической форме потребовали, чтобы он ехал в Париж на антифашистский конгресс. Перед тем, как отправиться на вокзал, он на той же машине, которую ему выделили, приехал к нам в Степановское. Его ждал шофер, и папа все время порывался скорее уйти. Мне кажется, что мама поехала с ним, но он просил не провожать его на вокзал, вернувшись домой, она горько плакала.
Обратный путь писатели плыли морем из Лондона в Ленинград, проезжать через гитлеровскую Германию участникам антифашистского конгресса было опасно. Папа задержался у Фрейденбергов.
16. VII.1935. Ленинград
Дорогая Женюра, милая, прости меня, если еще можешь, и не суди ни за что. Все что обо мне сообщалось, общие места и глупая ложь, я нигде не говорил ничего из того, что приводилось, ни одно из приписываемых мне сообщений не мое. В дороге и в Париже мне стало хуже, я по сей день не сплю и только у тети Аси стал чуть отходить, как выяснилось, что я их стесняю, то есть что они (тетя Ася и Оля) не спят из-за меня. За мной сюда приехала Зина. Сегодня я уезжаю отсюда и почти без заезда в Москву отправляюсь в Болшево (дом отдыха КСУ). Напиши мне, пожалуйста, туда, когда ты думаешь быть в Москве, то есть сообщи несколько предположительных чисел твоего приезда. Но не пиши ничего осуждающего, укоризненного или волнующего, умоляю тебя, это мне будет стоить многого.
Эта поездка была для меня мученьем: ездил больной человек. Может быть, мне это все – наказанье за тебя, за твои когдатошние страданья (хотя какая тут логика: ведь и я их тогда же тоже разделял).
Вот доказательство того, до чего мне было тоскливо, до чего я был в поездке болен душою. В Берлин из Мюнхена приехали Жоня с Федей, а старикам по телефону в Мюнхен я обещал, что на обратном пути к ним заеду и у них отдохну. И я не сдержал слова и их не увидел! Я их не увидел так же, как не писал тебе, как помешал тебе быть на вокзале – как не привез Женёнку ничего стоящего – но если бы вы имели понятье о пытке этого путешествия!
Зато ведь я познакомился в Лондоне с Р<аисой> Н<иколаевной>! Как они (Юрия Владимировича не было, – он в Германии на курорте) – то есть Р. Н. и Юрий Юрьевич (Чуб)[295] вас любят! Только о вас, о тебе и о Женичке и говорили! Но и там, в Лондоне, я был совсем разварной, бессонный, измученный, нравственно пришибленный, – воображаю, каким разочарованьем было для нее знакомство со мной! Я почти ничего не привез тебе и особенно – Женёчку, то есть такие пустяки, что о них нечего говорить. Но вся эта поездка была бредом, мученьем: я ее не считаю своею, она не состоялась!
Золотой мой Женек, папка твой не по своей вине делает иногда подлости: надо быть здоровым, чтобы желать, думать и поступать. Друг мой и сын мой, не осуждай меня. Когда выздоровею, все устроится.
Женя, напиши мне, как вы и что вы. Без счета вас обоих целую.
Ваш Б.
Мы знали из газет о папином выступлении на конгрессе, пребывании в Париже и Лондоне, прибытии в Ленинград, откуда вскоре пришло его письмо, написанное карандашом. Его мучило, что с родителями он не смог увидеться, пришлось ограничиться только разговором по телефону из Берлина в Мюнхен, где они находились. Сделать остановку в пути он не мог, их с Бабелем еле-еле успели привезти к последнему заседанию конгресса. Он обещал им заехать на обратном пути, но это не получилось.
После возвращения он бесконечно долго не появлялся у нас – до начала зимы. Конец июля и август отец провел в Болшеве.
Я утешал бабушку и дедушку, огорченных тем, что не состоялось свидание с папой. Но как бы он мог поехать в Мюнхен, когда советская делегация отправлялась в Лондон?
Дорогие мои Бабушка и Дедушка!
Как ваше здоровие? Прошел ли у тебя, Бабушка, припадок печени? Я очень огорчился, что папа к вам не приехал. Я очень хорошо понимаю, как вам это было тяжело. Я же, прямо, был убит. Мы с Елис<аветой> М<ихайловной> все время следили за его поездкой по нескольким кратким газетным заметкам; так как прямых известий от папы не было. Потом я узнал, что папа видел тетю Жоню и обещал ей, что приедет к вам. Но как я увидел из вашего письма, он не сдержал своего обещания. Но я, все-таки не теряю надежды, что папа к вам приедет, хотя я, лично, ничего не знаю, так как папа у меня ни разу не был. Я его не видел со времени нашего отъезда. Я ему точно описывал дорогу к нам в моем письме, он не воспользовался и, может быть, совсем не воспользуется. Но я, все-таки, не теряю надежды. 9-го мама уехала в Кисловодск. Мы с Е. М. остались на даче. Е. М. мой самый большой друг в жизни и мы с ней живем очень хорошо. И я уверен, что если бы она к вам приехала, то вы бы ее страшно полюбили.
Бабушка, ты мне пишешь, что я еще маленький, но я много пережил и переживаю и очень хорошо понимаю ваши переживания. Лето у нас не удачное, одни холода и дожди, летних дней всего было 14.
К 1/IX мы перекочевываем на зимние квартиры, а если будет плохая погода, то раньше.
Целую и обнимаю. Ваш Женя.
Мама пробыла пять недель в Кисловодске, после чего решительно взялась за работу, папа еще был нездоров, мы с ним все это время не виделись. “Хочу «выходить в люди», – писала мама Ломоносовой 20 октября, – то есть выставляться, зарабатывать и т. д.”. А через месяц сообщала ей, что в конце ноября участвовала в двух выставках. “Мне было радостно и страшно, что теперь надо уже отвечать за себя”[296].
Только зимой папино здоровье стало получше. Он начал работать, что всегда помогало ему вылезать из тяжелых состояний. Мне казалось, что он все дальше уходит из нашей жизни. Но когда, наконец, он пришел к нам, выяснилось, что в моей новой школе преподают английский язык и нужно иметь хоть какое-то представление о нем. Мама уговорила папу дать мне несколько уроков. Кажется, их всего было шесть. Старый учебник Берлица остался у меня в качестве скупого их протокола. Папочка предварительно разметил начальные уроки карандашом, написав русский перевод и произношение. Он, как и я, не знал фонетической транскрипции, а именно ее стали изучать в 25-й школе и чуть ли не год с лишним читали именно транскрибированный текст, без единого слова на реальном английском. Я никак не мог приспособиться к этой абракадабре.
Папа начал с происхождения языка из ветви древнего немецкого – саксонского и старофранцузского – норманского. Потом объяснил тонкости произношения th и тому подобное. Слова проходились с первого же урока на слух, и обучение шло быстро и большими порциями. Я от всей души старался, и это мне давалось радостно и без труда. В то же время я был снабжен словарем Александрова, где произношение обозначалось иначе, чем в новомодной фонетике, и несколькими английскими книгами. Мы с папой ходили по книжным магазинам, и я сам участвовал в их выборе. В результате моих прежних занятий языками я легко приходил к пониманию, произношению, чтению и разговору, но совершенно не мог научиться правильно писать.
Вообще в те годы папино участие сказывалось в том, что он за мной заходил, иногда забирал меня прямо из школы, и мы шли куда-либо, покупали книжки, гуляли по улицам и возвращались домой к ужину. Иногда мы заходили с ним в Лавку писателей, где его все очень любили, он познакомил меня с продавцами. В одну из таких прогулок мне было куплено 20-томное издание “Истории Франции” Мишле в красных с золотым тиснением переплетах.
Зимой 1936 года папа взял читать первый том, он жил тогда один в Переделкине и в свои наезды в Москву заходил к нам, возвращал прочитанную книжку и брал последовательно том за томом для чтения. Я читал гораздо менее внимательно и так и не дошел до конца.
Дача в Переделкине требовала от папы в это время многих хлопот и денег. Строился писательский поселок, и в числе 25 человек, получивших первые дачи, был папа. В это время серьезно обсуждалась возможность возвращения в Москву дедушки и бабушки, оставаться в фашисткой Германии было невозможно. Папа покупал дачу, чтобы им было куда приехать.
Папа въехал туда летом 1936 года, и сразу радость и красота этого места вылились в цикле стихов “Из летних записок”, посвященных Грузии и дружбе с ее поэтами, которые тогда стали жертвой резких критических нападок в печати.
А нас этим летом папа устроил в том самом Одоеве, где он жил два года назад. Здесь, наконец, я мог оправдать прошлогодние неудачи с рыбной ловлей. Мы очень подружились тогда с Михаилом Прокофьевичем Герасимовым[297], нашим соседом по дому на Тверском бульваре, который серьезно взялся за мое обучение, и мы вместе проводили на Упе каждое утро и регулярно притаскивали рыбу на кухню дома отдыха.
Одоев был центром народных художественных промыслов. Рядом находилась деревня Филимоново, знаменитая своим гончарным искусством, в частности изготовлением игрушек и свистулек. Продавались домотканые клетчатые паневы из хорошей шерсти, похожие на шотландские пледы. Одоевская ярмарка была пестра и интересна, на нее шли, как теперь ходят на выставку в музей.
Дом отдыха располагался в имении героя Отечественной войны 1812 года генерала Александра Яковлевича Мирковича, сына которого знала Елизавета Михайловна и рассказывала, что он был образованным человеком со склонностью к коллекционированию. Позади дома находился удивительный фруктовый сад с яблонями и грушами местных сортов. Плоды можно было рвать и сбивать прямо с дерева, и они падали на подостланную солому. Несколько детей из дома отдыха играли там целые дни в казаки-разбойники и объедались фруктами.
По возвращении в Москву мама писала Ломоносовой: “У Б. Л., слава Богу, никаких неприятностей, он здоров и прошлогоднее нервное заболевание прошло совсем… Шестикомнатная дача-особняк, теперь требуется машина и квартира, все это ему не по душе, но тем не менее весной он подчинялся, а потому ему было не до нас. Его за лето опять очень потянуло к Женичке и ко мне, он прожил у нас несколько дней и так естественно и без труда вошел в нашу жизнь, как будто случайно был в отлучке. Но несмотря на то, что по его словам, ему осточертела та жизнь, у него никогда не хватит мужества с ней порвать, и он зря меня мытарит, возвращая опять мои мысли и привычки”[298].
Папа серьезно относился к моему чтению. “История” Мишле была вскоре пополнена “Историей французской революции” его же и Тьера и четырехтомным Андерсеном в переводе Ганзена. Он хотел пробудить во мне вкус к хорошему чтению и удовольствие от собственного выбора. Кроме того, я пользовался его абонементом в библиотеку Дома писателей. К Рождеству 1936 года отец выдал мне несколько авторских экземпляров своего сборника “Стихотворения в одном томе”, переизданного в тот год, с такой запиской:
В Книжную Лавку писателей.
Дорогие товарищи, обменяйте, пожалуйста, сыну моему 5 экз. однотомника на какие-нибудь другие, более интересные книги. С тов. приветом Б. Пастернак. 24. XII.36.
Новый 1937 год мы встречали дома, одни. Мама была больна, а я готовил ей лимонад. Потом пришли к нам в гости соседи Иван и Машенька Катаевы[299]. У нас сохранились сделанный мамой портрет этого талантливого писателя и удивительно милого человека и подаренная им только что вышедшая тогда книга “Отечество”. В том же году он был арестован и вскоре расстрелян, а его жена сослана.
Папа эту зиму провел один в Переделкине, приезжая в город по делам раза два в месяц. Зинаида Николаевна с мальчиками жила в Москве. Он писал прозу, героем которой был Патрикий Живульт, перемежая работу чтением Мишле. Перелом времени выражался в перемене отношения к нему критики и ужесточении обвинений, перераставших из литературного недовольства в политическое. Секретарь Союза писателей В. Ставский усмотрел в его “Летних записках” клевету на народ, на Пушкинском пленуме правления его обвиняли в “двурушничестве” и намеренной зашифровке враждебных мыслей в стихах. Он приезжал в эти дни в Москву и вынужден был публично объясняться и извиняться за то, что его не так поняли.
Переписка с дедушкой и бабушкой в Германии становилась все более опасной. Если раньше в ней принимала участие вся семья – и мама, и Шура, и даже я, то теперь это мог позволить себе только папа, что говорило о его граничащей с самоубийством редкой смелости, в недостатке которой он напрасно каялся в своем письме ко мне 1935 года. Он по-прежнему подробно рассказывал родителям о своих приходах к нам, писал, как я обрадовал его своей ловкостью в колке дров, которой я теперь регулярно занимался, снабжая топливом ванну и кухонную плиту.
“Когда вы утешаете Женю в отношении моих чувств, – писал он родителям в Берлин, – вы недалеки от истины. Часто вечерами, когда я заработаюсь, выйду на прогулку и потом в рассеянности возвращаюсь домой, мне кажется неестественным и странным, что я попадаю не к ним и слышу в доме не их голоса. От этого ощущенья я не избавлюсь никогда, и так же как вы, то есть в той же расплывчатости и безо всякой определенности надеюсь, что это когда-нибудь переменится.
…Когда меня посылали в Париж, и я был болен… меня томило, чтó из меня делали, – помните? – меня угнетала утрата принадлежности себе и обижала необходимость существовать в виде раздутой и ни с чем не сообразной легенды, теперь это прошло, и это такое счастье, я так вздохнул, так выпрямился и так себя опять узнал, когда попал в гонимые!”[300].
Но тем не менее перерывы в переписке с Берлином разрастались, и становилось все труднее ее поддерживать. В конце лета с помощью все той же Елизаветы Михайловны я писал о тяжести прошедшей зимы и душевного настроения:
Дорогие мои Бабушка и Дедушка!
Как вы поживаете. Простите, что я вам так долго не писал. Всю зиму я болел, с Января мне даже в школе говорили, что я прихожу 2 дня, а не бываю 2 недели. За 4 месяца у меня было 6 гриппов и одна болезнь, которой никто не понимал с температурой до 40,2. Эта зима и в моральном отношении была для меня не легче. Были разные неприятности с папой (личные у него и семейные). Мама с Января с перерывами на 4–5 дней непрерывно истекала кровью. Была также воспалена брюшина. Врачи ничего не могли сказать до последнего времени. Теперь решили делать операцию. Мама добилась возможности ехать в дом отдыха, так как делать операцию в таком состоянии нельзя. Мама желтая, худая и хотя она старается питаться хорошо, но после каждого разговора с папой она становится еще бледнее и худее. На меня эти разговоры тоже действуют ужасно, несмотря на то, что Е. М. все время меня подбадривает и просит не падать духом. Поэтому-то я и не писал вам так долго, во-первых, чтобы не наваливать на вас лишней тяжести и, во-вторых, мне самому об этом тяжело писать… Но дальше не писать было нельзя, и мне было бы слишком одиноко, да и вы бы беспокоились очень. Ну да Бог даст все будет хорошо. Много еще нужно вам сказать да в письме всего не напишешь.
Целую вас всех крепко. Женя. 6 VIII 1937.
Чтобы преодолеть тяжелое предчувствие надвигающихся страшных событий, зиму 1937 года отец провел на даче, где хорошо продвигалась работа над прозой – этому способствовала красота зимы в Переделкине.
Женя долго, больше месяца болела воспалением брюшины, но без гнойного процесса, что было бы совсем ужасно, и очень истощена, – писал он родителям 12 февраля 1937 года. – Хворает (гриппом) и Женек. Оба они мне вечная растрава, я всегда о них думаю и грущу, особенно трудно мне без Женёчка, но вряд ли, если бы возвращенье не было связано с другими трудностями, ужились бы мы с нею характерами. Бедная она, – такой прекрасный и тонкий человек, но с некоторым вызовом и неуступчивостью в характере, отчего все и случилось. Папа, папа, ведь, места нет здорового в моей жизни, а вот живу, и буду жить. А что еще впереди!
Одно хорошо, – это зима в природе. Какой источник здоровья и покоя! Опять вернулся к прозе, опять хочу написать роман и постепенно его пишу… Она проклятие мое, и тем сильнее всегда меня к ней тянет. А больше всего люблю я ветки рубить с елей для плиты и собирать хворост. Вот еще бы окончательно бросить куренье, хотя теперь я курю не больше шести папирос в день. Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. Может быть, тогда практическая воля проснется во мне, а с нею планы и удача. А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском я разбил, что же с таким чувством и сознаньем сказать о своей собственной[301].
Весной я сдавал экзамены для перехода в 7-й класс. Помню, как папа серьезно сказал мне тогда:
“Теперь ты взрослый, и я уже не буду обсуждать твои намерения – буду судить о твоих делах по их завершению, по результатам и красоте исполнения”.
Этой зимой прекратились наши регулярные уроки с Елизаветой Михайловной. По нашей рекомендации она стала заниматься французским с девочками Шервинскими, Анютой и Катей[302]. Она уезжала с ними на лето в Старки, где знаменитому врачу Василию Дмитриевичу Шервинскому[303] был специальным указом Ленина оставлен его дом. Поместье и великолепный фруктовый сад отошли колхозу.
О нашем лете у Шервинских Елизавета Михайловна писала бабушке и дедушке в Берлин:
“Я воспитываю девочек Шервинского и сказала, что согласна с ними ехать в имение на лето, если они возьмут Женю на пансион, и вот мы с ним у них жили с 25-го мая. Все там его очень полюбили и ласкали. Проф. Шервинскому 87 л. Женя ему читал газеты, вечерами играли в домино, купался, косил, работал в огороде и т. д. Был полезен и всем приятен. Какая была бы вам радость с ним повидаться, чуткий и умный, разумный мальчик. Много раз брался вам писать, но ревел над бумагой и бросал, не о погоде же мне им писать, мне хотелось прижаться к ним и молчать; бабушку огорчать не могу, а дедушка, не зная моей жизни, может подумать, что слабовольная баба.
О беременности жены Б. Л. Женичка не знает, так как для него это будет очень горько. Да, бедный Б. Л., мне думается, что он попал в тяжелое семейное положение. Я его горячо люблю. Я уверена, что Ев. В. его забыть не может, так как несколько раз имела возможность устроить свою жизнь. Врачи приписывают ее здоровье к ненормальной ее жизни. Уезжая в Крым, просила вам передать, что «ни вам, ни Жоне» писать не может не потому что вообще писем писать не умеет, – а тяжело. Простите за каракули – и карандаш, очень мешает болезнь[304]”.
Там я впервые присутствовал и даже принимал участие в настоящей церковной свадьбе. Поэт и прекрасный фотограф Лев Владимирович Горнунг женился на Анастасии Васильевне ПетровоСоловово[305]. Во время процессии я нес конец шлейфа невесты. Венчание происходило в удивительной пестрой баженовской церкви села Черкизова на берегу Москве-реки.
К Елизавете Михайловне в гости приезжал Ипполит Васильевич. Мы снова отправлялись с ним в далекие прогулки за грибами – в еловом лесу рядом с деревней Черкизово были великолепные рыжики.
“Много рисую, гуляю, ем и сплю, – писал я бабушке и дедушке, – но все-таки скучно и одиноко, так как Е. М. целый день с двумя девочками 6,5 и 3-х лет внучками проф. Шервинского”.
Помню, как приезжал нас навестить папочка. Сергей Васильевич Шервинский устроил по этому поводу роскошный обед, после которого мы с папой долго гуляли по берегу вдоль Москва-реки. Нам надо было так много рассказать друг другу. Но он побоялся сказать мне, что у него скоро будет ребенок, мой братик или сестричка. Я не знал, что некоторое время назад он приходил к маме и делился своими сомнениями, следует ли ему в таком преклонном возрасте вновь становиться отцом. И хотя эта новость больно ранила мамино самолюбие, ей было в то же время приятно, что с этими сомнениями он пришел именно к ней.
По приезде в Москву мы узнали о самоубийстве Паоло Яшвили и аресте Тициана Табидзе. В конце октября был арестован Борис Пильняк. Одна за другой пустели квартиры в нашем доме: Катаевых, Герасимовых, Большаковых, Беспаловых, Марченко и других.
Папа переезжал в новую квартиру в Лаврушинском переулке. В ночь под Новый 1938 год у него родился сын Лёнечка, которого назвали в честь дедушки.
На школьные каникулы он предложил мне с мамочкой поехать в Переделкино. У них в большом пустом доме жил Дмитрий Владимирович Лясковский, дальний родственник Нейгаузов со стороны Блуменфельдов.
Писательский поселок еще строился. По две стороны вымощенного булыжником шоссе от станции к воротам детского туберкулезного санатория в бывшем Самаринском имении были поставлены красивые двухэтажные дачи за штакетными заборами. В сторону вели проселочные дороги, по которым подвозили строевой лес. Строили просторно, с размахом. Большинство домов были спроектировани по общему плану, без участия будущих обитателей. Выбор был достаточно широк. Кроме того, можно было заказать дом по своему проекту. Так поступили Е. Пермяк, В. Инбер, И. Сельвинский и еще кое-кто. В распределении дач принимал участие Горький. Отцу была отведена одна из первых, построенных в лесу около шоссе. Дом был огромный. Шесть больших комнат, три террасы. Небольшая затененная лужайка, окруженная высокими елями и соснами, позволяла видеть соседний, чуть меньший, дом, откуда недавно был увезен на Лубянку Борис Пильняк. Соседом по другую сторону был Беспалов[306], тоже вскоре арестованный.
Туда по Киевской дороге ходили паровые поезда. Далеко не все останавливались на платформе Переделкино, но примерно раз в полтора часа паровоз подкатывал к станции несколько небольших зеленых вагонов. Платформа была низкой, в вагон приходилось вскакивать, подтянувшись за поручни лесенки. Вагоны делились на отсеки, как теперешние жесткие дальнего следования; верхние полки оставались не откинутыми, и сидели только на нижних. Вечером было темновато, зимой вагоны отапливались углем и над каждым поднимался столбик серого дыма. Езды было меньше часу. Шли в поселок по дороге мимо кладбища, потом через речку по деревянному мосту. Источники вдоль нее не замерзали, и облачко тумана висело над пирамидальной наледью, по которой стекала ключевая вода. Дорога бывала расчищена под сани, то есть не до грунта, и шла меж высоких сугробов. Встречные сани или грузовик заставляли залезать в глубокий снег.
Дмитрий Владимирович Лясковский, о котором я упоминал, был молодой человек из хорошей дворянской семьи. Елизавета Михайловна знала его деда, образованного орловского помещика, коллекционера резьбы по камню. Он родился в Крыму в начале Мировой войны. Его отец был артиллерийским офицером и погиб на войне. Вскоре умерла мать, и мальчик долго вел полуголодное бездомное существование. Он почти самоучкой стал автомобильным техником, разыскал родственников и окончил институт. Теперь он работал на Московском автозаводе в отделе рекламаций и занимался газогенераторными автомобилями. Он преклонялся перед папой Борей и вскоре влюбился в мамочку. Папу это очень обрадовало, о чем он откровенно сказал Лясковскому, когда тот признался ему в своем чувстве. После этого Митенька решился сделать маме предложение, и она приняла его. Я очень сдружился с ним, увлеченный его техническими способностями и рассказами.
Летом 1938 года папа купил нам путевки в литфондовский дом отдыха в Коктебеле. Максимилиан Волошин, который когда-то приглашал его в Коктебель, передал Литфонду принадлежавший ему Дом Юнге и часть другого, в котором жил сам. Он скончался в 1932 году, его вдова Мария Степановна продолжала заведенный обиход широкого гостеприимства: устраивались вечера, ставились шарады, ходили в горы, плавали в дальние бухты, в полнолуние отправлялись в Каньоны – так назывались глубокие высохшие русла степных рек. Мама была там еще в прошлом году, когда я жил в Старках, и была очарована Коктебелем. Теперь мы поехали вместе. Было много знакомых: Локсы[307], Асмусы. Валентин Фердинандович по разрешению Молотова получил телескоп из Германии и приглашал к себе знакомых смотреть на звезды.
Сначала нас устроили на втором этаже дома Юнге, на ту же террасу выходила комната, где жили Ивановы Всеволод Вячеславович и Тамара Владимировна с Комой[308]. Я восхищался смелостью Всеволода и Комы, которые забирались в самые недоступные места в горах в поисках сердоликовой жилы или других камней.
Мы с мамой пробыли там два месяца, в конце июля к нам должен был присоединиться Лясковский, мама хлопотала о покупке курсовок на всех троих. Папа помогал ей в этом в Москве, присылал деньги. По-видимому, его письма в Коктебель сохранились не все.
<4 июля 1938. Москва. Почтовый перевод на 500 р.>
“Дорогая Женюра. Стороной слышу, что вы все здоровы. Получила ли ты мои письма? Целую вас. Было бы чудно, если бы ты мне написала. Привет Д<митрию> В<ладимировичу>, если он с вами. Ваш Б.”
12. VII.38. <Москва>
Дорогая Женя!
Я не телеграфировал тебе, потому что узнал, что тебя уже известили телеграфно из Литфонда о результатах. Жалко, что курсовки так дороги, но по-моему, если у тебя нет другого, готового, проверенного и легко исполнимого плана, их надо купить, что я и постараюсь сделать сам отсюда до конца месяца, если не получу от тебя обратного указанья письмом или телеграфно.
Я говорю об этом неопределенно, так как все время обманываюсь во всех своих денежных расчетах. Но так или иначе, наличными или безналично или в рассрочку, выкуплю их я и в срок, без опозданья, в том случае, если ты меня не предупредишь, что от них надо отказаться.
Меня очень порадовало твое сообщенье о том, что в Коктебеле тебе и Жене нравится и вам обоим хорошо.
Вместе с твоим письмом и телеграммой получил очень утешительную открытку от Лиды. В конце месяца она ждет второго ребенка. Все они (вместе с родителями) сейчас на море. Туда же ожидается Жоня с семьею. В открытке есть строчки, относящиеся к тебе. Вот они: “Если ты (то есть я, Боря) нам напишешь, то сообщи пожалуйста, как Женин адрес, то есть ее фамилия, – так как она писала нам, что вышла замуж – или же можно ей писать по-прежнему? Или лучше вообще нет, или через Воронову? Пожалуйста ответь на это хотя бы кратко” (Эта просьба подчеркнута Лидою в открытке.)
Разумеется я напишу им, что тебе можно писать по-старому, и писать можно, не правда ли?
Здесь было несколько дней так называемой “африканской” жары, и в эти дни Лёнечка заболел поносом, который до сих пор у него не кончился. Он очень похудел, глаза у него стали огромные, носик заострился, и он очень много плачет, чего прежде с ним не бывало.
Крепко целую тебя и Женю. У него верно там много ровесников, среди которых кто-нибудь может оказаться ему по нраву. Дм<итрия> Влад<имировича>, естественно, не видал. Если он соберется к вам, хорошо, если бы перед этим мы свиделись.
Асмусам и всем знакомым сердечный привет.
Твой Б.
<Июль 1938. Переделкино>
Дорогая Женя!
Ты уже верно знаешь, что сердилась на меня напрасно, то есть письмо мое, написанное до твоих напоминаний, тобой получено? Так же наверное на месте и курсовки, оплаченные сполна наличными.
Мне было очень трудно матерьяльно, как раз в то время, когда ты с такой обидой и горячностью сомневалась в моих заботах о вас и приписывала ухудшенье в вашей жизни моей небрежности или равнодушью к вашей участи.
Затрудненья эти (казавшиеся тебе выдуманными) были так явны, что на этот раз без моего побужденья сам Литфонд постановил прийти мне на помощь. Мне вернули паевложенье за дачу и так как за погашением задолженности оставалось не так-то много (около 3000), то в придачу к ним мне еще выдали ссуду в 2000, всего около пяти тысяч. Это меняет на время все обстоятельства, и случилось без моего ведома совсем недавно. Кроме 900 я наверное еще переведу тебе что-нибудь да еще около тысячи будут готовы тебе к сентябрю.
У вас ли Дмитрий Владимирович? Ершов[309] сказал мне, что он уехал. Если он с вами, сердечно кланяйтесь ему.
Дорогой Женёчек, пользуйся во всю отдыхом, набирайся здоровья, пусть Дм. Вл., возьмет тебя подручным по рыбной ловле, как когда-то Мих<аил> Пр<окофьевич>. Я рад, что по словам мамы, тебе в Коктебеле понравилось, а солнца и жары, которых я так боюсь в летние месяцы на юге, здесь едва ли не больше, чем у вас, жара африканская, да к тому же без моря.
Крепко тебя целую, вот верно будет тебе что порассказать по возвращении в Москву!
Женюра, низкие поклоны Косте Локсу, Асмусам и всем общим знакомым. Я писал тебе про Лидину открытку. Я уже ответил ей. Если хочешь, можешь написать ей из Крыма, я думаю это безопасно. Ее адрес: Лондон, Англия, Л. Л. Слэйтер. Mrs L. Elliot Slater. 8 Palace Court, Palace Road. London S. W.2
Крепко всех вас целую. Если вздумаю что послать, переведу по адресу дома отдыха. А ты напиши, как устроились вы с комнатой, не трудно ли и достаточно ли удобно?
Теперь мы сняли комнату в деревне и ходили в Литфонд обедать. Митенька Лясковский прекрасно плавал своеобразным стилем крымских рыбаков и знал все тонкости черноморской рыбной ловли. Со страстью новичка я впитывал его уроки. Но зимой в Москве наши отношения стали портиться, сказывалось различие привычек предыдущей жизни и его бездомной молодости. Вскоре, получив от завода комнату, он ушел от нас.
Три следующие зимы папа по-прежнему проводил в Переделкине. Он поменял свой большой, стоявший в еловом лесу дом на меньший, выходивший фасадом на поле и церковь на высоком берегу речки Сетунь. В начале лета 1939 года он задержался в Москве, пока новую дачу приводили в порядок, и Зинаида Николаевна с детьми переехала туда, чтобы наладить хозяйство.
Мамочка попросила папу Борю приютить меня у себя в Лаврушинском на время ремонта у нас на Тверском бульваре. Он тогда жил в верхней комнате, а меня устроил в маленькой рядом, где зимой жил Стасик. Помню, как папа сразу предупредил меня, что он с вечера наполняет ванну холодной водой, а утром после гимнастики в нее погружается. Потом мы с ним вместе завтракали, и каждый начинал заниматься своим делом. У меня были экзамены, я много готовился.
Мне запомнился разговор с папой о Чернышевском, “Что делать” которого стояло в программе. Он спросил меня, какого я мнения об этой книге. Я пробормотал что-то о русской классике. Он возразил, что это не только не классика, а просто не литература. “В таких вещах надо разбираться”, – резко добавил он.
Мы разговаривали с ним тогда об Александре Грине, ему очень нравилась его повесть “Крысолов”, я зачитывался “Бегущею по волнам”. Папа в то время бросил курить и рассказывал, как отучал себя, сидя за переводом “Гамлета”. Он недавно закончил эту работу, заказанную ему Мейерхольдом для Александринского театра в Ленинграде, и читал “Гамлета” у Шуры на Пречистенском бульваре, куда пригласил меня.
Я был потрясен. Я часто слушал папино чтение, но это были стихи, а тут он читал полный текст трагедии, и это производило сильнейшее впечатление. Папочка читал в лицах, выделяя особенно значительные реплики с философским или драматическим содержанием. Он играл Гамлета – остальные персонажи трагедии говорили в ответ. Весело и задорно перебрасывались шуточками могильщики, звонко звучали их песенки. Первоначальный несглаженный текст перевода был удивительно смел и свободен. Отчетливо чувствовался ритм трагедии. В последующих редакциях именно он, как мне кажется, был частично принесен в жертву литературной правке.
Мне захотелось сверить перевод с оригиналом, и я попросил у отца английский текст. Он зашел через несколько дней, и мы с ним купили у букинистов толстый красный однотомник Шекспира в Оксфордском издании. Он дал мне на время свою рукопись, и я стал медленно разбирать трагедию. Мне приходилось помногу раз читать и перечитывать одно и то же место, чтобы понять текст. Это было, вероятно, первым моим занятием английским после нескольких данных мне папой уроков в 1935 году, кроме школьных – пустых, разумеется.
Перевод “Гамлета” был опубликован в мае 1939 года в журнале “Молодая гвардия”. Через месяц арестовали Мейерхольда, а вскоре затем зверски убили его жену. В эти же дни в Москву приехала Марина Цветаева с сыном Муром.
Бабушка и дедушка, спасаясь от Гитлера, переехали к Лиде в Англию, куда она вышла замуж. О их счастливом лете 1938 года на берегу моря папа писал маме в Коктебель. Через год, одновременно с началом Второй мировой войны, папа получил известие о внезапной смерти бабушки.
Мы снова поехали в Коктебель. В этот раз там была Сарра Дмитриевна Лебедева. Через Евгения Яковлевича Хазина мы подружились с Поливановыми и М. К. Баранович[310]. С Кирой Мариенгофом, сыном поэта[311], я был знаком раньше. Он выделялся среди всех своей яркостью, смелостью, ловкостью, умением блестяще играть в теннис и всегда был для меня недостижимым примером. Незабываемой травмой стало известие о его самоубийстве, случившемся вскоре после нового, 1940 года.
Помню, как папа привел к нам в гости Марину Ивановну Цветаеву с Муром. После ареста мужа и дочери она жила эту зиму в Голицыне при писательском доме отдыха и в Москву приезжала в поисках квартиры и в Гослитиздат, где по папиному ходатайству ей стали давать работу. Цветаева жаловалась на трудности переводов с грузинского языка.
Резко бросалось в глаза несоответствие между представлением о ней, которое создавалось ее стихами, давней перепиской с папой и мамиными терзаниями того времени, и тем человеком, каким она была у нас в гостях. Главным в ее облике и поведении была благовоспитанность, строгое умение держать себя и вести разговор. Они с Муром обедали у нас, засиделись до вечера, ужинали и поздно ушли. Наверное, на этот раз им не надо было возвращаться в Голицыно, и они ночевали в Мерзляковском переулке по соседству с нами. Я не участвовал в мамином разговоре с Мариной Ивановной, ко мне в комнату пришел Мур, и я развлекал его. Он произвел на меня странное впечатление. Я почувствовал, что шокировал его, когда признался в своем незнании новейшей французской поэзии, его кумиров Валери и Аполлинера. Я страшно упал в его глазах. Мое образование обрывалось на Бодлере и Верлене, которые казались Муру устаревшими. В то же время меня удивило его снисходительно-покладистое отношение к своим сверстникам в голицынской школе. Я резонно предположил, что ему трудно с ними при такой требовательности и что, вероятно, ему немало достается от них. Он очень по-взрослому объяснил мне, что на них нисколько не в обиде, потому что они по-своему правы.
Зимой 1939/40 года мы очень сдружились с Поливановыми. Маргарита Густавовна была дочерью арестованного философа Густава Густавовича Шпета, у которого папа в свое время занимался в семинаре в университете и потом – уже вместе с мамочкой бывал в гостях. В комнатах Поливановых в Староконюшенном переулке часто собиралась дружеская компания взрослых и детей. Играли в маджонг, ставили шарады, болтали. Ужинали и довольно поздно, как говорили, после вторых петухов, расходились по домам. Замечу, что Маргарита Густавовна не терпела никакой выпивки, и весь интерес и оживленность этих вечеров держались на чистом одухотворении. Там я познакомился с удивительным знатоком русской истории и словесности Алексеем Савельевичем Магитом, у которого потом взял несколько уроков, мгновенно сделавших меня уверенно грамотным.
У папы был в то время договор с МХАТом на “Гамлета”. Он рассказывал, как ему было стыдно перед Анной Дмитриевной Радловой, чей перевод, сделанный специально по заказу Немировича-Данченко, был отвергнут после появления папиного. Теперь он срочно переделывал его для МХАТа. Весной отец читал его в клубе писателей и в университете, куда ходил и я. Он хотел почитать “Гамлета” в Ленинграде, но внезапно его скрутил тяжелейший радикулит. Пришлось даже ложиться в больницу, так он страдал от боли. Мы с мамой приходили к нему в Кремлевскую больницу на Воздвиженке. Он лежал в отдельной палате на высокой кровати посреди комнаты. Он заказал для нас обед и радовался, когда мы восхищались изысканной кремлевской кухней.
Лето 1940 года мы проводили в деревне Дровнино около Красной Пахры. Сестра Константина Михайловича Поливанова актриса Вахтанговского театра Елена Михайловна Берсенева была замужем за Рубеном Николаевичем Симоновым[312]. Они решили устроить Поливановым и нам курсовки при доме отдыха в Плескове.
Однако незадолго до поездки туда со мной случилось происшествие, надолго лишившее меня жизнерадостности.
Я очень любил свою школу, где мы с энтузиазмом выпускали стенгазеты и участвовали в группах защиты школы от воздушных налетов – война тогда рассматривалась как неизбежность и полным ходом уже шла в Европе.
Это была уже не та “показательная” школа № 25, где учились дети Сталина и Молотова и куда меня устроил папа в 1934 году, а новая, 137-я, построенная неподалеку, в Дегтярном переулке, куда меня и еще человек тридцать перевели в 1936/37 учебном году. Когда, возмущенные этим, мы пришли к нашей любимой учительнице и заведующей учебной частью Лидии Петровне Мельниковой, она сказала, что переходит в новостройку вместе с нами – что нас очень обрадовало и сразу успокоило. В течение года к нам постепенно переводили из прежней школы тихих и заплаканных мальчиков и девочек, чьи родители внезапно исчезали, становясь “врагами народа”. Лидия Петровна сумела сделать так, что у нас отношение к ним всегда было сочувственное и покровительственное, и их защищали всей школой от любого грубого намека, который мог бы их задеть. Среди таких детей была переведена к нам Нина Маргулис, с которой мы дружили последние школьные годы и потом всю жизнь.
Но однажды, весной 1940 года, меня вызвали на какое-то мероприятие по неизвестному мне адресу – в один из домов в Зарядье, на спуске к Москворецкому мосту. (Потом эти дома были снесены при строительстве гостиницы “Россия”.) На мой вопрос к Лидии Петровне, что значит этот вызов, она ответила, что ничего об этом не знает.
Я пришел в назначенное время. Два человека в штатском, куря и сменяясь, вербовали меня в сексоты в течение нескольких часов. Я был огорошен и плохо сопротивлялся, желая только поскорее освободиться от них и уйти домой, где волновалась мама, не зная, где я. Старший из них вел протокол. Мне дали номер телефона и взяли подписку о неразглашении. Придя домой, я, конечно, все тут же рассказал маме. Мы проговорили всю ночь напролет, и наутро я понял, что должен любой ценой начисто избавиться от этой страшной зависимости. Я стал звонить по данному мне телефону. Меня протомили ожиданием три долгих дня. Я упорно повторял, что дальше не могу так жить. Наконец мне назначили встречу у памятника Пушкину, и агент повел меня оттуда пешком на Малую Лубянку, где в одном из кабинетов сидел в форме другой, постарше, из тех, что со мною прежде разговаривали. Висели китель и фуражка того, кто меня привел. Я стал говорить, что схожу с ума и независимо от моих патриотических чувств не способен проявлять их предложенным образом.
Глядя в окно, я думал, что уже никогда не выйду оттуда на улицу. В ответ на какие-то посулы я сказал, что предпочитаю быть немедленно арестованным или покончить с собой. В ходе беседы из ящика стола иногда доставался наган. Через три часа мытарств мне пообещали, что доложат начальству. Тут из боковой двери возник человек в форме, который сказал мне, улыбаясь, что все это делается только добровольно, и если я не хочу, то волен отказаться, и в этом ничего нет плохого. Он потребовал все заведенные на меня бумаги, на моих глазах разорвал их в клочки и демонстративно выбросил в пепельницу. После строгих слов о том, что наш разговор должен оставаться в секрете и чтобы я, как всякий гражданин, относился бы к ним лояльно, он подписал мне пропуск на выход.
Я шел домой, шатаясь от усталости и счастья. Мы с мамой решили ничего не говорить папе, зная, как это встревожит его и боясь его непредсказуемой реакции. Я ведь обязался молчать об этом.
Поэтому лето в Дровнине было отравлено накатывавшими на меня приступами страха и тоски. Я лежал носом к стене в избе, вспоминал ужасные сцены и не мог поверить в то, что это не вернется. Слава Богу, я был от этого навсегда избавлен. Только уже летом 1965 года, когда я нашел в Переделкине под доской скамейки на отцовской могиле гирлянду магнитофонного устройства, мне пришлось вновь идти на Лубянку, чтобы отнести им их игрушки с требованием прекратить их деятельность на кладбище. Но это были уже совсем другие времена.
А лето 1940 года было удивительное, невиданно ягодное и грибное. Мы собирали ведрами шляпки одних только белых грибов и сушили их на зиму. Ежедневно жарили сковородами белые, подосиновики и подберезовики, которые росли в двух шагах от избы в ближайшем перелеске.
В Дровнине снимала дачу сестра Маргариты Поливановой Ленора Густавовна Шпет. Она жила с маленькой дочкой и больной матерью, которая с трудом ходила. Меня попросили сделать для нее палочку, я долго выбирал крепкий можжевельник и вырезал палку, которая оказалась слишком тяжела для старушки. Со стыдом вспоминаю это до сих пор. Но кто бы мог поверить, что дочка Леноры Густавовны Шпет, та маленькая девочка, с которой я иногда играл в Дровнине, потом станет моей женой!
Папа писал нам в Дровнино, интересуясь тем, как мы устроились.
4. VII.40. <Москва>
Дорогая Женя. Большое спасибо за открытку. Признаться, я боялся, как бы мой переезд из больницы на писательской машине не отразился потом на вашем. Чисто ли у вас в комнате, и как вы поживаете? Я себя чувствую очень хорошо, совершенно окреп и вернулся к прежним привычкам. Очевидно, с возрастом стала сказываться неправильность походки при неравной длине ног, и теперь я на 2-х парах сделал себе утолщ<енный> каблук. От папы опять были 2 открытки, вторая от 30. V.! Крепко целую тебя и Женю. Твой Б.
У папы, еще когда он был мальчиком, после падения с лошади летом 1903 года правая нога срослась с укорочением. Некоторое время он носил ортопедическую обувь. Но потом научился ходить, слегка подгибая левую ногу, чем выравнивал свою походку. Теперь врачи увидели в этом причину ущемления нерва, причинявшего ему страшные боли.
Кроме того, в этом письме сказалось папино острое беспокойство по поводу событий в Европе. Военные действия были тогда перенесены на Западный фронт, что ставило под угрозу англичан. Начались немецкие бомбардировки Лондона и других английских городов. Открытки от дедушки и Лиды, которые жили в Оксфорде, несколько успокаивали наше волнение за них.
28. VII.40. <Переделкино>
Дорогие мои Женюра и Женёк!
Отчего давно нет вестей от вас? Не случилось ли что? Я беспокоюсь, напишите хотя бы открытку. Самое приятное из всего, что могу сказать о себе, это что от радикулита следа не осталось и я давно вернулся к своим старым привычкам. Однажды Ада Энгель выразила мысль, что процессы в природе подвигаются не линейно в арифметической прогрессии, а циклически, скачками с возвратами. Вероятно так и есть, и 50 лет мне было 5 лет тому назад, а теперь те 45 лет, которые тогда были пропущены. Я чувствую себя великолепно, и было бы неплохо, если бы и на литературной ниве я работал так же много и плодотворно, как на огородной.
У нас занимают комнату с самостоятельным хозяйством, нас нисколько не касаясь, две сестры Блюменфельд и Анна Робертовна Грегер[313]. Приехала и долго жила у нас Нина Табидзе, с которою видалась, заезжая к нам с ночевками, Софья Андреевна Есенина[314].
По всем этим поводам Зина возмущается, что у меня (!) целый гарем (!), что иногда комически омрачает наше существованье и анекдотически портит нам кровь. На все это я отвечаю, что не виноват, если революция дала дорогу женщинам и малым национальностям, а мужчин попрятала по каталажкам. Да, сенсационная новость: выпустили Киру Георгиевну[315] и я два раза видал ее. О Борисе она знает меньше нас и позавчера уехала в Тифлис. Обилие тёть, объятий и холодных закусок пагубно действует на Лёничку. Он впал в одичанье и стал человеконенавистником.
Давно прекратились письма от папы. Здоров ли твой отец, Женя, и что слышно у Сени? Неожиданно сухим плевритом заболел Адик[316] в Коктебеле, ему запрещено купаться. Точные и тревожащие своей успокоительной обстоятельностью донесенья о его болезни присылают Вал<ентин> Ферд<инандович>[317] и из пионерлагеря. Может быть там что-нибудь скрывают.
Цветаева поселилась в чем-то вроде кухни у Габричевских, сроком до 1-го сентября, у ней сплошь одни заботы и несчастия и нет постоянной комнаты. Мур, ее сын, сам хотел написать Жене, с какой целью и просил его адрес. Ему Муру, надоело теряться в очень низких по уровню контингентах загородных и окраинных школ и хотелось бы поступить в более приличную, если не образцовую. Как называется твоя, Женек, школа, доволен ли ты ею, и каковы условия поступленья в нее. Если она не хороша, то какую ты знаешь хорошую? Мне ему хочется помочь, и если потребуется протекция, я может быть заручусь просьбой о его приеме в Союзе писателей. Напиши, Женичка, мне или ему самому, адрес: ул. Герцена 6, кв. 20 А. Г. Габричевского, Марине Ивановне Цветаевой для Мура. Мне же ты и мама напишите обязательно! Приехал ли Рубен Николаевич Симонов? Сердечно ему кланяйтесь.
Крепко обнимаю вас. Поклон от Лёнички и Анны Робертовны.
Ваш папа Боря.
3. VIII.40. <Переделкино>
Дорогая Женя!
Твоя просьба застает меня в очень неудобное время. Разумеется я ее исполню, но не раньше, чем через дней десять, то есть между 10-м и 15-м. Еще раньше тебе (как и Зине) должны перевести гораздо большую сумму, чем ты просишь, а сейчас ни у меня, ни у нее ничего нет, и мы должны в Дом отдыха за недоплаченные путевки. Конечно независимо от твоего перевода (на городскую сберкнижку) я постараюсь достать для посылки тебе, но я опять разделил гонорар на обычные доли, и значит мне надо будет придумать какой-то третий источник, впрочем не для тебя одной, потому что давно меня просят о помощи две одесские родственницы[318], и кроме того мне понадобятся свои карманные деньги для расходов в связи с пребываньем Нины[319] в Москве и ее предполагаемым отъездом. У ней ничего нового, вмешиваться со своими письмами мне не советуют ее собственные консультанты, и ее очень жалко.
После многолетнего перерыва, в теченье которого я занимался всякой дребеденью, за вычетом только Гамлета (хотя и это перевод) попробовал взяться за что-нибудь свое, поразился в первый момент, до чего я разучился писать, а потом потянуло и теперь я с обычной когда-то страстью дрожу над каждым часом, отданным работе. Это опять все тот же роман, я его либо в лучшем случае кончу, либо двину куда-то вперед или в сторону.
Целую тебя и Женю.
Твой Боря.
На дачу в Переделкине съезжались каждое лето друзья и родственники Зинаиды Николаевны. Ежегодно жила двоюродная сестра Генриха Нейгауза Наталья Феликсовна Блуменфельд, которая занималась детьми, часто вместе с ней приезжала Маргоша Анастасьева, дочь ее арестованного брата. В этом году вместе с Маргошей была ее мать, пианистка Анна Робертовна Грегер. Она с горячей благодарностью относилась к папе за его помощь, которая предотвратила ее высылку из Москвы после ареста мужа, и ходатайство о сокращении его лагерного срока.
Приезд Нины Табидзе в Москву был связан с хлопотами о Тициане. Папа писал в его защиту Берии, Сталину и начальнику Особого отдела НКВД В. М. Бочкову[320]. По чьим-то советам наверху письма были написаны от лица самой Нины, автографы сохранились у нее в бумагах и недавно были опубликованы. К этому лету относятся также папины попытки найти через Союз писателей комнату в Москве Марине Цветаевой и устройство Мура в школу.
Заступничество за арестованных и забота об их женах стали с некоторых пор существенной частью его обихода и бюджета. В то время, когда считалось опасным даже просто поддерживать знакомство с этими людьми и узнавать их при встрече, для папы помощь обездоленным стала нравственным оправданием жизни и работы.
Упоминаемый в письме сухой плеврит, которым заболел Адик Нейгауз в пионерском лагере в Коктебеле, был, по-видимому, первым проявлением его костного туберкулеза, который после пяти мучительных лет свел его в могилу. В августе 1940 года Зинаида Николаевна выехала в Крым, чтобы забрать мальчика в Москву. Следующей весной его пришлось оперировать. Это трагическим образом совпало с началом войны.
В то лето были приняты новые законы, запрещавшие переход на другую работу по собственному желанию и ужесточавшие все виды контроля. Новый закон о призыве в армию сразу после окончания средней школы лишал меня возможности поступить в университет. Единственным способом было сдать в середине года экзамены за 10 классов экстерном, чтобы в феврале уже пойти на второй семестр физико-математического факультета, который я облюбовал с легкой руки Константина Михайловича Поливанова и при горячем одобрении папочки.
Зимой 1940/41 года папа часто брал меня с собой в театр. Он жил тогда в Переделкине и регулярно ездил во МХАТ на репетиции “Гамлета”. Один раз мы смотрели “Шторм” в Театре Революции, ходили во МХАТ, где видели “Мертвые души” с Ливановым в роли Ноздрева. С мамой мы были на “Ромео и Джульетте” с Улановой во время гастролей Мариинского театра.
Для папочки была огромным событием постановка “Гамлета” в новосибирском театре “Красный факел”. Право первой постановки по договору принадлежало МХАТу, но там дело затягивалось, время шло, и пьеса оставалась неизвестной публике. Поэтому интерес, который проявил к “Гамлету” Серафим Иловайский в Новосибирске, очень радовал и поддерживал отца. У них завязалась переписка, В. Редлих был режиссером спектакля, а Иловайский играл Гамлета. Чтобы поделиться своей радостью, папа принес к нам на Тверской бульвар афишу, газету с отчетом о спектакле и фотографии.
В моем детском стихотворении 1940 года о “Гамлете” есть такие строчки:
Ты для меня выписываешь роль И чертишь рифм тугие завитушки Я не прошу, не заставляй, уволь, Зачем пророчить: мы судьбы игрушки. Но нет, пиши – былого не вернешь. Я с малых лет за горло веком схвачен. А рыцарская шпага или нож Не все ль равно. Проезд тобой оплачен.Не помню, читал ли я его отцу, вероятно, нет, боясь обидеть его этими “завитушками”. Но мы много тогда разговаривали с ним о литературе.
В связи с чтением в 10-м классе статьи Маяковского “Как делать стихи” я спрашивал у отца, как у него возникает стихотворение, с чего начинается – с гудения, как у Маяковского?
– Все начинается с композиции, – сказал он. – Пока нет композиционного замысла, стихотворения не существует. Сколько бы ты ни подбирал строки или вслушивался в ритм, ничего еще нет. Только после возникновения композиции все и начинается.
Может быть, тогда же зашел разговор о “расчетливости” Маршака, его записях умных мыслей, дневниках и записных книжках писателя. Папа сказал, что ничего этого не нужно, и у него этого никогда не было. Хаос дневника только мешает.
И действительно, у отца мысль сразу облекалась образом и была с ним неразрывна, следовательно, мгновенно требовала художественной формы для ее облечения. Его удивительное владение словом мамочка характеризовала так:
– Если Боря знает, что он хочет сказать, то лучше него никто этого сказать не сможет.
Еще в конце лета вместе с оживлением работы над прозой папа написал первые стихи, родившиеся у него после многолетнего перерыва. Они положили начало стихотворному циклу, оформившемуся весной 1941 года. Позднее он получил название “Переделкино”. Эти стихи были для папы огромной радостью, он их читал нам, удивляясь пробудившейся в нем простоте, четкости мысли и художественного рисунка.
Весной наш словесник (он у нас был недолго и, кажется, погиб в начале войны) Петр Моисеевич решил нас расшевелить и вместо стандартных сочинений с разборами просил изложить живое впечатление от какого-нибудь произведения, входившего в школьную программу по литературе, словом, написать на такую тему что-то вроде рассказа в свободной форме. Я решил писать о “Гамлете” и, затянув дело до последнего дня перед сдачей, поехал в Переделкино.
Приехав вечером на дачу, где папа жил один, я, волнуясь рассказал ему придуманную мной композицию. Какой-то режиссер, уставший от своих репетиций “Гамлета”, попадает в другой театр, где эта трагедия идет уже несколько месяцев. После скучного первого акта он незаметно засыпает и видит во сне героев и действие в жизненной реальности, не в декорациях и гриме, а посреди пейзажей Дании и с настоящими людьми. Тут он понимает до конца, как все происходило на самом деле. Причем в характеристике Гамлета как сильного и волевого человека, который стремится к добру и правде, несомненно, сказалась отцовская трактовка, близкая тому, что он написал впоследствии в “Заметках к переводам из Шекспира ”. Когда Гамлет сталкивается с ложью и преступлением, и ему отводится роль мстителя и судьи, он вместе со всем существующим подвергает сомнению и самого себя. Он хочет понять, нужно ли ему встретить “море бед” с оружием в руках и погибнуть самому или “терпеть уколы и щелчки обидчицы-судьбы”. Разверзшаяся пропасть между действительностью и идеалом делает его служителем справедливости и истины. Под звуки марша Фортинбраса режиссер просыпается. Смерть – как пробуждение.
Боря жил в верхней комнате, посреди которой стоял сколоченный из досок рабочий стол, в углу – табурет с электрической плиткой и чайником. При этом у него оказался лучший рижский шоколад фабрики Laima и замечательная писчая бумага тоже латышского происхождения.
Два последних предвоенных года были сравнительно благополучным временем. В магазинах появились вкусные вещи. Мы тогда все объедались продуктами из недавно присоединенной Прибалтики.
Папочка дал мне театральные материалы и рукопись перевода. Поговорили о самой трагедии. Он одобрил мой план. Пили чай. Потом он лег спать, оставив стол и шоколад в моем распоряжении. Я сел писать. Поздно ночью, окончив черновик, я приписал на нем просьбу к отцу: “Посмотри и проверь”, – и лег вздремнуть, не раздеваясь. Папочка вставал рано, и перед тем, как он меня разбудил, уже успел просмотреть написанное мною. В нескольких местах сохранившегося у меня черновика он слегка поправил мои формулировки, главным образом там, где я передавал его мысли о характере Гамлета. Было сказано несколько слов одобрения, как всегда очень деликатных и необязательных. Мы позавтракали. Я спешил в Москву.
Когда вскоре вышел гослитовский “Гамлет”, он был мне подарен с излишне многозначительной надписью:
Будущему Гамлету, Жене папа
22 июня 1941 г. в день объявления войны с Германией.
Вероятно, тогда же он принес мне маленькую фотографию актеров театра “Красный факел”, надписанную: “Молодому Пастернаку, изучающему Шекспира по «новосибирским источникам». С. Иловайский. 17. VI.41 г.”.
В поездке к папе большое участие принимало золотистое дерево лавок дачного парового поезда, освещенное лучом утреннего солнца, последний класс школы, перспектива армии и все, что невозможно вспомнить более выпукло, так как началась война и довоенное стало толчками вытесняться из памяти.
После моей зимней подготовки к сдаче экстерном за 10-й класс и начала экзаменов, от чего я отказался после математики, выпускные экзамены в школе я сдавал с удовольствием и легкостью. Больше того, мы устроили подготовительные занятия в школе, на которых я рассказывал всякую чепуху о том, как строить ответ и тому подобное, что называлось словом “методика”. Что-то в этом роде мне советовал Алексей Савельевич Магит, когда мы с ним занимались. Экзамены тогда сдавали в каждом классе, и выпускные были ненамного сложнее прочих.
16 июня мы праздновали окончание школы. Под утро, возвращаясь с Красной площади, мы шли по Волхонке, мимо нашего милого старого дома, наполовину разобранного, так что с улицы видны были обои нашей крайней комнаты. В первый раз я заметил, как много в Москве ласточек. Я мечтал о Коктебеле и вспоминал мелодии старинных французских маршей, которые пели там во время дальних прогулок. Когда я заснул, мне снились Коктебельская бухта и горы.
Но через пять дней меня вызвали в военкомат и сказали, чтобы я никуда не уезжал из Москвы. Это было 21 июня.
В воскресенье 22-го условились всем классом ехать в Серебряный Бор. Когда я шел к Страстной площади, толпа слушала выступление Молотова по радио.
Отнесся я к этому с какой-то ноншалантностью – было чем-то увлекательно. Серьезность наступившего стала выясняться в разговорах. Мы вернулись сравнительно рано. Дома меня ждали мама и Сарра Дмитриевна, взволнованные и испуганные. В тот же день мы виделись с папой, и он подарил мне “Гамлета”.
Пошли сообщения о наступлении немцев. Была учебная воздушная тревога, очень всех напугавшая.
Еще через неделю нас вызвали от райкома во двор школы, что за нынешним театром Ленкома. Мы там проторчали весь день до вечера, потом пошли пешком на Ржевский вокзал грузиться в эшелон, состоявший из дачных вагонов. Мамочка приходила и уходила. Помнится, Боря тоже пришел меня провожать.
Нас послали под Вязьму, где в течение двух недель рыли огромный противотанковый ров, который не стал, как мы потом узнали, существенной помехой стремительному движению немецких войск, шедших на Москву.
Я часто писал оттуда письма домой, но ни одно из них не пришло вовремя, и родители с ума сходили, не понимая, что со мной. Письма застряли на месяц, и потом после нашего с мамой отъезда в Ташкент папа стал получать их одно за другим.
Когда мы дней через 20, чуть не попав под Ярцевский десант немцев, чудом вернулись в Москву, мамочки не было дома, она была у Сарры Дмитриевны. Мне об этом сказала Елена Петровна, и я тотчас же туда пошел, не переодеваясь. Меня там мыли и кормили, а дома потом я чуть не сутки отсыпался.
На следующий день мы собрались и поехали в Переделкино. Отец был один – Зинаида Николаевна с Лёничкой и Стасиком уже эвакуировались. Лето было жарким и неслыханно плодородным. Клубника висела и лежала гроздьями, и, устроившись на земле, между гряд, я жевал ее прямо с кустов.
Меня заставили рассказывать о виденном на окопных работах. Пришел Афиногенов[321] и расспрашивал о всех подробностях. Мы с ним долго гуляли вокруг поля перед дачами. Из всех моих рассказов он зацепился за байку о том, как немецкий летчик, увидя толпы землекопов вдоль всего верхнего Днепра, сам сдался нашей армии. Он на эту тему написал сценарий для радио, а Андрей Платонов – рассказ.
“Женя получил полное боевое крещенье, во всем побывал, – писал отец вскоре Зинаиде Николаевне о моем возвращении, – <…> а Афиногенов на его рассказах даже построит целую английскую радиопередачу, мне же он, Женя, запретил писать что-нибудь об испытанном им из скромности и чувства ответственности. Да и рассказывал он только пустяки, даже и от меня, отца, что-то скрывая. Весел, худ, строен и весь в веснушках”.
Папочка мною как-то даже гордился. Были мы и у Всеволода Иванова. Но через два дня, проведенных в Переделкине, я заболел ангиной и уехал в Москву. Вечером сильно поднялась температура. В этот день как раз была первая настоящая бомбежка. Дом сильно встряхнуло, когда в Сытинском переулке взорвалась большая бомба, разрушившая школу.
Москва постепенно эвакуировалась. Мы с мамой об этом не думали. Я дежурил на крыше во время бомбежек и ждал, что меня скоро призовут в армию. Папа жил в Переделкине, но часто бывал в Москве, и в ночи бомбардировок он тоже тушил зажигалки на крыше писательского дома в Лаврушинском. На даче он вырыл в лесу окоп, где пережидал воздушную тревогу. Мы часто виделись с ним в те дни. Он развел в Переделкине прекрасный огород, Елена Петровна ездила к нему помогать его полоть и поливать. Папу тогда безумно волновала сохранность дедушкиных художественных работ. Еще весной, перед войной, он как-то вызвал меня к себе и просил отобрать из них то, что мне нравится, чтобы это висело у нас на стенах. Он искал возможности передать дедовский архив на сохранение в какой-нибудь музей. Реставратор Третьяковской галереи Алексей Александрович Рыбников предлагал папе взять их в запасники галереи, но директор решительно отказал. Перевезти сундук с работами в Толстовский музей не было машины. С множеством масляных этюдов и собственным папиным архивом сундук стоял на даче, часть графических работ оставалась в квартире в Лаврушинском.
В один прекрасный день – это было 6 августа 1941 года – я перетаскивал дрова из одного сарая в нашем дворе в другой, достав у дворника Ершова тачку. Выйдя ко мне, мама встретила знакомого, не помню, кого именно, – тот приходил в группком драматургов, помещавшийся в нашем дворе. Оказалось, что они сегодня уезжают в эвакуацию в Ташкент.
“Как хорошо”, – сказала она.
В Ташкенте жили Козловские, высланные туда несколько лет тому назад, и маме казалось, что мы могли бы найти у них поддержку. Кроме того, Ташкент всегда представлялся богатым, сытным городом, зимой там было тепло. Оказалось, что поезд с Казанского вокзала уходил через четыре часа, и нам могли оставить в нем места. Мама решила ехать. Я бросился в военкомат за разрешением.
Собрали два чемодана и какие-то свертки. Елена Петровна помогала нам тащить вещи. Когда мы быстрым шагом шли к воротам, то встретили Сарру Дмитриевну. Мы оставили ей ключи, а другую связку взяла Елена Петровна, которая должна была заботиться о сохранности квартиры и дать обо всем знать папочке. Она собиралась поселиться у него в Переделкине, чтобы помогать ему с огородом и хозяйством. Мы успели к самому отходу битком набитого поезда, оставленные нам места были стиснуты со всех сторон вещами и соседями. Ночью близ Рязани нас бомбили, и поезд долго стоял, не доехав до станции.
С дороги мама послала папе открытку.
<8 августа 1941. Сызрань>
Боричка!
Женя увез с собой письмецо, которое я тебе написала. Все так неожиданно. Я собралась за 1 час. Позаботься о нашей квартире. Групком драматургов выдаст тебе охранную бумагу – это у нас во дворе. А может, ты или Лена будут там жить. Я все рассказала Сарре Дмитриевне, которую встретила по дороге на вокзал. Может скоро обратно приедем. Говорят из Ташкента можно разговаривать по телефону, тогда я позвоню Любовь Михайловне[322].
Целую. Женя.
Папа, если бы мы собирались не так быстро, то я скорее всего не поехал бы, но сборы были так быстры, что я до сих пор не пришел в себя.
Целую. Женя.
Ехали по тем временам быстро – за неделю добрались до Ташкента. По приезде всех выгрузили в какую-то гостиницу и велели искать квартиры. Козловские были нам очень рады. Алексей Федорович заведовал кафедрой в консерватории и писал оперы, которые успешно шли в тамошнем театре. Они помогли нам быстро устроиться в маленькой комнате у кассирши оперного театра – на Выставочной улице вблизи вокзала. Это была зажиточная семья, которую выслали с Украины в Ташкент, где они работали на железной дороге. Нравы были жесткие, и мне казалось странным, что яблоки, падавшие с дерева, нельзя было поднять и съесть – они шли на откорм свиньям. Их кололи прямо у нас под окном, и они жутко визжали.
В нашу комнатку надо было проходить через хозяев, у нас стоял гардероб с их вещами, две кровати, и между ними мы положили наши чемоданы, которые служили нам столом. Вскоре начали приходить папочкины письма, вернее – серии открыток.
7. IX.41 <Москва>
Дорогие мои! Пишу вам впервые после вашего отъезда: страшно много было хлопот, частью и ваших. Пишу на нескольких открытках для быстроты и удобства просмотра. Вскоре после вашего отъезда стали приходить Женины письма к маме. Все ваши и мои живы и здоровы, все благополучно, чтобы начать с главного. Одну комнату (Женину) было отобрали, все, до рояля включительно, перенесли в мамину, должны были поселить польск<их> писателей, я отстоял. Может быть, зимой на вашей квартире будем жить я, Федин и Паустовский. С Ел<еной> Петровной рассчитался, она у меня на жалованьи, ездила в деревню, бывает на даче. Изобразить сложность моей жизни немыслимо. К сумме ежедневных неисполнимостей каждый день прибавляется что-нибудь новое.
7. IX.41 (II)
Когда вы уехали, в Лаврушинском воздушною волной высадило окна во всем доме. У меня с тех пор в квартире пыль и гуляет ветер, как на улице. Через несколько ночей, с 11-го на 12, как раз в мое дежурство на крыше, в дом попали две фугаски одною разрушило пять квартир в Оваловском проезде, а другой четверть смежного кирпичного дома. У меня долго было очень плохо с заработком, и только теперь обещает поправиться. Вот поставили бы Вы “Гамлета” в Ташкенте. И себя бы обеспечили, и я бы вам сказал спасибо. С последней недели много времени (езжу с дачи) уходит на военное обученье. Странным образом по боевой стрельбе в цель имею отлично. Как только появятся деньги и узнаю, куда вам посылать, переведу сколько смогу.
Умер Евдокимов в вагоне по дороге на дачу.
7. IX.41 (III)
Что Женек с тобою? В какой части ты служишь? В мыслях вижу тебя в Персии и мирюсь. Было предположенье, что я, Федин и Паустовский съездим проведать жен, но с тех пор столько воды утекло и такие перемены! Зина и Лёничка умоляют приехать, и она мне даже комнату сняла (дети будут в детдоме), но что мне сделать с дачей и пустыми квартирами, с огородом, хозяйством, и какие у меня будут заработки в Чистополе? Вам разумеется кланяется от души Петровна. Ловко вы укатили, прямо скажу, гениально, я был восхищен быстротой, техникой и распорядительностью. Да, вероятно, ко дню полученья открыток Женичке исполнится 18, горячо вас обоих с этим поздравляю и крепко, крепко целую. Ваш Боря.
7. IX.41 (IV)
Дорогая Женя! Сегодня получил твою открытку. Телеграмма тоже дошла. Я не трачусь на телеграммы из экономии, кроме того идут они так же долго как письма. Приложу все старания перевести тебе руб. 500 завтра или послезавтра. Я сижу без копейки, кроме того надо заплатить за твою и нашу квартиры. Горячо благодарю Гасэма (Лахути)[323] за заботливость и благородство. Кланяйтесь ему пожалуйста от меня. Постарайся достать через него работу. Может быть я на время уеду с К. Фединым и Леоновым в Чистополь, но потом, если позволят обстоятельства вернемся в Москву. Еще раз спасибо за все. Крепко целую тебя и Женичку.
Я поступил в университет (САГУ) на физико-математический факультет. Мне очень нравилось учиться, кроме того, нам платили стипендию, и я считал себя самостоятельным. Каждый день в столовой выдавали суп с вермишелью, и я мог его отнести маме, перелив в котелок, взятый специально для этого. Но вскоре через Союз художников мама устроилась печатать по трафарету юмористические плакаты в большой мастерской на полу. Потом ей дали повышение – вырезать трафареты самостоятельно.
Меня часто вызывали в военкомат, но пока обходилось. Нам очень помог знаменитый таджикский поэт Абулькасим Лахути, которого папа Боря знал еще со времени Съезда писателей и Парижского конгресса 1935 года. Он и его жена выказали нам искреннее сочувствие. Гасем Ахмедович был из персидских революционеров и жил в Ташкенте в отдельном доме с садом. Он заказал маме портрет своей жены и, кажется, сына.
25. IX.41 (I) <Москва>
Дорогие мои! Наверно у вас по счастью теплее, чем уже больше недели стало у нас. На даче я переселился вниз в столовую, Петровна в кухне, солнечными днями наруже градусов 6–8, у меня наверху еще меньше. В городе окна не вставлены, холод и страшная грязь. Мне все обещают фанеру. Стекол не имеет смысла вставлять, так как налеты опять возобновились и вероятно усилятся. Если у вас появится тенденция возвращаться, не следуйте этому примеру. Это совершенное безумье. Я отправлял вам деньги дважды, послезавтра, в случае удачи, повторю. Рад за вас, что вы в тепле; горячее спасибо за то, что вы сами сумели так умно и энергично о себе позаботиться, избавив меня (как и Зина) от главных тревог и забот. В конце концов это было исполненье моей частой к вам просьбы последнего времени. Петровна занимается у меня заготовленьем солений и засыпкой картошки на зиму.
(Продолженье в след<ующей> открытке.)
25. IX.41 (II)
Петровна солит помидоры, собирается квасить капусту и готовит закром под картошку. Неизвестно, кто всем этим воспользуется. Некоторое время у меня было чувство уверенности в будущем, и я его связывал с Москвою. Зина боится, что в Чистополе расформируют детские и пионерские организации и она лишится службы и пристанища. Вероятно я их проведаю до конца речной навигации. Может быть, мне двинуться в Новосибирск? Я получил телеграмму из театра, что Гамлета возобновят в этом сезоне. Если я дам тебе телеграмму о своем выезде, писать и телеграфировать мне некоторое очень короткое время можно будет в Чистополь Казанс<кой> обл<асти>. До востребования. Я там пробуду недолго, и может быть вернусь в Москву, или двинусь по делам “Гамлета”, пока не знаю. Идиотские у меня с вами документы, я виноват в этой глупой и беспочвенной Дон Кихотиаде. В Елабуге повесилась Марина Цветаева, подумай, до чего довели человека. (Продолж<ение> дальше.)
25. IX.41 (III)
Кланяйтесь Лахути. Скажите ему, что я целую его. (Я тебе пишу под разыгравшийся и постепенно смолкающий грохот зениток. Елена убежала в наш лесной блиндаж. Можешь себе представить, какая там грязь и холод. 10 часов вечера, снаружи тьма хоть глаз выколи, и можно передвигаться только при свете разрывающихся снарядов.) Скажи Гасему (Лахути), чтобы он послал в Литературку (Лит. газету) какое-нибудь стихотворение с глубоким гражданским содержанием; не с людоедами, гиенами и трамтарарамом и сельскохозяйственной выставкой, а где были бы истинное сердце, понимание опасности, и человек, и Россия. Скажи, чтобы он послал его скорее, пока я тут, с просьбой, чтобы обратились ко мне, и я с радостью переведу ему это так, что ему будет приятно. И еще раз поцелуй его. И чтобы был размер и точный подстрочник. Вот и все. Крепко целую вас.
Ваш Боря.
Лена кланяется и скучает по вас.
Известие о самоубийстве Марины Цветаевой пришло в Москву 9 сентября. За месяц до этого, через два дня после нашего отъезда, папа провожал ее с Муром в эвакуацию. Она рвалась уехать из Москвы, несмотря на его уговоры, потому что ее пугали ночные бомбежки и дежурства Мура на крыше. И вот теперь такой конец. Мур вскоре приехал обратно в Москву, и папа виделся с ним в начале октября. Затем Мур поехал в Ташкент, где я с ним встречался.
Папе с большим трудом удалось в то время напечатать три военных стихотворения, но переводы из национальных поэтов (“с людоедами” и “сельскохозяйственной выставкой”, по его словам) шли гораздо легче. Предлагая Лахути перевести его стихотворение, папа хотел одновременно сделать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он отстоял нас от выселения в Бухарскую область. В то же время он ценил его талант и душевное благородство и понимал, что стихи Гасема Лахути будут лучше того, что ему предлагают переводить в “Лит. газете”. Но из этого ничего не вышло.
Маме требовались для работы краски, через свою знакомую Т. Б. Рапопорт, ехавшую по делам в Москву, мама передала эту просьбу папе, надеясь, что краски и какие-то теплые вещи сможет привезти ей Нина Станиславовна Сухоцкая.
8. X.41 (I) <Москва>
Дорогая Женюра! Вследствие бесконечного множества забот все происходит всегда в страшной спешке. Таким образом Шура, до меня говоривший с Т. Б. Рапопорт по телефону, вероятно, подробнее и с большим досугом узнал о вас и вашем житье-бытье, чем я, который сейчас же, по своей горькой привычке, как при всяком донесении от Зины, мысленно стал выделять и подчеркивать одно деловое: что едет Сухоцкая; что ее рано утром надо повидать в Богословском; плитки, краски, теплые вещи; так же как при рассказе Треневых или Тамары Вл<адимировны> Ивановой: у Лёни корь; папиросы; Зина сблагородничала и заплатила за себя и детей за все эти месяцы в Литфонд, хотя с лихвой все это отработала и могла бы не платить ни копейки. Итак, ты уже знаешь, что Нина Станиславовна…
8. X.41 (II)
ничего взять не могла, да и кто ей это поставит в вину! Ты сама знаешь, как приятно пыхтеть и метаться по перрону под собственными тяжестями, кто же возьмется перевозить вещи даже самых близких. Я, Лена, Сарра Дмитр<иевна> и Ел<ена> Мих<айловна> сделали все, что было в наших силах, чтобы приготовить хотя бы сверток с красками, но Н. С. уехала ранее часа, назначенного для передачи вещей. Что касается теплых вещей, то с известным риском (кое-что пропадает и на почте) их надо будет переслать тебе отдельными последовательными почтовыми посылками, но так как часть этих вещей забрала к себе для сохранности Нюня[324], зашивать будет Лена, а я не сегодня-завтра выеду в Чистополь, то об отправлении этих посылок я и попрошу Нюню по телефону. Эта забота будет на ней.
8. X.41 (III)
Дорогой Женёк, горячо поздравлю тебя а) с давно минувшим 18-м днем твоего рождения: Пусинька[325] поздравила меня открыткою в этот день; б) с поступленьем в университет (как я рад, что свое движенье к созидательному поприщу ты начинаешь математиком!); в) с избавлением от насекомордной малярии, название которой я у мамы в открытке не мог разобрать. Я слыхал, ты также подвизаешься в театре. Занимайся основательнее науками, друг мой! При твоих способностях и ораторской склонности к легкости и поверхностности у тебя все данные кончить бездельником и недоучкой. От души желаю усидчивости. Можешь жениться, если хочешь, но работай, работай.
8. X.41 (IV)
Женёк, передай маме, что от тети Аси и Оли из Ленинграда след<ующие> известия. Они живы, может быть Оля переведется в Ташкентский университет и перевезет туда тетю Асю. Сообщил им ваш адрес и мою радость по поводу вашего возможного соседства. На время моего отъезда в Чистополь Ел<ена> Петровна наверное будет жить у своей сестры Ариши: Москва, Кропоткинская, 3, кв. 20, у М. А. Родионовой, если только у вас на Тверском не поселится Ахматова, в каковом случае Петровна останется на квартире вместе с ней. К вам на Тверской я свезу свой энциклоп <едический> словарь, дедушкины работы, Ленину кроватку и пр. и пр. Мне не хочется уезжать. Петровна незаменимая помощница в жизни и обиходе: я ей выдам доверенность на все, что останется моего на даче и в Москве. Я стал опять зарабатывать. Но с Лёничкой я расстался еще раньше, чем с вами. Надо съездить туда. Крепко тебя обнимаю. Твой папа.
До папы с опозданием дошло известие о моем поступлении в университет и о том, что я переболел тяжелой лихорадкой, вызванной укусом клеща – папатачи. Вообще в Ташкенте было много заболеваний. Наш хозяин, мимо которого мы проходили в нашу комнату, болел тифом, а кто-то из его домашних – дифтеритом.
Нина Станиславовна не смогла взять с собой ничего из того, что приготовил папа. Она ехала со старой матерью и маленьким сыном и поселилась рядом с нами, в том же дворе. Ее ближайшей знакомой – актрисе Фаине Георгиевне Раневской, приехавшей то ли тогда же, то ли несколько позже, дали казенную квартиру. Может быть, наша дружба с нею в то время была причиной слухов о моей театральной деятельности, которые не имели под собой реальной основы.
Мамина сестра Анна Владимировна послала нам несколько посылок, одну из них – с красками – привез нам через некоторое время Михоэлс, который навещал в Ташкенте свою жену и дочек. Ему передала ее Любовь Михайловна Эренбург, а Илья Григорьевич прибавил к ней трубку и табак для меня. Я начал курить еще на окопных работах, папиросы как будто заглушали мучительное чувство голода, с которым мы постоянно жили. Мы были очень им благодарны.
Папа надеялся на приезд в Ташкент тети Оли и бабушки Аси Фрейденберг, но это не осуществилось. С середины сентября Ленинград был окружен, и они остались в городе, пережив в нем все ужасы блокады. По правительственному распоряжению Анна Ахматова была вывезена на самолете в Москву, где собиралась провести зиму. Папа предлагал ей нашу квартиру на Тверском бульваре. Но вскоре – одновременно с папой – ее эвакуировали в Чистополь.
27. X.41. <Чистополь>
Дорогие мои! 18-го после многих приключений добрался в Чистополь. Обо мне, Зине, нашей жизни, детях и пр. расскажет тебе множество народу, начиная от Н. Павлович[326] и кончая Л. Чуковской и А. Ахматовой. У Зины прочное место, которое при трудной и утомительной работе обеспечивает ей и детям безголодное существованье, пока будет существовать детдом. Из чего составится мой заработок я пока не знаю. Если где-нибудь, в Восточной части России какой-нибудь из театров будет играть Гамлета, поспектакльные будут куда-нибудь поступать и их можно будет добыть в Чистополе, дело может быть уладится, и я вам буду помогать насколько смогу. Если нет, надо будет что-нибудь придумывать, – все это выяснится не слишком скоро. Вот почему я тебе телеграфировал, чтобы ты искала работы. О Москве также узнаешь от приезжих. В день моего отъезда в ней по собственному желанью оставались: Шура с семьей, Асмусы, Нейгауз. Что было дальше, то есть не выехали ли они потом, не знаю. Пишите мне: Татарская АССР. Чистополь. ул. Володарского 63, Детдом Литфонда, мне. Крепко вас целую. Леничка все время болеет: корью, ветряной оспой, желудком.
Часть приехавших в Чистополь через некоторое время направилась в Ташкент, в их числе были Анна Ахматова и Лидия Чуковская.
Анна Андреевна пришла к нам на Выставочную улицу в начале ноября. Помню, как она торжественно появилась в дверях перед изумленной хозяйкой. Та обычно с нами не церемонилась, а тут прибежала доложить: “К вам пришли”. Анна Андреевна царственной походкой пересекла ее комнату, прошла мимо постели, где лежал в тифу хозяин. До поздней ночи она рассказывала нам о Чистополе, папочке, Цветаевой, возмущалась поведением Мура. Она читала нам свою поэму и оставила список “Решки”. Я провожал ее домой.
Анна Андреевна пришла в ужас от условий, в которых мы жили, и посоветовала обратиться за помощью к Чуковскому. Вероятно, мама это вскорости и сделала, и Корней Иванович стал хлопотать о подыскании нам казенной комнаты, за которую не надо было столько платить, сколько мы платили за частную. Нам помогла в этом также Тамара Владимировна Иванова, узнав, что после отъезда Кирсановых[327] вскоре освободится соседняя с нею комната в доме на улице Урицкого, который был выделен писателям и их семьям.
Мы в нее переехали в декабре, купив предварительно на Алайском базаре мешок картошки и идя вслед за тележкой, запряженной осликом.
К нашему переезду комната в два окна была разделена надвое свежей глинобитной перегородкой. Из нее росла травка и еще какие-то бледные растения. Была хорошая печка, и нам завезли дрова. Получилось уютное двухкомнатное помещение, которому мы очень радовались.
О нашем переезде мама написала отцу письмо, которое пришло в Чистополь только 16 февраля будущего года.
<Декабрь 1941. Ташкент>
Дорогой Боря!
Уже два дня как мы живем на новом месте. Нам разрешили занять комнату уехавшей в Москву семьи Кирсанова. И так мы живем рядом с Ивановыми в доме, предоставленном эвакуированным писателям. В этом помогли Чуковский и Тамара Владимировна. Как только нам с Женькой хорошо, так нам хочется, чтобы ты на нас поглядел. У нас топится в комнате маленькая плита, и мы в ней сейчас печем картофель. Ивановы как раз сегодня получили письмо из Чистополя с припиской от тебя, только что ее прочла. Я думаю, что ты уже получил наши два письма.
Подробно описывать наши беды и достижения трудно, – в тихом Чистополе не поймешь очумевшего от наплыва эвакуированных Ташкента. Набегавшись с выяснением ошибочно присланной бумаги о нашем выселении в Бухарскую область и одновременно с представлением нам права перепрописки в писательский дом, я слегла. Болело горло, а так как у нас в доме дифтерит, то трое суток ко мне даже соседи боялись зайти, часов в 6 возвращался Женек и часам к 8-ми приносил мне обед, нам дали на одного человека пропуск в писательскую столовую. Потом был еще Женьке вызов, пока он дома, сдает сейчас зачеты. Думаю, что теперь наш быт понемногу наладится, только бы Женек его подольше со мною разделил.
Сегодня один узбекский писатель подошел ко мне выразить тебе свои симпатии. После того, как Погодин и Вирта[328] чуть не превратили нас в самозванцев, я, как и раньше (до приезда Московских писателей), тут же ему объявила, что я первая жена Пастернака и эвакуирована в Ташкент с сыном, как твоя семья. Несмотря на мое заявление, он просил, если у меня в чем будет нужда, прибегнуть к нему, он член правления Литфонда и т. д.
Фамилию его я тут же забыла.
Ну крепко тебя целую. Пиши. Наш новый адрес: улица Урицкого. д. 70. комн. 4.
Женя
Чистополь. 18. XI.41.
Женичка, дорогой мой сынок, как ты и что ты, и что поделывает мама? Учишься ли ты? Привели ли к чему-нибудь твои театральные шалости и пробы? Мне больше по душе были бы твои успехи по математике и физике, но все равно, руководствуйся собственными влеченьями. Я о вас ничего не знаю, писал вам отсюда, но ответа пока нет.
Тебе и маме, наверное, кажется, что я забыл вас и бросил о вас заботу. Вам надо знать, что Москву, единственное место заработка и центральный узел связи с разъехавшимися, я должен был оставить по предписанью, в силу которого союз писателей подлежал немедленной эвакуации.
Я этому подчинился вот из каких соображений. Если бы меня с вами и З<инаидой> Н<иколаевной> разделило пространство резче, чем раньше, главное горе было бы не в полной отрезанности, а в том, что мы друг другу страшно бы затруднили жизнь и дальнейшее поведенье, попав в положенье взаимных заложников. Каждое мое слово и в особенности невредимость оказались бы бичом, за которые пришлось бы платиться вам и З. Н. с детьми. Об этом пришлось подумать всем, у кого семьи были отправлены в восточном направленьи. Этот довод я выдвигал Г<енриху> Г<уставовичу>, которому следовало уехать ради Адика, находящегося на Урале. По слухам он тоже выехал из Москвы, но во время моего отъезда у него не было на это денег.
По разным причинам, и отчасти в силу необходимости, предполагали остаться (я не знаю, что было дальше) дядя Шура, Нейгаузы, Асмусы и множество других знакомых. Но ни они, ни я не оценивали, конечно, должным образом удесятерившихся ужасов и опасностей ураганной бомбардировки города перед занятием и тяжести осады. Не знаю, известно ли у вас о смерти Афиногенова? Они уже были в Куйбышеве (Самаре). Рассказывают, что его с ней предполагали командировать от Информбюро в Америку. Ему потребовались из Москвы какие-то документы, находившиеся у него на месте службы, на Старой Площади близ Ильинки. В 6 ч. вечера он прилетел в Москву, в 7 был в помещении Информбюро в своем кабинете и через минуту был убит взрывом бомбы, упавшей близ дома ЦК. Но вернемся к деловым вопросам.
Должно пройти некоторое время, пока для меня выяснится, в каком я положении и как мне быть дальше. Если мои надежды не оправдаются, я наймусь истопником в Детдом, где работает Зина, и где это никого не удивит, потому что там кладовщиком и ее помощником служит человек с высшим образованьем, доцент биолог. Деньги нужны только мне и вам, и в некоторой части, руб. до 100 в месяц для Стасика, потому что себя и Лёничку З. Н. оправдывает целиком своей работой. У вас в Ташкенте есть Отделенье Управления по Охране авт<орских> прав. Когда через Чистопольское отделенье того же учрежденья я узнаю, идет ли где-нибудь Гамлет и приносит ли что-нибудь, я буду с помощью этого учрежденья делиться с вами, как бывало прежде.
Неизвестность о вас начинает беспокоить меня. Напишите мне побольше и поподробнее. К вам ведь хлынуло множество народа, среди которого немало людей известных и интересных. Вы, наверное, окружены целою галереей знакомых, вряд ли мама скучает. Не появились ли у вас Оля с тетей Асей, если да, это было бы для меня безмерным счастьем. Чистополь мне очень нравится. Милый захолустный городок на Каме; в тысячу раз лучше дикой и засранной Казани. У меня простые и страшно симпатичные хозяева и очень хорошая комната в хорошей части города. Я опять взялся за Ромео и Джульетту, которых постараюсь сделать к Рождеству, и пишу кое-что свое, вроде тех весенних стихотворений, которые мама знает. На столе и окнах у меня цветы в горшках, как везде в Чистополе, к горшку передо мной прислонена твоя детская карточка в голубой фуфайке, единственная вещь, захваченная мною при отъезде с вашей московской квартиры. Я редко вижу Лёничку, он грустный, красивый молчаливый мальчик, которого все обожают.
Крепко целую тебя и маму. Твой папа
22. XI.41. <Чистополь>
Дорогая Женя! Меня начинает беспокоить ваше молчанье. Живы ли вы и что с вами? Удается ли тебе работать? Учится ли Женёк и каковы его дела? Напиши мне вообще поподробнее о вашей жизни, вокруг вас столько знакомых. Не знаешь ли чего-нибудь о Шуре и тете Асе с Олей? Не у вас ли они? Я снимаю комнату на той же улице, где стоит пожарная часть, в которой разместился детдом Литфонда, место Зининой службы и Лёничкина жительства. Стасик живет в другом месте. Мы его не видим почти никогда, Зину вижу почти ежедневно, она иногда у меня ночует, Лёничку же не чаще раза в неделю. Он сосредоточенный неразговорчивый мальчик, выпячивает губки и корчит ротик в сторону, дурная привычка, которая не превратилась бы в постоянную, вообще же тихий, послушный мальчик, любимец всего персонала.
Жить вместе технически невозможно и не по средствам. Как только будут деньги, пошлю вам. Крепко обнимаю. Боря
Папины письма пришли через месяц. 14 октября он выехал из Москвы в Чистополь как член правления Союза писателей, которое было особым распоряжением эвакуировано в страшные дни немецкого наступления на Москву. Неподчинившиеся указу об эвакуации подвергались опасности ареста со стороны НКВД – как “предатели”, ждущие прихода немцев. Особенное подозрение вызывали лица немецкого происхождения. Многие были расстреляны в те дни. Через несколько дней после папиного отъезда арестовали Генриха Густавовича Нейгауза. Папа нашел необходимым сообщить Адику, который был эвакуирован с туберкулезной больницей на Урал, об участи, постигшей его отца. Папа писал, что мальчик должен гордиться его арестом, потому что сейчас сажают всех лучших людей России.
Заступничество Эмиля Гилельса спасло его от гибели. Через некоторое время он был сослан под Свердловск. Папа узнал об этом благополучном исходе только через год. Страшные подозрения зарождались у него уже в дни отъезда из Москвы, потому что октябрьское наступление немцев несло реальную угрозу того, что Москва будет сдана. В этом случае оставшиеся попали бы в положение заложников, чья судьба и поведение могли пагубно повлиять на жизнь эвакуированных. Кроме того, отцовский паспорт сулил ему немедленное уничтожение со стороны немцев.
2 декабря 1941. <Чистополь>
Обеспокоен молчаньем телеграфируй здоровье Чистополь Володарского 63 Детдом.
24. XII.41. <Чистополь>
Дорогая Женя! Скоро твое рожденье и новый год. Поздравляю тебя с тем и другим. От вас больше двух месяцев ни слуху ни духу. Иногда меня охватывают страх и тоска, что вас обоих нет на свете и вы погибли оба в какой-то загадочной совместности. Но вы не в пустыне. Кругом знакомые. Спасительная мысль, что не дай бог в случае какого-нибудь несчастья с вами, это не осталось бы без следа, и мне бы сообщили, мое единственное хотя и слабое утешенье. Я написал тебе и Женичке несколько писем и послал две телеграммы. На днях я перевел в Узбекское управление авторских прав (Ул. Сталина 47) одну тысячу на твое имя. Пойди и получи ее.
Вчера я узнал, что Моск<овский> Театр Революции в Ташкенте. Там ли Максим Максимович Штраух и Мих<аил> Фед<орович> Астангов[329]? В идее “Гамлет” предполагался для них. Когда его перехватил МХАТ, я был подкуплен энергией этого захвата, жертвами, на которые шел театр (договор с Радловой) и нетерпеливостью их требований. Астангову очень хотелось сыграть Гамлета, и даже во МХАТе признавали, что это был бы самый лучший Гамлет. Астангова интересовало, на какой срок заключен со мной постановочный договор. Они приобрели право первой постановки сроком до 1 января 42 г. Через неделю этот срок истекает.
Все были правы. Гамлета они не успели поставить, задержав его реализацию по всей России. Только Новосибирск ухитрился подхватить новый перевод, а о Смоленске и Курске, готовивших спектакль, говорить не приходится. Все это очень грустно. Гамлет не только лучшая из моих работ, переводных и оригинальных, не только лучший из русских переводов этой трагедии, – мой Гамлет лучший из неанглийских Гамлетов, включая Шлегеля[330]. И вот он остался без приложенья.
Сейчас я (по мысли Морозова[331] и Ком<итета> по дел<ам> Иск<усств>, – моим предложеньем были Ричард II или Генрих IV с Фальстафом) кончаю перевод “ Ромео и Джульетты”, слабый и безжизненный перевод юношеской и местами манерной вещи Шекспира, сущей дребедени по сравненью с Гамлетом. И зачем при неосуществленном Гамлете, это нужно было делать? Иногда, а теперь в связи с известьем о местонахождении Т<еатра> Р<еволюции> и точнее, в прямом отношеньи к нему, мне кажется, что вы оба живы и не голодаете, потому что как-то участвуете в какой-то Ташкентской постановке моего перевода, но по-… <конец письма утерян>.
<3 января 1942. Чистополь>
Встревожен молчанием поздравляю новым годом получи узбекского управления авторских прав улица Сталина 47 одну тысячу пиши. =Целую Боря=
Мы познакомили Ахматову с Козловскими, и они устроили нам сказочную встречу Нового года с удивительным пловом, приготовленным в котле на дворе, для чего был нанят узбекский повар, с шампанским и музыкой. Вторую Бетховенскую сонату играли в четыре руки Алексей Федорович с братом Дмитрием, который был тоже эвакуирован в Ташкент. Ахматова читала стихи и, кроме того, прочла нам полученное ею на днях прекрасное письмо от папочки. К сожалению, оно потом у нее потерялось – папа разбирал в нем ее Поэму, которую она читала ему осенью в Москве. Возвращались мы на заре по тихим улицам, усыпанным палыми листьями. Они громко шуршали под ногами, заглушая нежное журчание арыков.
В конце года меня стали вызывать в военкомат. Приближался срок призыва. Мама, да и я сам, тревожились. Разнесся слух, что при Академии бронетанковых и механизированных войск откроют краткосрочные курсы подготовки танковых техников. Получив очередную повестку, я зашел к Ивановым попрощаться, не зная, вернусь ли домой из военкомата. В ходе разговора Тамара Владимировна взяла телефон и позвонила генералу Ковалеву – начальнику Академии. Представившись ему, как “жена писателя Всеволода Иванова”, она попросила меня принять. На следующий день я пришел к нему на прием. После короткого разговора и заявления с просьбой принять меня на подготовительные курсы в военкомат были посланы бумаги о моем призыве в армию и зачислении в военную академию.
16 февраля я собрал вещички, и мама с Мишей Левиным проводили меня в военный городок за пивоваренным заводом, 23-го, в день Красной армии, я был приведен к присяге. Неожиданно выяснилось, что никаких краткосрочных курсов, которые я надеялся быстро окончить, нет – это формировался основной курс инженерного факультета академии. На него приезжали кадровые военные с фронта и из училищ, призывались студенты высших учебных заведений. Было отделение детей генералов и их знакомых, куда я и попал поначалу. Потом всех пересортировали, и начались занятия, длительность которых была еще долгое время неизвестна. В результате я проучился в академии четыре с половиной года и окончил ее лишь летом 1946-го.
Первые месяцы нас совсем не выпускали за территорию военного городка, я очень тосковал. Миша Левин и мама подходили к забору в мое свободное время, и мы потихоньку разговаривали.
16 февраля 1942. <Ташкент>
Дорогой Боря, Сейчас провожаю Женичку в Военную Академию Механизации и Моторизации. Он сдал на круглые отлично экзамены в Университете и его приняли слушателем в академию. Первый месяц будет жить в казармах, а потом, вероятно, дома. Итак у нас сын совершенно самостоятельный и взрослый.
11-го числа я поздравила тебя телеграммой с рождением, но как выяснилось, в Татарской АССР есть два Чистополя (Береговой и Чистопольский), и отправили мою телеграмму в Чистопольский. Ивановы, которым я сказала о твоем рождении, тоже телеграфировали. Ты телеграммы верно получил. Живем мы теперь, как я тебе писала, на ул. Урицкого 70. Всем хорошим, что у нас здесь есть, мы обязаны Ивановым. Переехать же сюда помог Корней Иванович. Я получила в Бюро по охране авторских прав 1000 и 500 получила 12/II по почте. Спасибо.
Еще плохо себе представляю, как буду жить без Женички. Жизнь моя в основном и в мелочах всегда подчинялась его требованиям. Получила от тебя письмо последнее из Чистополя (о “Гамлете” и “Ромео”) очень грустное. С Штраухом как-нибудь повидаюсь, но думаю, что “Гамлета” сейчас никто ставить не будет.
Крепко тебя целую. Очень бы хотелось быть к тебе поближе, если ты летом тронешься из Чистополя, может, заедешь к нам.
Будь здоров. Знаешь ли ты что-нибудь об Оле и тете Асе, очень за них беспокоюсь. Сеня, папа и Гита в Москве. Нюня с мужем в Саратове. Письмо от тебя шло 40 дней, деньги 3 недели.
Еще раз крепко целую.
Женя.
Всем привет.
12. III.1942. <Чистополь>
Дорогая Женя! Я получил все твои письма и телеграммы вплоть до последнего, с известием о поступлении Женички в Военную Академию. Я этому безмерно рад и вас обоих от души с этим поздравляю. Я никому не писал больше двух месяцев, сознательная жертва, которую я приносил работе над “Ромео и Джульеттой” именно в этот срок и оконченной.
Она мне стоила гораздо большего труда, чем Гамлет, ввиду сравнительной бледности и манерности некоторых сторон и частей этой трагедии, как думают, одной из первых у Шекспира. При переводе Гамлета приходилось сдерживаться, чтобы текст не унес тебя в пучину безумнейшей боговдохновенности, между тем как в работе над “Ромео” я все время напрягался, стараясь выделить самое существенное, гениальное и реалистическое, и искал освещенья, при котором второстепенные и слабые стороны остались бы в позволительной и естественной тени. Все время я готовился к неудаче и провалу с этой вещью, и если, кажется, избежал позора, то именно благодаря большей, чем в Гамлете старательности и нескольким переделкам.
Молодой драматург Гладков[332], отправляющийся на днях в Свердловск и дальше на восток, везет с собой экземпляр перевода для собственной надобности. Если он заедет в Ташкент, я попрошу его дать его вам временно для прочтенья. В день окончанья работы я читал ее публично и выручил на подарки красноармейцам около 700 руб.
Я прожил эту зиму живо и с ощущеньем счастья среди лишений и в средоточьи самого дремучего дикарства, благодаря единомыслию, установившемуся между мной, Фединым, Асеевым, а также Леоновым и Треневым. Здесь мы чувствуем себя свободнее, чем в Москве, несмотря на тоску по ней, разной силы у каждого. Сейчас я собирался в одно место и зашел за Асеевым, но узнал, что наше предположенье отложено. Они меня просили остаться, а когда узнали, что я тороплюсь домой, чтобы дописать прерванное тебе письмо, Синяковы[333] просили тебе кланяться и поздравили меня с гражданским совершеннолетьем Жени. Пусть он снимется в форме и пришлет карточку Лёничке, по адресу: Ул. Володарского 63, детдом Литфонда, Лёне Пастернаку. “Мой брат Женя на войне”, – говорит он. – Что же тебе его жалко? “Нет, – отвечает он, – на войне хорошо, а мне жалко бедного брата Адика в больнице”. – Я наверное писал тебе про ухудшившееся и – боюсь, неизлечимое его состоянье, и про судьбу Гаррика, попавшего в положенье Тициана[334]. Об этом нельзя говорить, это рев, рев и сплошные слезы. Мы наверное съездим к нему[335], а до этого, после окончания еще одной переводной работы, я хочу пробраться в Москву и может быть куда-нибудь на фронт.
Лёнички я почти совершенно не вижу, за исключеньем тех случаев, когда он простужается и его кладут в изолятор. Мы с ним связаны одинаково горячей любовью, болью и разлукой. Как и Стасик, он не умеет отвечать на вопросы, техника собеседованья не постигнута им, и его ответов приходится ждать до трех минут. Но монологи его удивительно серьезные и задушевные и обнаруживают недетскую чувствительность и такую благодарную память, что за ней слышится верность прошлому и послушанье. Он помнит клички всех собак в Переделкине и все тропинки, и ваш двор в Москве в день эвакуации, и многое другое. Угадай, папа, говорит он, почему я в одной рубашке пошел в палатку (у пруда)? – Вероятно потому, что было жарко? – Да, – говорит он, – ты угадал. Или: “Я очень люблю спать, потому что во сне иногда у меня бывают папа и мама”. У него несомненные полипы и затрудненная давящаяся речь с выпаденьем носовых, как при насморке. Кругом доктора и педагоги, я двадцать раз говорил это им, но они либо слепы, либо это не страшно и этим рано заниматься. Он совершенно не умеет сморкаться и всегда тянет сопли в себя. У меня он почти не простужался, а здесь попал в совершенно иную систему взглядов на чистоту и грязь, холод и тепло и пр. и часто болеет. Но это старая история, за какие-то стороны дисциплинированного обихода я боролся наверное и с вами.
Сейчас я займусь переводом польского классика Словацкого. Это тоже денежно обусловленный заказ, то есть работа для хлеба. Потом я некоторое время поработаю свое, для себя. От надежд на помещенье чего-нибудь своего, если оно будет настоящее, надо отказаться. Тем большую, значит, свободу я себе и дам. Мне хочется написать пьесу и повесть, поэму в стихах и мелкие стихотворенья. Это настроенье, может быть предсмертное, последнего года и последних довоенных месяцев, которое еще ярче разгорелось в войну. Если бы этому было приложенье, – не со стороны денежной, а с логической стороны какой-то разумной душевности, находящей свое осуществленье, эти силы бы наверное как-то сказались.
Я здесь видел людей, в торопливости бегства захвативших с собою Блока и меня, этому можно было бы радоваться и этим гордиться. Я же этого не понимаю и живу соединеньем стыда и недоуменья, жалостью о даром пропавшем времени и чувством несломленного здоровья.
У меня сейчас заминка с деньгами. Скоро я тебе переведу очень немного, 500 руб. А потом, может быть дела улучшатся. Крепко целую тебя и Женю. Пусть он снимется и мне напишет.
Одновременно папочка прислал мне открытку, где выражал радость по поводу моего поступления в военную академию. Наверное, он понял, как я огорчен этим, как мне плохо, и хотел ободрить и утешить. Он писал, что военное образование всегда и во всех странах было прекрасным, и военными были почти все знаменитые математики, положившие начало этой науке. Он называл имена великих ученых, учившихся в Ecole Normal – французской военно-инженерной академии, основанной Наполеоном, Гаспар Монж, Эварист Галуа[336] и другие. Я так дорожил этой открыткой, что не мог расстаться с нею и носил в кармане гимнастерки до того, что она истерлась в прах.
10. IV.42. <Чистополь>
Дорогая Женя! Получила ли ты мое письмо и деньги? Я заканчиваю заказы, привезенные в ноябре из Москвы (первый был “Ромео”, второй – Словацкий), и недели через две буду свободен. Хотя у меня есть оплаченный договор на оборонную пьесу в прозе, я собираюсь ее писать с таким довоенным чистосердечьем, что уже сейчас пора подумать, из каких сумм я буду возвращать полученные под нее авансы. Я уже писал тебе, что собираюсь побывать в Москве, как греки отправлялись к елевзинскому оракулу, для чтенья свитка судеб в доступной для меня части. Да, большая радость, Адику, по счастью, немного лучше, кость ступни, по-видимому, начинает восстанавливаться.
Представь, на этот раз я сел писать тебе не с тем, чтобы просто поболтать. Ты должна помочь мне советом. Как бы ни сложилась личная, деловая часть моих планов, у них есть другая сторона. Если, как всего вероятнее, семьям придется опять зимовать в переселеньи, Зине хочется со мной и детьми переехать в Ташкент. Пока что я противник этой мысли. Во-первых, меня пугают трудности дороги и эпидемия. Кстати, говорят, сыпняк очень велик именно у вас. Кроме того, мне опять, как осенью, неясно мое матерьяльное будущее. В Чистополе я приспособился к обиходу и ни один из новых поворотов хозяйственного колеса не может застать меня врасплох. Здесь, если оценить Зинин труд, прокармливающий ее и Леничку, и прибавить мои взносы за себя и Стасика, мы при жизни впроголодь проживаем в месяц до полутора тысяч, из которых одна уходит в Литфонд, которому мы с начала войны не должны ни копейки и переплатили уймищу денег, несмотря на налет милости и подарка, лежащий на всем, что исходит от этого дома призренья. Но так как я живу отдельно, и только редкими урывками, да и то неполно, приобщался к питанью у Хохлова[337], то мой личный бюджет непропорционально раздвигает эти рамки. Когда мне подводило кишки, Зина доставала что-нибудь на рынке, и этот кусок жареного сразу увеличивал расходы рублей на 200–300. И это было всего два-три раза за всю зиму. А теперь вдруг Ташкент, новые условья, новые соотношенья, жизнь своим хозяйством, и Зина не будет служить. Во что может обойтись эта музыка? Какого ты мненья? Посоветуйся с Чуковскими и Ивановыми и напиши. Если хочешь знать, что я думаю, то вот оно. Во-первых, нас не отпустят Федины, Треневы, Леоновы и Асеев, и будут правы, или же в Ташкент поедут, все и в таком случае и мы в общем порядке. Но Зинин план иной, уехать и жить самостоятельно. Крепко тебя и Женю целую.
Письма из Чистополя приходили через месяц. Сохранился мой ответ на папин вопрос по поводу их семейного переезда в Ташкент. Понимая, что им будет здесь плохо (хотя мне, конечно, хотелось, чтобы он приехал), я предупреждал его, что если у них не очень голодно, “то, вероятно, Чистополь очень хорошее место для жизни летом”. Я обещал папе сняться в форме и прислать Лёничке фотографию, но оговаривался тем, что от ташкентского страшного солнца, которое в середине мая уже жарило по-летнему, у меня веснушек видимо-невидимо.
1. VIII.42. <Чистополь>
Дорогая Женя! Вот уже и август. Я давно не писал вам и выказал себя страшной свиньей в отношении Ивановых, Корнея Ивановича и, в особенности, Лидии Корнеевны. Но даже и тебе я пишу через силу. Вероятно, летом усталость и исчерпанность и азбучная ясность всех предметов чувствуется с особенною тяжестью.
Вот и опять я не попал в Москву. Сегодня с утра Зина со Стасиком сидят на степном бугре близ города, где их обдувает усыпительным ветерком, сладко пахнущим кашкой, полынью и тысячелистником. Это аэродром, и они ждут самолета в Казань на своем сложном пути к Адику через Свердловск. Эта поездка будет стоить Зине огромных сил и денег. Хотел и должен был сопровождать Зину я, но она нашла, что при рискованности путешествия в отношении сил и здоровья, нам лучше, выражаясь по-нынешнему, рассредоточиться и быть в несходных положеньях с разными шансами. И я остался, а в качестве помощника с ней поехал Стасик. Пока они не вернутся, разумеется я буду тут.
Ко мне по воскресеньям приходит задумчивый и рассеянный мальчик Лёничка и, по двадцать раз начиная фразу, задает иногда вопросы, вроде следующих: “А вот, а вот, а вот скажи, папа, кто назначает, каким папам быть красноармейцами, а каким писателями?” Я догадываюсь, конечно, что ему хотелось бы, чтобы я был на фронте, но объясняю это общедетской тягой к военным доблестям. Но когда я спрашиваю, как бы ему хотелось, он отвечает: “Мне хочется посылочку (подарки детям фронтовиков)”.
Когда кончает Женя? Ведь когда он кончит, его несомненно пошлют, и тут ничего нельзя поделать. Вы знаете, что убит сын Антокольского? Напишите мне об этом.
Вызова в Москву (то есть права въезда) я попросил только в начале лета, и недостаточно энергично. Я его еще не получил. Но когда Зина вернется, я затребую его понастойчивее и может быть поеду туда на зиму из чистого любопытства и чувства полной безнадежности. А что ж еще осталось делать, когда все пришло к такому скотоподобному фатализму и только ждет своего часа закланья.
Будет удивительно, если я не напишу Анне Андреевне. Не проходит дня, чтобы я не говорил о ней с Марией Петровых[338]. Целую вас обоих.
22 августа <1942. Ташкент>
Дорогой Боря, я тебе пишу, и письма остаются неотосланными. Последнее письмо до получения от тебя денег не послала, потому что побоялась, что я там пишу, что мне трудно, а у тебя тоже нечем помочь. Деньги я получила, очень в них нуждалась. Я никак не могу справиться, очень бы хотелось стать совсем самостоятельной, но не получается. Написала красивый портрет (всем очень нравится) “лауреата киноактрисы Тамары Макаровой”. Сегодня пошлю в Москву письмо и отзывы, чтобы купили его на выставку.
До получения от тебя последних денег прошло 7 месяцев, как я живу на этой квартире. От тебя получила только 2000 за 7 месяцев, представляешь как мне приходилось, если на весьма плохое существование уходит у нас не меньше 1000 в месяц. Теперь наступает осень, в Ташкенте на зиму необходимы запасы. Получив от тебя денежки я пока купила на 800 руб. (10 кг) рису. За квартиру московскую и здешнюю 300 руб. Теперь мне нужно хоть немного сладкого и жиров, но это так дорого (масло 400, сахар до 200). А потом позже надо картошки, 28 р. кило, топливо.
Женёк в лагерях, вчера был выходной, приезжал его товарищ и привез мне записочку, он растянул на ноге связки и лежит, просит немного денег и сладкого. Постараюсь к нему завтра поехать. Вернутся они из лагерей 5-го. Что дальше будет, не знаю, надеюсь, что пока будем в Ташкенте. Экзамены он опять сдал на отлично.
Очень бы мне хотелось послать Лёничке посылочку для детей нефронтовиков, но в Чистополь никакой оказии, поищу может какую-нибудь книжечку можно послать по почте.
Крепко тебя целую.
Мне все труднее становится тебе писать, теряется какая-то связь, уверенность в понимании меж строк, для меня написать письмо это настоящий труд.
Крепко тебя целую. Пиши, пожалуйста. Последнее твое письмо очень грустное, вероятно, ты не работаешь. Была одна неделя, когда работа над портретом меня так захватила, что я обо всем забыла и была вполне счастлива. Только бы Женек подольше был со мною.
Еще раз крепко тебя и Лёничку целую.
Антокольский поэт здесь, я его не видала, он считает, что мальчик погиб, но точных данных нет. Сейчас мне сказали, что он действительно убит в первый же день своего пребывания на фронте.
16. IX.42. <Чистополь>
Дорогая Женя!
Получил твое письмо, спасибо. Действительно, я не писал вам вечность.
Зина ездила к Адику. Ему наверное придется все-таки отнимать ногу ниже колена. В то же самое время выпустили на свободу Генриха Густавовича[339]. Они встретились в Свердловске, где он наверное будет преподавать в консерватории. Но Адика Гаррик еще не видал, это часах в трех езды от Свердловска, и я не знаю, насколько он располагает свободой.
Наверное на днях я поеду в Москву. Мне туда совсем не надо и не особенно хочется. Но прошлой осенью у меня были силы для проведенья своей линии. Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого не сделали. Все осталось по-прежнему – двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь. И я одинок в той степени, когда уже это смешно. В такой безоружности протянуть в чистопольской бабьей пошлости еще зиму будет трудно. Вот отчего я еду. Но как раз сейчас что-то могло бы меня и удержать.
Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел “Ромео и Джульетту”, избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму. Я подписал договор на сочиненье современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержанье. Уже подписывая его, я проговорился, что буду писать вещь по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны. Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это окончательно развязало мне руки. Современные борзописцы драм не только врут, но и врать-то ленятся. Их лжи едва-едва хватает на три-четыре угнетающе бедных акта, лишенных содержанья и выдумки. В этом отношении Тренев написал тут вещь до ужаса слабую, и Федин, человек, которого я любил и наверное люблю больше всех на свете, после поразительных воспоминаний о Горьком написал четырехактную пьесу с мертвыми словами и страстями, содержанье которой может уместиться в спичечной коробке. Только Леонову, благодаря безмерности его дарованья удалось написать талантливую и блестящую неправду, которая очаровывает на протяжении всей завязки и разочаровывает только к концу.
Исходя из этих наблюдений, а также из сознанья практической бесполезности моего труда на ближайшее время, я решил не стеснять себя размерами и соображениями сценичности и писать не заказную пьесу для современного театра, а нечто свое, очередное и важное для меня, в ряд прошлых и будущих вещей, в драматической форме. Густоту и богатство колорита и разнообразие характеров я поставил требованьем формы и по примеру стариков старался черпать из жизни глубоко и полно. Рано говорить о том, насколько я со всеми этими намереньями справлюсь. Я написал первый акт этой сложной четырех– или пятиактной трагедии. Он в четырех длинных картинах со множеством действующих лиц и сюжетных узлов. Драма называется “Этот свет” (в противоположность “тому”), ее подзаголовок “Пущинская хроника”. Первая картина – на площади перед вокзалом, вторая в комнате портнихи, из беспризорных, близ вокзала, третья в бомбоубежище этого дома, четвертая – картофельное поле на опушке Пущинского леса в вечер оставления области нашей армией. Пока вещь не дописана вся, не говори о ней пожалуйста никому.
Я хочу попробовать продолжать ее в Москве. Не знаю, насколько это будет выполнимо. Сейчас, издалека, ни с кем не списавшись и не проверив на месте, предполагаю поселиться у тебя, если позволит состоянье комнаты и Ел<ена> Петр<овна> согласится мне помогать. На всякий случай вот вам адрес Асмусов: Москва, Зубовский бульвар 16/20 кв. 45.
Как только установится мой собственный, я тебе сообщу. По-видимому зимовка в Москве будет не легче Ленинградской. Если по приезде выяснится, что осесть и обосноваться с надеждою поработать немыслимо, я вернусь в Чистополь.
Перевожу тебе тысячу руб. Как только достану в Москве, переведу столько же. Зина, Лёня и Стасик остаются в Чистополе. Крепко тебя и Женичку целую. Спасибо ему за открытку, я кажется на нее не ответил.
Ваш Боря.
Если я вас сейчас поздравлю телеграммой с его рожденьем, она к 23-му не дойдет, об этом надо было подумать раньше. С тем большей силой желаю вам обоим всего лучшего.
Узнав о работе отца над современной пьесой, Александр Яковлевич Таиров заинтересовался ею и попросил для Камерного театра. Папа читал написанный им первый акт по приезде в Москву Асмусам и Шуре, которых испугала свободная откровенность пьесы. После этого работа над пьесой была оборвана, и текст частично уничтожен. Сохранились только две сцены.
Зато пьесы Федина и Леонова “Воспитание чувств” и “Нашествие”, которые папа считал лживыми и беспомощными, ставились в театрах и печатались в книгах. В частности, именно Таиров, не дождавшись отцовой пьесы, поставил Федина.
Письма из Чистополя, как уже говорилось, шли целый месяц, так что мы с мамой продолжали по-прежнему писать папе туда, не зная, что он уже в Москве. Я сообщал ему о том, что мое учение все затягивается, а мама много работает и часто прихварывает: “ Боюсь, что надвигающаяся зима будет для нее очень тяжела”.
14. X.42. <Москва>
Дорогие Женёк и Женя!
Я уже две недели как в Москве. Первые часы в вечер приезда у меня было чувство новизны и отвычки, и на другой день прошло. Я остановился у Шуры. Когда я уезжал из Чистополя, у меня было намеренье остаться здесь на зиму даже в случае больших неудобств и трудностей, и если бы мне отказали в постоянной прописке. Я рассчитывал, что в Москве должно чувствоваться нечто исторически новое и, сквозь любые лишенья, некоторое предвестье завтрашнего дня. Кроме того мне казалось, что с одной стороны я буду эту зиму свободен для передвижений и меняющихся наблюдений, за отсутствием большой постоянной работы, с другой – в каком-нибудь из театров будут ставить Ромео, который будет меня поддерживать матерьяльно.
При этих условиях я думал побывать на фронте, потому что эти поездки не могли бы кормить меня, вследствие вероятной неприемлемости моих корреспонденций.
Но все сложилось по-другому. В Москве спокойно и очень обыденно, все наши пристанища, и в частности твое, частью разорены, частью заброшены, все ценное растащено; о Ромео никакому из театров ничего не известно, и совершенно неожиданно я подписал соглашение на перевод “Антония и Клеопатры” для МХАТа, который займет меня на полгода. При этих условиях я решил вернуться в Чистополь, где хотя жизнь и питание хуже, чем в Москве, но где я буду среди своих и смогу спокойно работать.
Через Охрану авторских прав я просил выплатить тебе две тысячи. Столько же надеюсь перевести тебе по почте. Я не знаю, как сложатся дальше мои дела, но вероятно потом будет некоторый перерыв месяца на три. Разумеется если только будет возможность, я тебя не оставлю без помощи.
25. X.42.
Я здесь очень засиделся по вине всяких дел, затруднений и бытовых несчастий, валящихся вокруг Шуры (больше всего на Риту и Аню). Мне как раз бы следовало сейчас уехать. Не сегодня-завтра станет Кама и прервется сообщенье с Чистополем. Мне тревожно и грустно, что я из-за вечного своего торчанья среди несчастненьких, застреваю тут вдали от своего дома и долга. Итак вкратце о делах. Упомянутые выше 2000 я тебе перевел по почте (сверх уапповских). Я видел Пусиньку и Ипп<олита> Вас<ильевича>, дал им 750 р. (может быть если будет возможность доведу до тысячи). Много денег дал Петровне, много трачу у Шуры.
В отношении имущества и обстановки вы и мы, то есть твоя и наша квартиры сильно пострадали. У тебя все ценное из сундуков и шкапов раскрадено и оставлена только мебель и книги (и то не все). У нас же не пощадили и этого. Я не знаю писал ли я тебе об этом в последние дни из Чистополя (я уже это там знал), но больше всего меня огорчила гибель всех папиных работ, оставшихся в Переделкине. Сундуки перенесли на дачу к Ивановым, где они и сгорели вместе с Ивановскими вещами. Какое-то предчувствие заставляло меня, помнишь, перевозить некоторый выбор из этого большого собранья всюду за собою то с дачи в город, то из города на дачу. В последний раз я почти все (за исключением Жони-девочки на картоне в золотой рамке) перевез в нескольких связках, как и лучшие из своих книг, Адину шубу и еще кое-что к тебе на Тверской. Адикову шубу, конечно, украли вместе с Жениной, а книги и картины кажется уцелели.
У тебя (тобою) за квартиру было уплачено до последнего дня. Я уплатил еще за ноябрь. В Жениной комнате теперь жила жена слушателя Литературного института Александра Васильевича Баукова. Предполагалось, пока я думал, что останусь, что я поселюсь в следующей твоей. Но у вас не будут топить, не действует водопровод и канализация. Я вообще в Москве на зиму не останусь. Ничто в ней не привлекает меня. Но я хотел договорить о твоей квартире. Я просил Нюню и Петровну следить за сменою квартирантов в одной из твоих комнат и смотреть за состоянием квартиры. Ключ от внутренней половины квартиры, куда снесены все вещи, теперь опять у Петровны. Приехали Ивановы. Мне звонила Тамара Владимировна и очень зовет. Я еще их не видел. Всеволод, которого я встретил в столовой, очень хвалил Женичку, о котором с такою же похвалой отзывались и раньше другие.
Прости, что я пишу тебе так бледно и с такой пустой душой. Если бы я был моложе, я бы повесился. Я не понимаю этой Москвы и людей кругом. Неужели никогда ничего не изменится?
Крепко целую тебя и Женю. Если надо будет, пошлю письмо с Ивановыми.
Твой Боря
Говоря о бедах, валящихся на брата Александра, остававшегося в Москве с женой, сыном и свояченицами Анной и Маргаритой Вильям, папа имеет в виду угрозу высылки сестер из-за их немецкого происхождения. Ему удалось отстоять Анну Николаевну с двумя маленькими детьми как жену фронтовика художника В. Кудряшова, но Маргарита Николаевна была выслана в Сибирь.
28. X.42. <Москва>
Дорогая Женя!
Сейчас опустил закрытое письмо к тебе, и забыл сказать несколько слов о твоей телеграмме. Мне надо лечить зубы и очень трудно разговаривать даже по городским телефонам, не говоря уже о междугородних. Когда я приведу челюсть в порядок, тогда посмотрим, если только такие переговоры технически выполнимы. Еще раз крепко целую тебя и Женёчка.
Твой Б.
Открытка была послана в ответ на мамину телеграмму. В это время в Ташкент вернулся из Москвы Корней Иванович Чуковский и привез нам известие, что папа в Москве. Это сообщение маму очень взволновало, и она послала телеграмму, в которой спрашивала папу, можно ли и куда позвонить ему по телефону. Но это не удалось. К сожалению, папино “закрытое” письмо от 28 октября, вслед которому была послана в тот же день открытка, не сохранилось, не уцелело и одно мамино письмо из тех, которые привезла папе в Москву Тамара Владимировна Иванова, в это время вместе с Всеволодом часто ездившая в Москву и обратно.
20 октября 1942 Ташкент
Дорогой Боричка!
Вчера пошла слушать Толстого, чтобы спросить там у Чуковского о тебе. Возвращалась с Надеждой Алексеевной Пешковой и говорю ей: “Если Борис Леонидович останется в Москве, ему всего удобнее было бы поселиться в моей квартире с моей бывшей работницей”.
Прихожу домой, от тебя из Чистополя от 16-го письмо с фотографиями (очень хорошие) и тоже фраза о том, где тебе жить. Письмо хорошее.
Ночью проснулась на мокрой подушке, из глаз сами собой лились слезы, не от горя, нет, какие-то теплые, радостные. Я годами привыкаю о тебе поменьше думать. И сегодня ночью я как-то ясно поняла, что очень хорошо удается выработать отношение к человеку, когда этот человек находится на одном месте, в одном состоянии. Но вот он переезжает, возникает опять острое представление и рывком тебя бросает к нему, ты следишь, ты все время видишь.
Я могла бы в эту бессонную ночь написать тебе много горячих слов о своей преданности и о том, как близки и дороги мне твое состояние, твоя судьба и жизнь. А на таком далеком расстоянии, с мыслью, что, может, мы никогда не увидимся, это не стыдно и тебя ни к чему не обязывает.
Я не буду продолжать это письмо.
Крепко тебя целую.
Женя.
Узнав, что папа в Москве, мама захотела узнать у Чуковского подробности. Алексей Толстой изредка устраивал в Ташкенте вечера чтения, на один из которых и пошла мама. Возможно, что это было чтение пьесы про Ивана Грозного, оправдывавшей в нем жестокость и сатанизм. Свой разговор с папочкой об этом чтении записал потом Миша Левин. На большом сборном благотворительном концерте в пользу раненых как-то был я, Толстой читал там свою повесть “Ибикус”. Это было удивительное зрелище – писатель не скрывал своего презрения к публике и обнажал в чтении беспринципность и откровенное лицемерие. Он читал о бегстве белой армии, собравшейся в Константинополе в 1919 году, и, поглядывая в зал, насмешливо наблюдал его реакцию. На вечере собрались сливки ташкентского общества, дамы сверкали драгоценностями и мехами, что явно соотносилось с едко написанными карикатурами героев повести Толстого.
В последнее папино письмо из Чистополя (московские тогда еще не пришли) были вложены несколько прекрасных фотографий, сделанных Валерием Дмитриевичем Авдеевым. Вероятно, именно они, вместе с грустными словами отца о разочаровании в товарищах, от которых в прошлом году он многого ждал, и пробужденное рассказом Чуковского воображение вызвали у мамы внезапный взрыв всегда сдерживаемой ею нежности к нему.
4. X.42. <Москва>
Дорогие мои Женюра и Женёк!
Наезжают Гусевы[340], Ивановы и другие. Я вижу, как все вас любят, потому что с такой охотой берут и исполняют ваши порученья. Тамара Владимировна передала мне оба твои письма, какие они хорошие! Никаких дел и просьб, одна душа. Дело не в лени и нежелании позаботиться для близких, а в никчемности и неисполнимости большинства нынешних просьб. Последнее время я каждое утро, просыпаясь, чувствую себя преступником то перед Ленькой и Зиной, то перед вами обоими, по ускользающей, не поддающейся уясненью причине; отчасти оттого, что до сих пор не составил в один угол у тебя и у нас твоих вещей и остатков Лаврушинской рухляди, отчасти же потому, что застревая в Москве, проживаюсь и делаю свое существование, выгодное до последних дней, убыточным и не окупающимся в дальнейшем для них и для вас.
Мне давно пора назад. Я соскучился по работе в Чистополе и по своим. Я начал лечить зубы, может быть закажу новый протез, и после октябрьских праздненств хочу двигаться. Мне здесь незачем сидеть. Москва производит мертвенное и бесплодное впечатленье. Лишенья в ней чувствуются не так остро, как в других городах. Она кормится лучше их, но вот и вся ее особенность. Разумеется, эта спокойная внешность временна и обманчива. Я тут работать не смогу. Как я уже сказал, надо торопиться в Чистополь, и у меня угрызенья совести, что я еще тут.
Наверное перед отъездом я еще переведу тебе тысячу-другую. Я был вчера у Макаровой. Очень милые, благородные работы, очень сильного сходства с ней я на портрете не установил, но его еще меньше бывает в работах П<етра> П<етровича>. Кстати, на полу в твоей квартире, среди валявшихся книг и писем я подобрал французскую рекомендацию Кончаловского. Ей 20 лет. Курьеза ради пересылаю ее тебе[341]. На портретах, которые я смотрел у М<акаровой>, обычный у тебя отпечаток робости и неопределенности. Но в этом нет ощущения беспомощности или слабосилья. Это скорей даже достоинства, этой тихой бледной гаммы не приходится стыдиться. И потом в ней много твоего, прирожденного. Значит, это живого, не случайного происхожденья.
Мне очень польстило, что Женёчку нравятся мои письма. Но удовлетворительно можно писать только из Чистопольской тиши, и, – если богу будет угодно, я снова оттуда исправлю впечатление от моих торопливых московских строчек.
Чуковский, Ивановы и другие не скажут тебе обо мне ничего утешительного. Тамара Владимировна находит меня изменившимся. Во-первых, у меня нет того досуга и благодушия, как прежде. Я здесь по делам, а не для обмена улыбками. Потом, – пусть я смешон и все это для меня плохо кончится – я не понимаю время и товарищей, а все-таки этот холуйский, льстивый, лживый и лишенный достоинства тон создан и поддерживается ими всеми, а они могли бы этого не делать, как бы властно его ни требовали со стороны.
Когда я уеду, я опекуншей твоей квартиры назначу Нюню, с помощницей Петровной, испрошу на нее броню и ключ сдам ей. Квартплата внесена по ноябрь месяц.
Крепко Женёчка и тебя целую. В данные дни, отсюда, я вам пишу не из прямых побуждений, а из томительного чувства того, что не писать будет плохо. Для того же, чтобы сосредоточиться и заметить и остановить чувства, выражающиеся в письме, у меня нет ни места, ни свободной минуты среди этой спешки.
Будьте же уверены в моей неослабевающей любви к вам. Я всегда с вами. Отсюда телеграфировал и писал открытки оксфордцам о вас и нас всех[342].
Всего лучшего, крепко вас целую, мой Женёк и Женина мама.
В Ташкенте мама много работала. Она написала портрет жены известного тогда поэта и драматурга Виктора Гусева, семья которого жила в том же доме, что и мы. Маме также позировала знаменитая киноактриса Тамара Макарова. Два своих портрета она привезла в Москву и, видимо, мама сообщила об этом отцу.
Папино тяжелое настроение, сказавшееся в этом письме, объяснялось в первую очередь его неудачей с пьесой, которую он увлеченно писал летом и намеревался продолжать в Москве. Он болезненно воспринимал сохраняющийся “идиотский трафарет в литературе, печати, цензуре”, ему казалось, что реальная опасность войны должна была совершенно переродить людей, и он ждал общего нравственного обновления. Это главным образом относилось к людям его круга, людям с именами, которые должны были бы понять историческую суть совершающихся событий и свободно и ярко на них откликнуться. Отец понимал, что в новых условиях необходимо проявление самостоятельности и освобождение от идеологической скованности, угодничества и власти “мертвой буквы”. “Мы гибнем от собственной готовности”, – повторял он тогда, как вспоминала Тамара Владимировна Иванова.
За время своего пребывания в Москве папа написал статью “О Шекспире”, где есть слова о том, что “многочисленные испытания учат ценить голос фактов, действительное познание” жизни, противопоставляя “нешуточное искусство” шекспировского реализма безотрадной малосодержательности современной печати. Статья подверглась в газете цензурным сокращениям и вышла под названием “Мои Шекспировские переводы”. Он составил и отдал в издательство сборник стихов 1936–1941 годов. Пришлось выкинуть из цикла “Летних записок” стихи, посвященные Паоло Яшвили и Тициану Табидзе, но в противовес этому он сам исключил вторую половину стихотворения “Художник”, где речь шла о Сталине.
На общую угнетенность духа тяжелым камнем давила гибель отцовских работ в Переделкине и Лаврушинском. Кроме того, он был в полной неизвестности относительно жизни и здоровья отца и сестер в Оксфорде. Из Москвы ему удалось обменяться с ними телеграммами, которые его несколько успокоили.
12. XII.42. <Москва>
Дорогая Женичка!
Я все время собирался тебе написать. Вчера Валентин Ферд<инандович> отвез Ирину Сергеевну в Болшевский дом отдыха на 2 недели и сам пробудет там 2 дня. Мы остались одни с Машенькой. Сегодня утром она мне подала твою телеграмму. Я страшно тронут твоими заботами о моих делах и крепко тебя за это целую. Мне кажется, я смогу отправить тебе экземпляр по почте, если же не удастся, то они смогут достать текст через Отдел распространенья Комитета по делам Искусств, где его кажется должны размножить на стеклографе.
Все делается страшно медленно: этот перевод был сделан и отослан в Москву в марте месяце, и до сих пор тянутся дела и разговоры по его поводу. Пока практически он мне ничего, кроме части гонорара за предполагаемое изданье в Гослитиздате, не дал.
Ты видишь, я все еще тут. За твою квартиру я заплатил до конца года. Тебе придется возобновить платеж с января 1943-го. Хотя все существенное у тебя разворовали, твои окна и стены целы, вместе с мебелью и частью вещей и книг. Твоя квартира не стала продолженьем или частью двора, как у нас, на дверях висит замок, на квартиру наложена броня, за ней будет следить Нюня.
Но я не знаю, писал ли я тебе и писал ли достаточно об ударе, постигшем меня в лице папиных вещей. Сундук сгорел в Переделкине. Его перетащили с нашей дачи на Ивановскую, где он и сгорел. Судьбу квартиры в Лаврушинском и ее содержимого, решило несколько обстоятельств: то что она под самой крышей, и, при бездействующем лифте слишком высоко; что во время воздушных тревог она становилась как бы штабом охраны; что она год оставалась без надзора; что в ее нижней части поселились зенитчики. Часть мебели в 8-м этаже заперли в комнатке Адика и опечатали. Верх был отперт настежь, когда я туда пришел в первый раз в октябре. Вперемежку с битым стеклом и грязью, на полу валялись затоптанные обрывки папиных рисунков. Кому-то очевидно понадобился твой старый сундучок, в котором сохранялись его записные книжки, и их переложили в другую, до половины набитую ими корзину. Большую часть их я спас и отнес вниз к Евг<ению> Льв<овичу> Ланну. Половина картин еще висела на стенах. Я запер квартиру на два поворота ключа и уже сам не мог отпереть ее в следующую минуту. Это мне показалось гарантией того, что в нее не будут больше лазить. Но когда неделю тому назад я пошел туда, чтобы запереть ее перед отъездом, уже из картин там оставалось только три, а папка с картонами стояла пустая. По некоторым признакам я установил, что работами в паспарту и без них, поворачивая их лицевой стороной на улицу, заделывали пробоины в доме и рядом, за отсутствием стекла и недостатком фанеры. Подумай какой ужас, и измерь степень моего потрясенья. Ты представляешь себе, как мне ненавистен Лаврушинский, и как меня воротит, когда туда надо за чем-нибудь ходить. Зина мне телеграфирует, чтобы я привез фотографии Адика, которому на днях отнимают ногу, и я колеблюсь, распечатывать ли комнату в 8-м этаже, так мне страшно, что всякое прикосновенье к этому гнезду есть толчок к дальнейшему его уничтоженью.
Когда месяц тому назад я собрался назад в Чистополь, Ирина Сергеевна сказала, что по ее мненью мне перед возвращеньем следовало бы съездить на фронт, и я с ней согласился. Я сказал Фадееву, а потом в редакцию “Красной Звезды”, что если мне это могут сделать быстро и удобно, так чтобы мне в декабре попасть в Чистополь, я поеду. Это тянулось около месяца. Позавчера 10-го мне позвонили из редакции, чтобы я приехал за полушубком и валенками. Хотя Асмусы находили, что до весны не стоит откладывать, и все еще лучше воспользоваться подвернувшеюся возможностью посмотреть войну, я слишком соскучился по семье и работе, и сказал, что прошу сохранить доверие ко мне до весны и нового моего появленья в Москве.
Я наверное соберусь в Чистополь на будущей неделе. Они там живут в потемках и впроголодь (расспроси Зинаиду Владимировну[343], а против прошлой зимы нынешняя еще хуже). При ужасе этого существованья – детская елка это луч света для этих маленьких бедняг. На новый год Лёнино рожденье. Наконец – все это время я тут ничего ценного не произвожу. Время идет, а из Антония я не перевел еще ни строчки. Поверишь ли, ни Переделкино, ни Лаврушинский не кажутся мне домами, и этой прелестью “своего” угла обладает Чистополь, эта страшная дыра, всех напугавшая. Вот что значит перезимовать производительно и с нравственным удовлетвореньем. Я уверен, что теми же свойствами будет обладать Ташкент для вас. Чем-нибудь вы ему да будете наверное благодарны. Такие же черты живого наполненья содержит твоя сегодняшняя телеграмма: ты, театр Революции, Ромео, Ташкент. Еще раз крепко целую тебя за нее. Отчего Женя не снимется и не пошлет карточки Лёне? Это была бы для него такая радость! А Женёчка все хвалят и вообще и в отношении внешности в военном. Как бы я его хотел видеть! С трудом и большими затратами тебе удастся восстановить московское жилье, но что буду делать я, уму непостижимо! Жизнь придется начинать с самого начала, и откуда я возьму для этого сил и средств!
14. XII.
Сегодня узнал, что экземпляр, который я хотел послать тебе по почте, увез Охлопков в Омск. Если мне успеют переписать за неделю новый, я вышлю его тебе. Мне очень хочется, чтобы это шло через тебя. Между прочим, первые сцены я кажется переводил в те дни, когда Женя гостил у меня на даче в конце зимы.
Если смогу, я переведу тебе 1 тыс. перед отъездом из Москвы, если нет, сделаю это в первых числах января.
Крепко тебя и Женичку целую. Мне много рассказывают о вас и всегда очень хвалят. Тороплюсь. Сегодня у меня в Клубе Писателей вечер, а завтра утром чтенье Ромео и Джульетты в Малом Театре. Письмо передам Тамаре Влад<имировне> на вечере. Пишите в Чистополь. Как-нибудь бог даст, переживем это трудное время, а там что бог даст. Главное работа.
Ваш Боря и папа
Еще в Чистополе папа узнал, что в Переделкине сгорела дача Ивановых, погибла библиотека Павленко, и представлял себе ужас того, что стало с работами дедушки. Квартира в Лаврушинском переулке была занята зенитчиками и в ней жить было нельзя. Сначала он остановился у дяди Шуры на Гоголевском бульваре, но там было очень трудно в бытовом отношении. У Шуры и так жили мать Ирины Николаевны и ее сестра Маргарита, которую высылали в Сибирь за немецкое происхождение. Его пребывание в Москве затягивалось по разным причинам. Асмусы предложили переселиться к ним на Зубовский бульвар. Дочка Ирины Сергеевны Машенька в то время училась уже в университете. Папа ждал ответа на свою просьбу о поездке на фронт – после картины московской безотрадности он хотел воочию увидеть реальность войны.
В начале письма идет речь о маминой телеграмме, в которой она сообщала отцу, что его переводом “Ромео и Джульетты” заинтересовался Театр Революции и хочет получить текст трагедии. К сожалению, спектакль не был поставлен так же, как и в Малом театре, где папа читал пьесу и где она была принята к постановке.
22 декабря 1942. <Ташкент>
Дорогой Боря!
За письмо, за карточки, за деньги. За все большое спасибо. Если бы ты видел, как Женёк радуется твоим письмам, как он бросается к письму, а потом говорит: “мамочка, а как папа пишет! ты спрячь письмо, это уже не твое личное”. – Ты бы писал почаще.
Я написала Нюне подробное, бытовое письмо, если захочешь прочтешь, твои мозги не хочу всем этим засорять. Могла бы и им этого не писать, потому что как писала тебе в одном прошлогоднем письме, иногда кажется, что вполне можно жить без всего, чему доказательством слава Богу благополучно прожитый год.
На днях ко мне заходила Елена Ефимовна Тагер[344]. Ее поразило, что мое Ташкентское жилье так напоминает Московское, только максимально аскетично, ей казалось впервые в Ташкенте, что она в Москве. Очень ей понравились мои два портрета: Макаровой и героя Половчени[345]. Но восторги выражают всегда такими высокопарными похвалами, что они только смущают. Вероятно, на ташкентском уровне живописи они смотрятся.
Ах Боричка! если бы ты заглянул в Ташкент, а может вызовешь меня недельки на две, я повидала бы всех, устроила в Комитете по Д<елам> И<скусств> кое-какие свои дела, очень мне хочется.
Крепко целую.
Женя.
<23 декабря 1942. Москва>
Поздравляю именинницу горячо целую обоих желаю скорейшей счастливой встречи = Боря=
23. XII.42.
Дорогая Женя!
Вот тебе последнее письмо из Москвы. Послезавтра, кажется, я наконец выезжаю. Я хотел тебе написать и послать письмо с Там<арой> Влад<имировной> и не успел. С нею на твое имя пошла рукопись Ромео и 1000 р. В конце января, надеюсь, тебе переведут две, а может быть, и три тысячи, я распорядился. Прости, что не послал вам ничего, это очень трудно, да и рукопись тяжела и объемиста, и степень любезности Тамары Владимировны меня поразила: я бы на ее месте не взял.
От души поздравляю тебя с днем рожденья. К этому дню я послал тебе телеграмму, не знаю, дошла ли она вовремя. Пиши мне пожалуйста по старому Чистопольскому адресу: ул. Володарского, 75, кв. Сотникова (новые хозяева). Знакомый Ивановых, друг Жени, уверяет, что Женёк собирается со своею академией в Москву, – вот неожиданность! Вообще мой отъезд отсюда несвоевременен и повредит течению моих дел, но мне страшно хочется к Лёньке и работе. У меня здесь было несколько удач, вечер в клубе, чтенье Ромео в Малом театре и еще выступленья, в Малом и в Театральном обществе. На одном из них была Тамара Владимировна. Я уезжаю отсюда полный надежд и наилучших намерений, только дорога чрезвычайно трудна. Пусть из Театра Революции мне напишут, разобрали ли они рукопись. В филармонии я попрошу, чтобы им прислали экземпляр поотчетливей. Пишу второпях. Только что ушли Шура с Ириной и Ритой, прощались. Множество забот относительно карточек, билета, провизии и пр.
Крепко и без конца целую Женька и тебя. Будьте здоровы. Мне кажется, мы скоро увидимся, но даже если дела повернутся плохо, не надо падать духом. Что-то уже увидено, что-то понято, что-то миновало.
Ваш Боря и папа.
В начале декабря из Ташкента в Москву возвращался Миша Левин, и мы просили его передать папочке письма и какие-то сладости вроде вяленой дыни. Целый вечер и часть ночи они проговорили, сидя в просторном кабинете у Асмуса. Миша остался ночевать там, поскольку опоздал к началу комендантского часа. Он вспоминал, с какою жадностью выспрашивал его папа о нашем житье в Ташкенте, о писательской колонии и маминой работе. Мама нарисовала Мишин портрет, который потом пропал, когда его арестовали. Судя по папиному письму (он не запомнил тогда его имени и назвал его знакомым Ивановых и моим другом), Миша сообщил о предполагаемом переезде нашей академии в Москву. Но это произошло только в августе будущего года.
В своем ответном письме к папе я разделял его горе по поводу гибели дедушкиных работ, стараясь утешить тем, что лучшие вещи сохранятся в музеях, в Оксфорде и у Шуры. Я еще не понимал тогда, как прекрасны у дедушки именно этюды, в которых он удивительно умел передавать живое движение натуры, иной раз терявшееся при длительной работе над большой картиной. Я писал о своей учебе в академии, которая давалась мне легко, и высказывал опасения по поводу маминого здоровья: на нем сказывались тяжелый климат и трудная в бытовом плане жизнь. Мне были тогда непонятны папины слова о нашей будущей благодарной памяти Ташкенту, я-то считал, что Ташкент никак не может вызвать нежных чувств ни у меня, ни у мамы, рвался в Москву и огорчался задержкой с переездом академии.
Я писал отцу, как в новогоднюю ночь мы с мамой читали “Ромео и Джульетту”, как полюбили его перевод, но что на постановку его в Театре Революции мало надежд, так как Штраух ушел с поста художественного руководителя, театр собирается переезжать и новых вещей не ставит. “Перевод просила Мария Ивановна Бабанова[346], говоря, что хочет играть твою Джульетту”, – сообщал я отцу и добавлял, что от всех приезжающих и из писем, приходящих из Москвы, мы слышим о большом успехе его авторского вечера в Клубе писателей 14 декабря[347]. Мы с мамой жалели, что не были на нем и не знаем новых стихов.
Наверное, Тамара Владимировна передала нам, как возмущали папу призывы к жестокости и насилию по отношению к немцам в газетных публикациях Эренбурга. Во время войны Эренбург стал небывало популярен, и я долго не понимал страшного воздействия его статей, под влиянием которых разгоралась ненависть наших солдат, особенно в последний период войны, когда начались массовые грабежи и убийства мирных жителей в Германии.
30. I.43. <Чистополь>
Дорогая Женюра!
В Московской сутолоке совершенно невозможно было работать. Зато тут я с первого дня (я уже тут месяц) как сумасшедший принялся за новый заказ. Ты этого не поймешь, потому что это надо оценить технически, но за месяц я вчерне перевел уже половину Антония: чтобы его только переписать по-английски, – задача совершенно механическая и легкая, надо сидеть дни и ночи.
Я имел неосторожность обнадежить тебя из Москвы, что в течение января и февраля тебе переведут тысячи три через Упр<авление> по Охране Авторских прав. Я думал, что в мое отсутствие директор Управления добьется для меня из источников, которые я ему указал, обещанных денег. Но он этого не сделал, чем и нас поставил тут в затруднительное положенье.
Если оно поправится, я переведу тебе отсюда тысячу в начале февраля и еще одну в конце или в начале марта. У меня сейчас денег нет, я не знаю, как все это сложится, и даже при наилучшем исходе, тебе придется на то время, что я не в Москве и прикован работою к Чистополю, почувствовать в деньгах перебой и задержку, потому что почтовые и денежные сношенья отсюда, по медлительности, конечно, не то, что из Москвы.
Это меня пугает, и вот что я придумал. Если из интереса Театра Революции к “Ромео” что-нибудь практически вышло, и они его поставят, – нельзя ли тебе воспользоваться этою статьею доходов, как пользовался бы ею я. Например, – я не знаю их ташкентских видов и сборов, – ты могла бы взять аванс под будущие поспектакльные или попросить, чтобы они ссудили тебя как-нибудь по-другому.
Для этого пересылаю тебе письмо, написанное в этом смысле Максиму Максимовичу Штрауху. Твое дело воспользоваться ли им или нет, в зависимости от их отношения, и того, вышло ли с ними что-нибудь из Ромео или нет.
Мне все кажется, что на днях будет письмо от тебя. Свое же я тороплюсь дописать поскорее: тебе его пошлют из Москвы едущие отсюда сегодня или завтра.
Зина недовольна видом и состояньем детей, но я с ней не согласен. Здоровье Лёни и Стасика, по-моему удовлетворительно, так же как и мое. Но она худеет чудовищно и загадочная беспричинность этой продолжающейся перемены просто пугает. Адику отняли две трети голени и ему сразу стало лучше.
Когда же я вас наконец увижу, а Женёчка хотя бы только на карточке? Если бы моя спешка не была вызвана необходимостью и я не был так поглощен работой, я бы наверное послал много писем Анне Андреевне и обязательно написал бы Чуковским.
Как Ивановы? Выздоровел ли Миша и приехал ли Всеволод Вячеславович? Когда я себя спрашиваю о людях, ближайших в моей жизни помимо непосредственной Асмусовско-Нейгаузовской запряжки, они конечно приходят в голову первыми. Они застали меня в состоянии бездомности, вызванном разрушеньем нашей квартиры и глубокого возмущенья судьбою папиных работ. Мне было обидно и меня стесняло мое невольное отъединенье от товарищей, а Тамара Владимировна думала, что я горжусь своими неудачами и возвожу их в заслугу. В марте или апреле надеюсь повезти готового Антония в Москву, где и вернусь к декабрьским предположеньям, прерванным этою работой.
Крепко тебя и Женю обнимаю и целую. Скоро от меня писем не жди, я опять надолго окунусь в те же занятья.
Ваш папа и Боря
Из Ташкента постепенно уезжали знакомые. Моя учеба в академии отнимала целые дни, к тому же нас часто забирали жить в казарму, устраивая карантин. Летом мы опять выехали в Чирчикские лагеря. В этот раз они были уже легче для меня, не было той тяжелой подавленности, которую я пережил там предыдущим летом. К этому времени сложились мои отношения с товарищами по курсу. Мне легко давались науки, и я мог помогать другим и объяснять им трудные вопросы теории. В свою очередь, они облегчали мне непривычные для меня трудности военного обихода и сглаживали отношения с начальством. Я получал повышенную стипендию, что давало возможность нам с мамой сводить концы с концами.
9. VI.43. <Чистополь>
Дорогие мои!
Надеюсь из Москвы, куда я скоро собираюсь, я вам буду опять писать и верну былую возможность вас изредка поддерживать. Но не знаю, не знаю.
Простите меня, пожалуйста, что вам так скверно и, по всей вероятности, трудно. Это та же просьба о прощении, которая обращена также и к Зине, к Лёничке, к папе (в идее) и ко всем близким вокруг меня.
Пропасть между мною и временем, как оно выходит из рук власть имущих и моих богатых товарищей – слишком велика. Мне понравилось, что Женя спорил со мною в письме, что он любит Ил<ью> Гр<игорьевича>, что у него самостоятельное мненье. И вы не огорчайтесь, что у нас это расхожденье. Во взглядах на современную действительность и современных литераторов между мною и Зиной то же несогласье. Между близкими у меня на эту тему нет единомышленников, да их и не надо. Не напоминайте мне, что у нас война: именно она-то и требует коренных перемен, практических и идеальных, для успешного веденья ее и окончанья.
Всю зиму я работал как каторжный. Я перевел Антония и Клеопатру так гладко и просто, что получилось даже скучно. Я не шутя, боюсь, что предельная облегченность восприятия сводит на нет все произведенье и будет его судьбою.
Год сложился не так, как я думал, уезжая из Москвы. Мне там надавали обещаний, половина которых осталась неисполненной. Начиная с марта я жил трудно и отвратительно.
Сейчас часть колонии вывозят из Чистополя на пароходе прямого сообщенья до самой Москвы. На нем поеду я со Стасиком, и может быть, и Зина с Лёничкой, для вывоза которых пока нет денег. Это решится завтра-послезавтра в результате телеграфного запроса о ссуде, посланного Храпченке[348]. Унизительно вечно жить благодеяньями начальства, когда я здоров, полон сил и желания работать и в своей области знаток первостатейный. Если бы выходили книги, если бы можно было писать о действительности то, что о ней думаешь и как ее видишь, ссуды бы выдавал я из своего кармана.
Зина тут доработалась до чахотки. Она (также, как и Лёничка) долго болела бронхиопневмонией, то есть полубронхитом, полувоспалением. Мне ее советовали послать на рентген, у врача были подозренья насчет туберкулеза легких. По счастью очага у ней не нашли, как утешительным оказался и осмотр Лёни, но оба они – легочно подозрительной породы.
Неописуемым униженьем был мой и ее разговор по поводу возможности или желательности ее возвращенья в Москву с этой партией едущих. Он происходил с приехавшим из Москвы новым директором Литфонда, Хесиным[349], к которому она просилась на службу, в какой-нибудь из дет. домов или садов Литфонда в Москве, единственное условье, при котором представляется мыслимым прокормиться ей и Лёничке. Дожил я, можно сказать, и доработался, что о возможностях жизни для себя и сына моя жена в моем присутствии должна говорить с посторонним, как о вопросе, требующем обсужденья, и ждать ответа, неизбежно отрицательного, потому что содержать такие учрежденья еще труднее, чем просуществовать отдельным людям, и таких детсадов в Москве сейчас нет. Зина колеблется и готова была бы примириться с третьею зимою тут в Чистополе, сравнительною обеспеченностью, своею и Лёничкиной, при дет. доме, но я, думаю, склоню ее к поездке в случае полученья ссуды, в которой, думаю, мне не откажут, потому что без нее разрушенье всех почв и пристанищ будет продолжаться дальше, а пора начинать становиться всем нам на ноги.
Опять происходили покушенья на твою квартиру, сравнительно с нашей меньше пострадавшую. Я это знаю от некоего Б. А. Вадецкого[350], писателя, ее отстоявшего. Возможно, что если я со Стасиком поедем одни, мы у тебя поселимся вместе с Петровной, но я бы хотел убедить Зину (хотя она наверное сочтет это неудобным и никогда не согласится), чтобы на первое время, до твоего приезда и налаженья Переделкина или чего-нибудь в Лаврушинском (взамен нашего верхотурья) поселились у тебя мы все, даже в случае ее переезда.
Ты помнишь, я хотел в прошлом году покуситься на вашу квартиру, – я знаю, что тебе это было бы только приятно, – и у меня на это вселенье не хватило ни энергии, ни времени, ни решимости (на пороге зимы). Так что если теперь, наоборот, по тебе пробежит волна недовольства по поводу этого жилищного предположенья, ты помни, что это одна только Чистопольская фантазия, еще даже и не предложенная Зине, и в Москве, даже если бы она этой идеи не отвергла, все может измениться, так что не спеши огорчаться.
Кажется я ни разу не писал вам в этом году из Чистополя. Так безысходно было, понимаешь ли ты, так условно я все время существовал, надеясь на перемены к лучшему и их ожидая, в расчете тогда и написать.
Крепко целую вас обоих. Пиши в Москву по Шуриному адресу Гоголевский 8 кв. 52.
Не сердитесь и не огорчайтесь. Не думайте, что я холоден и забывчив: трудно, непосильно трудно, но я собираюсь бороться и полон надежд.
Всего, всего лучшего. Пишите в Москву.
Боюсь, что свое январское письмо папе я написал слишком жестко и по-мальчишески нахально, отстаивая от его гнева Эренбурга и упрекая его в отрыве от действительности. За тот год, что я учился в академии, совершенно переменились наши отношения с мамой, я неожиданно для себя стал ей реальной опорой и кормильцем. Кроме того, вероятно, сильно сказывалась на мне идеологическая атмосфера военной академии, и я мог позволить себе с позиций знатока уверять папу, что статьи Эренбурга оказывают то воздействие, какое сейчас требуется, и являются “одним из ценных видов оружья”, не сознавая глубокой человеческой боли, с какой воспринимал отец публицистические призывы к жестокости и мщенью. Правда, чувствуя, что меня заносит, я просил у него прощения за написанные глупости, оправдывая себя новыми условиями, в которых теперь нахожусь.
Я уже писал раньше, что папа никогда не хотел навязывать мне своих взглядов и не любил теоретизировать на подобные темы. Но теперь в его письме этот мотив окрашен грустью потерянного взаимопонимания и бесполезности разговоров. Удивительно четко выражено его расхождение с “богатыми товарищами” во взглядах на современность.
В ответ на мои ссылки на военное положение, якобы требующее всеобщего подчинения единой воле, папа разрушал трафаретный ход мысли словами о том, что именно для успешного окончания войны в обществе необходимы коренные перемены. Эти мысли вскоре получили развитие в его очерке “Поездка в армию”, опубликованном в газете в искореженном и урезанном виде.
Папа сумел уговорить чиновников из Литфонда, и они со Стасиком, Зинаидой Николаевной и Лёнечкой уехали из Чистополя все вместе на пароходе “Михаил Шолохов” 25 июня 1943 года. Но в Москве им пришлось разделиться на три части. Зинаида Николаевна с Лёнечкой жили то у Погодиных, то у Треневых, папа – то у Шуры, то у Асмусов, Стасик – у Генриха Густавовича, вернувшегося домой.
1 июля 1943. <Ташкент>
Боря!
Женёк тебе написал, я же собираюсь послать тебе письмо с Александром Борисовичем Раскиным, который собирается на днях в Москву и может опередить Зигу Шмидта[351].
К письму Женички хочу только прибавить насчет пропуска. Я рассчитывала, что Женёк захватит меня с собою как маму, теперь это отпадает. В Москву в моск<овский> союз советских художников я писала и просила меня вызвать, об этом же просила похлопотать Неймана, врем<енного> пред<седателя> Ташкентского союза худ<ожников>, который ездил в Москву.
Но все это может оказаться недостаточным, потому что художников возвращают мало. Напишу еще Валентине Михайловне Ходасевич[352], она месяца два как уехала из Ташкента в Москву и попрошу ее связаться с тобой и сообща ускорить добывание пропуска. Ее адрес ул. Воровского, Борисоглебский пер., 12, кв. 23. Я не знаю, вызывает ли МОССХ (Ермолаевский 17) или оргкомитет Союза художников (Кузнецкий мост 22) или Комитет по делам Искусств, но зная, как в нашей среде тебя уважают и любят, уверена, что твое вмешательство и твоя просьба подействуют.
Я думаю, что лишнее тебе писать, что в Ташкенте оставаться дальше не могу. Что даже затягивать мое пребывание здесь нельзя. Но во-первых, если будет на руках у меня в августе пропуск, меня присоединят к Жениному эшелону и мне дорога и еда в дороге будет мало стоить (ведь 8 дней пути), во-вторых, если я не вернусь вовремя, то не успею наладить до холодов свой дом. Последние месяцы Женьку разрешили жить дома, надеюсь, и в Москве так будет. Может быть, тебе проще будет прислать мне пропуск через Союз сов. писателей, потому что все семьи уже уехали в Москву, и не только все жены и дети, но вообще все свойственники и родственники, работницы, двоюродные сестры, жены, матери детей и т. д.
Крепко тебя целую. Всего хорошего. Пиши.
Женя.
Как ты помнишь, эвакуировал меня Союз писателей.
В своем письме к отцу, написанном одновременно с маминым, я вспоминал его прошлогоднюю открытку с одобрением по поводу того, что я “пристал к военному берегу”. Теперь меня вполне устраивало мое положение. На днях начиналась экзаменационная сессия, весной я получил чин техника-лейтенанта. К следующему семестру мы должны были переехать в Москву.
Со свойственным мне фанфаронством я пытался утешить папочку в его огорчениях и невзгодах, которые, как мне казалось, должны были развеяться прахом по приезде в Москву.
Мне кажется, – писал я ему, – что под влиянием ожидаемого переезда, твое положение рисовалось тебе в красках, к тебе не относящихся. Мы с мамой с самого начала войны придерживаемся во всех вопросах материальной жизни стихотворения Тютчева, которое привожу:
Не рассуждай, не хлопочи! Безумство ищет, глупость судит; Дневные раны сном лечи, А завтра быть тому, что будет. Живя умей все пережить: Печаль и радость и тревогу. Чего желать, о чем тужить? День пережит – и слава Богу!Думаю, что лучшего совета в минуту жизни трудную никто придумать не в состоянии.
Мама уже давно рвалась в Москву, но не хотела меня оставлять одного в Ташкенте. Теперь, когда выяснилось, что академия переезжает в августе, ей срочно стал нужен пропуск, без которого нельзя было попасть в Москву. Но все оказалось гораздо проще, потому что семьям слушателей позволили ехать вместе с ними.
Мы были в Москве в последних числах августа.
Тем, у кого была такая возможность, разрешили жить дома. Я уходил к восьми утра и возвращался к вечеру. Мамочка с Еленой Петровной привели нашу квартиру в жилое состояние. В большой комнате нам выложили печку из розового кирпича с плитой, железные трубы от нее провели под потолком через маленькую комнату, коридор и кухню. Часть наших вещей нам вернули из домоуправления, куда комендант перенес мой письменный стол и остававшиеся у меня от папы старую чернильницу и пресс-папье. У стола не хватало ящика, у чернильницы – тяжелой медной крышки. Сохранилась часть книг. Какая-то старушка отдала маме за небольшие деньги глубокое кожаное кресло, которое мы обили, вывернув кожу светлой необработанной стороной вверх. Дедушкины и мамочкины художественные работы уцелели, некоторые из них – как натюрморт с хризантемами и другие – потом мы отдали папочке.
Он зашел к нам сразу после своей поездки на фронт, еще в военной форме без знаков различия и в солдатских кирзовых сапогах, счастливый и взволнованный виденным. Вероятно, машина привезла их всех к нам во двор, или в редакцию “Красной звезды”, которая находилась недалеко от нас. Когда я вернулся домой, папочка сидел за столом и рассказывал, мама кормила его обедом.
Зрелище разрушенных городов и деревень вызывало в нем открытую горечь, он четко понимал, что подлинное восстановление России невозможно без изменения политической системы, чего ни за что не допустят и – наоборот, готовы пожертвовать всем на свете для ее сохранения. Отец спорил по этому поводу в поездке со Всеволодом Ивановым и Фединым, которые с ним не соглашались. Он восхищался людьми, с которыми встречался на фронте, и видел, что они были готовы к любой работе, чтобы восстановить разрушенную жизнь, но боялся, что им этого не дадут сделать. У него были дневниковые записи, он намеревался написать поэму. Потом она получила название “Зарево”. Работа над ней оборвалась после отказа в “Правде” печатать первую главу, начинавшуюся такими словами:
В искатели благополучия Писатель в старину не метил. Его герой болел падучею, Горел и был страданьем светел. Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б, с позволенья вашего, И мы, как Хемингуэй и Пристли.Особой гордостью было для папы то, что из всей писательской бригады именно ему военное командование поручило написать воззвание к бойцам 3-й армии. В нескольких словах он сумел выразить свою веру в их чудотворную силу и способность покончить с войной, восстановить и возвратить к жизни разрушенные области.
Мне запомнился также папин рассказ, как он, сидя в танке, ясно почувствовал, что ограниченность поля зрения через смотровые щели делает человека смелым и решительным – он видит только то, к чему стремится. Отец сравнивал это со смелостью рыцарей, вынужденных смотреть сквозь забрало. Так же, сквозь щели видят войну многие пишущие о ней, его привлекало желание написать о войне, привлекая все попутно возникающие мысли и сопоставления, не поддаваясь общераспространенной узости логических извлечений.
С этого времени стала отчетливо ощущаться близость окончания войны.
По сравнению с Ташкентом, в Москве было сравнительно сытно. Мне стали выдавать большой офицерский паек.
Глава VI (1945–1954) Моя армия
Удивительно выглядела Москва. Деревья на бульварах были частью вырублены, деревянные заборы пошли на топливо, так что весь город стал одним большим проходным двором. К разрушенным домам быстро привыкали и переставали замечать. Так же привычна была темнота вечерних улиц и затененные окна с белыми крестами газетной бумаги поверх стекла. От остававшихся в Москве девочек нашего класса я узнавал о тех, кто погиб на войне. Казалось, это были самые смелые и светлые. Некоторые вернулись домой тяжело раненные.
Несколько раз я встречал в нашем дворе Мура Эфрона, который учился в Литинституте. Как-то он радостно сообщил мне, что получил повестку на призыв. Мне стало страшно за него. Он по-прежнему был крайне эгоцентричен и требователен, что в армии было прямой опасностью. Между тем он стремился на фронт и хотел проявить свое мужество и храбрость. Мы шли с ним вместе к Страстному, я торопился на занятия и на ходу говорил ему что-то о том, что в армии надо быть внимательным к окружающим обстоятельствам и людям. Я это успел хорошо понять на собственном нелегком опыте.
Дом в Староконюшенном, где жили Поливановы, был разрушен бомбой, они теперь теснились в общежитии МЭИ недалеко от моей академии. Мама начала работать в мастерской вместе с Робертом Рафаиловичем Фальком в доме Нирнзее. Ближе всех нам была по-прежнему Сарра Дмитриевна Лебедева. Ее сестра Анна Радлова с мужем после возвращения из Парижа, куда они попали вместе с отступавшими немцами, находилась в лагере под Ярославлем. Саррушка регулярно собирала ей посылки. Помню, как я по ее просьбе купил у букиниста томик Ронсара для Анны Дмитриевны, как провожал их с мамой на поезд, когда они ехали в лагерь хоронить скончавшуюся. На мои беспомощные слова, которыми я хотел ее утешить, Сарра Дмитриевна отрезала: “Мне теперь не до при дыханий”.
Мы часто бывали с мамой у Эренбургов. Он ездил в действующую армию, где ему в качестве подарка выдавали новое обмундирование. Как-то мне перепала прекрасная шинель с его плеча.
Зимой на каникулы я поехал на пустовавшую дачу в Переделкине, писал там свои курсовые работы. Лишь только я появился в доме, туда, виляя хвостом, прибежал счастливый Мишка, который перебирался к Треневым, когда дом пустовал, и все уезжали в Москву. Он устроился под крыльцом, и я приносил ему поесть из Дома творчества, куда ходил обедать. Жарко натопив нижнюю комнату и нагрев у печки одеяла и простыни, уже в вечер приезда можно было забраться в постель.
В щели одной из стен около лестницы на второй этаж была засунута, чтобы не дуло, сложенная пополам тетрадь с черновиками довоенного романа и чистопольскими конспектами книги Гюго о Шекспире. Я ее вытащил и увез с собой, думая почитать на досуге.
Заборы были сожжены, и в нескольких шагах от папиного дома был фундамент сгоревшей дачи Ивановых. Пока она отстраивалась, они жили на втором этаже огромного дома Сельвинских. Дом творчества находился тогда в лесу около пруда и только через несколько лет переехал на свое теперешнее место в деревянную дачу. В столовую приходил Я. Э. Голосовкер[353] и читал нам свою поэму “Джордано Бруно”. Он жил на даче у Кассилей, а мама в тот год писала их портреты: Льва Абрамовича, Елены Ильиничны[354] и их сына Димы.
Основной папин архив сгорел, но при разборке отвоеванной у зенитчиков квартиры в Лаврушинском он обнаружил какие-то сохранившиеся бумаги. Может быть, их ему принесла Ольга Николаевна Сетницкая[355], которая по его просьбе прошлой зимой заходила в квартиру и увезла с собой валявшиеся на полу письма и рукописи. Она запомнила, что среди них были, в частности, папины письма к Зинаиде Николаевне.
Разбирая и уничтожая лишнее, папа большую связку бумаг принес к нам на Тверской бульвар на сожжение. Он оставил сверток, попросив меня употребить бумаги на растопку печки. Там были машинопись и черновики военных стихов, старые письма к нему разных людей, в том числе Нади Синяковой и Елены Виноград, большие листы старой рукописи его перевода Ганса Сакса и черновик неизвестной мне тогда вещи под названием “История одной контроктавы”, написанный черными чернилами на хорошей бумаге большого формата с тисненым клеймом. У меня руки не поднялись отправить их в печку. Узнав, что я не смог их сжечь, папа более никогда не давал мне подобных поручений. Бумаги остались у меня.
Я много и с удовольствием занимался в академии, ездил на стажировки на уральские танкостроительные заводы, в военные лагеря под Солнечногорском. Весной 1945 года меня, замученного фурункулезом и анемией, вместе с десятком слушателей нашего курса на месяц послали налаживать новый Дом отдыха академии в Алуште. Раньше в этом здании находился санаторий, занятый во время войны под госпиталь. Кроме нас там в это время жили преподаватели спортивных кафедр.
Тогда я проехал через разоренную войной южную Россию, только недавно освобожденную нашими войсками. Поезда были переполнены и доверху набиты возвращавшимися домой и занятыми хозяйственными планами людьми. Конец войны пробуждал в них надежды и энергию.
В Крыму было пусто. Коренное татарское население было вывезено и частично уничтожено. Лишь кое-где остались жившие там русские и украинцы. Одичавший Крым весной был сказочно красив. Цвели поляны подснежников. Из развалин домов и воронок от снарядов выскакивали зайцы. Мы отсыпались, лопали санаторный паек и понемногу вовлекались в утренние тренировочные разминки спортсменов. Начальник санатория нас побаивался, не зная, чего от нас ждать, – он был вороват.
Я отпросился и на три дня съездил в Коктебель с машиной, которую посылали туда за какими-то запасами старого Дома отдыха. Несколько нажав, я добился того, чтобы мне выдали недельный сухой паек. Этого оказалось достаточно много, там была даже баночка сгущеного лимонного сока. Сунув все это в мешок, я взгромоздился в кузов грузовика на какую-то кладь из пустых мешков и бочек. Было довольно холодно, особенно в горах. Ехали с остановками в Симферополе, Карасу-Базаре и Старом Крыму.
В Коктебель приехали затемно, и я едва слез с машины, так замерз на ветру в Голубых горах. Слегка отогревшись в сторожке, оставшейся от Дома отдыха, пошел к дому Волошина, обходя при лунном свете проволочные заграждения и ямы от снарядов. Из занавешенного окошка на втором этаже светилась полоска желтого света. Я поднялся по лестнице и постучал. Когда я назвался, послышался радостный вскрик. В столовой у печки сидели Мария Степановна[356] и Анчута (Анна Александровна Кораго[357]), сильно исхудавшие и высохшие. Расспросам не было конца. В свою очередь, мне было рассказано о гибели нашего десанта, высылке болгар и греков, в том числе участников партизанского движения.
Мне постелили в столовой. Утром, выйдя на балкон, я увидел проволочные заграждения, тянувшиеся вдоль моря, развалины на месте бывших приморских вилл и вырубленные сады. К ужасу и радости Маруси, я выволок из-под водопроводного крана во дворе неразряженную противотанковую мину и немного прошелся вдоль моря. День был холодный и ветреный, временами налетал дождь с градом. Потом перемежая рассказы героически отстоявших дом Волошина мужественных и немолодых уже женщин чтением французских журналов начала века, я рассматривал сохранившуюся в неприкосновенности мастерскую Макса, голову Тайах, которую уже откопали из тайника, стеллажи книг, картины.
Мой паек произвел должное впечатление, я недаром его выбивал у начальства. На следующее утро я простился с гостеприимным домом и его плакавшими хозяйками и пошел к машине, звавшей меня частыми сигналами.
Вернувшись в Москву, я подробно описал отцу свою поездку. Это очень взволновало и растрогало его.
В те годы папа часто выступал с чтением в разных залах и клубах. На многих из этих вечеров я был, часто вместе с мамой. Сначала это был университет, потом Дом ученых и большая аудитория Политехнического музея. Отец готовился к выступлениям, тщательно составлял программу, читал наизусть, не заглядывая в книжку. На вечера было невозможно пройти – сидели на лестницах, стояли в проходах и вдоль стен. Мне всегда казалось, что папино чтение – это абсолютно точная передача смысла и звучания написанного, что лучше него прочесть эти вещи невозможно. Его заставляли читать стихотворения, не включенные в программу, и если он забывал строчку, из зала с нескольких мест летели подсказки.
Помню ужас, отразившийся на его лице, когда он начал стихотворение “Победитель” и забыл вторую строку.
“Вы помните еще ту сухость в горле”, – прочел он и остановился, мучительно взывая ко мне взглядом. Но я тоже не мог вспомнить, испуганный паузой. Пришлось начать другое. Я до сих пор вспоминаю этот случай, как единственный раз, когда он просил, а я не мог его выручить. Это было в Колонном зале на коллективном вечере с каким-то дурацким названием вроде “Поэты за мир и народную демократию”.
Как-то на вечере в Доме ученых на вопрос из зала, что лучшее написано о войне, папа твердо сказал: “Василий Теркин” Твардовского. В ответ интеллигентно захихикали. Он сразу рассердился и оборвал: “Я с вами тут не шутки шутить пришел”.
Я тогда много занимался английским. В первые послевоенные годы в нашу академическую библиотеку свободно приходили английские журналы и не только научного и специального характера, но и литературные. Их можно было брать домой. Мы с преподавателем нашей кафедры Евгением Осиповичем Магидовичем переводили статьи по теории гусеничных машин, чтобы напечатать их у нас. Так нам попалась прекрасная работа Юрия Ломоносова, теоретически обосновавшего конструкцию механизма поворота английских танков самого последнего времени. Я рассказал об этом папочке, он живо отозвался на это сообщение и сказал, что это младший Ломоносов, Юрий Юрьевич, сын Раисы Николаевны, которого в семье называли Чубом. Как я узнал потом, он был инженер-майором танковых войск, воевал в Нормандии после открытия второго фронта, а потом занимался конструкцией новых машин.
В то время в Москве появился роман Хемингуэя “По ком звонит колокол”, которым мы все зачитывались. Его издали в “Межкниге” на английском, и несколько дней он был в магазине на Кузнецком мосту. Потом кто-то донес, продажу остановили и уничтожили остававшийся тираж. Но многие уже успели купить и, передавая друг другу, зачитывали книжки до дыр. Я принес книгу папочке, она его очень взволновала, хотя другие вещи Хемингуэя его не трогали. Отец рассказал мне, что был начат перевод этого романа на русский, но Кашкин[358] не довел его до конца, поняв, что не напечатают. Вскоре начались запреты на все иностранное, закрыли англиканскую церковь в Чернышевском переулке, перестала выходить газета “Британский союзник”, где была напечатана статья профессора Лондонского университета Чарлза Ренна об отцовских переводах Шекспира. Издали закон о секретности, и иностранные журналы стали недоступны, точнее, их можно было читать лишь в специальной комнате библиотеки, в спецхране.
После войны папочка часто ходил в Консерваторию. Мы там встречались и коротко разговаривали в антрактах. Он садился один, с левого края партера, вблизи от двери и иногда уходил, не дожидаясь конца. Приходил тоже не обязательно к началу. В перерыве его окружали знакомые, и он громко и приподнято разговаривал, не избегая опасных тем. Точнее, его речь была непривычно выразительна и свободна, без оглядки на слушателей. Около него образовывалось пустое пространство.
Публика шарахалась, когда среди размеренного кругового потока разгуливающих по фойе раздавался голос Пастернака. Не снижая тона, он откровенно высказывался на самые различные темы. Мною овладевало состояние радости и жути, когда я слушал “крамольные” высказывания идущего рядом отца. Так, например, я как-то спросил его о строках “Высокой болезни” (“В столетье раз приходит гений и гнетом мстит за свой уход”): “Неужели никто не возмутился отъявленной антисоветчиной?”
– А они боятся, – объяснил мне папочка. – Ведь подними они шум вокруг этих строк, получилось бы, что это они так их поняли. А раз поняли, значит, такие мысли приходят им в голову… Лучше сделать вид, что не понимаешь, лучше промолчать.
Обычно он ходил по фойе вокруг партера. На площадке лестницы и в нижнем вестибюле, где собирались курящие и их спутники, он, насколько я помню, не задерживался. Там царил Генрих Густавович, окруженный учениками.
Так бывало на концертах, не затрагивавших светско-семейные интересы. На концертах же Нейгауза, Софроницкого или Юдиной, а позже Рихтера и Стасика папа был званым и любимым гостем, и тут он, конечно, был на виду, открыто проявляя участие и интерес. При этом смелость и некоторая доля фрондерства увеличивались. Он блестяще и смело острил, был подчеркнуто любезен, независимо от того, каково у него было на душе.
В связи с этим вспоминается, как мама говорила, что особенно длинные росчерки пера в письмах или подчеркнутое остроумие Бори – признак того, что ему тяжело и не по себе. Так он сопротивляется тоске и преодолевает одинокую горечь.
В те же годы в Лаврушинском у папы появился радиоприемник хорошего качества. Лёнечка умело его настраивал и ловил нужные передачи. Папа регулярно слушал уроки английского языка из Лондона. С бумагой и карандашом он отмечал произношение, записывал незнакомые разговорные обороты и слова.
Была также немецкая серия передач Вагнеровских опер. Помню, что однажды я пришел в Лаврушинский перед тем, как стали передавать “Мейстерзингеров”. Боря сидел прямо перед приемником, как в театре или на концерте, и слушал, ни на что не отвлекаясь. Мы располагались вокруг, зная, что шуметь – не дай Бог. Он слушал живо и напряженно, не пропуская ни фразы. Помнится, что в комнате было холодно, сидели в пальто. В передаче были перерывы с русским объяснением содержания. Папа не отрывался и тут, исполненный внимания и интереса к последовательным моментам передачи.
Может быть, это повлияло в моем случае на излишне серьезное отношение к слушанию музыки в записи и по радио. Я этим донимал моих деток – они не понимали, почему я не даю им разговаривать, если передают музыку. А у меня было еще старое ощущение, что слушать музыку – всепоглощающее занятие, где бы ни было и как – все равно. Я не мог относиться к звуку, как к попутному шуму.
Я долгое время не понимал, что папочка, которому я был всем обязан и который всегда всем помогал, может нуждаться в моих заботах. Он намеренно избавлял своих близких от каких бы то ни было поручений, хотя мне было радостно исполнить любое. Они выпадали на мою долю так редко. В конце войны я иногда получал для него бумагу на складе в Доме Герцена, но чаще он поручал это Крученых, с которым расплачивался своими рукописями.
Конечно, стоило ему позвонить, и я, счастливый, бежал покупать для него что-либо, всегда точно указанное: перья № 510, резинки для карандаша или чернил, блокноты с указанием размера и фабрики – рижские. Но это было спорадически редко и всегда сопровождалось оговорками касательно моей занятости, нежелания меня беспокоить и того, что он легко может попросить еще кого-либо или совсем обойтись без требуемого. А я умолял дать мне это сделать как о величайшем счастьи. Да так оно и было.
Осенью 1945 года я носил по его просьбе письмо в будку, пристроенную к Кутафьей башне Кремля. Это было письмо Сталину. Я стоял и ждал, пока папа заканчивал его, он попросил меня его прочесть. Оно было полно жалоб на то, что театры, желающие поставить его шекспировские переводы, вынуждены отказываться от них, не получая специальных санкций от Комитета по делам искусств. Меня испугало, что тон письма был слишком недовольный и ворчливый, и я ему об этом сказал. Он ответил, что это намеренно – по-другому нечего и писать. “Пусть не думает, что все живут припеваючи”, – был примерный смысл его объяснения[359].
В тоне этого письма был надписан маме маленький сборник “Избранные стихи и поэмы”, вышедший в конце года. Через какое-то время папе пришлось отобрать у нее эту книжку, чтобы передарить другому. Это было вполне в его духе, и мы с мамой к этому привыкли. Надпись сохранилась на вырванном из книги листочке:
Жене на добрую память об очень странной, по-прежнему, жизни на свете.
Б. П.
10. XII.1945.
В тот же день он надписал такой сборник мне. В шутке, как и в особо длинном росчерке, сказывалась та же скрытая грусть:
Его превосходительству сыну моему лейтенанту Евгению от папы.
10. XII.1945.
Письмо Сталину осталось без какого-либо ответа. Папа был мрачен, и только работа над переводами Бараташвили и поездка в Грузию оживили его. Он начал писать роман. Надписывая следующим летом огоньковскую книжку переводов Бараташвили с искореженной и напечатанной без подписи его заметкой об авторе, папа одобрительно отозвался о своей работе:
Дорогому сыну моему Жене, на память о летних месяцах 1946 года, времени окончания им военной академии,
от папы.
Тем не менее книга эта неплохая, я ее сделал в сентябре прошлого года, в течение 40 дней.
12. VI.1946.
Б. П.
Я окончил академию с круглыми пятерками и был оставлен адъюнктом при кафедре теории танков. Я хотел идти на кафедру электрооборудования и заниматься электротехникой, но решение командования нельзя было оспаривать, и оно плохо сказалось на моей дальнейшей судьбе.
В июле мы поехали с мамочкой в Дубулты, где был открыт писательский дом творчества. В Латвии еще сохранялся буржуазный колорит с маленькими лавочками и удивительно вкусными кондитерскими изделиями, но кругом шли облавы, охотились на латышских партизан, стреляли. Нас поселили у немки, жившей рядом с домом отдыха. Она со дня на день ждала, что ее вышлют.
После войны в Переделкине тоже было неспокойно. Говорили о грабежах. Отец тогда настойчиво просил меня достать ему оружие под предлогом того, чтобы защищаться от бандитов. Я не мог этого сделать. Это было слишком опасно, и я не хотел подвергать его такому риску. Тайное хранение оружия считалось преступлением, за это грозил арест. Даже у офицеров, пришедших с войны, изымали трофейное оружие. Но к тому же мне всегда казалось, что Боря боялся не грабителей, а просто хотел свободно распоряжаться своей судьбой. Меня не на шутку пугало его тяжелое душевное состояние – “когда житье тошней недуга” – в сочетании с непременным желанием иметь пистолет. В конце концов Нинель Муравина[360] подарила ему кинжал.
Отца бесконечно мучило сознание, что добытую такой ценой победу превращают в новое ярмо и надежды на будущее идут прахом. В это время папа решил переводить псалмы, уходя в них от нестерпимой муки, что никто не понимает, как с каждым днем начинается возврат к самому худшему прошлому. Я разговаривал с отцом о псалмах, потому что мне были далеки в них требования возмездия и кары.
Осенью 1946 года после ждановских постановлений папа читал у себя на даче первые главы “Доктора Живаго”. Не помню, то ли я случайно был в тот день в Переделкине, то ли папочка специально позвал меня, но я оказался там в одно из воскресений, когда он читал две написанные к этому времени главы. Это происходило на нижней террасе. Меня поразили рассуждения Веденяпина, а “Девочка из другого круга” была значительно длиннее, чем в окончательном виде, и написана с большим чувством. Интересно отметить, что Лара в первом варианте была брюнеткой. Казалось, что эти главы были многократно продуманы и пережиты уже давно, но записаны теперь совсем по-новому, как бы другим человеком. Это сказывалось в обилии рассуждений, перемежавшихся с картинами природы и бытовыми зарисовками. Главным здесь была мгновенно запоминающаяся, выпуклая живописность отдельных сцен и положений, которые сразу отпечатались у меня в памяти именно в первоначальном варианте. При последующем чтении я болезненно подмечал перемены и старался найти первоначально услышанное. Текст воспринимался не только на слух, но зрительно – ярко возникал перед глазами.
После чтения ужинали в столовой. Были Асмус, Н. Н. Вильям. Основной разговор шел с Виктором Гольцевым[361]. Не помню, с чего он начался, но свелось к тому, что Гольцев утверждал невозможность возврата к прошлому после войны и наступление нового безусловного доверия к будущему. “Больше уже не может быть несправедливых арестов”, – говорил он. Папочка в запальчивости кричал на него, что, напротив, его и теперь в любую минуту могут ни за что посадить. Гольцев возражал, что так было до войны, а после нее этого уже не будет и страшен может быть только какой-нибудь “немецкий танк”.
“Елку у Свентицких”, по-моему, я слушал весной 1947 года у Шуры. Чтение закончилось стихами из Юриной тетради. Стихотворение “Гамлет” было уже в более длинном варианте, “Рождественская звезда” и совершенно поразительное “На Страстной”.
Тем летом я получил длинный отпуск “за всю войну”, и мы с мамой поехали в Коктебель. Там я познакомился с Виктором Некрасовым, который недавно прославился своей повестью “В окопах Сталинграда”. В доме у Марии Степановны снова собиралась молодежь. Каждый день мы ходили в горы и дальние бухты, до самозабвения играли в шарады, пили дешевое вино в лавочке Курортторга.
Весной следующего 1948 года к нам на Тверской бульвар неожиданно пришла Ольга Всеволодовна Ивинская. Она назвала себя. Я был в полной растерянности. Я знал, как все в Москве, о папином увлечении, но мы с ним никогда об этом не говорили. Мама как-то передавала мне свой разговор с папой. Она знала и о его довоенных расхождениях с Зинаидой Николаевной, в которых папа ей признавался, и теперь спросила его об Ольге Всеволодовне. Он подтвердил, сказав, что Зинаида Николаевна в последние годы, после смерти Адика, глуша свое горе в общественной деятельности и помощи чужим детям, сказала, что не может больше быть его женой, останется лишь хозяйкой дома и воспитательницей Лёни. Мама с улыбкой напомнила ему его давние слова о том, что он может влюбиться только в очень красивую женщину, а теперь… Он смущенно пробормотал: “Да, вот так”.
И теперь ее внезапное появление. Она сразу сказала, что хочет видеть маму, но той не было дома, и она попросила позволения подождать. Растрепанная, небрежно одетая, в слезах, она сидела передо мной в ожидании маминого прихода.
Она жаловалась на Борю, который ее бросил, и просила помочь ей с ним помириться. Что я мог ей сказать? Она обвиняла Зинаиду Николаевну, которая заставила Борю расстаться с нею и держит его в постоянном страхе. Но истерика, путающиеся слова и жалкий вид не вызывали во мне сочувствия. Мне становилось физически страшно. Я с тоской ждал маминого прихода как освобождения. К тому же мне казалось, что она слишком близко подсела ко мне и слишком горячо убеждала меня в папином предательстве и жестокости. И чем больше старалась она меня разжалобить, тем неприятнее она мне становилась.
Каким облегчением был мамин приход! Разговор был очень короток. Мама сказала, что никоим образом не станет их мирить и считает это совершенно для себя невозможным. И если Ольга Всеволодовна думает, что их должно объединить общее отношение к Зинаиде Николаевне как к сопернице, то она ошибается. Она не будет разрушать Борину семейную жизнь и советует ей абсолютно отказаться от своих домогательств и настойчивости. На Борю это всегда действует только отрицательным образом. По-видимому, Ольга Всеволодовна послушалась маминого совета.
Зимой папина дача в Переделкине была занята строительными рабочими городка. Было непонятно, освободят ли ее и когда. Возникало опасение, что отца просто лишат дачи, тем более, что к этому времени резко возросли критические нападки на него, и книга стихов, подготовленная в “Советском писателе”, была запрещена к распространению, а тираж уничтожен.
Пол-лета 1948 года папа проторчал в Москве, отправив Зинаиду Николаевну с Лёнечкой в дом отдыха в Переделкине. Рабочих выселили и дачу ремонтировали. Въехали в нее в июле.
Мы с мамой снимали в тот год комнату в Мичуринце, по соседству, и я чуть не каждый день виделся с Борей. Я подружился тогда со Стасиком и Галей Нейгаузами, вместе ходили плавать в Самаринском пруду. Брали с собой Лёничку, иногда с нами бывал и папа. В то лето у него жили Шура и Ирина. Федя ездил на Кавказ в студенческую экспедицию. Укрепилась возникшая еще в Ташкенте наша дружба с Комой Ивановым.
Папочка торопливо гнал перевод первой части “Фауста”. Смирившись с неудачами в театре, который не стал “работать” на него, как он когда-то мечтал, он постепенно создал свой собственный ритм чередования работы для заработка с писанием романа.
После тяжелой болезни и внутричерепной операции в феврале 1949 года скончался 16-летний сын Поливановых. Мы очень сблизились с ними во время болезни Котика, как его называли дома. Я часто приходил к ним и развлекал мальчика. Отпевали его у Апостола Филиппа, недалеко от их бывшего дома в Староконюшенном. Мы стояли с папой рядом. Я очень удивился, когда услышал, как папа подпевал певчим, как хорошо знал весь ход службы, и, полностью отключившись от окружающих, с совершенно мокрым от слез лицом пел подряд одну часть канона за другой. Теперь, когда и на мою жизнь выпало столько панихид и заупокойных служб, я понимаю, что в этом не было ничего удивительного, тем более для человека, родившегося в конце XIX века. Но тогда мне это запомнилось как полная неожиданность со стороны отца, которого, казалось бы, я хорошо знал. Позднее, после его смерти, сидя в его кабинете в Переделкине, я прочел вслед за ним и по его пометкам книги с богослужебными текстами и атрибутировал сохранившиеся у него выписки из служб, затертые по сгибам, – он носил их с собой и знал наизусть. Сарра Дмитриевна, дружившая со священником, который жил в полуразрушенном Доме Боде при Переделкинской церкви, рассказала мне о папином знакомстве с ним и их встречах.
В эти годы папа был очень дружен с “девочками”, как он их называл, работавшими в Скрябинском музее. Екатерина Александровна Крашенинникова[362] по его просьбе достала ему толстую синодальную Библию, взамен пропавшей во время войны, “Последование пасхальных служб” и другие книги. Он часто ходил тогда в церковь. Екатерина Александровна рассказывала нам об одном его разговоре с нею. Как-то он взял с собою на Пасхальную обедню Ольгу Всеволодовну, которая ни на минуту не давала ему сосредоточиться, все время отвлекая попутными наблюдениями и замечаниями на разные темы. Он жаловался Кате, что теперь только понял, как далека ему эта женщина.
Он издавна высоко ценил богослужебные тексты и чувствовал их красоту и значение для русской литературы. Кроме того, их хорошее знание позволило ему избежать ошибок при цитировании их в романе.
Во время войны перед отъездом в эвакуацию папа отдал на сохранение в сейф Скрябинского музея письма Горького, Белого, Роллана и Цветаевой. Они были спасены от разгрома, которому подверглась его квартира. По просьбе Алексея Крученых и с папиного согласия девочки из музея возили письма Цветаевой ему для перепечатки. Крученых составлял тогда машинописные сборники “Встречи с Цветаевой”. Я оказался в гостях у папы как раз в тот момент, когда одна из них пришла к нему с повинной и рассказала, как потеряла письма в лесу по дороге домой в Тарасовку. По-видимому, в том же чемоданчике было несколько писем Андрея Белого. Это случилось в ноябре 1945 года. Папа был совершенно убит этой потерей и вскоре забрал из музея остальные материалы. Через некоторое время он решил отдать письма Горького в Государственный архив.
Подготавливая и пересматривая их, он рассказывал мне о бесконечных недоразумениях, с которыми у него были сопряжены отношения с Горьким. Мы сидели у него наверху в переделкинском доме, и он объяснял, как, попав первый раз в ложное положение с печатанием Клейста в “Современнике” в 1915 году, потом уже при всех стараниях никак не мог из него выбраться. Только через несколько лет он узнал, что его претензии к чужой правке корректур относились к Горькому, который своей рукой убрал из отцова перевода простонародные скабрезности немецкого оригинала. В следующий раз при посылке ему “Девятьсот пятого года” отец снова попал в неловкое положение, кинувшись защищать сестер Цветаевых от гнева Горького, чем вызвал его требование прекратить переписку. И, наконец, отказ посодействовать нашей совместной поездке за границу и пустые обещания денег за перевод “ Охранной грамоты” в Германии. В цепи недоразумений, преследовавших его отношения с Горьким, папа видел пример того, как наказывает человека судьба, если вместо простого и естественного отношения к случившемуся он поддается желанию отстаивать справедливость и добиваться своих прав.
Зимой 1948/49 года папа подарил нам машинопись первой книги романа, который к тому времени получил название “Доктор Живаго”. Именно тогда я понял, как изменились первые главы, запомнившиеся мне в его чтении. “Назревшие неизбежности” я тогда прочел впервые. Мама была взволнована сценой Тониных родов, которая так напомнила ей мое рождение в клинике Эберлина.
В последний год своего пребывания в академии я успел получить для папы из библиотеки целый чемодан книг начала века по устройству и обслуживанию поездов и железных дорог. Он задумывал главу о поездке Живаго на Урал, и ему нужно было знать все по этим вопросам. Там были руководства для стрелочников и по устройству сторожек, справочники по всем железным дорогам России и расписания поездов с названиями всех пунктов и станций. Отец несколько недель изучал это собрание и, сделав себе выписки, необходимые для дальнейшей работы, вернул мне.
После мучительной процедуры отчисления из академии, в апреле 1950 года меня направили в Киевский военный округ.
Это было концом моей научной работы и привычной жизни, порогом нового и неизведанного, пугающего своей непредсказуемостью. Дело в том, что это был год Сталинского 70-летия – мрак и гнет самых страшных послевоенных лет. Арестовывали и ссылали отбывших срок и брали новых. Мой отъезд воспринимался как составная часть мероприятия – я не выполнил работу, приуроченную к юбилею.
Незадолго до отъезда я ездил к папе в Лаврушинский, и он меня утешал, говоря, чтобы я перестал относиться к изменению в своей судьбе как к поражению и неудаче. Чтобы я научился искать радость и плодотворные мысли в новых условиях, интерес к которым и к жизни, меня ожидающей, должен самой своей неизвестностью наполнить новым смыслом мое существование. Кроме того, он поддержал мое желание дописать свою работу, но предупреждал, чтобы я не доводил себя до изнеможения стремлением сделать ее во что бы то ни стало, а смотрел на это дело веселее и проще, в зависимости от обстоятельств и своих возможностей.
Мне надо было разобрать кучу накопившихся в процессе моей работы бумаг, связанных с военной тематикой. Были какие-то записи личного характера, которые я тоже не хотел оставлять. Помню, как ко мне приходил Кома Иванов, и мы с ним тащили в котельную груды бумаги на сожжение под подозрительными взглядами истопников.
Я вез с собой дикое количество вещей, постель, какую-то посуду, книги и прочее в нескольких узлах. Мне предстояло начинать новую жизнь на новом месте. Кроме мамы, на вокзале меня провожали Маргарита Густавовна и Миша Поливановы. Папа, мне кажется, приехал еще домой. У него тогда было много причин для печали. Он ничем не мог меня утешить. Мне представлялось, что мой отъезд усугублял его одиночество. Самой стойкой среди провожавших, которые под маской веселости скрывали грусть близкой разлуки, была Маргарита Поливанова. Когда поезд тронулся, она побежала параллельно с моим окном вслед за вагоном по платформе. Папочка оставался около мамы.
Я прожил в Киеве около недели у профессора-фтизиатра Ангеницкого. Меня знакомил с городом Виктор Некрасов, которого я случайно встретил в Консерватории на концерте отца и сына Нейгаузов. Получив назначение в Черкассы, я решил плыть туда на пароходе по Днепру. Ночное путешествие было замечательным. В первый же день, побродив по одноэтажному широко раскинувшемуся городу, я нашел комнату в маленьком домике Гавришей и послал маме адрес. Вскоре она приехала. Ее провожал папа.
“Черкассы – это город, а не дачное место, – писала мама 21 мая вскоре по приезде М. Г. Поливановой, – то есть непосредственного ощущения реки и леса нет. Берег ближний, до которого тоже надо спускаться с верхней части города, весь застроен, купаться переезжают на лодках на другую сторону, – а потому хозяин устроит душ у нас в садике. Городок весь зеленый, тянется от вокзала на несколько километров до леса соснового, где расположен туберкулезный санаторий, а потому не очень хочется в этот лес ходить. Одна из главных улиц это бульвар, где большие деревья – акации, каштаны, липы переплетаются ветвями над головой, остальные улицы тоже обсажены тополями и акациями, на боковых под ногами травка, около каждого домика садик, огород… Женя кажется написал Вам, что я начала рисовать – это только девочку нашей хозяйки Зину”.
Через некоторое время пришло письмо от папы:
21 мая 1950. <Москва>
Дорогие Женя и Женёк!
Надеюсь, что все у вас благополучно, хотя вы не пишете. Я по обыкновению очень занят. Только что сдал неимоверное количество мелких вещей Петефи и перед тем, как взяться за Макбета и Фауста, хочу немного пописать свое.
Сегодня отправил однотомник Гете Агневицкому с обратным маминым адресом (московским) от маминого имени. Лёня благополучно сдает экзамены, а Стасик хочет отложить свой дипломный на осень, потому что не готов к нему, что мне представляется нежелательным и против чего очень Генр<их> Густ<авович>.
Как видите, я научился писать письма в том живом и спокойном стиле, в каком их в глубине второго плана приводят беллетристы от лица своих персонажей и пример которых читает городничий в начале Ревизора.
Если мне не будет указания, как мне переводить деньги маме, до востребования или на квартиру, я, не дожидаясь письма, переведу их на квартирный адрес, с доставкой.
Это почти угроза, и если она вас испугает, то есть если такой способ не подходит, предупредите об этом телеграммой, потому что деньги я хочу отправить до переезда на дачу.
Крепко обнимаю вас обоих.
Ваш Б.
Как номер квартиры Гавриш, на случай телеграммы или телегр<афного> перевода? К этому придираются.
27 мая 1950. <Черкассы>
Дорогой Боря!
Прости, что не писала. Я все хотела написать вместе с Женей, а он уходит в половине восьмого и возвращается не раньше 10 ч. вечера, думала в воскресенье, но прошлое мы провели со знакомыми – я встретила здесь подругу Муси Катаевой, которая приехала на лето к мужу в Черкассы, он сейчас работает в Черкассах, они живут недалеко от нас. (Ух какая длинная фраза.)
Ты просил написать хоть одно толковое письмо, но пока пишу бестолковое.
Черкассы довольно большой город, ну скажем чем-то напоминает Геленджик, конечно, совсем другой, но просто Геленджик вспомнился, потому что там вместе были. На главной улице магазины, базар, почта и т. д. а боковые зеленые, покрытые травкой, белые домики с садиками и огородами, с кухней, вынесенной на лето во двор, расстояния большие, улицы широкие.
Вчера получили твою телеграмму, сегодня ответили – вероятно, ты уже перевел деньги, а если нет, то шли почтой, можно без доставки на дом, а в общем это не важно. Хозяйка пока к нам относится очень хорошо. Их четырнадцатилетняя дочка почти всегда со мной. С Женей я вижусь в обеденный перерыв и жду его с 9 ч. вечера. Заходил ли ты на Тверской бульвар?
Ну крепко тебя целую.
Сидим мы сейчас рядышком за столом и пишем тебе. Вечер 11 ч., за окном дождь. Скоро ляжем спать. Завтра воскресенье. Спокойной ночи.
Посмотрела, как ты подписал письмо “Ваш Б.” Значит. Твоя Ж.
Приехав в Черкассы, мама нашла знакомых Анны Сергеевны Катаевой (Муси), первой жены Валентина Петровича. Это был главный инженер военно-ремонтного завода, арестованный до войны в числе крупнейших инженеров. В начале войны он был освобожден и сражался на фронте. Мне кажется, что его фамилия была Айзенштадт, а жены – Мыслина, она была модельером женской одежды. Мамочка писала ее портрет еще в Москве.
Я хочу привести здесь свое старое письмо, написанное тогда одновременно с маминым, чтобы не пересказывать сделанного в свое время достаточно “подробно и живописно” описания Черкасс и нашей тамошней жизни.
27 мая 1950. <Черкассы>
Дорогой мой папочка, меня все время распирало желание тебе написать, но так до твоего письма и не собрался. Эту неделю был предельно занят. Кроме того, ты просил писать подробно и живописно, что сразу приходило мне на ум при попытке черкнуть тебе пару строчек. Дело в том, что я более чем когда-либо страдаю косноязычием и связного описания своей жизни составить не могу.
С приезда мамы у нас уют и курортное питание. Не единым хлебом сыт твой сын, но и всеми молочными, мясными и прочими продуктами. Со вчерашнего дня к этому прибавилась клубника. Много цветов. Работаю большей частью на воздухе. Несколько дней мучила жара и парило. Сейчас это все вылилось проливным грозовым дождем. Черкассы хлещут через перекрестки ручьями и водопадами. Неделю весь город пах белой акацией. Поют соловьи. Номера квартиры у Гавришей нет. Это отдельный одноэтажный маленький домик. Из таких в большей своей части и состоит город. Семья хозяев очень мила и к нам с мамой хорошо относится. Все было бы ладно, если бы немного времени на научную мою работу. Его нет. За все прошлое время – ничего не сделал.
С другой стороны, полная занятость службой тоже действует благотворно – не дает распускаться. Но и сейчас меланхолия меня не оставляет. Тоскую по Москве, привычному обиходу, родным и друзьям. В эти часы – скверно.
Письмо это найдет тебя, вероятно, уже в Переделкине. Боричка – все хорошо и жить приятно, да не всегда легка моя походка и избытка душевного равновесия нет. Ты (это по маминым словам) был того мнения, что мне надо привыкать к самостоятельности. Думаю – насколько надо – есть, а с мамой лучше. Пишут мне Поливановы и я им, когда не очень хочется спать, отвечаю. Они (особенно Маргарита Густавовна) бесконечно внимательны (не знаю, как сказать) были к маме. Вообще в эти последние годы не было никого ближе. Очень хорош Миша[363]. У него завидная жизнерадостность, которую никакая интеллигентность не может затушевать.
Большое тебе спасибо за посланного Ангеницким Гёте. В Киеве они со мной носились, и я даже болезненно воспринимал незаслуженно хорошее к себе отношение. Передай привет Лёне и поцелуй его. Поклоны всем родным и близким. За Стасика не беспокоюсь – справится. Прости за бессвязность письма – спать хочется. Напиши, – очень хорошее у тебя вышло то, которое сегодня мы получили. Надеюсь зимой приехать в отпуск. Целую.
Женя
29 мая 1950. < Москва. Почтовый перевод на 200 рублей>
Дорогие мои, получил Вашу телеграмму и теперь спокоен, можете не писать. Если будет возможность, в конце июля переведу еще, а вообще говоря, на худой конец это на два месяца. Крепко вас обоих целую, послезавтра переезжаем на дачу.
Б. П.
Надо сказать, что в послевоенные годы изобразительное искусство как наиболее доступное и наглядное подвергалось едва ли не самому тяжелому гнету. Требование “близости народу” губило самых талантливых. Не говоря уже о молодых или рядовых членах Союза художников, но и известные имена либо были обречены на голод, либо вынуждены были подчиниться жесткому идеологическому нажиму и выполнять заказные работы, не имевшие отношения к искусству, и терять лицо. Член-корреспондент Академии художеств Сарра Дмитриевна Лебедева, которая по объявленному конкурсу сделала прекрасные скульптуры для памятников Дзержинскому и Чехову, получала официальные отказы и зарабатывала только надгробиями. Фальк, при том, что это был едва ли не самый плодотворный его период, нигде не выставлялся, и его имя нельзя было даже упоминать. По воскресеньям он приглашал знакомых и показывал им свои работы, ставя одну за другой на мольберт. Мамочка тоже не избегла неприятностей. На одном из просмотров в помещении Московского союза художников ее работы объявили идеологически порочными и не соответствующими задачам советского искусства. После обсуждения, вылившегося в жестокую проработку, постановили вывести ее из членов Союза в кандидаты, что не давало ей возможности участвовать в выставках и получать государственные заказы.
Отец регулярно давал маме 1000 рублей в месяц, что, с одной стороны, делало ее независимой от начальства и избавляло от унижений официальной работы, с другой – лишало необходимой стойкости, которая приобреталась в соперничестве и составляла главную черту художественной судьбы дедушки Леонида Осиповича, чьим примером всегда мерили свои достижения мои отец и мать.
Как неоднократно говорил мне папа, мамина работа не получила той закалки, которую приобретает профессиональный художник, встречаясь на своем пути с холодным и враждебным внешним миром. Вступать с ним в противоборство заставляет его гордость. Так достигается радость победы. Мамино искусство волею судьбы оставалось в окружении семейного и дружеского тепла, не сталкиваясь с тех пор с холодными глазами постороннего зрителя или критика.
16 июля 1950. <Переделкино>
Дорогие Женя и мама!
В свое время очень успокоили ваши письма, – спасибо. По переезде на дачу спешно, как думал, взялся за Макбета и перевел в месяц. Во время этой гонки не замечал, какая погода, и дожди не мешали, а сейчас они срывают мне короткий задуманный отдых на огородной работе. Я видел Веру Алексеевну, она говорит, что все у Вас спокойно и в порядке, и газ будут проводить еще не скоро. Мне неудобно было ее, не списавшись перед этим с Вами, расспрашивать, можно ли проникнуть в Ваши комнаты. Если это не совсем легко и просто, лучше этого до маминого возвращения не предпринимать. А нужно это вот для чего. Библиотека при клубе писателей переписывает все свои книги, требует их возврата и закрывается. Я все, числившееся за мною, возвратил. Как легкомысленно было со стороны Жени, что он, уезжая, не вернул своих или, по крайней мере, не передал мне или кому-нибудь другому для возвращения. За ним 5 книг: Лабиш (водевили), Брет Гарт (т. VII), О’Генри (Короли и капуста), Дюма (Монтекристо II), Ренье (роман). Они очень этим удивлены или огорчены. Если это очень легко поправимо, то есть доступ в квартиру прост и не создаст прецедента для ее расхищения, то прекрасно и напишите Об этом, если же нет, лучше будет подождать. Я наверное сейчас же возьмусь за II часть Фауста, потому что кроме работы ничего не интересно, и хотя переводить это не работа, все же это заработок и, значит, нечто деловое и денежно увлекательное.
Крепко вас целую.
Деньги пошлю при первой возможности, вероятно в первой половине августа.
Ваш Б.
Уезжая из Москвы, мама оставила ключи нашей соседке милейшей Вере Алексеевне Слетовой. У нас в доме должны были проводить газ. Мама ждала известий, приезжать ли ей для этого или нет. Но ожидание этого события растянулось чуть ли не на три года.
Я откликнулся папе незамедлительно, желая снять с себя “несправедливое обвинение” в похищении библиотечных книжек. Я валил все на Кому, который, увлеченный счастливым романом, не выполнил моего поручения. Я писал, что занят по-прежнему с утра до вечера, а мама понемногу работает и понемногу хворает. Жаловался, что недосуг не дает мне возможности заниматься наукой и даже хорошую книжку по электротехнике, присланную Поливановыми, мне некогда прочесть.
Радостным напоминанием о Москве, по которой я уже тосковал, было появление “Избранных произведений” Гёте в книжном магазине Черкасс. Этот большой зеленый том включал папин перевод первой части “Фауста”. Книга вышла в мае, уже после моего отъезда, такое именно издание папа прислал мне с надписью для Ангеницких в Киеве. Я любовно полистал книжку, почитал отдельные места, знакомые мне по папиному чтению в зале Театрального общества, но в тот момент у меня не хватило денег. Когда я положил книгу обратно и сказал: “Дорого”, продавщица возразила: “Один «Фауст» этого стоит”.
Меня очень встревожило известие, полученное от Поливановых, о болезни моего научного руководителя Льва Семеновича Гольдфарба. С ним случился инфаркт. “Ему 30 с чем-то лет, доктор наук и умница. Несмотря на краткое знакомство, мы очень сблизились. На лето он подумывал о приезде в Черкассы”, – писал я отцу.
Я обратился к помощи Гольдфарба во время трудностей с диссертацией. Он был профессором в Энергетическом институте и проявил удивительную отзывчивость и внимание ко мне, ввел в круг ведущих молодых ученых по автоматике. Он помог мне найти ошибки в прежней работе и выбрать более осмысленную тему, которая имела серьезный научный интерес. Перед лицом высокого генералитета, собравшегося на Совете академии, Лев Семенович, всего лишь инженер-подполковник, заявил о научной перспективности моей работы и рекомендовал дать мне возможность ее окончить. Он брал на себя всю ответственность. Но его никто не стал слушать, и Совет проголосовал за немедленное мое отчисление и отправку в войска.
Тяжелый инфаркт миокарда, перенесенный им летом 1950 года, сказался на его дальнейшей жизни. С 1957 года, когда я пришел работать в его группу, он все чаще болел и скончался поздней осенью 1960 года.
20 авг<уста> 1950. <Переделкино>
Дорогие Женёк и Женюра!
Я не забыл вас, но каждый раз как какая-нибудь житейская причина вызывает желание написать вам, я вспоминаю Женичкино предубеждение против многословия даже в устной форме, а тем паче в письменной.
Начало лета было у меня довольно спокойное, я перевел Макбета и засел за вторую часть Фауста с попутными укорами совести по поводу того, что для продолжения романа, которым мне надо было бы заняться, у меня не хватает духу, воображения и необходимых сил.
К концу лета пробегали всякие тревожные волны, осложнявшие и домашнюю жизнь, между прочим выругали перевод первой части Фауста в 8-м номере Нового мира. Это какой-то новый для меня вид ругани, церемонный и считающийся с чем-то, однако не с истиной и, таким образом, неведомо с чем.
Хотя бормотать так скороговоркой, как я делаю в этом письме, еще хуже, чем совершенно молчать, я все-таки считал долгом сказать вам то, с чего я начал письмо, чтобы вы не думали, что я такой беспамятный и бесчувственный.
Но я и не задавал вам загадок, и если у вас есть такое чувство, что они налицо, значит это ошибки слога.
Теперь я на время отложил II часть Фауста и принялся за роман. Может быть, я откажусь от поездок в город на все остающееся до окончательного переезда время и тогда попрошу Зину на днях, в конце августа, перевести тебе, Женя, одну тысячу.
Все у нас здоровы; несмотря на некоторые тени, жаловаться нечего, авось все к лучшему.
Целую вас обоих, благодарю тебя, Женичка, за письмо, пусть обилие работы не удручает тебя, напишите мне о своем житье бытье.
Ваш Б<оря> и П<апа>
В эти годы папе приходилось каторжно работать. Если раньше перевод одной трагедии Шекспира окупал целый год, то теперь его хватало только на полгода. Дело в том, что ставки за переводные работы законодательно сократились в несколько раз, и, чтобы оплатить время, затраченное на писание романа, приходилось переводить, соответственно, больше.
Начав неподъемно трудоемкую работу над второй частью “Фауста”, которая вначале напоминала ему комическую оперу начала века “Вампуку”, отец бросил ее после появления в “Новом мире” статьи Т. Л. Мотылевой, что ставило под вопрос договор на продолжение “Фауста”. “Новый вид ругани” сочетал в себе признание достоинств перевода в части, касающейся всего “иррационального”, то есть изображения ведьм и духов, безумья Маргариты и так далее, с резкой критикой переводчика, упустившего из внимания “передовые идеи” Гёте.
В августе я неожиданно получил отпуск. В надежде устроиться преподавателем в какое-нибудь учебное заведение и освободиться от гарнизонной службы я поехал в Ленинград, предварительно созвонившись с Олей Фрейденберг. Ехал налегке, с зубной щеткой и гребенкой в кармане шинели. Это была моя первая самостоятельная поездка в Питер.
Выйдя в едва начинающийся ленинградский рассвет, я сговорился с каким-то человеком из привокзальной толпы, и он отвез меня на стоявшей за углом машине “Скорой помощи” на оказавшуюся совсем близко Казанскую площадь и объяснил, как пройти на улицу Плеханова. Парадный вход в дом с Грибоедовского канала был закрыт со времени войны.
Очутившись на тротуаре и глядя в указанном направлении, я остолбенел. В серой, начинавшей розоветь мгле за сквериком и двумя статуями прорастала зеленоватая роща ребристых колонн. Меня в нее непроизвольно втянуло, я чуть не натолкнулся на угол Казанского собора, ошалело поглядел на потерявшее позолоту Око Господне и выкатился к набережной канала. Тут я понял, что это грозит началом ошалело-безостановочного блуждания, и, взяв себя в руки, повернул в поперечную улицу, затем – налево, стараясь не отвлекаться, пока не нашел нужные мне ворота.
Было уже совсем светло, когда я поднялся на третий этаж по сводчатой лестнице с желтыми, сильно стертыми посередке ступенями и позвонил в дверь под № 4. Удивительно мелодичный голос спросил, кто это, затем последовали звуки открываемых запоров, и в дверном проеме, ведущем в полутемную, наполовину заваленную дровами и заставленную странными техническими устройствами большую кухню, я, наконец, увидел тетю Олю.
Небольшого роста, отяжелевшая и отечная, как женщины, пережившие блокаду, она с интересом рассматривала меня сквозь толстые комплексные стекла очков. Мы поцеловались, и она сразу в чисто семейном стиле объяснила мне, что я ничем не должен стеснять себя ради нее, и она тоже собирается в этот день заниматься своими делами. Спросила о моих планах и отправила мыться холодной водой в ванную, сообщив попутно историю столового серебра, спрятанного ее отцом незадолго до смерти и спустя много лет случайно найденного матерью под дубовой рамой большой эмалированной ванны.
Потом она показала мне две прелестные комнаты, удивительно обжитые, я бы сказал, привыкшие жить жизнью своей хозяйки. Ни одной лишней вещи, все книги, их было много, относились к ее занятиям и повседневному чтению, хранили память ее матери и прошлого семьи. Машины в кухне оказались изобретениями ее отца, подготовленными к отправке в музей. По стенам висело несколько дедушкиных работ. Стояла итальянская ремесленная скульптура, привезенная отцом и ею самой из заграничных путешествий. За окнами на канал шумели высокие тополя.
Уже за завтраком тетя Оля заговорила о Бориных письмах к ней. Меня поразило, с какой интонацией она сказала: “Они ведь такие удивительные”. Рассказала, что уходит из университета, бросает кафедру, говорила о судьбе своих неизданных работ и предполагаемых наследниках. Боюсь, я не был достаточно внимателен и участлив. Меня тянуло в приоткрывшийся мне город.
Тетя Оля поняла это и сказала, чтобы я после беготни по делам съездил в Петергоф и вернулся оттуда на катере. Условились встретиться вечером за ужином. Тогда уже мы проговорили заполночь, и у меня навсегда осталось ощущение той душевной глубины и близости, которую я до тех пор встречал только в папочке.
Хлопоты мои оказались неудачными, и через день я уехал.
О своей поездке и разговорах с тетей Олей я рассказывал папочке, когда приезжал к нему в Переделкино. Он дал мне рукопись двух следующих глав романа – “Прощание со старым” и “Московское становище”, недавно оконченных в первой редакции. Когда я читал, мне все время казалось, что я слышу отцовский голос. Это было настолько явственно, что теперь в воспоминании мне трудно отрешиться от впечатления, будто я слышал эти главы в его чтении. Я спрашивал папу о рассуждениях Миши Гордона по поводу преодоления еврейства. Он ответил, что для него это так именно всегда и было, что с возникновением новой еврейской государственности это может, конечно, измениться, но он не хочет далеко загадывать.
19 ноября 1950. <Москва>
Дорогой Женичка, милый мальчик мой!
Ты часто спрашиваешь маму, как я, как мое настроение. Все это в наилучшем порядке, милый мой, действительно хорошо, без малейшей тени принятой в высшем свете иронии.
Зинаида Николаевна ездила в Ленинград в одну из Стасиковых поездок. И должно же было случиться, что почти единственными провожающими к “Красной стреле” на пустом и ветреном ночном перроне были я и Галя[364], а другими мама и Миша Поливанов, провожавшие случайно уезжавших на том же поезде Маргариту Густавовну и Константина Михайловича!
Зин. Ник. очень хорошо, с нематеринскою трезвостью говорит о Стасике и поездке, отделяя вопрос об его успехах от вопроса о том, как он играл (я не согласен с ее тревогой по поводу слишком частых его выступлений, рискованных, по ее мнению, потому что они ведут к нервности почти беспамятной и мешают спокойной сосредоточенности исполнения, – я считаю, что так и должно быть, что искусство должно быть частью жизни, и хорошо, чтобы она вредила ему). Так же немногословно и по существу отозвалась она о продолжении Живаго, – З. Н. в числе тех, кому эта часть нравится[365]. Меня, между прочим, удивляет, как снисходителен ты был, когда летом в Переделкине, наскоро пробегая главы рукописи, пожелал не заметить, что она еще совсем не гладка, и только запнулся перед какой-то фразой. Наверное, это обстоятельство затруднило чтение вещи дяде Шуре, но он не отдал себе отчета в этом главном, первом по счету недостатке, и стал объяснять двойственность впечатления (неблагоприятного) разными другими причинами, философскими.
Да, так тогда рукопись была еще очень далека от того вида, в каком она может годиться для переписки. Теперь ее переписали. И мнения, наверное, очень разделятся.
Очень широко мнение (оно совсем не доктринерское, в число думающих так попадали и дядя Шура, и мама, и кто хочешь, – это общее мнение), что какую-то часть существующего я должен был бы все же видеть другими глазами, что это отъединение слишком далеко зашло, что в нем есть что-то неестественное и с точки зрения искусства. Так как я очень часто сталкиваюсь с этим взглядом, то волей-неволей разобрал его с достаточностью.
Я думал дальше дать тебе свои соображения по этому поводу, но есть какой-то градус умствований, за которым они становятся нудны и нестерпимы. Мне кажется, этот градус достигнут. Прошу тебя поверить на слово без подробных обоснований, что я доволен судьбой, вот главное объяснение всего, что делаю я сам и что со мною делается.
Зин. Ник. и Лёничка много занимаются фотографией. Посылаю тебе два ее снимка.
Крепко целую тебя
Твой папа.
Я знаю, как ты занят. Можешь в каком-нибудь из своих писем маме упомянуть о получении этого письма и карточек, и я буду считать ее звонок твоим ответом.
Небольшое количество папиных писем в Черкассы объясняется тем, что он очень много работал в то время. Он говорил, что, переводя “Фауста”, он делал иногда по 200 стихотворных строк в день. К тому же известия от него передавались главным образом через маму и ее письма ко мне.
После отпуска я сменил квартиру и теперь жил по соседству с начальником военного завода инженер-полковником Владимиром Николаевичем Руссияном, который с семейством занимал целый дом на спуске к низкой части города. Улица носила курьезное название “Спуск Пушкина”. Рядом, недалеко от Днепра, располагался завод. Вера Павловна Руссиян пригласила меня столоваться у них. Они были из Москвы, где у них сохранялся небольшой купеческий домик в Сокольниках – там они жили с матерью и семьями сестер и братьев. Дочь Таня училась в Московском авиационном институте и на каникулы приезжала навещать родителей.
У них в доме был телефон, по которому я часто звонил в Москву. Установилась однообразная регламентированная жизнь, день шел за днем, без продыха и праздников. По воскресеньям работали только до обеда, потом ходили в заводской душ, после обеда смотрели кино у Владимира Николаевича дома – у него был свой переносной аппарат.
В ту осень я болел затяжной ангиной. На ноябрьские праздники ко мне приезжал Кома Иванов, который гостил тогда в Киеве у Миколы Бажана[366]. Уставший после дороги, он долго отсыпался, потом мы немного побродили по днепровскому берегу, пообедали у Руссиянов, и ему уже надо было ехать назад. Когда я провожал его на вокзал, мне показалось, что, прощаясь со мной, он чуть не плакал от жалости.
Зимой я получил командировку в Москву и делал доклад на своей кафедре в академии. В начале апреля ко мне приехала мама. Папа не успел написать письма, но, понимая, как я огорчусь, если от него ничего не будет, мама упросила его написать хоть несколько слов.
30 марта 1951
Дорогой Женичка, наспех посылаю привет тебе. Крепко целую тебя, будь здоров, желаю тебе всяческой удачи. Мама все расскажет.
Твой папа
Мама ходила к Шуре, когда папа читал у него наново переписанные главы, и рассказывала мне, что кто-то из присутствовавших упрекнул папу в фантастичности выдуманной им фигуры Юрия Живаго. Папа ответил:
– Я мог бы сказать, что пишу этот роман про своего старшего сына.
Возможно, он имел в виду несоответствие моей сугубо технической работы и природной душевной склонности.
Летом мы подружились с Таней Руссиян. В конце августа она уехала в Москву вместе с родителями, получившими отпуск. Вскоре ей удалось вызвать меня в Москву. Она нашла подшипники, в которых нуждались наши ремонтные мастерские, и я получил командировку. Мы вместе покупали тяжелые ящики с подшипниками и возили их на вокзал сдавать в багаж. Усталые, мы вернулись вечером домой, и Таня осталась у меня.
На следующий день мы объявились, и Вера Павловна спешно устроила свадебный ужин. К моей радости папочка охотно пришел и всех очаровал. Он много и просто говорил, пил водку и по дороге к метро объяснял мне, что он, конечно, очень рад за меня, но только у него немного путаются слова и мысли и от выпитого кружится голова. Мы с мамой проводили его до Лаврушинского. Наутро я уехал назад в Черкассы.
В эти годы в армии происходили непрестанные замены и перемещения. Участники войны или увольнялись в запас, или неожиданно получали новые назначения. Перегоняя людей с одного места на другое, старались разрушить связи и взаимоотношения, создававшиеся за годы совместной службы. Мне предлагали место на Дальнем Востоке, на Сахалине. Таня с мамой взялись хлопотать, чтобы меня вернули в Москву или послали куда-либо на научную или преподавательскую работу. Таня заканчивала институт, и ей предстояло распределение. Работу конструктора по самолетам она не могла получить в таких далеких местах.
Летом у нас были сплошные маневры, и я редко попадал домой. Казалось, что благодаря поддержке местного командира благороднейшего генерала Белогорского, мне еще удастся на некоторое время остаться в Черкассах. К тому же я получил звание инженер-капитана.
Папины письма почти прекратились. Он очень устал, и у него болела левая лопатка, так что, окончив вторую часть “Фауста”, он целыми днями занимался в саду, стараясь разогнать боль физическим трудом.
23 июня <1951. Переделкино>
Дорогие мои!
Все по-прежнему и мне нечего вам сообщить. Но мне надо удостовериться, по какому точно адресу перевести вам деньги во второй половине июля. Я это сделаю с божьей помощью 17-го, и если до того времени от вас не будет указаний, как и кому (капитану ли Пастернаку или тебе, Женя) перевести предполагаемые две тысячи, я адрес воспроизведу по образцу этого конверта. Крепко вас целую и желаю вам здоровья и всего лучшего.
Ваш Б.
<17 июля 1951. Москва. Почтовый перевод на 2000 р.>
Дорогие мои!
Вашу телеграмму получил. Эти деньги переведет вам из города Зина. У меня никаких перемен, чувствую себя хорошо, но с шеей по-прежнему. Там оказалась опухоль (жировик), который надеюсь дать вырезать осенью. Если он – единственная причина болей, то, может быть, таким образом от них избавлюсь. Всего лучшего, целую Вас обоих,
Ваш Б.
10 сент<ября> 1951. <Москва. Почтовый перевод на 1000 р.>
Глубокоуважаемая Вера Павловна!
Простите, что затрудняю Вас просьбой о передаче этих денег Евгении Владимировне, согласно ее телеграфной просьбе.
Ваш Б. П.
13 сентября 1951. Черкассы
Боричка!
Прости, что послала тебе телеграмму! Может, у тебя с деньгами плохо, может, ты болен. Это очень плохо, что я все лето не писала. Но было очень трудно. Женя в течение двух месяцев спал по 3–4 часа в сутки, а я, конечно, сочувствовала и старалась как-то ему облегчить. Сейчас слава Богу все нормально, но у меня от постоянного напряжения что-то случилось со здоровьем.
Денег попросила, потому что из 80 р. отдала половину доктору, а я избалована и без денег мне неприятно. Доктор сказал, что у меня миокардит дистрофический, воспаление межреберных мышц, спазмы сосудов, что не в порядке вегетативная нервная система и т. д. А простыми словами, мне часто, а последнее время почти ежедневно становится худо: зажимает сердце, стягивает руки и ноги и нечем дышать – я пугаюсь и совсем скисаю. Бог даст отдышусь. По этой причине просила деньги выслать прямо на имя Веры Павловны Руссиян с доставкой ей на дом, она получит и мне передаст. А мы переехали на новую квартиру, я еще здесь не прописана, к Руссиянам, конечно, захожу, но в неопределенное время. За все лето мне не удалось ни капельки поработать, и я прямо отворачиваю глаза от того угла, где стоят мои холсты и краски.
В Черкассах останусь числа до 25-го, чтобы пробыть вместе 23-е – Женин день. Вера Алексеевна Слетова написала мне очень милое письмо, что у нас проводят газ, но чтобы я оставалась в Черкассах, потому что она сама позаботится и что мне приезжать не к чему – это было в августе. Если ты здоров – зайди скажи ей несколько теплых слов. – Я же постараюсь отправить ей посылочку с яблоками. За все лето мы никому не писали, а потому я чувствую себя очень оторванной от Москвы. Сарра Дмитриевна написала мне одно письмо, она проболела все лето, не знаю, как она сейчас.
Крепко тебя целую.
Женя.
Зимой я снова приезжал в Москву и докладывал в академии. Старался отстоять свое право закончить диссертационную работу и бился, как рыба об лед.
Я виделся с папочкой. Он был безмерно утомлен “Фаустом” и жаловался, что чувствует себя полуживым человеком, что более не в состоянии выносить этот предел однообразия. Он говорил мне, что иной раз делал до 200 стихотворных строчек в день. Кроме того, внутренне для него большой перерыв в собственной работе сильно затруднял писание следующей главы, “В дороге”, которая продвигалась слишком медленно. Он страдал, чувствуя в работе недостаток необходимого напряжения и подъема, сравнивал себя с ломовой лошадью, которая заболевает без тяжелой нагрузки.
Аналогичным образом отец не позволял и мне раскисать и жалеть себя и учил находить радость в любой работе. Конечно, он понимал, что бессмысленная и выматывающая муштра военных репетиций никоим образом не могла вызвать вдохновения, но тем не менее считал, что мне нужно вырабатывать выносливость.
Это были очень тяжелые годы, когда казалось, что время остановилось и ничего в жизни не меняется и не может измениться. Все надежды на просветление гасли в надвигающемся мраке. Я вспоминал поразившее меня несколько лет назад убеждение, царившее среди моих товарищей по академии, что конец войны – никак не начало мирного времени, а период подготовки к новой войне. Именно в этом видели они смысл и оправдание существования армии и удивлялись моей детской наивности.
В соответствии с этим всю весну и лето 1952 года мы занимались подготовкой грандиозного спектакля с тысячами участников, который назывался “Учения Днепр”. Мы десятки раз репетировали, располагаясь далеко по ту сторону Днепра и выше по течению. В Черкассы вернулись только в августе, когда ко мне приехала мама. Мы с ней перебрались в другую комнату, на этот раз в центре города, рядом с почтой, базаром и штабом части, где я служил. Мама побывала перед отъездом у папочки в Переделкине и рассказывала ему обо мне. Чем мог ответить на ее беспокойства он, приучивший себя в течение всей жизни работать, не покладая рук и не заботясь о сне и здоровье. Вслед за посылкой денежного подспорья ко дню рождения он писал мне, что жизнь это и есть “работа до изнеможения”.
22 сентября 1952. <Москва. Почтовый перевод на 1000 р.>
Дорогой Женя! Поздравляю тебя с днем рождения и в виде подарка перевожу тебе эти деньги. Я очень хотел знать, что с тобой, но никак не застаю Тани на Тверском бульваре, ни звонками, ни попытками повидать ее, как было во вторник 16-го, в 9 часов утра, когда я стучался к ней, а она уже ушла верно в институт. Крепко целую.
Твой папа
27 сент<ября> 1952. <Переделкино>
Дорогой Женя!
С твоей стороны было очень остроумно подтвердить верность адреса телеграммою сюда в Баковку: я ее получил и ты меня этим успокоил. Но на днях я переезжаю в город, и больше сюда не пиши. По моей просьбе Зин. Ник. перевела тебе тысячу в подарок к твоему рождению. Так как адрес, который я упустил записать со слов Тани, как оказывается, я запомнил правильно, то деньги ты наверное уже получил. Это (во избежание недоразумения) тебе и Тане; маме за октябрь будут особо. Осмеливаюсь верить, что у тебя никаких особенных перемен не предвидится, и ты по-прежнему работаешь до изнеможения. Это очень хорошо, так и надо. Только люди деятельные и трудящиеся – физически плотные тела, остальные – призраки разной степени разрежения.
Чтобы кончить письмо чем-нибудь соответствующим истине и приятным, – по косвенным и с нею не связанным поводам очень хорошо думал о твоей Тане. Привет ей и маме.
Твой папа.
Папа дописывал очередную главу романа, когда 20 октября его с обширным инфарктом отвезли в Боткинскую больницу. Он находился в смертельной опасности, и мама с Таней решили это скрыть от меня, отложив известие до Таниного приезда ко мне на ноябрьские праздники. Это сообщение ошеломило меня, я стал ежедневно звонить в Лаврушинский, и Зинаида Николаевна пыталась меня успокоить.
Мама регулярно оповещала меня о его здоровье:
“7 ноября 1952. Только что звонила З<инаида> Н<иколаевна>. У папы все слава Богу. Завтра попробуют спустить ноги. Я понимаю, что тебе хочется знать максимально подробно о его состоянии. Вот основное – инфаркт был тяжелый, то есть кровоизлияние на задней стенке сердца (я не знаю, как было у Гольдфарба), то есть не микроинфаркт, а инфаркт. Но перенес его папа хорошо и слава Богу все в дальнейшем протекает нормально. Характер и восприимчивость папы ты знаешь. Но мне кажется, что чувство самозащиты органическое у папы тоже существует, он себя знает, З. Н. тоже его знает, организм у папы здоровый, и Бог даст он поправится. Она передает ему наши приветы, и папа тоже всем кланяется. Пока я отправлю тебе эти несколько строк”.
“13 ноября. Самое основное, папочке слава Богу лучше, вчера З. Н. сказала, что отвезла ему читать Чехова, правда врачей вчера не было, но вероятно ему разрешили. Сегодня З. Н. к телефону не подошла, потому что ей нездоровится, но работница сказала, что в больнице она была и папа чувствует себя хорошо”.
“18 ноября. О папином состоянии узнаю каждый день по телефону, и так как ты звонишь, все тебе передаю. В воскресенье ездила к Зинаиде Николаевне узнала поподробнее. Я думала, что у него отросла борода, что он без зубов, потому что последнюю неделю до заболевания ему налаживали зубы. Оказывается приходит парикмахер и его бреет. Зубы у него вставлены и ему удобны. Его поворачивают два раза на день на бочок, но ему это пока не нравится, потому что он привык лежать на спине. Я просила ему передать книжечку о зоопарке. Но я не написала на ней, почему и как ему ее посылаю и он отдал ее читать З. Н. и Ленечке, сказав, что ему хочется сейчас читать Чехова. И он его читает. Вероятно, решил, что я впала в детство или его считаю таким”.
(Я не могу вспомнить, что это была за книжка, наверное, она была передана ему в воспоминание о их с папой посещении берлинского Tiergarden в 1922–1923 году.)
Через неделю, если все будет в порядке, позволят сесть, а через две – встать. У З. Н. расстройство печени, и она вместе с папой, если все будет слава Богу хорошо, поедут в санаторий, вероятно, в Узкое. Сегодня звонила З. Н., сказала, что и самочувствие и настроение хорошее. Вот, мой дружок, самое главное. Твои письма мне тоже очень нужны, потому что вместе с папиной болезнью у меня страшно усилилось чувство одиночества.
Я рвался в Москву, препятствия и отсрочки только более увеличивали мой пыл. Окружающий мрак сгущался до полной невыносимости. Помню, как однажды в столовой, вернувшийся из Москвы офицер сказал во всеуслышание: “Ну и нагнетают там ненависть – аж тяжело жить”.
Меня отпустили на два дня только в конце ноября, когда в Москве проходила конференция журнала “Танкист”, внештатным корреспондентом которого я числился.
Я застал папочку уже в кремлевском корпусе Боткинской больницы, заведующий которого профессор Вовси[367] был недавно арестован в числе “врачей-вредителей”. Папа лежал в двухместной палате. Рядом с ним был какой-то седой человек из крупных чиновников. Папочка по секрету сообщил мне, что у его соседа страшные боли в спине, но в ответ на его жалобы ему говорят, что это радикулит, тогда как на самом деле у него рак легкого, и дни его сочтены. Папа вспоминал об этом во время своей последней болезни, когда его страшные боли в спине врачи считали радикулитом.
Папу все еще ограничивали в движении, и я сидел у его постели с высоко поднятым изголовьем. Ему нельзя было много говорить, по его просьбе я подробно рассказывал о себе. Но мои огорченья и трепыханья он оставлял без внимания. Только что переживший близость конца, он был переполнен высокой благодарностью к воле Божьей в самом страшном ее проявлении. Он уговаривал меня быть спокойнее и верить в целительные начала жизни.
В эти дни я докладывал на семинаре в институте имени Стеклова. Мне обещали поддержку в работе.
В феврале 1953 года я неожиданно получил приказ о назначении в Забайкалье. Вероятно, это и был парадоксальный результат наших хлопот.
Мне дали несколько дней на сборы. Отправив часть вещей малой скоростью в Читу, мы с Таней в последних числах февраля приехали на несколько дней в Москву. В надежде получить другое назначение я ходил в Главное управление кадров танковых войск. Пошел проститься с Елизаветой Михайловной и Ипполитом Васильевичем, я не знал, увидимся ли мы в следующий раз.
Папочка был в Болшевском санатории. Воспользовавшись случаем, когда Поливановы отвозили туда Марию Степановну Волошину, я присоединился к ним. Помню, как машина внезапно остановилась посреди Яузского моста, как мы с Константином Михайловичем долго, почти не веря в успех, чинили ее посреди дороги. Приехав в Болшево, мы сразу увидели папочку, который гулял после обеда. Я кинулся к нему – меня сразу поразила неестественная сдержанность его жестикуляции. Он все еще избегал резких движений, потому что все время чувствовалось сердце. В его лице что-то изменилось, глаза стали не такими яркими и большими. Он тут же заметил мой взгляд и сказал: “А, глаза, – да, они изменились после инфаркта, погасли”.
Мы медленно ходили по круговой дорожке, он с сочувствием повторял, чтобы я не огорчался тем, что у меня не получается с работой, и тем, что происходит вокруг, но постарался с доверием и заинтересованностью относиться ко всем изменениям жизненных обстоятельств. Надо было возвращаться в Москву, Константин Михайлович подкачивал спустившее колесо машины. Боря нагнулся, как будто хотел ему помочь. Предварив наш испуг, сказал, что, к сожалению, слишком хорошо знает сам, что этого ему нельзя. Мы поцеловались, и он медленной, такой не похожей на него походкой, направился к своему корпусу.
Провожать нас в Читу пришел Миша Левин. После своего ареста он не имел права жить в Москве, но на студенческие каникулы он вырвался из Тюмени, где преподавал в педагогическом институте. До отхода поезда “Москва – Владивосток” мы сидели с ним в купе и ели принесенные им шоколадные конфеты. Мама с трудом сдерживала слезы. Ехать до Читы предстояло почти неделю.
Через несколько дней я снова увиделся с Мишей на платформе в Тюмени, куда он прилетел на самолете раньше меня. Может быть, уже на следующий день начали передавать первые сводки о состоянии здоровья Сталина. Поезд стал наливаться слезами. Навзрыд плакала моя Таня. Рушилась прежняя жизнь. Преобладающей темой было: “На кого ты нас покинул”. Дня через три из радиорепродукторов полилась траурная музыка. Под марш фюнебр Шопена мы вышли из поезда в Чите. Я был в странном состоянии. Мне казалось, что общая боязнь неизвестного, того, что теперь с нами будет, необоснованна. Во мне преобладало чувство освобождения от какой-то тяжести и гнета. И потому было неловко перед окружающими и их неподдельным горем.
Я вспоминал слова Сарры Дмитриевны Лебедевой, которая говорила, что надеется пережить Сталина – вот тогда-то и будет самое интересное.
Мороз в Чите был за 50 градусов. Тщетно потыкавшись в разные гостиницы и дома для приезжих, мы отправились в Атамановку, где на ремонтном заводе работал мой знакомый по академии, женатый на внучке Сергея Лазо. Они советовали нам добиться разрешения остаться здесь на заводе. Но меня направили в Хадабулак начальником тех. отделения ремонтной базы. Поселок находился на Маньчжурской ветке между Оловянной и Борзей.
Меня поместили в маленькой комнатушке в бараке, исправив дымившую печку, устроили в столовую. На второй или третий день уехала Таня, я ее провожал в обратный путь до Читы. Считалось, что суровее мест нету – разве что Колыма и Чукотка, поэтому волноваться за свою судьбу не приходилось. Люди в Забайкалье, в отличие от Черкасс, относились друг к другу с симпатией. Топили углем, которого было вволю, сидели в тепле. Да и сухой мороз оказался не так страшен – дышалось легко. В столовой кормили хорошо и в гарнизонном магазине было много неожиданного: белый хлеб, масло, ленинградские конфеты и китайские фрукты. Гораздо сытнее и лучше, чем на голодной Украине. Все это я сразу описал в утешительном письме маме, да и Таня могла ей рассказать, поразившись Хадабулакскому изобилию.
Мои сослуживцы в большинстве своем были людьми искренними, прошедшими войну в ремонтных частях, с большим практическим опытом и уважением к чужому знанию. Мне с ними было легко. Инженер-майор Сергеев был человеком благожелательным.
Вскоре нас всех поразило сообщение о пересмотре дела врачей. Папины наставления по поводу большего доверия к жизни оправдывались полностью. Интерес к окружающему помогал видеть привлекательные стороны здешнего существования. Письмо от папочки пришло после того, как, съездив еще раз в Читу, я возвращался в открытой машине по Агинскому тракту через старый Чиндант. Монгольская степь с редкими юртами и конскими табунами, между которыми изредка проезжали монголы на лошадях и верблюдах в шелковых ярких халатах и шубах, производила незабываемое впечатление.
15 апр<еля> 1953. <Москва>
Дорогой мой Женичка!
С новосельем тебя, в час добрый!
Судя по Таниным рассказам и по твоему письму к маме, которое она давала мне читать, тебе там не хуже, чем в Черкассах. Слава богу. Таня и мама были у меня на днях и тебе наверное напишут.
Наверное я не судья в этих вопросах, а по твоей специальности и совершенный невежда, но мне хотелось тебя предостеречь от добровольного омрачения своей собственной жизни постоянным прикидыванием ее к будущей, имеющей осуществиться, но еще не осуществленной диссертационной работе. Выкинь даже слово это из своего обихода и сознание обязательности, которое оно за собою влечет, а постепенно, когда будет позволять служба, пиши эту работу или развивай это изобретение, и только после того, как дело будет сделано, доведи до сознания, что оно было твоей обязанностью.
А то длящееся сознание цели или призвания в жизни очень отравляет существование, превращая его в пожизненную подготовку к какому-то экзамену, по которому как бы проваливаешься, даже не держав его или не думавши держать. Не надо создавать себе в жизни мнимых и выдуманных обуз, достаточно действительных.
Я чувствую себя хорошо и на днях перееду на дачу. Мечтаю кончить роман и надеюсь это сделать. В остальном ничего не представляю себе и отдаленно: ни того, сколько еще проживу, ни того, что будет со мною.
Очень хороши наметившиеся тенденции и перемены. Но до моих сроков еще далеко, а может быть, они никогда и не наступят. Эта фраза – фальшивая, потому что праздная. В круг чувствований моих эти соображения и заботы не входят. Мне и вокруг меня – хорошо. Дальняя твоя служба, грозившая нарушить эту гармонию, тоже оказалась сносной, а с тем и все благополучно. Крепко целую тебя.
Твой папа
Много говорила о вас, о тебе и маме Мария Степановна Волошина. Часто встречаю людей, знающих тебя и с любовью о тебе отзывающихся.
Мне недолго пришлось прослужить в Хадабулаке – наш округ стали сокращать, и на увольнение подали просьбы все три офицера с техническим образованием, стоявшие во главе ремонтной базы. В том числе и я. Кончилось тем, что вместо симпатичного начальника базы Сергеева нам прислали крепкого службиста-подполковника, и всю нашу часть решили срочно передислоцировать в Кяхту.
Мама проводила лето в санатории во Внукове и писала мне 26 июня 1953 года: “Я очень переутомилась… нервными встрясками (главным образом папиной болезнью), оторванностью от тебя, постоянным ожиданием…”
За справками о папе она звонила в Переделкино на соседнюю дачу к Ивановым. У папы не было телефона. “Разговаривала с Тамарой Владимировной, – писала она мне. – Папа чувствует себя хорошо, в Москву не ездит, работает много. Я постараюсь на этой неделе отсюда попасть все-таки к папе”.
Папа в это лето получил корректуры своего перевода “Фауста” и был очень доволен восстановившейся работоспособностью и результатом редактирования текста.
“Как я себя чувствую? – писал в это время папа Оле Фрейденберг. – Да наисчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия для того чтобы удавалось то, что я задумал, это неустранимое условие. И по какой-то предустановленности это чувство счастия ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача.
Пошла корректура обеих частей Фауста, и я не меньше десятой доли этой лирической реки в 600 страниц переделал заново в совершенно других решениях, было любопытно, могу ли я еще себе позволить такую блажь и дерзость, как, не считаясь с часами дня и ночи, пожелать родить на свет такого Фауста, который был бы мыслим и представим, который отнимал бы у пространства место, им занимаемое, как тело, а не как притязание, который был бы Фаустом в моем собственном нынешнем суждении и ощущении”[368].
По совету Эренбурга у мамы родилась мысль написать письмо тогдашнему премьер-министру Маленкову с просьбой о содействии моему увольнению в запас. Она обратилась за помощью к папе. Он очень не хотел этого делать. Одним из самых твердых Бориных правил был отказ от каких бы то ни было льгот и привилегий, хотя бы и положенных по праву. Ему глубоко претило всякое примазывание к государственной кормушке и обеспечение себе особых прав не на общих для всех основаниях. Этим и объяснялось то недовольство, с которым он все же выполнил мамину просьбу.
После трудного перебазирования в Кяхту мне удалось приехать в Москву в отпуск. Папа вызвал меня к себе по телефону. Был темный вечер осени 1953 года. Он вышел ко мне навстречу в скверик в Лаврушинском. Помню его серое итальянское пальто в елочку, в каких ходило тогда пол-Москвы, оно очень шло к его седине. Мы сели на лавочку. Он был сердит на то, что мы прибегаем к такому способу, и убежден, что это бесцельно и ведет только к напрасным надеждам, унижениям и потере времени. Потом он прочел мне текст своего письма, где писал, что не смеет судить о характере моей работы, но просит дать мне возможность ее закончить, так как ее научное значение в области автоматического регулирования засвидетельствовано специалистами. Ответ пришел в декабре. Он был написан военным чиновником в Чите, куда было переслано папино письмо к Маленкову с просьбой разобраться.
Кяхта – старый город на границе с Монголией, полностью разрушенный, там сохранились развалины большой церкви, домика декабриста Бестужева и каких-то складов. Остальное растащили на кирпич жители расположенного в нескольких километрах бывшего города Троицко-Савска, переименованного теперь в Кяхту. В центре города – замечательные ампирные здания – вроде петербургских манежей и гостиных дворов, в одном из них – краеведческий музей, в котором сохранились вещи, принадлежавшие жившим в округе декабристам, великолепная минералогическая коллекция Ферсмана, образцы местной фауны и флоры.
Сначала я жил в комнате у старушки, чей дом стоял на горке, откуда был прекрасный вид на город. Она когда-то много лет провела при посольстве России в Урге и интересно рассказывала о дореволюционной Монголии, непрерывно курила и пила чай. Вскоре мне отвели маленькую комнатушку в одном из красных кирпичных домов для офицеров военного городка в ста метрах от государственной границы.
Потекли отупело унылые дни. Зима установилась в ноябре. В свободное время офицеры базы ездили на охоту. Один раз я принял в ней участие, но джейраны нам не встретились, а выпущенный кем-то заряд по стае мелких птичек полностью отвратил меня от этого развлечения. Синие дальние горы, открывавшиеся с высоты в сторону Монголии, были неописуемо красивы.
Запомнилась поездка в Улан-Удэ, откуда я ночью разговаривал по телефону с папой. У него тогда вышел “Фауст”, обе части в одном томе, который он вскоре мне прислал. Таня готовила диплом, они ссорились с мамой и обе жаловались мне друг на друга. Единственной моей отдушиной было тогда запойное стихописание.
Мама переслала мне копию официального ответа на папино письмо, и я, разбирая его ошибки и натяжки, написал папе. Он был прав, считая это предприятие напрасным. Мне великодушно предлагали, сидя на месте, продолжать работу по своей теме без возможности эксперимента и живого обмена мнениями.
Дорогой мой папочка, – писал я 2 января 1954 года, – мне всякие переводы в другое место и прочие ничего не решающие варианты просто не нужны. Я чувствую прямую невозможность своего дальнейшего существования в армии мирного времени, противоестественность для себя этой формы бытия человеческого. И ничто облегчительное (перевод или еще какое удовольствие) не внесет изменений. Мастером мне тут сделаться негде (разве преподавать – но на это нет никаких надежд), начальником же я быть не способен так же, как сочинять симфонии, хоть это, может, и самое замечательное и почетное творчество.
За прошедшие два месяца я как никогда понял, что “жизнь прожить – не поле перейти”. Я это и принял сейчас, но то, как я сейчас живу – не движение, а застой и постоянное себя ломание. Я и не жду, не надеюсь на подарки судьбы ни в какой области.
8 янв<аря> 1954. <Москва>
Дорогой Женя!
Получил твое письмо. Конечно, все это очень печально, но что же делать. Все перечисленные тобою неточности я в ответе отметил, но напрасно ты думаешь, что они умышленные и что тут такой лично заостренный, диавольский расчет. Отказ, формально, получил я, но и то не ощутил никакой личной ноты, а служащих в армии и обращающихся с прошениями так много, – едва ли случаи, подобные твоему, мыслимы, как единичные. Тебе очень тяжело, а фразы мои очень спокойные, тут действительно большое противоречие, но ведь и из этого нельзя извлечь ничего практически действенного, ничего, изменяющего положение. Я не верил в реальность ваших представлений и о действительности, и о силе моего вмешательства и письма, и оказалось, что я гораздо ближе к жизни, чем ты и мама и Илья Григорьевич, а вы все – восторженные романтики, видящие вещи превратно и наивно. Я никогда для своих надобностей не делал шага, который сделал для тебя, я его сделал против воли, чтобы у тебя не получилось ощущения холода и сдержанности, которые огорчили бы тебя.
Я не понимаю, что ты собираешься делать и что в таком положении значит не оставлять борьбы. Во всех областях человеческого существования есть два разряда, дела и разговоры. Я всегда старался напирать на первое и только иногда, уступая чьим-нибудь настроениям, делал ошибку, вступал на второй путь. Но ведь у меня совсем другая философия, и примиренность с жизнью, смягчающая все огорчения. Если я скажу тебе, чтобы ты не падал духом, ты будешь прав, полагая, что это – слова, не стоящие мне ни копейки.
Мне показывали стихи о Байкале, мне они очень понравились. Есть один факт в твоей судьбе, который мне кажется самым, пока, здоровым и положительным, это твоя женитьба и твоя жена. Мне очень хочется, чтобы вы друг друга не потеряли, а сохраните вы друг друга только в том случае, если будут в действии другие стороны вашей участи и ваших характеров, не военные, не должностные, не направленные на бесцельное прошибание стенки лбом и, временно, не осуществимые споры с временно неотвратимым, а те, при которых Кяхта, оставаясь географически на месте, перестает быть Кяхтой, впредь до действительного переезда из нее, осуществимого благодаря тому же миру в душе, который подает счастливые мысли и озаряет фантазией, по настоящему действенной и плодотворной.
Прости, что отвечаю тебе так второпях и, вследствие торопливости, такими малопонятными и неряшливыми периодами.
Крепко целую тебя
Твой папа.
Своим спокойным и по видимости холодным ответом папа хотел остановить мою бесплодную борьбу за существование в нереальной области прошений, обращений, требований и отказов, приводивших в отчаяние. Как всегда, он предоставлял мне полную свободу и не старался навязать свою философию примиренности с жизнью. Но высокий пример его деятельности, отрицающей разговоры как мнимость и опирающейся на реальные дела, был для меня несомненным образцом. Именно эта точка зрения позволяла ему видеть в сильном и здоровом характере Тани Руссиян положительный момент моей жизни. Она действительно знала, что ей надо, и настойчиво продвигалась к поставленной цели, не останавливаясь перед препятствиями, а я метался и мучился ее отношениями с мамой и своим положением между ними двумя. Я понимал, что в Кяхте ей нечего делать и нет возможности заниматься ни конструированием машин, ни спортом, которым она серьезно увлекалась. Она уже тогда добилась больших успехов в планеризме, и даже гибель ее ближайшей подруги не могла отвратить ее от полетов. Она видела в папе своего единомышленника и человека дела, что, однако, не мешало ей считать его неудачником, не сумевшим добиться признания, и опасаться, что я последую его примеру.
Для меня ее здравый смысл и определенность выбора становились в то время точкой безумия.
31 янв<аря> 1954. <Москва>
Дорогой Женичка! Когда я был моложе, я, бывало, Рильке, Марину Цветаеву, родителей и всех, кто мне был дорог, просил в письмах (если являлась необходимость писать их) не отвечать мне, так мне важно было избавить их от муки и нежизненного тупика письмописания. И я отвечаю тебе сейчас против воли, только чтобы поскорее предостеречь тебя от одного неправильного, странного для меня в твоих устах словоупотребления, как оно ни распространено в наши дни, и даже у авторитетов. Ты пишешь: “Сегодня у меня перед мамой… и пр…. предельно ложное положение”. И в другом месте: “Они (призраки) сегодня способны сделать то-то и то-то”. То есть это “сегодня” в неправильном значении “теперь”, “в последнее время” или “в настоящее время”.
Как тебе не стыдно, Женя! Откуда бы это ни взялось, расстанься с этим дурным, ложно пошедшим от народного ныне, ноне и немецкого Heute, выражения. И не вступай со мной по этому поводу в объяснения.
На все, что ты написал мне, скажу тебе одно. Ты страшно все, может быть под влиянием мамы, преувеличиваешь: безвыходность своего положения, важность того, что будет с мамой в том случае, если ты перед ней выскажешься искреннее, мое значение (несуществующее), мою сердечность (существующую еще меньше).
Ты пишешь: “Мы с тобой одной крови, папочка”. А на черта мне эта кровь, твоя или моя? Мне брюхом, утробой, а не только головой ближе всякой крови Фауст, за посылку которого ты меня благодаришь.
Кроме теплоты субъективного мира есть ведь также объективный, с которым заставляет меряться гордость и столкновения с которым надо выдерживать с готовностью спокойно, без истерики отступить или погибнуть. Мамина живопись, например, ни разу не испытала встречи с жизнью и проверки действительностью благодаря искусственным условиям, которые ее от этого избавляли.
Все время я тебе твержу одно. Держись доступных, достигнутых рамок в своей жизни, работе, службе. Подвигайся вперед в этих действительных границах (отправляясь от них спокойно и честно, можно зайти бог знает как далеко). Надрывом, истерикой, фантастикой, ходулями никогда ничего не достигалось! Если естественность в быту и семейной жизни дана тебе, не считай этого нестоящей безделицей, иногда это не удается. В течение долгого времени не пиши мне. Мне некогда, а оставлять тебя без ответа неловко и жалко.
Ни во что не буду вмешиваться, о твоем письме не скажу ни маме, ни Тане. У меня совсем другие заботы. Ничего я в этом не понимаю.
Целую тебя.
Твой папа
Папино трезвое отношение и смирение перед временно неотвратимым вызвали мой ответ 24 января 1954 года, в котором я напоминал ему о родстве наших характеров, “родстве по крови”, как я это назвал. Эти слова глубоко возмутили его, потому что для него существенна была только духовная близость. Но я слишком хорошо помнил папины страдания и тяжелую безысходность, которые мучили его в годы нашего семейного разлада и расставания, чтобы не знать, какими силами далось ему “нынешнее гармоническое спокойствие”. Однако именно от этих душевных тупиков и самоубийственных терзаний – зачаточных областей безумия, которые он переживал когда-то, – папа хотел меня предостеречь.
Теперь, как мне кажется, я лучше знаю тот путь обуздания и аскетизма, которым прошел отец от романтизма и разрушительных тенденций молодости к христианскому примирению и всепрощению поздних лет. Именно об этом и хотелось мне поговорить с ним в то время и услышать от него совет в этой области. Но ему даже и тогда было страшно оглядываться на прошлое и вспоминать прежние терзания. Слишком большой ценой заплатил он за приобретенный опыт и не хотел рисковать своим спокойным знанием жизненных основ и заглядывать в те бездны.
Меня мучил “страшный хомут данного Тане и маме зарока”, – моя не дающаяся диссертация. Я писал папе: “Сегодня у меня перед мамой, Таней и всеми моими друзьями и знакомыми предельно ложное положение, из которого я не знаю, как вылезать”. Я готов был доказать смертью искренность своего раскаяния в ложном самолюбии, не позволившем мне вовремя отказаться от этого, и просил папиной помощи в объяснениях с мамой. Ей надо было дать понять, что мне невозможно продолжать работу без необходимых исследований, нужных приборов и консультаций с понимающими людьми.
“Прости меня, Боричка, – что я тебя в свои дела вмешиваю, прости, что не даю тебе спокойно работать. Но мне очень трудно, и состояние мое, как две капли воды, похоже на твое, пережитое неоднократно и особенно сильно, когда ты ездил в Париж. Я сейчас чувствую себя бесконечно одиноким, в разладе со службой, семьей, работой”.
“Это дальше невыносимо, – писал я отцу. – Это призраки, но они стали неестественно сильнее реальности. Они сегодня способны меня, живого, самолюбивого и жизнерадостного, изуродовать и прикончить”.
Вместо бессмысленных вариаций на ту же тему и переливания из пустого в порожнее папа прицепился к неправильному словоупотреблению и написал мне суровую отповедь. Она меня отрезвила и даже обрадовала непосредственной реальностью его голоса и живого отношения.
4 февр<аля> 1954. <Москва>
Дорогой Женичка!
Боюсь, как бы предыдущее мое письмо не огорчило тебя своим мнимым холодом и кажущейся сухостью. Это не так, не печалься. Но мне неимоверно много надо еще сделать при небольшом, вероятно, сроке жизни, оставшемся мне. (Вот ты сейчас вопьешься в эту фразу и примешься расписывать мне, как необходимо, чтобы я долго жил и пр. и пр. Не делай этого, я верю в твои добрые чувства. Эти слова сказаны совсем в другом смысле.) Вот причина, отчего и отстраняюсь я от разбора твоих и ваших дел. Эти дела без меня устроятся. К этому самоограничению моему люди вблизи меня уже привыкли, и даже по праву считая эту черту эгоизмом, прощают его мне. Прости и ты и будь здоров.
Крепко целую тебя.
Твой папа.
С начала года я стал рваться в отпуск. В отчаянии я дерзил и ни на что не обращал внимания. Прилетел я в Москву 23 февраля, по пути в самолете сочинив несколько стихотворений. Сразу по приезде, закинув домой вещи, отправился к папе в Лаврушинский. Вероятно, я производил странное впечатление: заросший, грязный с дороги, страшно худой. Я рассказывал о своем одиночестве, сводившем меня с ума и наполнявшем комнату призраками, с которыми вел беседы. Что-то читал из недавно сочиненного. Папа меня утешал. Но он не говорил, как обычно принято говорить в утешение, что все не так страшно, как мне кажется, и что все пройдет, наоборот, он сказал:
– Что до твоих отношений с Таней, то, считай, что это все ужасно и тяжело, но и это не беда. Горе не пройдет, оно отложится.
Он предлагал мне чаю. Я отказывался.
– Да, – сказал он, – ты пойди домой, прими ванну, чисто побрейся, окружи себя сыром и колбасой. Это помогает.
Потом он позвонил маме и сказал: “Знаешь, наш сын несколько сошел с ума. Но это бывает”.
И опять, реальное отношение к жизни, к тому, что не мы ее лепим, а мы ею живем как высшим началом, покорило и успокоило меня. Примирения с Таней, на которое я надеялся, не получилось. Спустя некоторое время это стало началом смирения перед неизбежностью, иными словами – душевного выздоровления.
Через месяц мы встретились с папой на дне рождения Гали Нейгауз. Я был уже совсем другим человеком.
Вернувшись в Кяхту, я гораздо спокойнее и с новыми надеждами продолжал свои хлопоты об освобождении из армии. Делу мешало, кроме всего прочего, надвигавшееся производство в подполковники. Я сознательно избегал его вплоть до прямого отказа, понимая, что это затруднит мои цели. Около двух недель я провел в военном госпитале на медицинском обследовании, но ничего кроме нервного истощения, у меня не нашли. Это придало моему состоянию некоторую спокойную отрешенность, похожую на выздоровление. Стараясь не потерять ее, я воздерживался от писем к папе и даже не ответил на присылку журнала “Знамя” с публикацией десяти стихотворений из романа “Доктор Живаго”. Это была первая ласточка начинающейся оттепели в литературе, и для нас всех – огромное событие. Папа работал тогда над последними главами романа, во врезке к публикации в “Знамени” объявлялось о его скором завершении.
Свое письмо папе, написанное 2 июня 1954 года, я начинал словами из стихотворения И. Анненского “Pace”:
О дайте вечность мне! – И вечность я отдам За равнодушие к обидам и годам.
Так – дорогой мой папа Боря – сказано у одного хорошего поэта.
Папочка, мне давно хотелось тебе написать, я даже заикался об этом в письмах маме, но все не мог. Дело в том, что мне тут довольно скверно, но в то же время не настолько солоно, чтобы я мог об этом писать без истерик и надрыва. Оставались какие-то надежды, зацепки и чаянья – вроде возможностей кому-то написать и получить положительные ответы и помощь.
Последняя неделя принесла разочарованье – мне на месте ответили отказом и ответным грубым нажимом, а в Москве с моим письмом начальству мама уже почти месяц ходит и советуется, отправлять или нет. Таким образом, перемен к лучшему не предвидится. В то же время тут становится все гаже и гаже. Причина – то, что я со своими учеными занятиями и вообще интересами не общего гарнизонного круга – белая ворона для двух-трех начальников, высокомерных выскочек. Ими же здесь решаются судьбы.
Два прошедших месяца я неплохо работал, но к концу дня меня уже настолько успевают издергать и оплевать, что вечером я почти ничего не могу сделать. А время идет, проходит впустую, безжизненно. Словом, вернемся к эпиграфу и – хватит об этом.
Я писал также, что ко мне хочет приехать мама. С одной стороны, меня это радовало: мне было бы не так одиноко. С другой – я боялся, что ее приезд отнимет остаток времени на собственные занятия и снизит и без того мизерные темпы моей работы.
Папочка, мне очень понравились твои стихи в “Знамени”. Я их знал, но перечел с большим пониманием и чувством. Только одно – “Разлука” – меня не тронуло. Причина – чуждое мне сравнение (вернее, сопоставление) пустыни и моря и развернутое растолковыванье их сходства с тоской, проведенное по формальным признакам.
Конкретность моего впечатления от пустыни в Монголии, рядом с которой я жил, не позволяла сочетать ее с морем, всегда для меня радостным, и с тоской разлуки несопоставимым. Я вспоминал, как море мерещилось за сосновым лесом в папиных стихах 1941 года “Сосны” живым олицетворением детских воспоминаний.
Пустыня же – совсем особая статья, – писал я ему. – Приезжай полюбоваться! Она предельно скрытна и замкнута, в целом и в любом кусочке (вроде песчаного наноса), недружелюбна и неподатлива. Словом, для меня “нарез по сердцу” в следующем стихотворении – несравнимо значительнее четырех четверостиший в середине “Разлуки”.
Но это – ерунда в сравнении с той благодарностью тебе за существование присланного мне, которую я все время ношу.
Папочка, очень бы хотелось узнать от тебя самого, что ты делаешь и близок ли уже Юрий Андреевич к своему насильственному концу, в том же журнале анонсированному.
Мельком я спрашивал, передала ли ему мама “мои плохие стишки”. Она писала мне, что отдала машинистке тетрадку, которую я ей прислал, и собирается дать их почитать папе. Я уже читал ему что-то из них в феврале. Конечно, меня живо интересовало, какого он о них мнения. Но я не знал тогда так, как знаю теперь, каких мук стоило папочке откликаться на присылаемые ему стихи молодых поэтов, а тем более близких ему людей, вроде Жонечки в 1934 году или меня в 1954-м. За свою жизнь он написал множество писем, в которых жаловался на то, что ничего не понимает в поэзии и не хочет понимать, потому что у него стихи возникают не из особого знания законов поэтики и любви к стихосложению, а совсем по другим причинам. Объясняться по этому поводу значит писать исследования о том, как и из чего в его случае рождается поэзия. Об этом в свое время была написана “Охранная грамота”. Особенно он был строг к чужим стихам в период работы над романом.
Папа несколько раз принимался писать мне, но не посылал писем, боясь меня обидеть. Одно из них, по-видимому отвергнутое им, сохранилось в бумагах Ольги Всеволодовны Ивинской и было изъято у нее в 1960 году при аресте. Оно уже было вложено в конверт с адресом, но почему-то не отправлено. Может быть, Ольга Всеволодовна случайно забыла это сделать, если папа просил ее об этом, и потом потеряла его, а может быть, он сам раздумал его мне посылать – и оно попало к ней. Не знаю, что предположить. Вот оно.
27 июня 1954. <Переделкино>
Дорогой Женичка!
Мама дала мне твои стихи с просьбою прочитать их и написать тебе что-нибудь о них. Я всегда боялся этого и уклонялся не оттого, что не допускал мысли, чтобы они были хороши или даже очень хороши; но если бы даже у тебя открылся дар гениальности и именно стихи явились его выражением, и это случилось бы еще при моей жизни, я обязательно прозевал и проморгал это, так совсем совсем по-другому, чем принято, смотрю я на искусство и в особенности на то, что называется стихами, поэзией, литературой.
Например, чтобы недалеко ходить, пожелание Маяковского, чтобы поэтов было много и разных, или возня Горького с молодыми литераторами, учреждение литературных институтов, воспитывание кадров и прочая, совершенно непонятно мне. Так могли желать только плохой поэт и плохой писатель. Это так же странно, как думать, что много богов во много раз лучше, чем один бог, или что чем больше будет отцов у человека, тем лучше. Мало ли что можно пожелать? Например, если бы на деревьях росли жареные сосиски, это, наверное, было бы очень удобно, но едва ли земля выиграла, если бы вся превратилась в кухмистерскую.
Есть множество людей, которые читают и пишут стихи, собираются, любят поэзию, знают поэтов, знают, что хорошо и плохо. Множество моих знакомых, ты и круг твоих друзей – люди этого порядка. Я всегда чувствовал себя чужим и смущался в таком обществе. Мне не доставало начитанности этой среды, принятых ею мерил, ее условного понимания, воображаемой ее твердой почвы.
Я не знаю, что хорошо, что плохо, даже в таких определенных, осязательных и действительных, имеющихся на свете искусствах, как музыка и живопись. Что же мне сказать о таком расплывчатом, лишенном основ и очертаний, несуществующем призраке, как поэзия? Мне кажется, всегда, и особенно у самых больших, она являлась взамен чего-то другого. И только когда она заменяла какую-то неизвестную редкую драгоценность, когда она возникала вместо какой-то великой музыки, великой живописи, великой жизни или великой деятельности, – величие дела, которое она заменяла, придавало ей состоятельности, нисколько не прибавляя определенности и самостоятельного значения.
Я смертельно не люблю слова “поэт” и кроющихся за этим словом представлений, как не люблю слова “скрипка ” и самого инструмента, когда его плаксивый жалостный звук не поддержан гармоническими безднами рояля, оркестра или органа. В такой же степени деятельность стихотворца, не соотнесенная со зрелищем эпохи или не противопоставленная ему, не дополненная параллельно идущим, в прозе выраженным самостоятельным миром, не освященная отдельно сложившейся философией и особо сложившейся жизнью, есть не доведенная до конца, не сомкнувшая концов, ничего собою не обведшая очертанием, оставшаяся некоторою кривою среди кривых, кривой притязательною.
В твоих стихах язык лучше, чем обыкновенно бывает у таких молодых неопытных любителей. Это их хорошая сторона.
Всякое искусство – упражнение в объективности. Я ее не нашел у тебя в той степени, которая утверждала бы и оправдывала это обращение к стихотворной форме. Элегизм содержания слишком житейски личный, слишком подчинен каким-то действительным счетам, недостаточно широк, не поднят до какой-то более общей значительности. Эта повесть превратности, только изложенная стихотворным языком, а не внутренне претворенная. Это моя первая придирка. Вторая. “Пустыня”, “тропа”, “пашня”, “котлован” и пр. и пр. Это название представлений, которые сами по рельефности, определенности и сложности, могут быть отдельными образами или картинами. Я не люблю, когда они употреблены не в их собственном значении и не в переносном метафорическом, а в виде понятий, в виде служебных слов или вспомогательных частиц вследствие ненаходчивости автора, не подыскавшего более точных обозначений для своей мысли, если это действительно додуманная мысль, а не принятая за мысль зачаточная мозговая видимость. Сюда же надо отнести общую бледность и неяркость всех построений, подчиненное положение природы в них, любовь к ней, но незахваченность ее красками до страсти, до самозабвения. Это вторая придирка.
Очень часто, и даже в лучших стихах (на 2-й странице и на 3-й в том стихотворении, которое зимой, в слушании, мне больше всех понравилось) случаи немного поспешного и чересчур уверенного самовозведения в поэты. Много ли радости в этом слове? Я уже сказал, как мне чужды некоторые оттенки его значения. Оставаясь в кругу этих несвойственных мне выражений, скажу, что преждевременность этого самопроизводства непоэтична. Вот третья придирка.
Я знаю, что мои грехи гораздо хуже и многочисленнее, что мне можно возразить и припереть меня к стене множеством выдержек, что я непоследователен и несправедлив. Но я ведь и отмалчиваюсь всегда на тему об искусстве и как чумы боюсь разговоров о “стихах” и просьбы дать отзыв о них.
Вот то пустое, несправедливое, холодное и к делу не идущее, что должен был я сказать на нерадостную для меня, спорную, сомнительную и мне навязанную тему.
Но побежденное страдание, и при этом побежденное так глубоко и благородно, и выраженное так задушевно и мягко, занимает в жизни большое и высокое место и покоряет и настраивает на уважение.
Это главное, остальное пустяки.
Целую тебя.
Твой папа.
Я получил другое, посланное через две недели более короткое письмо – без конкретного разбора, но с обещанием серьезного разговора при встрече.
12. VII.54. <Переделкино>
Дорогой Женя!
Тебя нельзя оставлять без письма. Мама расскажет тебе о нашем разговоре и нисколько не будет виновата, если оставит тебя в неясности насчет моего мнения о твоих стихотворениях. Она не могла вынести из моих слов ничего определенного, потому что никакой определенности они не заключали.
Мне понравился язык твоих стихов. Это лучшая их сторона. Язык этот естественнее и свободнее, чем он бывает у начинающих любителей, непрофессионалов.
В остальном мои представления слишком далеки от общепринятых, чтобы не только судить о чьих-нибудь попытках, тем более сыновних, в художественной области, но вообще заговаривать с кем бы то ни было, даже отвлеченно, без личностей, на общеэстетическую тему.
Например, когда какие-то годы жизни шли у меня в сопровождении Тютчева, или меня сводил с ума Лермонтов, мне никогда не приходило в голову, что еще лучше бы она шла под целый хор Тютчевых или при участии десяти Лермонтовых. Напротив, я радовался их единственности и немногочисленности, а не вынужденно мирился с ней. Эта единственность требовалась мне, входила в состав моего ощущения, моего наслаждения их символическою силой, их условностью, воздействием их одних за всех других. А Маяковскому требуются все эти другие. Ему хотелось, чтобы поэтов было “много и разных”. Мне это так же непонятно, как если бы он хотел, чтобы на земле было много солнц или у него самого было как можно больше разных сознаний.
Всю жизнь я вожу с собой умещающийся на одной полке отбор любимейших, без конца перечитываемых книг. Однако и среди этих немногих с годами оказываются лишние. А Горький считал целесообразным разводить не только цветную капусту и кроликов, но еще и молодых писателей. Отсюда и институты его имени. Это мне тоже непонятно.
Вот видишь, какими странностями связаны мои суждения, как я в этой области несвободен. И всего охотнее я уклонился бы от этих разговоров, увильнул бы от них.
Когда, бог даст, мы в следующий раз увидимся, я обязательно обсужу с тобой и то, что ты пишешь, и мои теоретические взгляды на искусство, совершенно необязательные для тебя и ненужные, потому что ты видел только что, как они расходятся с такими серьезными авторитетами. Но сделаем это в устном разговоре. На бумаге это заводит в немыслимые дебри. У меня было две попытки ответить тебе, два неоконченных трактата, которые в раздражении на самого себя я уничтожил.
Нет, нет, это надо будет при встрече сделать лично. А пока, повремени. И не выводи из этих умолчаний ничего дурного. Твои стихи многим нравятся, я слышал похвалы им со стороны. Но я в совершенно другом положении. Любителей и знатоков поэзии я никогда не любил. Мне недоставало их начитанности и веры в то, что область их пристрастий реально существует. Их почвы я под собой никогда не чувствовал.
Будь здоров. Крепко целую тебя. Как всегда, я очень занят, здоров, хорошо себя чувствую.
Кланяйся маме и поцелуй ее. Я без напоминания пошлю ей денег через месяц, в середине августа. Если потребуется раньше, известите.
Твой папа
Я не отозвался на это письмо – меня отвлекла командировка по ремонтным заводам Забайкалья, куда я возил чинить аварийный двигатель. Кроме того, мне было слишком трудно погружаться в атмосферу своего зимнего отчаяния, вызвавшего к жизни эти стихи. Разговор на эту тему состоялся у нас с папой зимой, когда я ездил в Москву.
В середине лета ко мне приехала мама, стало веселее. Мы ютились с нею в крошечной комнате. В ней было негде поставить раскладушку, и я спал, наполовину задвинутый под стол. Папа регулярно присылал маме деньги.
<3 августа 1954. Москва. Почтовый перевод на 1500 р.>
Дорогие мои, вот деньги для мамы. Пишу на почте, – краток. Здоров, работаю. Зина, Лёня и Галя со Стасиком уехали на машинах в Ялту.
Крепко целую. Ваш Б.
<4 сентября 1954. Москва. Почтовый перевод на 1500 р.>
Дорогие мои! Как вам не стыдно беспокоиться обо мне! Какое напрасное занятие. По счастию чувствовал себя все лето хорошо. Когда бывает иначе, это все лежит в другой плоскости и все зависит от меня самого. Целую.
Будьте здоровы.
2 окт<ября> 1954. <Переделкино>
Дорогие мои!
Может быть, обстоятельства меня опередят и мама окажется в Москве раньше, чем это письмо достигнет Кяхты. Если же нет, мне хотелось бы знать, как мне быть с октябрьскими деньгами, переводить ли их в Кяхту или сберечь в Москве к приезду мамы? Каковы вообще ваши планы?
Я не писал вам потому, что все время занят работой. Зимнее оборудование дома в эти осенние холода подвергается проверке и оправдывает себя. По-видимому, я тут зазимую. Я чувствую себя хорошо. Несмотря на некоторые нескладицы с самого начала моего существования, я, можно сказать, человек счастливый.
Всев<олод> Вяч<еславович> уехал в Болгарию, а Тамара Владимировна поехала лечиться в Карловы Вары. Так как обо мне, как обо всех на свете, иногда распространяют выдумки, рисующие мою жизнь или положение еще лучше, чем они есть на самом деле, то под влиянием одного из таких мифов у меня с Т. В. в вечер, когда мы пошли с нею прощаться перед ее отъездом, произошел не совсем приятный разговор, с обвинением меня в отсутствии принципов и кругозора, обывательстве, нигилизме и прочем.
23-го было твое рождение, Женичка, поздравляю тебя. Если мама еще задержится, пусть кто-нибудь из вас напишет, как ваша жизнь и ваши дальнейшие виды, в чертах фактических.
Крепко вас обоих целую. Простите меня.
Ваш Женин папа.
Я ответил папе 8 октября, преодолев неловкость оборванного разговора:
Лето и осень (у нас уже неоднократно выпадал снег) прошли до предела забитые служебными хлопотами, сопутствуемыми трепкой и порчей нервов, руганью, раздраженностью и отупением.
Маме здешний климат очень тяжел, равно и мой скверный характер. Тем не менее она все не может решиться выехать в Москву. Нам вдвоем много спокойнее, что служит лишним доказательством азбучной истины о легкости реальных затруднений, сравнительно с иллюзорными.
Я радовался возможности папиной зимовки в наново отремонтированном доме. Перед отъездом ко мне мама навестила Борю в Переделкине и рассказывала, как там стало хорошо и удобно.
Тем временем слухи о моем увольнении внезапно получили подтверждение. Я не сразу мог поверить этому счастью. Дело в том, что весной у меня произошла стычка с приехавшим к нам инспектором. В ответ на откровенную несправедливость я, не сдержавшись, высказал ему в грубой форме свое возмущение. Этот инцидент мог обернуться для меня военным судом.
Может быть, все-таки сработало папино письмо к Маленкову – это было время, когда Хрущев начал сокращать безмерно разросшуюся армию, тяжелым бременем своих расходов давившую на его планы экономического расцвета. Меня вызвали в Читу на Военный совет округа, и я давал объяснения по поводу своих претензий. Вместо того чтобы переводить на новое место или отдавать под суд, меня уволили по сокращению штата в чине инженер-майора.
Сборы и сдача дел несколько задержали мой отъезд в Москву. Мамочка ждала меня. Мы еще успели получить встревоженное письмо от папы.
14 ноября 1954. <Переделкино>
Дорогие мои!
Простите, что задерживаю ноябрьские деньги. У меня в этом отношении заминка, которая продолжится еще не меньше недели.
О вас тут с разных сторон беспокоятся ваши друзья и знакомые, в переписке с которыми у вас наступил продолжительный перерыв, а меня ваше молчание не удивляет и не тревожит, не потому что я черств и нечувствителен, а потому, что и для меня время пролетает незаметно в делах и работе.
Я зимую на даче, здоров и чувствую себя очень хорошо. О происшедшем разговоре с Т<амарой> В<ладимировной> я упомянул вскользь и полушутя, не надо придавать этому никакого значения. Она и В<севолод> В<ячеславович> вернулись недавно из своих путешествий, мы встречаемся, у нас прежние отношения.
Все же как здоровье ваше, твое, Женя, и мамино? Крепко вас целую.
Ваш папа
Глава VII (1955–1959) Последние годы
В сорокаградусные морозы мы выехали на поезде до Иркутска, откуда полетели в Москву.
В один из ближайших дней я был в Переделкине. Действительно, наново отремонтированная дача была великолепна. Появились три новые комнаты, ванна, центральное отопление, водопровод, в папином кабинете наверху и в столовой настелили паркет. Выкрашенный в темно-коричневый цвет, с белыми рамами и перилами лестниц, дом был очень красив, наряден и производил совсем другое впечатление, чем старый. Был приведен в порядок участок, от калитки к террасе вела вишневая аллея, в лесной части расчищены дорожки для прогулки. Когда я приехал к папе, он как раз отправлялся гулять. Мы ходили по этим дорожкам и разговаривали.
Еще в Кяхте мне приходило в голову, что я могу папе чем-то помочь, быть ему полезен – может быть, об этом со мной заговаривала мама. Появлялась мысль о сыновнем долге перед ним. Но теперь я увидел, что папа по-прежнему не нуждается в моей помощи и готов свою самостоятельность от меня отстаивать.
Он заканчивал вторую редакцию последних глав романа и собирался вскоре начать его окончательную отделку. Он говорил, что роман неожиданно для него самого стал развитием основной традиции евопейской литературы, поскольку жизнь в нем изображена глазами лишнего человека. Юрий Андреевич оказался в ряду таких героев, как Гамлет и Дон Кихот, и во второй части в нем явственно проступили черты этих характеров, которые в силу своей социальной незаинтересованности в настоящем видят его незамутненным взглядом и по праву становятся судьями будущего. “Свет во тьме светит, и тьма не объяла его”.
Вторая часть теперь казалась ему главной и более существенной, чем первая: в ней вскрывались источники действительной жизни человеческого духа, таинственной и сокровенной, прячущейся в потоке привычной повседневности.
Папа рассказывал мне о слухах, дошедших до него и промелькнувших где-то в западной прессе, о выдвижении его кандидатуры на Нобелевскую премию. Он говорил, что присуждение влечет за собой поездку за границу и выступление, и особенно остро воспринимал свою несвободу и связанность судьбою остающихся тут заложников его поведения. Ему стало известно, что Нобелевский комитет запрашивал относительно него правительство, и что Союз писателей ответил, будто в этом году они собираются выдать Пастернаку Сталинскую премию за переводы, а на Нобелевскую предлагают Шолохова. Он с облегчением узнал, что премию в этом году присудили Хемингуэю.
Что до моих стихов, то разговоров о них было несколько. В тот раз папочка снова говорил мне о свободе языка, сказавшейся в них и его обрадовавшей, о естественности речи.
Потом разговор перешел на тему о профессионализме и дилетантизме в поэзии, и я спросил у отца, не является ли некоторое косноязычие Тютчева и Баратынского признаком их гениальности.
– Нет, – сказал он, – это признак дилетантизма. Профессионал не может себе этого позволить.
Речь зашла о Пушкине. Мы шли вниз по улице от трансформаторной будки к калитке дачи, и я восхищался стихотворением “Зачем крутится ветр в овраге”.
– Это Пушкин, который начитался Шекспира, – сказал Боря. – И у него в каждой строчке – отдельная глубокая мысль, – целая поэма, – предельный лаконизм выражения.
Может быть, тогда же он повторил удивившие меня своей настоятельностью слова:
– Помни, Женя, – если ты будешь когда-нибудь писать обо мне, – что я никогда не был максималистом. А обо всем остальном можешь говорить про меня все, что хочешь.
Вероятно, в следующий раз или чуть позже я прочел папе два стихотворения Арсения Александровича Тарковского, которые мне тогда очень нравились. Среди них была “Осень”. Боря прервал меня на строчке: “То ли сам я к себе не привык…” и сказал:
– Мы с тобой лучше умеем. Но литературой ты будешь заниматься только после моей смерти, – добавил он, сняв этой определенностью лестный оттенок предыдуших слов.
Я был у папы на праздновании Пасхи. Сидевший за столом Ираклий Андроников предложил тост за новое начальство, намекая на недавнее избрание Федина первым секретарем Московской писательской организации. Федин был задет за живое и в ответном слове говорил о разнице между писателями, которые жертвуют своим талантом на благо других, и теми, кто эгоистически культивируют его, отрешаясь от общественных нужд и перекладывая трудности на чужие плечи. Намек был слишком прозрачен, и, обиженный за папочку, я попытался защитить его и сказать, что талант дан писателю для того, чтобы служить людям красотою написанных им вещей, но отец решительным жестом прервал мои рассуждения и перевел разговор на другую тему.
Прорвавшаяся здесь обида Федина на папу затем вылилась в написанных им страницах рецензии “Нового мира” на “Доктора Живаго”, где он упрекал его в “гипертрофированном до невероятных пределов индивидуализме и самовосхвалении психической сущности” Живаго, ради сохранения которой он предает и ненавидит человека и отказывается от своих обязательств перед народом.
Весной 1955 года нас переселили с Тверского бульвара на Большую Дорогомиловскую улицу в недавно построенный огромный дом. Литературный институт расширялся, и Союзу писателей были выделены квартиры, чтобы расселить жильцов. Мы смотрели разные варианты и выбрали квартиру на площади Киевского вокзала. Это было удобно для папиных приездов, потому что он теперь постоянно жил в Переделкине. Да и мне было близко бегать на работу – я получил тогда место преподавателя в авиационно-технологическом техникуме на Садовой-Сенной.
Дни, когда папа бывал в Москве, назначались заранее, и время расписывалось до минуты, чтобы успеть сделать все московские дела. В эти дни мы регулярно виделись с ним. Обычно он заезжал к нам уже на обратном пути в Переделкино, рассказывал о себе, делился своими намерениями. Если не хватало времени зайти, он посылал записки. В это время у него появилась машина и шофер, которым распоряжалась Зинаида Николаевна. Папа по-прежнему любил ездить на электричке, чтобы свободно распоряжаться своим временем, но иногда он пользовался шофером для передачи писем, книг, рукописей и прочего, чем сокращал собственные наезды в Москву.
В начале 1955 года отцу предложили в Гослитиздате составить сборник стихов. Он рассказывал нам, как ему не хотелось этого делать, как он разлюбил свои ранние стихи. К тому же он еще не закончил работу над романом, мучаясь затянувшейся переделкой последних глав. Говорил, как трудно отобрать среди ложного глубокомыслия своих старых вещей, обусловленных временем и читателем, то, что может быть ценно и существенно для послевоенного поколения. Я вступился за них и стал читать ему “Петербург” из “Поверх барьеров”, показывая, как это прекрасно, и он зря так обрушивается на свои стихи, ставшие классическими. Он послушал несколько первых строк и прервал меня, согласившись. “Да, это-то конечно”. Так же было с “Марбургом”, который тоже его утешил, но он сказал, что все-таки слишком многословно и надо будет сократить. Основные претензии теперь у него были к его самым знаменитым книгам – “Сестре” и “Темам”.
Меня пугали папины разговоры о том, как он хочет переписать свои старые вещи, усилить и улучшить то, что его в них не удовлетворяет.
– Не бойтесь, что я их испорчу, – сказал он нам с мамой на наши возражения. – Я ведь слишком хорошо помню то, что их в свое время вызвало к жизни и создало.
Его радовало главным образом то, что в сборнике будут его последние стихи, и ради них он соглашался на переиздание старых. Чтобы контролировать и направлять его работу над сборником, папе был назначен официальный составитель книги Николай Васильевич Банников[369], и папа искал для него свои старые книги, которых у него самого никогда не было. Он просил в этом нашей помощи.
7 апр<еля> 1955
Дорогие Жени!
С новосельем вас в добрый час. Я хочу дать вам денег, немного больше, чем обыкновенно. Пусть кто-нибудь из вас зайдет ко мне в Лаврушинский в субботу 9-го, около 2-х часов дня.
Если полный Андерсен, которого я однажды у вас видел, был вашей собственностью, а не из библиотеки, дайте его, пожалуйста, Зинаиде Николаевне на прочтение.
А мне, Женя, принеси для временного пользования мой однотомник 33 года, с портретом Яр-Кравченки. Мне он нужен для составления нового собрания, после чего я его с благодарностью верну.
При разворашивании вещей во время переезда не попался ли вам на глаза альманах “Стык” 20-х годов? Там был более полный Спекторский, который потом воспроизводился в сокращениях. Если чудом такая вещь подвернулась вам, принесите.
До скорого.
Б.
В альманахе “Стык” 1925 года были опубликованы две первые главы “Спекторского”, в частности любовная сцена Спекторского и Бухтеевой, которую папа думал включить в свой новый сборник, но отказался, сочтя ее слишком откровенной и натуралистической.
Четырехтомное собрание Андерсена 1895 года, подаренное мне в свое время папочкой, оставалось у нас среди немногих книг, уцелевших за время войны. Но после чтения Зинаиды Николаевны к нам вернулся только последний том со “Сказкой моей жизни”.
Этим летом у папы оживились отношения с театрами. В Малом собирались ставить “Макбета” с Мордвиновым[370], Рубен Николаевич Симонов готовил “Ромео и Джульетту”, МХАТ заказал папе новый перевод “Марии Стюарт” Шиллера. Как оказалось потом, договор с МХАТом и папина работа над переводом нанесли смертельную обиду Николаю Николаевичу Вильям-Вильмонту, чью “Марию Стюарт” МХАТ забраковал. Хотя позднее Николай Николаевич сумел частично компенсировать свою неудачу, опубликовав свой перевод в собрании сочинений Шиллера, но этот эпизод тем не менее положил конец отношениям старых друзей.
Папочка не мог предполагать такого поворота дел, когда соглашался на предложение МХАТа. Он радовался вовремя подвернувшемуся договору, который помог ему денежно окупить время, потраченное на окончательную отделку и перепечатку романа.
Взволнованный и, как всегда, очень занятой, он послал мне очередные мамины деньги через шофера. Мама была в это время в санатории в Малеевке.
5 июля 1955. <Москва>
Дорогой мой Женёк!
Прости, что не поднялся к тебе сам. Была куча дел в Москве. Недосуг мой только еще увеличился, много новых неотложных театральных предложений. Кланяйся маме и распорядись деньгами.
Твой папа
В это время начинались первые процессы по реабилитации репрессированных. Папочка нам рассказывал, как его дважды вызывали на Лубянку по таким поводам. Один был в связи с реабилитацией жены Сергея Сергеевича Прокофьева Лины Ивановны[371]. На вопрос следователя, каковы были его отношения с Линой Ивановной и что он может сообщить о ней, папа сказал, что это очаровательная женщина, умная и образованная и что у них в доме регулярно собиралось большое общество друзей, которые знали ее гораздо лучше, чем он, – и они могли бы больше рассказать о ней. Следователь попросил папу назвать этих людей, на что он ответил: – Нет, простите, я сначала спрошу у них, хотят ли они, чтобы я их тут называл, и тогда только скажу вам.
Второй раз его вызвал по делу Мейерхольда военный прокурор Ряжский[372], который рассказал, как присутствовал на суде над Мейерхольдом, когда был студентом, и уже тогда заинтересовался его ходом, показавшимся ему чудовищно несправедливым. С этого времени он хотел разобраться в этом деле и сейчас, наконец, получил такую возможность. Просматривая протоколы, он много раз натыкался в них на имя Пастернака, и для него было полной неожиданностью, что он не был арестован и привлечен ни по этому делу, ни по делу Бабеля или Пильняка, где также упоминалось его имя в качестве соучастника.
По этому поводу папа ничего не мог ему объяснить. Но про Мейерхольда и их отношения он сказал:
– Зачем вы меня спрашиваете о Мейерхольде? Мейерхольд, как и Маяковский, были революционерами, были советскими в своих убеждениях и своем искусстве, а я был всегда правым, консерватором, мне было далеко до них. И это их вы должны были бы спрашивать о моем отношении к революции, а не меня о них.
В конце разговора, который записывался стенографически, папа просил вместо подписи под протоколом позволить ему самому сформулировать и записать несколько слов о своем восхищении талантом Мейерхольда, потому что его устную речь стенографистки не всегда понимают. В заключение он спросил, выпустят ли его теперь отсюда, и прокурор, рассмеявшись, подписал пропуск и проводил его вниз до дверей.
Как-то мама узнала от Валентины Ароновны Мильман[373], что та, разбирая архив Всеволода Вишневского, нашла среди его бумаг несколько начальных глав папиного довоенного романа и отдала их ему. Вероятно, эти главы были в свое время переданы в журнал “Знамя” для публикации, но война помешала этому, и они остались в архиве главного редактора. Валентина Ароновна сказала маме, что героиня романа – взрослая Евгения Люверс, что маму очень обрадовало и взволновало, – она давно хотела вспомнить продолжение романа о Люверс, которое читал ей папа во времена их первых встреч. Кроме того, она слишком хорошо знала, как папа нетерпимо относится к своим старым работам и боялась за судьбу новонайденных бумаг. В свою следующую поездку в Переделкино я спросил отца об этом. Маму интересовало, не продолжение ли это романа о Жене Люверс и вообще сохранилось ли что-нибудь от него.
Папа сказал, что это совсем другая проза и к Люверс не имеет никакого отношения. Роман о Люверс он сжег, а это писалось гораздо позднее. Он не объяснил мне больше ничего, сказав лишь, что эту машинопись взяла Зинаида Николаевна, так как сам не хранит ничего своего.
Летом 1955 года папа наконец дал в перепечатку вторую книгу “Доктора Живаго” и в августе принялся за перевод “Марии Стюарт”. Вернувшись после двухмесячного перерыва к роману и просматривая машинопись, он стал понемногу вносить новые исправления в текст, которые в ходе работы принимали все более кардинальные формы. Многие куски были переписаны заново, другие – вычеркнуты. В декабре эти тетради, которые папочка называл “мазней”, были перепечатаны начисто Мариной Казимировной Баранович. Возвращая их Боре, она попросила подарить их мне, что он и сделал. Я безумно любил смотреть, как шла на этих страницах папина работа, как убирались подробности, и на глазах приобретали очерченность и пластическую выпуклость сцены и разговоры. Часто бывало жаль отдельных деталей и выкинутых страниц, они открывали потайные логические ходы или развитие характеров. Как мы смеялись над шуточным стишком Юрия Живаго:
Раз у нувориша В праздник Рождества С бедною Маришей Я пилил дрова.Мне жалко, что папа его выкинул при перепечатке, но я согласен, что это действительно замедляло стремительный ход последних глав.
В начале 1956 года папа предложил рукопись романа в редакцию “Нового мира”. Может быть, это было 19 января, когда он задержался по делам в городе и не успел, как собирался, забежать к нам?
20 янв<аря> 1956. <Переделкино>
Дорогие мои Женя и Женя!
Я вчера, 19-го, будучи в городе, хотел завезти вам деньги, но их оказалось не так много, чтобы можно было сделать это безболезненно и без неприятностей.
Во вторник 24-го вам обеспечена тысяча (я помню, Женя, твою просьбу о полутора, и если передатчиком буду я, а не Зина, я постараюсь эту просьбу исполнить, – в противном случае придется удовлетвориться тысячей, к которой я потом прибавлю недостающее).
Наверное в середине или конце будущей недели (22–29), если попаду в город, навещу вас.
Я здоров и, как всегда, очень занят. Но об этом поподробнее при свидании.
Крепко вас обоих целую.
Ваш Боря.
Я уже давно просил папу отказаться от своей помощи маме, потому что достаточно зарабатывал сам и мог ее прокормить. Конечно, когда я был военным, я получал много больше, чем теперь как преподаватель техникума, но так как мы жили вместе с мамой, нам бы хватало, но папа всякий раз воспринимал такие разговоры как оскорбление, хотя временами ему было не очень просто поделить свои нерегулярные доходы на три семьи, избалованные его щедростью.
Однажды папа пожаловался, что ему трудно ездить в город по делам, а доверенные дорого обходятся. Смеясь, он спросил меня, как я думаю, какую часть заработанных денег ему приходится отдавать на сторону.
– Наверное, половину? – предположительно сказал я, почувствовав по его вопросу, что много.
– Если бы только половину, – махнув рукой, сказал он. – Гораздо больше.
Я с горячностью предложил ему свою помощь и получил в ответ:
– Пока я жив, – сказал он, – ты в эти дела не суйся. И не думай, что я тебя обижаю этим, – это моя забота о тебе.
Сейчас, по прошествии почти сорока лет, я понимаю, в какое чудовищное сплетение я по наивности собирался залезть. Несколько обидевший меня отказ был действительно папиной заботой о моем спокойном и понятном мире, в котором он и для себя что-то находил и берег.
Весной 1955 года окончил школу мой младший брат Лёнечка. Его мечте о музыке, которою он страстно увлекался, не суждено было реализоваться. Она не встречала сочувствия у Зинаиды Николаевны, которая говорила, что это просто зависть к Стасикиному фраку. В то время Станислав Нейгауз уже стал знаменитым пианистом и выступал с концертами, на которые ходили всей семьей. Лёню не учили музыке с детства, и он занимался ею самостоятельно. Папа очень радовался его успехам и говорил, смотрите, он уже Шопена играет. Кроме того, Лёня рано увлекся техникой, и казалось естественным стать ему инженером. Он выбрал Бауманский институт. Он очень хорошо учился в школе и думал, что легко сдаст экзамены. Его спокойная уверенность в своих силах нравилась папочке. Однако на первом же экзамене Лёнечку с полной наглостью срезали и поставили двойку. Зинаида Николаевна считала, что в этом виновато Борино имя. Действительно, Бауманский институт был учреждением с сильной и из года в год возраставшей секретностью, и отбор поступавших производился не по отметкам на экзаменах и школьным аттестатам, а по личным делам.
Я убеждал Леню и папочку, что ему надо поступать на физфак МГУ, где его знаменитое имя может иметь только положительное значение.
Напуганные неудачей с Бауманским институтом, Лёня и Зинаида Николаевна со всех сторон стали получать сведения о блатном характере приема также и в университет. Но подобные пути были недоступны ни Зинаиде Николаевне, ни мне и моим знакомым. Возможность была только одна: хорошо подготовиться к поступлению. Папа писал мне об этом:
3 марта 1956. <Переделкино>
Дорогой Женя!
Отовсюду доходят сведения (и Лёня в этом уверен), что вопрос поступления в Университет – дело родственных и ведомственных связей, подкупа, всяческих происков и т. д. З. Н. готова состязаться в подмазывании нужных пружин, но не знает места приложения своей готовности. Меня все время винят, что я чего-то не делаю, не пишу нужных писем неведомо кому.
Мне кажется, – если бы можно было поручиться, что Лёню будут экзаменовать честно, не надо было бы никаких предварительных хлопот. Но ввиду таких опасений мне очень хотелось бы, чтобы в какой-то части, преподавательской, экзаменационной среды Лёню, очень немногословного и застенчивого, узнали и чтобы знакомство с тобою и Мишей Поливановым было бы первым шагом на пути такого будущего ознакомления. С другой стороны, и Лёня постепенно узнал бы, с кем ему предстоит дело и, если бы это явилось нужно, сказал бы мне, к кому мне нужно обращаться с просьбой или письмом. Помоги мне в этом отношении, я тебе буду очень благодарен, а о Мише нечего и говорить.
В четверг, 5-го, они созвонятся с тобой может быть утром и во всяком случае в 4 часа.
Целую тебя и маму.
Миша Поливанов недавно окончил физический факультет и мог рассказать Лёнечке о том, что это такое. Кроме того, он проверил его знания по математике. Позаниматься с ним физикой мы с папой попросили Мишу Левина, а готовить его по химии взялся я. Уроков химии у нас с ним было немного, Лёнечка хорошо слушал и понимал, но отвечал, смущаясь, очень коротко и верно. Миша Левин прекрасно написал в своих воспоминаниях о своем первом приезде в Переделкино и разговоре о физике с папочкой и Лёней. Как-то мы договорились с Лёней поехать к Мише в Абрамцево, куда тот приезжал на выходные дни из Иванова, где тогда преподавал. Лёнечка водил машину, и такая поездка была для него удовольствием. Однако это испугало Зинаиду Николаевну, о чем папа предупреждал меня запиской:
Женя, З. Н. плохо себя чувствует и просила Лёню не ездить в Абрамцево. Он заедет за тобой в городе на машине и вернется на дачу вместе с тобой.
В один из моих летних приездов в Переделкино папа позвал меня к себе наверх и рассказал о приезде к нему Серджо Д’Анджело, которому он передал рукопись романа. Он тут же заверил меня, что в этом поступке нет ничего незаконного, потому что роман будет напечатан в “Новом мире” и визит Д’Анджело происходил с ведома Союза писателей и в сопровождении официального лица. Теперь отец получил договор от миланского издателя Фельтринелли, который хочет издать роман на итальянском. Он спрашивал моего мнения относительно этого договора и показал мне его и свой ответ. Сказал, что советовался также с Лёнечкой, который полностью поддержал его.
Папино письмо было написано по-французски. Меня удивило в нем предположение, что если издание романа в России задержится и итальянский перевод выйдет раньше, это, несомненно, вызовет серьезные для отца последствия, но он уверял, что готов пойти на них ради издания своего главного произведения. Конечно, я полностью согласился с ним, тем более, что отзвуки угрозы, звучавшие в письме, мне казались в то время совершенным анахронизмом, и я думал, что ему уже нечего бояться. Недавний доклад Хрущева на XX съезде отметал все страхи, относя их ко времени “культа личности”. Теперь я не перестаю удивляться своему дурацкому легковерию и тому, насколько отец был прав в оценке происходящего.
Летом Лёнечка блестяще выдержал конкурсные экзамены и был принят в университет. О ходе его экзаменов я спрашивал папу из Коктебеля, где мы с мамой проводили то лето.
Я писал ему о нашей возобновившейся дружбе с Верой Клавдиевной Звягинцевой[374], которую папа очень любил еще с 1920-х годов, и передавал ему от нее поклон. Во время прогулки, на одном из полынных холмиков, я решился прочесть ей свои стихи, которые ей понравились. Она удивлялась сходству моего голоса с папиным и написала стихотворение “Человек, похожий на другого…”
До 1958 года я ничего не знал о полученном папочкой в это время письме “Нового мира” с отказом печатать роман. Но тяжесть чувствовалась тогда в папиных разговорах, вернее, в том, как он от них воздерживался. Мой день рождения 23 сентября 1956 года пришелся на самое тревожное время. Папочка был у нас в гостях, но ему было явно не по себе, что-то неблагополучное как будто висело в воздухе. У меня вырвалась из рук бутылка шампанского, и вино струей выбило на меня и на стол. Праздник не клеился. Разговоры с Мишей Поливановым и Симой Маркишем[375] были кратки и трагичны по тону. Папочка скоро ушел.
О рецензии из “Нового мира”, которая была подспудным событием этого неожиданно мрачного дня, он не обмолвился ни словом…
Осенью папа написал небольшой цикл новых стихотворений для составлявшегося в Гослитиздате сборника. Уже совсем больная Марина Казимировна Баранович перепечатала этот цикл и сшила тетрадки, которые папа дарил друзьям. Вероятно, такую именно тетрадку он прислал нам с шофером Юрием Михайловичем.
Евгении Владимировне или Жене, кв. 37, 5-й этаж.
Дорогие мои.
Вот тетрадка, которую вы просили. Но свою соответствующую вы, несомненно, куда-нибудь заложили. Верните мне этот экземпляр, когда разыщете свой собственный.
Кроме того, выдайте все-таки Юрию Михайловичу два томика Рильке, II-й и VI-й. Очень прошу.
Боря
Для предисловия к готовившемуся сборнику папа перечитывал Рильке и просил у меня томики его последних стихов и поэтических переводов. Я после войны купил шеститомное лейпцигское издание Рильке и мы с папой им пользовались сообща. Через некоторое время он нашел у букинистов четыре тома того же издания из библиотеки Алексиса Раннита[376], а недостающие продолжал брать у меня.
У папочки после войны не было сил и желания снова собирать библиотеку. Но его всю жизнь сопровождало несколько книг, с которыми он не расставался. Из них я брал у него “Повесть о двух городах” Диккенса на английском и Антологию английской поэзии в серии “Альбатрос букс”. Обычно он давал их ненадолго и вскоре напоминал сам, чтобы я их вернул. Но он с удовольствием подарил мне со своей полки томик стихов Дж. М. Гопкинса и Томаса Харди[377] и не помню какой из романов Антони Троллопа, который он потом взял у меня обратно. Через несколько лет папа принес мне две книжки Дилана Томаса[378], которого очень хвалил.
Однажды, когда у меня в гостях сидел Виктор Хинкис[379], Лёнечка неожиданно привез мне небольшую английскую книжку и сказал, что папа велел ее прочесть и, не задерживая, вернуть обратно. Ничего не подозревая, я дал книгу Хинкису и вышел проводить Лёнечку. Вернувшись, я спросил его, что это за книжка, на что он, отводя глаза, смущенно сказал: “Какая-то сказка про животных”. Это была “Animal Farm” Оруэлла, которая произвела на меня незабываемое впечатление.
В октябре 1956 года папа предложил мне два билета на премьеру “Ромео и Джульетты” в Вахтанговском театре с Любимовым и Целиковской в главных ролях. Я позвал с собой Алёнушку. Как хорошо звучал папин текст, узнавались характерные для него слова и обороты, чувствовалось его живое присутствие – актерский сбой стихотворного ритма ощущался как фальшивый звук в музыке, как личная боль. Сразу вспомнилось, как мы с мамой впервые читали его военной зимой в Ташкенте, в ночь под Новый 1943 год.
Для нас с Алёнушкой этот спектакль стал знаменательным днем. Провожая ее ночной Москвой домой, я получил от нее согласие вскоре пожениться.
Сказали об этом родителям. Мама позвала ее к нам в гости 28 декабря на свой день рождения. Приходил папочка, был Миша Поливанов. Аленушка разливала чай, как будущая хозяйка дома. Папа очень радовался, глядя на нас, и говорил:
– Как хорошо, ведь у вас обоих были такие замечательные дедушки.
Мамочка вспоминала, как они с папой ездили к Густаву Густавовичу Шпету в гости в начале 1920-х годов, как, провожая их и подсаживая на извозчика, Густав Густавович сказал ему строго:
“Ты поосторожней, не вывали – жену Цезаря везешь!” Возможно, что мама носила тогда меня.
В середине февраля 1957 года, когда мы поженились, Зинаида Николаевна предложила нам с Алёнушкой пожить в Переделкине, пока они на некоторое время перебрались в Москву. Шли репетиции “Марии Стюарт”, и папе надо было бывать на них.
Утром мы вместе ездили в город, Алёнушка – в университет, я – в техникум. Потом возвращались назад к Татьяне Матвеевне[380] в жарко натопленные и чисто прибранные комнаты. Нас устроили в маленькой гостиной с роялем, кормили вкусным обедом.
Но в Москве папа заболел. Однажды утром, когда мы еще спали, нас разбудила приехавшая в Переделкино мама, встревоженная тем, что папе стало очень плохо. Она договорилась со знаменитым доктором И. Г. Баренблатом[381], чтобы тот его посмотрел.
Мне надо было срочно отвезти его к папе в Лаврушинский переулок.
Папа кричал от боли. Я остался у него после ухода врача, который снял острый приступ, но потребовал срочной госпитализации. Когда ему стало легче, папочка позвал меня к себе и стал расспрашивать о наших делах. Я развлекал его разговором на разные темы и вдруг перешел на рассказ, который только что слышал от Симы Маркиша о намерениях Сталина, прерванных его смертью, выслать всех евреев из Москвы на Дальний Восток. Боря помрачнел и резко остановил меня:
– Чтобы ты при моей жизни не смел мне об этом говорить. Ты живой человек! И нам с тобой нет до этого дела.
Это единственный раз, когда я завел с ним разговор об антисемитизме. Я знал, что этой темы для него не существует, слишком большое и страшное место она занимала в его детстве и родительском доме, – когда совсем рядом проходили черносотенные погромы, дело Бейлиса, и “процентная норма” регулировала его поступление в гимназию и окончание университета. Я понимал, что мечта Миши Гордона “расхлебать” наконец эту кашу, которую заварили взрослые, была его собственной детской мечтой, не позволявшей ему никогда молча склоняться перед несправедливостью такого разделения. И слишком хорошо зная, как мертвит и суживает эта тема и связанные с ней психологические комплексы духовную свободу человека и какого труда стоило ему преодоление всего этого в себе, папочка стремился навсегда избавить меня от узости подобного взгляда на мир.
Мы с мамочкой навещали папу в Кремлевской больнице на Воздвиженке, куда его вскоре положили. Ему к тому времени уже стало лучше, прошли страшные боли, от которых он кричал. Он был еще очень слаб, но разговор, который он завел с нами, запомнился мне своею глубокой значительностью.
От него недавно ушла навещавшая его Ольга Всеволодовна. Мы столкнулись с нею на выходе. Отец рассказал, что она занимается его издательскими делами. Но они внезапно застопорились – стихотворный сборник, который составлял Банников, застрял в типографии, и он отказался вносить требуемые от него поправки в автобиографическое вступление к нему. Что издание “Доктора Живаго”, которое начали редактировать в Гослитиздате, тоже остановлено. И все же, несмотря на это, он должен сознаться, что очень счастлив своей жизнью и тем, что у него есть возможность любить и быть любимым в этом возрасте. Он говорил, что был воспитан с юности на крепком нравственном тормозе, и пример родительского дома привил ему толстовский взгляд на семью. Но лирика, которая стала его профессией, постоянно раскачивала его. Он рассказывал, что Зинаида Николаевна совершенно сгорела в романе с ним, но тем не менее он всегда на страже ее интересов и никогда этого не изменит. Его короткий роман с Ольгой Всеволодовной был резко оборван им через год и никогда бы не возобновился, если бы ее не арестовали. И теперь, когда она освободилась, он, по требованиям своей совести, не может ей ни в чем отказать и полностью покорился всем ее желаниям.
Мамочка, слушая все это, плакала и повторяла, как она его понимает.
На каникулы мы с Алёнушкой решили поехать в Закарпатье. Перед отъездом во Львов повидали папу в Узком, куда его устроили после больницы. Нас испугал его вид – страшные черные круги под глазами, слабость, худоба. Но он успокаивал нас, говоря, что это просто реакция на пенициллин, и теперь ему уже значительно лучше. Мы с ним гуляли по парку, он рассказывал о Владимире Соловьеве, который жил здесь у Трубецких, и показывал комнату, где он умер. Узкое стояло среди еще незастроенных полей, на горизонте отдаленно рисовался огромный город в своем знакомом с детства облике.
Папа еще в 1928 году возил сюда в санаторий мамочку и очень любил этот дом и парк. Он объяснял нам, что название “Узкое ” образовано от реки Усы и было сначала “Усское”. Через несколько месяцев мы узнавали “ворота с полукруглой аркой” и “дом неслыханной красы” в его стихотворении “Липовая аллея”, написанном по возвращении из санатория.
Мы писали папе 23 июня 1957 года из Мукачева, надеясь, что он уже выбрался в Переделкино из больнично-санаторного круга:
Мы сняли комнату у учителя латинского, немецкого и французского языков. Городок южноевропейский, одноэтажный, черепичный и чистенький. Улицы в акации, каштанах и чинарах. Утренний, дневной и вечерний колокольный звон из церквей разных вероисповеданий и женского монастыря.
Сразу после приезда Алёнушка заболела ангиной, наверное, простудилась в дороге. Боялись осложнения на почки. Нашлось два очень милых врача и все, кажется, обошлось благополучно. Если и дальше будет хорошо, переедем на недельку в Ужгород и потом тронемся домой. Деньги у нас есть, нам хорошо несмотря на волнения и хворь. Окрестности очень приятны, во вторую половину дня, после обеда в диэтической столовой, гуляем. Читаем Толстого. Рассчитываем быть дома к середине августа и навестить тебя. Если захочешь написать нам, то пиши в Ужгород Закарпатской области до востребования, так как письмо нас в Мукачеве уже не застанет, переедем числа первого. Крепко тебя целуем, любящие Женя и Алёнка.
В Ужгороде нас ждала папина открытка:
7. VIII.57
Дорогие Елена Владимировна и Женя, получил, Женя твое письмо. Нога у меня болит и все еще не в порядке, а в остальном я здоров и живу в Переделкине по-прежнему и очень занят, в особенности после 4-х месячного перерыва. Ждите моего звонка по телефону. Может быть, 13, когда я надеюсь быть в Москве, если вы к тому времени вернетесь, увидимся.
Вероятно, именно 13 августа папа, как обещал, забежал ненадолго к нам на Дорогомиловскую и рассказал, что написал несколько новых стихотворений для сборника, издание которого по-прежнему задерживалось.
Вскоре я был у него в Переделкине. Он дал мне тогда с собой беловую тетрадь “Когда разгуляется” – посмотреть стихи и переписать. Среди них была “Вакханалия”. Он рассказывал нам потом, когда мы с Алёнушкой ездили возвращать тетрадь, что композиционным моментом этого стихотворения было дать освещение снизу: свечки в храме, театральная рампа, краска стыда, заливающая лицо.
Про “Золотую осень” он сказал:
– Осень я всегда воспринимал как музей. Под ногами ковры, каждое дерево – произведение искусства, их рассматриваешь, как картины, одно за другим.
Он спрашивал, надо ли вставлять в стихотворение “Снег идет” после слов:
…с ленью той Или с той же быстротойМожет быть проходит время строчку:
Или как слова в поэме?Мне казалось, что без этих слов лучше, – поразительное сопоставление снегопада и хода времени звучало более отчетливо. В рукописи этих слов еще тогда не было, они были вписаны позже.
В стихотворении “Ненастье” были такие строки:
Потный трактор пашет озимь В восемь дисков и борон.Я сказал папе, что, по-моему, трактор боронит землю “дисковыми боронами” и что надо было бы исправить. Он мне ответил, что считает, что бороной называется только рама с зубьями, прицепляемая позади дисков. Может быть, он был прав, но через некоторое время я с удивлением увидел в его тетради свой вариант:
В восемь дисковых борон.
Мы привезли из Мукачева черенки замечательной герани самых разных оттенков, которыми были украшены все балконы и окна Закарпатья, и поделились ими с папой. Наши герани прекрасно прижились. Зинаида Николаевна заказала специальные подоконники под цветы, и вдоль всего большого окна столовой были расставлены красные, розовые и белые герани, которые удивительным образом соответствовали словам из написанного за полгода до этого стихотворения:
К белым звездочкам в буране Тянутся цветы герани За оконный переплет.Папа всегда считал, что написанное предваряет жизнь.
Он рассказывал тогда, что вскоре должен выйти “Доктор Живаго” у Фельтринелли, в Союзе писателей очень встревожены этим – и у него неприятности. Но, как всегда, это было сказано мельком, между прочим, чтобы не волновать нас, и я не стал его расспрашивать. А у него в действительности были в это время страшные дни…
Уже зимой, когда первые бури несколько улеглись, отец рассказывал нам, как его вызывал к себе заведующий Отделом культуры ЦК Поликарпов, называл предателем и двурушником и грозил арестом, требуя подписать письма с протестом против изданий “Доктора Живаго” за границей и возврата рукописи.
– Вы что же – против Октябрьской революции? – спросил он.
– Как вы догадались, Дмитрий Алексеевич! Как вы все правильно поняли!
Этот диалог теперь лишился той страшной откровенности, характерной для отца, а у меня вызвавшей тогда чувство разверзающейся бездны.
У нас той осенью родился Петенька.
Когда это случилось, папа позвонил мне по телефону. Он как будто огорчился, узнав, что мы уже назвали сына Петей, и сказал, что ничего не имел бы против, если бы мальчику дали имя Борис. Ведь он тоже назвал Лёню в честь дедушки, когда тот еще был жив. Меня это взволновало и я обещал, что его именем мы назовем своего следующего сына, а этот уже девять месяцев был Петенькой и называть его по-другому теперь не получится.
Алёнушка на целый месяц задержалась в больнице, и папа послал нам с ней поздравительное письмо.
26 ноября 1957. <Переделкино>
Дорогие Алёнушка и Женя, поздравим друг друга и примем друг от друга поздравления с рождением маленького Петеньки. Как во всех серьезных и чудесных случаях жизни, все слова тут лишние и страшно навязчивым вмешательством сглазить это милое, новое и так доверчиво начинающееся существование. По всем правилам Вам полагается, Алёнушка, подарок, на зубок родильнице, извините, что я это сделаю в бестактной денежной форме, по недогадливости и из боязни, что мы достанем Вам что-нибудь ненужное, в то время как Вам необходимо что-нибудь другое. Желаю Вам поскорее оправиться и окрепнуть.
Ваш Б. П.
В декабре, вскоре после того как Алёнушку выписали из родильного дома, неожиданно, без предупреждения пришел папа, чтобы поздравить нас и посмотреть на Петеньку. Но Аленушка ушла в университет сдавать Радцигу[382] греческих авторов, которых совсем почти в ту осень не читала, я был на работе, мама тоже куда-то ушла. С Петенькой оставалась Марина Густавовна – мы попросили ее подменить Алёнушку. Боря около часу разговаривал с нею, ожидая возвращения кого-нибудь из нас. Марина потом рассказывала, как папочка говорил ей, что рождение Петеньки для него большая радость и этот ребенок – награда нам за все те горести, которые он, папа, причинил нашей семье.
Потом, уже созвонившись, папочка снова приезжал к нам с подарками от Зинаиды Николаевны. Он спрашивал, нет ли у нас каких-нибудь книг о Шиллере – вероятно, он писал тогда свое предисловие к переводу “Марии Стюарт”. У нас с мамой ничего такого не было, но у Леноры Густавовны нашлось старое немецкое собрание сочинений Шиллера с подробным вступлением и комментариями. В следующий приезд мы передали эти книги папе. Возвращая их через некоторое время, он прислал нам посмотреть итальянское издание “Доктора Живаго” и номер журнала “Esprit” с переводами нескольких его стихотворений. Я тогда впервые увидел имя Мишеля Окутюрье, прекрасного французского поэта и папиного переводчика, теперь большого нашего друга.
Это вам на несколько дней. Пожалуйста, обращайтесь осторожно, не запачкайте. Но, кажется, Esprit Женя уже видел. От души благодарю за книги, я извлек из них много пользы. Всем привет.
В это время в папиной переделкинской комнате появились новые полки с присылаемыми ему из-за границы книгами. Зинаида Николаевна купила ему большой гардероб, куда перевесили немногочисленные костюмы и пальто, а освободившееся от них место в старом стеллаже было занято добавочными полками, куда аккуратно ставились новые книги. Папочка очень радовался красоте изданий в нарядных блестящих обложках и водил нас к себе, чтобы показать новые полученные им подарки. Недавно многотомное собрание Вирджинии Вульф прислал ему Исайя Берлин[383], поразившись тем, что папа ее не читал. Как вспоминал потом Берлин, в папиной манере разговаривать ему показалось что-то общее с Вирджинией Вульф, с которой он был знаком в молодости.
Новые полки быстро заполнялись. Через год нижний ряд заняли роскошные художественные издания “Scira”, присланные Елен Пельтье в некотором расчете на то, что в случае нужды их можно будет продать за хорошие деньги. Одну книжку малой серии “Scira”, посвященную Боттичелли, отец принес маме. Скрытая символика этого подарка не обсуждалась, но была душевно понятна им обоим. Кроме неизменного сопоставления маминой внешности с женскими образами итальянского Возрождения, папа помнил, что Боттичелли как художник был ее глубокой любовью. Его удивительная Pieta потрясла ее, когда она была в Мюнхене, трагическое недоумение апостола Иоанна, разглядывающего гвозди Распятого, представлялась ей живым изображением ее горя, пережитого в те годы.
Вскоре в папином кабинете появилась старинная конторка, которую Зинаида Николаевна нашла ему в комиссионном магазине, чтобы он мог писать стоя, как велели ему врачи после недавней истории с ногой, и в ящики которой он складывал получаемые им письма. Его переписка с заграницей росла с каждым годом и очень его радовала. В ней он находил своих единомышленников и поклонников, потому что тот узкий круг друзей и родных, которым ограничивалось в России в то время число его читателей, не мог его более удовлетворять.
Когда в разговорах с папой я ссылался на их мнение, он говорил мне с раздражением, что никогда не писал и не стоит вообще это делать только для знакомых, для тебя и мамы, Тагеров, Баранович и Поливановых, которые и так все понимают.
Зимой папа снова тяжело заболел. На этот раз Корней Иванович Чуковский, взявшийся помочь с устройством его в больницу, не мог добиться места в Кремлевке. Его положили в больницу МК партии в Давыдкове. (Еще несколько лет назад это здание было занято полком охраны Сталина, дача которого находилась неподалеку в глубине леса.) Там папа пробыл почти два месяца до середины апреля.
Мы с мамочкой навещали его там дважды. Сначала он лежал в большой палате на двоих. Его соседом был какой-то крупный военный чиновник, специалист по вооружению. Мы привезли папе по его просьбе шариковые ручки, тогда только появившиеся в продаже. Ему когда-то дарили подобные заграничные ручки, но он не приноровился ни к ним, ни к автоматическим, предпочитая обыкновенные с пером и чернильницей. Но в больнице, лежа на боку, можно было писать только шариковыми, хотя они пачкали и текли. Конечно, нужны они были не для работы, а только для открыток. Мы пробыли у отца недолго и разговор вращался главным образом вокруг медицинских тем и необходимости операции на колене, о которой говорили профессор Вовси, Эпштейн и другие.
Когда мы были у папы второй раз, он был гораздо оживленнее. Лежал в пижаме поверх застеленной кровати и рассказывал о готовящемся в Америке издании романа в “Пантеон букс” у Курта Вольфа. Кроме того, он поразил нас историей, как к нему приходил сюда Федор Панферов, главный редактор журнала “Октябрь”. В прошлом году по его заказу папа написал странное, почти издевательское стихотворение “В разгаре хлебная уборка”. Теперь Панферов предлагал отцу после больницы ехать с Ольгой Всеволодовной в Баку на нефтяные промыслы. Там его поместят в прекрасные условия, и он сможет собрать материал о героическом труде наших нефтяников и таким образом загладить все грехи. Нам с мамой это предложение показалось совершенно диким, папа соглашался с нами, но жаловался на настойчивость Ольги Всеволодовны, убежденной в том, что только так его можно спасти.
Не помню, рассказывал ли нам тогда папа, что Панферов сам был очень болен тогда и собирался ехать лечиться в Англию. Может быть, он хотел своим предложением завоевать Борино доверие, потому что вскоре Панферов, действительно оказавшись в Оксфорде, шантажировал Лиду, пугая ее страшными последствиями, которые будет иметь для Бориной судьбы издание “Доктора Живаго” у Коллинзов, и требуя ее активного вмешательства. Ей хватило смелости отказаться участвовать в этих делах, и она уговаривала папочку не ездить в Баку, опасаясь за его здоровье. “Я очень рад, что вы так хорошо поняли все эти выдумки”, – писал ей папа осенью.
Когда мы собрались уходить, папочка надел пальто и вышел нас провожать. Он опирался на палку, и каждый шаг был ему мучителен. По дороге он рассказал нам, как в раннем детстве ездил сюда, в Давыдково, с отцом на дачу к издателю Петру Петровичу Кончаловскому. У него было три сына, младшему из которых – Мите поручали нянчить маленького Борю, а старшие уходили играть в свои игры. Мите было скучно с ребенком, и он сердился на него за то, что он не давал ему участвовать в развлечениях старших братьев. Это был тот самый Дмитрий Петрович, историк Рима, у которого мы жили в Огневском овраге летом 1929 года и чьих книг о судьбах России, написанных в Париже, мы еще не знали.
Расставаясь, папа дал мне пачку писем, чтобы я отправил их в Москве.
Летом 1958 года мы жили в деревне Лапино, снимая комнату в избе. Я уезжал на целый день в Москву, в Энергетический институт, куда меня взял инженером Л. С. Гольдфарб. Часто я ехал до Переделкина и навещал папу. Когда у Зинаиды Николаевны поспевала клубника, меня нагружали ею, и через Баковку я ехал в Перхушково. В саженном фон-Мекковском сосновом лесу меня встречала Алёнушка с коляской. Там водились лоси и подходили к нам совсем близко. Лето было дождливым, грозовым и грибным.
По возвращении в Москву папа снова давал мне тетрадь “Когда разгуляется”, чтобы я переписал себе его новые стихотворения.
Среди них было удивительное “Пронесшейся грозою полон воздух…”
Отец не посвящал нас в треволнения, связанные с изданием романа за границей, тщательно оберегая от беспокойств за него. Но и в действительности этот год прошел сравнительно спокойно. Поэтому известие о том, что ему присудили Нобелевскую премию, было встречено нами с восторгом – как несомненная победа. Казалось, что честь, выпавшая русской литературе в его лице, должна стать общей радостью и праздником. Взволнованные, мы долго гуляли с Мишей Левиным по темным московским переулкам, считая, что Нобелевская премия – надежная защита от любых нападок завистников и недоброжелателей.
Как нам было стыдно своей радости, когда на следующий же день в газетах развернулась подлая кампания, объявившая Нобелевский комитет орудием Холодной войны.
Мы с мамой и Алёнушкой вечером того же дня поехали в Переделкино. Папочка был бодр, внутренне собран и приподнят. Он не читал никаких газет и говорил, что занят переводом “Марии Стюарт” Словацкого – третьей “Марии Стюарт” в своей жизни. Первая была – Суинберна, вторая – Шиллера и вот теперь – Словацкого. Шутил, что так привык и сжился с ней, что она ему кажется членом семьи – бедной Манечкой.
Первым делом он осведомился, не отражаются ли эти события на моих делах в институте. Узнав, что нет, сказал, что у Лёнечки в университете тоже все спокойно. Он процитировал нам по-французски текст телеграммы, которую послал в Стокгольм: “Infiniment reconnaissant, touché, fier, étonné, confus”[384]. Мы грустно посмеялись с ним над тем, что в газетах миллионными тиражами теперь были опубликованы в отзыве “Нового мира” как раз те самые места из романа, которые год назад пугали редакторов в Гослитиздате, и их собирались как-нибудь отредактировать или совсем изъять. И именно их прочли теперь читатели, не знакомые с остальным текстом романа.
Зинаида Николаевна рассказывала, что вчера приходил Федин и, едва поздоровавшись и не поздравив ее с именинами, на праздновании которых всегда бывал в доме, прошел прямо наверх к Боре. После довольно громкого разговора, отголоски которого были слышны в кухне, ушел. Ей не понравилось выражение его лица, и она кинулась к Боре. Он лежал без сознания. Когда он очнулся, то сказал, что Федин приходил уговаривать его отказаться от премии и грозил страшными последствиями. Но он готов на все, а от премии не откажется и не станет плевать в лицо тем, кто хорошо к нему относится.
В понедельник 27 октября папа приезжал в Москву и заходил к нам. На этот день его вызвали в Союз писателей на объединенное заседание президиума. В последнюю минуту он почувствовал себя плохо и не решился подвергаться этому испытанию. Председательствовал на собрании его бывший друг Николай Тихонов.
Мы отпаивали папу чаем, а он рассказывал нам, что послал на заседание письмо, состоящее из восьми пунктов, в которых объяснял причины своего поведения. Это письмо отвез в Союз писателей Кома Иванов. Взволнованный и несчастный, папочка перечислял нам эти пункты.
Сначала он писал, что надеялся, что его радость по поводу выбора Нобелевского комитета разделят с ним его товарищи, потому что эта премия присуждена не только ему, но всей той литературе, к которой он принадлежит, и ничто не заставит его отказаться от этой чести. В его открытой готовности вынести все лишения он просил видеть не дерзкий вызов, но долг смирения. Деньги Нобелевской премии он согласен отдать в Советский комитет защиты мира.
(В наших газетных статьях его телеграмма с благодарностью Нобелевскому комитету трактовалась как доказательство его продажности.)
Кроме того, писал он дальше, премия дается не только за роман, но за всю совокупность творчества, как это обозначено в ее формулировке.
Роман был передан им итальянскому коммунистическому издательству и именно в то время, когда предполагалось его издание в Москве, и он был готов выправить все неприемлемые места, рассчитывая, что его коснется дружеская рука критика, а не экзекутора. Возможности советского писателя представлялись ему шире, чем оказались на самом деле.
Он возражал против отождествления своего героя и его высказываний в романе с авторской позицией, а под конец заявлял, что не ожидает справедливости в вопросе о его исключении из Союза писателей. Они, конечно, могут сделать с ним все, что хотят, хоть расстрелять, но это не прибавит им ни счастья, ни славы. Он их заранее прощал, но предупреждал, чтобы они не торопились с исключением, потому что все равно через несколько лет им придется его реабилитировать – в их практике это случалось не раз.
Папа перечислял нам эти пункты по памяти, у него не осталось копии письма, я подсказывал ему то, что, мне казалось, можно было сказать в его защиту. Он соглашался. Так, я напоминал ему, что его кандидатура уже раньше, еще до написания романа, неоднократно выставлялась на Нобелевскую премию и не нужно связывать их напрямую, как причину и следствие. Он сказал, что написал об этом, и сам вспоминал дальше, как Горький в свое время даже хлопотал о том, чтобы советские писатели сначала публиковались за границей, чтобы можно было получить всемирное авторское право, и хотел таким образом издать “Охранной грамоту” в Германии.
Текст этого письма был зачитан на заседании президиума Правления, которое единогласно исключило его из членов Союза писателей. Оно читалось потом на собрании Московской писательской организации, его цитировали выступавшие, но в архивах Союза мне не удалось его найти, сколько я ни искал, ни сам, ни через других людей. Искренность и гордая независимость, сказавшиеся в нем, логика здравого смысла и благородство, которые все старались тогда подавить в себе в самом зачатке, вызвали страшное раздражение у писательских авторитетов, и они уничтожили все копии этого письма, которое называли “иезуитским”.
(В самое последнее время машинописную копию этого письма удалось найти в Президентском архиве.)
Мы с Алёнушкой снова ездили к папе на следующий день. Маленькая комната с роялем была занята присланной к папе литфондовской врачихой. Она ходила обедать и ужинать в дом творчества, остальное время одиноко сидела у себя. У всех в доме это вызывало недоумение, зарождались подозрения о ее истинной деятельности. Как-то, уговорив ее пойти погулять, Зинаида Николаевна с Ниной Табидзе кинулись проверять ее приборы и аппаратуру, считая, что найдут там подслушивающие устройства. Но ничего такого там не оказалось.
Папа предполагал, что присутствие врача в доме объясняется его жалобами на плохое самочувствие, о котором он писал, отказываясь присутствовать на заседании президиума. У него действительно оказалось повышено давление и болели левое плечо и лопатка. Докторша нашла у него переутомление и велела поменьше работать. Но для папы было всегда наоборот – только работа давала ему хорошее самочувствие, без нее он заболевал.
Шепотом он сообщил нам, что “они” боятся, что он покончит с собой, и именно поэтому прислали врача со всеми средствами необходимой в таком случае срочной помощи.
– Но, – успокоил он нас, – я дальше, чем когда-либо, от этих мыслей.
Он рассказал нам, как дедушка в молодости, в первые годы своей женитьбы, носил в кармане маленький пузырек с ядом, о чем все знали, – на случай, если семейные заботы будут отрывать его от художественной деятельности. Это было очень страшным ежедневным предупреждением семье. Но теперь такие вещи представлялись папе смешным романтическим театром!
В среду 29 октября утром газеты сообщили о присуждении Нобелевской премии по физике Тамму, Франку и Черенкову[385]. В конце неподписанной статьи содержался иезуитский абзац о принципиальной разнице между Нобелевской премией по литературе и по физике: если первая – политическая акция, то вторая – заслуженная награда всей советской науке. Вечером раздался телефонный звонок. Миша Левин просил меня съездить с ним и академиком Леонтовичем в Переделкино. Михаил Александрович Леонтович хотел объяснить Пастернаку, что настоящие физики – не подлецы и придерживаются другого мнения. В частности, требуемую статью отказался написать Л. А. Арцимович, напомнив о завете Павлова ученым говорить только о том, что знаешь, и потребовав, чтобы ему дали прочесть “Доктора Живаго”.
Была метель. Я вышел на угол Бородинского моста, вскоре подошла зеленая “Победа” Леонтовича. Я сел вперед, чтобы показывать ему дорогу. До Переделкина доехали очень быстро. Машину поставили на перекрестке шоссе около трансформаторной будки. Я побежал на дачу, Зинаида Николаевна резко сказала мне, что папы нет дома – он пошел звонить по телефону. Она была мрачна и выразила сомнение в том, что он сможет принять приехавшего к нему академика. С этими неутешительными сведениями я вернулся обратно, но вскоре сквозь летящие хлопья густого снега мы различили в свете фонаря чью-то фигуру. Это был папа, который шел неуверенной походкой и оглядывался назад. Я не сразу узнал его. Его лицо было серым и страшным. Я кинулся объяснять ему, что привез Леонтовича, который хочет высказать свое участие и извиниться за физиков, но он отстранил меня рукой, сказав, что теперь это все уже не нужно, потому что он отказался от премии.
Подошли Леонтович с Мишей. Сначала папа просто не понимал, о чем идет речь, потому что, конечно, не читал статьи и ничего не знал о ней. Но вскоре между ним и академиком завязался разговор. Отец привел текст своей телеграммы в Стокгольм с отказом от премии, объясняя его тем значением, которое приобрела эта награда в нашем обществе, и переводил французские слова телеграммы на русский. Все вместе медленно дошли до ворот папиной дачи, где он извинился, что не может нас принять, потому что утром ездил в город и очень устал. Он попросил нас взять с собой в Москву дочку Ольги Всеволодовны, Ирочку Емельянову, которая ждала под фонарем Фединской дачи.
До Москвы ехали молча. Снег залеплял стекла. Когда Ирочка вышла на площади Маяковского, я попытался загладить неловкость и сказал Михаилу Александровичу, как неожиданно было для меня папино состояние. Вчера еще я видел его таким бодрым и стойким. Леонтович оборвал меня, сказав, что я дурак, его, напротив, поразило духовное величие Пастернака.
Вернувшись домой, я рассказал о поездке и папином отказе от премии. Я не мог понять, зачем он это сделал, – ведь никто не может оценить эту жертву, это уже лишнее и ничего не меняет. Мама заплакала и сказала:
– Боря должен был облегчить свою душу, иначе он не мог поступить.
Через шесть лет, когда Ольга Всеволодовна вернулась из лагеря, куда ее отправили вскоре после папиной смерти, и пришла к нам, она рассказала, что в тот день утром Боря, приехав в Москву вместе с братом Шурой, звонил ей по телефону. Встревоженная каким-то разговором с Гослитиздатом, где ей отказались дать очередной заказ на переводы, она в ответ на папины успокоительные слова резко сказала:
– Да, конечно, тебе ничего не сделают, а от меня костей не соберешь.
Он бросил трубку и побежал на телеграф, где дал две телеграммы. Одну в Стокгольм с отказом, а другую в ЦК: “Дайте Ивинской работу в Гослитиздате, я отказался от премии”.
У меня мороз пробежал по коже от этого рассказа, за откровенность которого я благодарен Ольге Всеволодовне. Я живо представил себе папино состояние и шокирующую несопоставимость двух полюсов: переводов Ивинской из корейской поэзии и высокой чести первой литературной награды мира. В скобках надо сказать, что собственные заработки не были для нее основным источником доходов, но, рассказывая нам этот эпизод, она видела в нем лишь сильнейшее доказательство Бориной любви.
Через день состоялось собрание Московской писательской организации, на котором были многие из наших знакомых.
К нам пришел Миша Левин, и, чтобы не томиться тревогой дома, мы бродили в ожидании по улицам. Только неделя прошла с тех пор, как мы, счастливые, так же гуляли с Мишей, узнав о присуждении премии. И вот теперь, униженные, уничтоженные, мы думали о противоестественности этого идиотизма, переживая жгучий стыд и боль. Посадив Мишу на метро, мы зашли к Леноре Густавовне. Она уже узнала от Л. В. Веприцкой[386], бывшей на собрании, что принята резолюция обратиться к правительству с требованием высылки Пастернака за границу.
На следующий день в институте меня неожиданно позвали к телефону. Раздался незнакомый женский голос, который сказал, что ей поручено сообщить мне, что ничего плохого не будет, и Борис Леонидович уже об этом знает и просил мне это передать. После этих слов повесили трубку. Я был в полном недоумении и до сих пор не понимаю, что это значило.
В воскресенье утром я пошел к Овадию Герцовичу Савичу посоветоваться, он сказал, что только что вернулся из Швеции Эренбург и зовет его к себе на дачу. Илья Григорьевич должен был вручать Ленинскую премию Лундквисту[387], но в Швеции страшный скандал в связи с делом Пастернака, квартет, приглашенный на церемонию, не пришел, и Лундквист отказался принять премию.
Вскоре за Савичем пришла машина из Истры, где его ждал Эренбург, и он предложил мне поехать с ним. По дороге Савич рассказал, как удивлялся Ландау[388], что в мире по-прежнему существуют подлецы и воры, когда он еще мальчиком читал про них у Диккенса.
У Эренбурга была великолепная дача, которую когда-то по маминой просьбе помогал ему строить мой дядя Сеня Лурье. Любовь Михайловна угощала нас луком-пореем, а Эренбург учил уму-разуму.
Он рассказывал, что в Швеции все радио и все газеты говорят с утра до вечера только о Пастернаке, и ему звонил по телефону один фермер и возмущался тем, что он разорится из-за этого – ему надо знать цены на зерно, долгосрочные прогнозы погоды и прочее, а все средства сообщения твердят только о Пастернаке.
Эренбург упрекал папу, считая, что тот делает все только себе во вред и даже от премии отказался совершенно не так, как нужно. Его прервал телефонный звонок Бориса Слуцкого, который спросил его, говорил ли он что-нибудь о Пастернаке.
– Я согласился поехать в Швецию, – ответил Эренбург, – только с условием, что ни слова не скажу о Пастернаке.
– Счастливец, – позавидовал Слуцкий, – а я не мог отказаться, и теперь мне не подают руки.
Повесив трубку и посочувствовав бедному Слуцкому, Эренбург рассказал о заступничестве Джавахарлала Неру, об интервью Хемингуэя, который предлагал Пастернаку свой дом на Кубе, и Стейнбека[389], заявившего, что нисколько не беспокоится за судьбу Пастернака, но возмущен поведением советских писателей, которые визжат и воют, как стервятники, впервые увидевшие вольный полет орла, о письмах Хрущеву в защиту Пастернака от обоих Хаксли[390] и разных пен-клубов.
Хрущев, конечно, не читал никаких писем, и ему не было до них дела. Но когда ему позвонил по телефону Неру, то нашим посольствам были даны распоряжения разослать официальные заверения в том, что жизнь, свобода и имущество Пастернака вне опасности.
Я спешил уехать, так как мне надо было пересказать все это папочке. Я думал, что это поддержит его и ему поможет.
Боря был в своем единственном черном выходном костюме и посреди моего рассказа побежал к Ивановым, чтобы внести какие-то исправления в составлявшийся Поликарповым текст письма. Он скоро вернулся и был очень обрадован известями о мировой поддержке и мнениями Хемингуэя, Хаксли и Стейнбека.
В тот день было напечатано его письмо к Хрущеву. Я не расспрашивал отца о нем и понимал, как тяжело ему было подчиниться еще одному насилию. Публикация сопровождалась иезуитским сообщением ТАСС о том, что Пастернаку не будут чинить препятствий в выезде за границу. Папа был этим встревожен и спросил меня, поеду ли я с ним в таком случае. Я с горячностью ответил:
– Конечно, с большой радостью, – в любом случае и куда угодно.
Он поблагодарил меня и грустно добавил:
– А вот Зинаида Николаевна и Лёнечка сказали, что не поедут со мной, потому что не могут покинуть родину. Ведь меня могут не пустить потом обратно.
Он рассказал, что его снова вызывал к себе Поликарпов и в ответ на папин вопрос, чем тот еще его порадует, потребовал, чтобы он помирился с народом.
– Ведь вы – умный человек, Дмитрий Алексеевич, – передавал нам папа свой разговор с ним. – Как вы можете употреблять такие слова. Народ – это огромное, страшное слово, а вы его вытаскиваете, словно из штанов, когда вам понадобится.
Приехав к папе в следующее воскресенье, уже после публикации второго Бориного письма, мы с Аленушкой оказались невольными свидетелями того, как по дорожке сада один за другим стали приходить друзья – большей частью немолодые интеллигентные дамы. Они заходили – ненадолго и с опаской – проявить внимание, узнать, как и что. Папа некоторое время отсутствовал, разговаривали с Зинаидой Николаевной. Страшной печатью времени была боязнь тайных осведомителей и подозрительность друг к другу. Каждая из пришедших считала свои долгом предупредить хозяйку, что бывшая перед ней и недавно ушедшая – несомненный доносчик, и с ней надо быть осторожнее и ничего при ней не говорить. Не хочется ни называть их имена, ни, чтобы мои слова теперь, по прошествии стольких лет и при нынешней моде на разоблачения, могли служить материалом обвинений, но не могу без грустного смеха не вспомнить об этом. Когда пришел папа, гости поодиночке поднимались на несколько минут к нему наверх и, оглядываясь по сторонам, незаметно исчезали.
И мы совершенно напрасно смеялись над папиными гостями, потому что действительно эти визиты строго контролировались, и теперь мы встречаем их имена в документах Шелепина[391], представлявшихся в то время в ЦК. Слава Богу, никто из них не пострадал.
К концу декабря жизнь потихоньку вошла в прежнюю колею, и Новый год встречали тесной компанией.
Мы приехали к папе 1 января часам к двум, зная, что в три обычно обедают. Но оказалось, что обед запаздывал, так как все поздно встали после встречи Нового года.
Мы немножко погуляли, а потом сидели с папой в маленькой гостиной. В его словах сквозило мучительное чувство неуверенности и неустойчивости его положения, выбитость из работы. Рассыпан набор “Марии Стюарт” Шиллера в издательстве “Искусство”, из юбилейного многотомного собрания Шекспира выкинули все его переводы, и “Генриха IV” заказали переводить кому-то заново. Упоминание его имени в чужих статьях ведет к их запрету, в театрах сняты спектакли по его переводам.
Очень болезненно он воспринял мелькнувшее в западной прессе упоминание о том, что он плохо защищал Мандельштама перед Сталиным:
– Откуда могла взяться такая чепуха? Ведь о разговоре со Сталиным по телефону известно только с моих слов – то, что я рассказывал, – ведь не Сталин же распространял эти сведения.
И папочка стал рассказывать нам о том, как Мандельштам читал ему свое стихотворение о кремлевском горце, которое очень испугало отца, и он, рассердившись на Осипа Эмильевича, сказал, что это не литература, а самоубийство, и он не хочет принимать в этом участия и ничего не слышал. Велел его никому больше не читать.
При передаче своего разговора со Сталиным папа особенно старался нам объяснить, как его смутило отсутствие логики в вопросах. Сталин спрашивал, почему он не заступался за Мандельштама, тогда как он позвонил ему именно потому, что узнал через Бухарина о его заступничестве. Суть дела – что с Мандельштамом будет все в порядке – была высказана Сталиным в первых словах, так зачем же дальнейшие вопросы. Отец внезапно почувствовал за ними желание выпытать, насколько широко разошлось стихотворение Мандельштама. Боясь проговориться, он постарался как можно быстрее перевести разговор на другую тему и сказал, что хотел бы поговорить с ним о жизни и смерти, после чего Сталин сразу повесил трубку.
Я не буду воспроизводить этот разговор, он был дословно записан по его рассказу А. А. Ахматовой и Н. Я. Мандельштам. Сравнивая разные поздние версии папиных рассказов об этом разговоре с тем, как он передавал это нам, я пришел к выводу, что первоначальная запись абсолютно точна.
За обедом на вопрос о переводе “Марии Стюарт” Словацкого папочка сказал, что он уже окончен и сдан, договор заключен, но денег не платят. Все в такой неопределенности, что пусть уж случилось бы самое страшное, но поскорей. После его писем в газету все остановилось. Его исключили из Союза писателей – и это единственное, что ему известно о самом себе. Вероятно, от него ждут официального отречения от романа, но этого не будет. Вместе с ним пострадал Кома Иванов, которого по доносу Корнелия Зелинского[392] выгнали с работы из университета. Зелинский сказал на собрании московских писателей, что сын Всеволода Иванова перестал подавать ему руку после его статьи о Пастернаке, и припомнил к тому же, что Кома сводил внутреннюю эмиграцию с внешней, устроив во время приезда Романа Якобсона в Москву встречу с Пастернаком.
В следующий раз мы приезжали к папе 10 февраля, когда справлялся день его рождения. При переводе старого стиля в новый в 1918 году прибавляли 13 дней – так папин день рождения вместо 29 января стал праздноваться 11 февраля. Вызывало удивление, что он разошелся при этом с днем смерти Пушкина, который по новому стилю отмечался 10 февраля, – по церковному календарю в день преподобного Ефрема Сирина. Только в последние годы папиной жизни была исправлена эта ошибка в пересчете. Так как он родился в XIX веке, то при переводе чисел надо прибавлять 12 дней, и тогда его день рождения по-прежнему совпадает с днем гибели Пушкина. Таким образом, в 1959 году именно 10 февраля за папиным столом собрался весь широкий круг его гостей: Г. Нейгауз, Тагеры, Ливановы, М. В. Юдина, Асмус, Галя Нейгауз со своей подругой и другие.
Удивительно было наблюдать папу на фоне этого общества. Казалось бы, все умные, значительные, блестяще образованные люди, но как они все тускнели и линяли перед ним! Молодая порывистость движений словно подталкивала его и устремляла вперед. Без малейшего напряжения его громкий гудящий голос наполнял дом и был слышен на улице. Он вел разговор за столом, давая ему свое направление, и о чем бы ни говорили – о музыке – Клайберне, о немецкой литературе или театре – все приобретало в его устах особую полнокровность и существенность, подымаясь от плоскости отдельных наблюдений или фактов в высокий мир далеко идущих обобщений и всеобъемлющей глубины. Всегда начиная со скромных признаний в некомпетентности и отказываясь высказывать свое мнение, он потом говорил так ярко, значительно и по существу, что все слова, только что сказанные умными и знающими людьми, рядом с ним сразу бледнели.
Зашел разговор о Томасе Манне, которым восхищался Генрих Густавович, о “Докторе Фаустусе”. Папа начинал с обязательной оговорки:
– Я, конечно, человек не начитанный и плохо разбираюсь в подобных материях, а вы все такие знатоки, как ты, Гарри, или ты, Женя, и все читаете и знаете. Наверное, вы правы, и я не могу с вами спорить, но я все-таки скажу, что не понимаю Томаса Манна и когда пробовал его читать, – а меня все уверяли, что это великолепно, – не мог продраться сквозь его описания и многочисленные подробности, ненужные, на мой взгляд, отвлекающие от существа, которое он хочет передать. Если он пишет, например, об утре, что оно было серое, туманное, сырое, промозглое и так далее и тому подобное – на три страницы одних прилагательных, – то мне это не нужно. Я вижу за этим просто неумение найти и выбрать то одно, необходимое определение, которое бы мне сказало все, что он хочет выразить, и которое единственно нужно – и больше никаких других. Целые ряды прилагательных вместо одного, ненайденного. Нужно найти именно его вместо всего перечисления, но он его не находит. И я не смог его читать, – несмотря на все рекомендации и чужие похвалы, – меня это раздражало, это – дилетантизм, неумение и беспомощность, мне это не нужно.
Я напомнил папе его старое восхищение “Буданброками” Манна, он согласился: так оно и было, но это был другой Манн, молодой, а тут – знаменитый писатель, который позволяет себе печатать черновики, зная, что его читатели всё одобрят.
Потом зашла речь о Федине, о его последней трилогии. Папа говорил:
– Советская литература – очень хорошая литература, она опирается на прекрасные образцы, берет их в пример. Но эта машина все время ломается и против воли работает неточно, допускает ошибки, и все что-то не получается. Вот берут такую прекрасную вещь, как “Капитанская дочка”, и печатают раз за разом – и все в порядке. Но когда печатная машина выдает сначала “Капитанскую дочку”, потом “Капитанского сына”, потом “Генеральскую дочь”, потом “Лейтенантского племянника”, то это уже просто неисправность и никуда не годится.
Папа быстро взбежал по лестнице к себе наверх и тут же ссыпался вниз с недавно полученными им переводами из Пушкина Рольфа Дитриха Кайля. Он очень хвалил их и стал читать на выбор разные места из перевода “Евгения Онегина”. Он задавал вопрос тем из сидящих за столом, кто не знал немецкого, – Гале Нейгауз и ее подруге, Зинаиде Николаевне и другим, – и просил угадывать, из какого места он читает, – так близко Кайль умел передать ритм и пушкинскую мелодию интонации. Ему в ответ читали эти стихи по-русски. Он по-детски радовался, по-видимому, он уже несколько раз пробовал эту игру, и всегда получалось. Папа также восхищался переводами Кайля своих собственных стихов и отметил, что Кайль прошел тот же путь в своем развитии, как и он сам: через Пушкина и Шекспира – к “Доктору Живаго”.
Роскошный обед шел своим чередом: обильные закуски, горячий суп, который папа неизменно проглатывал, обжигаясь и торопясь, пока он не остыл, нашпигованные рябчики – весь кулинарный ассортимент Зинаиды Николаевны, любящей вкусно угостить. Гости, особенно Мария Вениаминовна Юдина, отдавали ему должное, похваливая это “Божье даяние”.
Папа по-детски радовался поздравлениям и подаркам, полученным им со всего света, показывал недавно появившуюся “Bildbiographie”[393], составленную Гердом Руге. Но при этом он неизменно выражал огорчение по поводу всеобщего в Европе и Америке интереса к его прошлому, многое из которого он хотел бы забыть, – к старым стихам и повестям, неудачным, по его мнению, фотографиям и даже дедушкиным рисункам с себя мальчика. Жаловался, что вот во Франции, в сборнике Ива Берже, такую белиберду нашли и напечатали – то, что он написал когда-то в альбом секретарше Гржебина в Берлине по поводу одной станции Untergrund’а[394]. – Но, слава Богу, что нашли только это, а не что-нибудь похуже из того, что я тогда писал.
Были получены поздравление и подарки от Неру, и папа собирался на другой день ехать в Москву на почту за посылкой от владелицы бензоколонки в Марбурге фрау Кете Беккер.
После обеда, когда гости разошлись, он рассказал нам, что некий испанец Хосе Вилалонга, желая заработать на нем пять миллионов долларов, организовывает его турне по Англии и Америке с циклом лекций о русской литературе. Я поинтересовался:
– Как он добьется того, чтобы тебя выпустили за границу? Но папу более всего возмущало бесцеремонное распоряжение его именем и намерениями, он собирался решительно отказать испанцу.
Он говорил, что получает множество писем с просьбами о денежной помощи – его во всем мире считают богатым человеком, а он дожил до того, что должен занимать у знакомых. Жаловался:
– Неужели я недостаточно сделал в жизни, чтобы на 70-м году быть не в состоянии обеспечить свою семью, и должен заново отыскивать средства к существованию.
Он сообщил нам, что ему уже делались недвусмысленные предложения помириться с Союзом писателей – они согласны вновь принять его:
– Наверное для этого надо принести публичные покаяния и отречься от романа, но они никогда от меня этого не дождутся.
История с Нобелевской премией глубоко сидела в нем. Особенно его мучило то, что он поддался испугу и жалости и опубликовал письма в газете – пошел против своих убеждений. Но он не говорил об этом в открытую и никогда не жаловался – это восстанавливалось из случайных обмолвок. Он ждал ответа на свои письма и возмущался элементарной невежливостью:
– Моему отцу в свое время великие князья письменно выражали благодарность по разным поводам, и даже Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заступничестве за арестованных, но куда им до нынешних и до их величия.
Как-то он заезжал ненадолго к нам на Дорогомиловскую и рассказал, что его заставляют на время приезда в Москву премьер-министра Великобритании МакМиллана уехать куда-нибудь, чтобы избежать встреч с журналистами. Это вызывало в нем бурное негодование. Он возмущался бесцеремонным обращением с ним, ограничением его свободы и полным игнорированием его воли. Он видел в этом прямое оскорбление и насилие, которому становилось все труднее и труднее подчиняться. Такое вмешательство нарушало его рабочий распорядок, привычные занятия и устоявшийся обиход, которые были для него совершенно необходимы в то время, и менять их в угоду чужим желаньям не представлялось возможным.
Папа был увлечен открывшимся ему широким миром общения – после Нобелевской премии его и без того обширная переписка возросла в несколько раз. В иные дни он получал до 50 писем и считал себя обязанным на каждое отвечать. Это занимало много времени, и ему пеняли на то, что он зря растрачивается. Но папа и раньше никогда не позволял себе оставлять без внимания проявление уважения или любви, тем более – отвечал он на наши упреки – ему всю жизнь приходилось писать с оглядкой и потому многое из продуманного и насущного осталось незаписанным. Вот только теперь он может высказать это тем, кому это интересно и нужно. Он не хотел ехать в Грузию, куда его звала Нина Табидзе, чтобы не накапливать письма и не увеличивать своей задолженности.
Но пришлось уехать, и мы увиделись лишь вскоре после его возвращения в середине марта. Он рассказывал о полете на знаменитом тогда самолете ТУ-104, который он плохо перенес, о своих прогулках с Нитой Табидзе по городу, о Прусте, которого там, наконец, прочел до конца. Он хотел узнать, что такое найденное время у Пруста и понял, что это одновременное присутствие в каждом моменте настоящего двух времен, прошедшего и наличного, и через ежемгновенно существующее просвечивает воспоминание прошлого, связанное с происходящим невидимыми нитями ассоциаций. Такое понимание всегда было очень близко ему самому, и он старался передать в своей прозе и стихах ощущение слитности и нерасчленимого единства разновременных моментов существования.
Эти мысли должны были получить воплощение в его новой пьесе. В Грузии у него пробудилось желание написать об археологических раскопках, при которых жизнь давно прошедших веков переплетается с реальными судьбами современных людей. Его заинтересовало время первого христианства в Грузии, апостольская деятельность Святой Нины и ее сподвижницы Сидонии. Он спрашивал, нет ли у нас каких-нибудь интересных книг по археологии. С этими же просьбами он обращался к своим друзьям за границей, и через некоторое время получил в подарок прекрасную книгу про Кумранские рукописи, о которых нам с увлечением потом рассказывал. Мы ничего не знали о них до этого, и для него, как и для нас, это было потрясающей новостью и открытием.
Через несколько дней папочка снова неожиданно появился у нас и, взволнованный, сказал, что видел сейчас человека без шеи. Он вернулся от генерального прокурора Р. А. Руденко. Его остановила на дороге, когда он гулял в Переделкине, черная машина и увезла в Москву на допрос в прокуратуру. Руденко объявил ему, что против него заведено дело о государственной измене и потребовал совершенно прекратить встречи с иностранцами.
Причиной этого вызова стала публикация стихотворения “Нобелевская премия” в “Daily Mail”. Папа отдал его молодому английскому корреспонденту Антони Брауну и просил передать Жаклин де Пруайяр в Париж. Но тот напечатал его в газете, снабдив комментариями, в которых последняя строфа о вере в победу добра над подлостью и злобой трактовалась как ожидание политического переворота.
Папочка сказал, что он подписал обязательство не рассказывать никому о допросе и просит сохранить наш разговор в тайне: – Прокурор потребовал от меня письменного обязательства не встречаться с иностранцами, но я категорически отказался его дать. Я сказал ему, что могу подписать лишь то, что я читал его требование, но никаких обязательств взять на себя не могу. Почему я должен вести себя по-хамски с людьми, которые меня любят и желают мне добра.
Вероятно, папочка скрыл от Зинаиды Николаевны вызов к прокурору, чтобы ее не волновать, но она видела публикацию стихотворения и возмущалась комментарием Брауна. Она находила в стихах прямое описание вынужденных Бориных прогулок на своем участке и невозможности выйти за ворота – живое описание лесной части участка (“ели сваленной бревно”) подтверждало правильность чтения. Записка с отказом от приемов полностью соответствовала ее желаниям и была вскоре повешена на двери. Папа объяснял в ней, что ему запрещено принимать иностранцев и просил их не обижаться на него за это. Текст был составлен на трех языках – записка должна была помочь Татьяне Матвеевне отваживать посетителей. Но приходившие часто по прочтении записки просили позволения взять ее себе как автограф, на память, и папе приходилось каждый раз писать ее заново.
Мы видели одну из них, когда приезжали к нему в апреле.
Зинаида Николаевна радостно сообщила нам, что Боря получил известие из Инюрколлегии о том, что на его имя пришли деньги из Норвегии и Швейцарии. Этих денег так много, что теперь им будет обеспечена безбедная старость.
Поездка в Москву по этим делам несколько раз откладывалась. Папа обещал маме, что увидится с ней в один из ближайших дней, но все что-то мешало.
17 апреля 1959. <Переделкино>
Дорогая Женя, извини, что вчера вечером не мог предупредить тебя (для меня самого это явилось неожиданностью), что поездка моя отменяется, и я буду в городе только на той неделе.
Извини также, что тебе так задержали деньги.
Целую Петиньку и всех вас.
Б.
Я позвоню на днях, когда узнаю, в какой день мне надо в город.
Через несколько дней папа заезжал к нам, возвращаясь из Инюрколлегии. Он хотел часть денег разделить между Зинаидой Николаевной и Ольгой Всеволодовной, что-то отдать в Литфонд для престарелых писателей, но большую часть оставить за границей на случай поездки туда.
Впоследствии Ольга Всеволодовна рассказала нам, что они ездили в тот день вместе, и именно она настояла на том, чтобы прежде чем брать деньги, спросить мнения Поликарпова. Тот запретил это делать, сказав, что папа должен передать их все в Комитет защиты мира.
Отвечая на мой вопрос о судьбе этих денег, он мрачно сказал, что распорядился отправить их обратно. Он понимал, что Комитет защиты мира – чистое вымогательство, и лучше уж было бы употребить эти деньги на детские сады.
– Впрочем, это все равно, – грустно заключил он.
Это было для него еще одним страшным ударом. Он мечтал в то время о новой самостоятельной работе, и эти деньги обеспечили бы ему возможность ее написать.
Со своей стороны, Ольга Всеволодовна хлопотала о новых заказах на переводы для отца, самая мысль о которых вызывала у него тогда ужас. Он говорил, что полжизни отдал на переводы – свое самое плодотворное время, и с горькой болью ощущал, как мало успел сделать в жизни. Пробудившиеся в Грузии замыслы пьесы приобретали новые очертания.
В начале июня мамочка уехала в Коктебель и писала папе:
<6 июля 1959. <Планерское>
Дорогой Боря!
Я остаюсь здесь еще на месяц. Можешь ли ты выслать мне деньги за июль. Живется мне здесь хорошо. Я поправилась, загорела, купаюсь и вообще радуюсь, что так хорошо дышится.
Когда я приехала, цвели розы, их было так много, что они не в состоянии были держаться на кусте, они расцветали, а к вечеру уже увядали. Цвел тамариск, маслины. Воздух был такой, что все время ловила себя – вот тут рядом тамариск, а там маслины. Теперь цветут белые лилии и метиола. Второй день гроза круговая и буря.
Крепко тебя целую.
Мой адрес Планерское Крымской области. Дом Федора Николаевича Чернышева Евгении Владимировне Пастернак.
В издательстве “Искусство” папе предложили перевести “Стойкого принца” Кальдерона, но первое ознакомление с текстом огорчило его. Кальдерон испугал своей холодностью и условностями формы.
Он подробно рассказывал нам об этом, как и о своих взглядах на переводы вообще, когда мы втроем с полуторагодовалым Петенькой приехали пожить у него на даче по приглашению Зинаиды Николаевны. Она с Ниной Табидзе и Лёней собиралась в Ригу и Таллин, покататься по Прибалтике. Она отдала нам свою комнату, “лесную”, как она называлась, потому что ее окна выходили в лес. Главным украшением нижних комнат были витрины с небольшими дедушкиными набросками. Их было очень интересно рассматривать. В первый же день, когда мы приехали, папа рассказал нам, что выбрал их из маленьких альбомчиков и дал окантовать. Под каждым рисунком он проставил даты и многие надписал. Он с удовольствием показывал их и объяснял сюжеты. Ему очень нравился рисунок с Жони, сделанный в 1918 году. Она стоит на кухне, повязанная по-бабьи косынкой:
– Правда, видно, что она чистит картошку? Как точно передана ее поза!
Папу встревожило, что Петенька может свалить на себя мраморные бюсты, стоявшие в столовой. По его просьбе сторож Гаврила Алексеевич Смирнов перенес их на террасу, куда Петенька не ходил. Папа объяснил Алёнушке, да и я, вероятно, уже забыл, что один из этих портретов изображает Марию Антуанетту, а другой – мадам де Помпадур и как будто “настоящий Гудон”[395].
Зинаида Николаевна с Ниной Табидзе и Лёничкой уехали 23 июля в 5 часов утра. Папочка провожал их. Накануне целый день готовились к отъезду, жарили баранину в дорогу, топили сливочное масло и складывали в банки. Мы остались в доме одни с папой и Татьяной Матвеевной, нашей старой знакомой и доброжелательницей. Первым делом нам был преподан железный распорядок дня. Папа вставал рано, сам убирался в своей комнате, для чего у него на шкафу всегда лежала чистая тряпка, а около дверей – метла и совок. После этого он сходил вниз завтракать и шел работать, иногда забирая с собой наверх чашку чая. Мы завтракали одни. Папа спускался около часу и уходил гулять, иногда – к Ольге Всеволодовне. Возвращался без четверти три, принимал душ в саду, переодевался во все чистое, и мы садились обедать. Петеньку мы кормили отдельно, до общего обеда, и укладывали спать.
Мы сидели втроем за большим столом, покрытым красной клетчатой клеенкой. За первым блюдом разговаривать было нельзя, папочка глотал суп, пока горячий. Во время второго начинался разговор. Всегда с извинений, что он человек занятой, и ему некогда с нами посидеть поболтать, чтобы мы на него не обижались:
– Я всем так говорю, – добавлял он.
Потом переходил на рассказ о пьесе, которую начал тогда писать:
– Это тема существования искусства при крепостном праве. История актера провинциального театра.
Он очень заинтересовался, когда я сказал ему, что Аленушкина бабушка Мария Александровна Крестовская была актрисой провинциальных театров, выступала в Киеве, Саратове, Витебске и других городах в конце XIX века и начале XX. Он сказал, что обязательно расспросит потом поподробнее, когда будет нужно по ходу работы:
– Ведь работа – это всегда плагиат, использование чужих знаний и мыслей. Но теперь, – он извинился, – я должен идти наверх поспать.
Он непременно спал после обеда, но очень немного, минут двадцать, после чего спускался вниз за чашкой чая и уходил вновь работать. Работал часов до восьми – полдевятого и потом снова шел погулять.
В это время нам было велено ужинать, чтобы освободить на вечер Татьяну Матвеевну, папа ужинал позже, часов в десять, вернувшись после телефонных разговоров. Врачи рекомендовали ему более ранний ужин, но он жаловался, что не может уснуть, если перед этим не поест. На ужин у него всегда было холодное вареное мясо из супа и грузинская простокваша мацони, закваска которой каждый раз перекладывалась из готовой баночки в новую для следующей порции.
Когда папочка ел свой холодный ужин, без помощи уже ушедшей спать Татьяны Матвеевны, мы возобновляли оборвавшийся разговор.
Боря говорил о своем разочаровании в Кальдероне. После Шекспира с его серьезным, детально разработанным содержанием, Кальдерон представляется простой опереткой, в которой не за что ухватиться. Его переводил раньше уже Бальмонт, и это было прекрасно. Но вообще ему ближе переводы прошлого века, когда переводчики брали основное содержание вещи и, складывая его в старый, какой был под рукой чемодан, передавали читателю самое главное, существенное – силу и красоту оригинала, пленившие их. Ставя перед собой литературную задачу ознакомления, они не боялись что-то менять или пропускать мелочи.
Потом появились символисты со своей наукой и детально разработанной техникой. В задаче перевода они видели возможность блестяще продемонстрировать свое умение жонглировать словами, передавать любые нюансы и речевые обороты блестяще подобранными, точными, образными соответствиями. Они подвели под это дело целую академию, считая нужным вложить в этот чемодан и историю литературы, и современную эстетику, свойственные автору влияния, словарь и особенности поэтики. Чемодан сохранял форму оригинала, но становился неподъемным. Чтобы понять и оценить такой перевод по достоинству, нужен научный аппарат и исторический комментарий. Такова “Энеида” Брюсова. Но очарование оригинала из чемодана исчезало, общий замысел вытекал из упаковки, дух выветривался.
Советские теоретики, опираясь на достижения символистов, превращают перевод в лингвистическую задачу передачи отдельных оборотов, фраз, образов, теряя при этом самый смысл произведения, затемняя мысль требованиями словесной точности.
Переходя к своим собственным переводческим работам, папочка говорил, что хотел объединить достижения прошлого века и нынешнего, но основной упор делал на гладкость и естественность языка, передающего живую силу искусства, а не его внешние формы, подчас убивающие жизнь. В первую очередь он хочет найти в переводимом авторе сильные его стороны, живое содержание вещи, то, что ее вызвало к жизни, что руководило автором при ее написании и послужило основой. Когда это понято и найдено, подробности и мелкие обстоятельства ложатся сами собой в нужные места. Но пока он еще не может найти эту подспудную жизненную основу у Кальдерона и это его огорчает.
Вскоре, однако, такая опора была найдена в открывшемся ему мире высокой духовности раннего католицизма. Он говорил нам тогда о глубине черного бархата, на котором, как на фоне, отчетливо проступают черты религиозной мистерии со всеми ее условностями. Такие представления давались в память святого в дни его прославления. Отец воспринял театрализованное житие святого как исторически обусловленную художественную форму, найдя в “Стойком принце” благородно-аскетический реализм, который был ему нужен, чтобы его полюбить.
Когда мы приехали в Переделкино, папа уже вовсю работал над пьесой о крепостном театре. Первые наброски делались еще в июне, перемежаясь чтением исторических материалов, касающихся подготовки реформ 1860-х годов. Разговор о пьесе зашел у нас уже в ближайшие дни по приезде.
Пьеса должна была показать жизнь талантливого человека, актера и драматурга, находящегося в крепостной зависимости. Формулировка невольно выдавала папино душевное состояние этого года, страдания отовсюду обложенного зверя, если взять образ из стихотворения “Нобелевская премия”. При этом, если в “Докторе Живаго” он показал несчастия, выпавшие на долю России в нынешнем веке, то в пьесе стремился вскрыть истоки этих бед, лежавшие в событиях 60-х годов XIX века.
Первоначально папа хотел назвать пьесу “Благовещение” и дать время накануне отмены крепостного права. В судьбе главного героя пьесы актера Агафонова должны были отразиться биографии Мочалова или Щепкина[396]. Посланный своим барином учиться в Париж, он после отмены крепостного права открывал собственный театр в Москве. Папа рассказывал, что в прозаический текст пьесы он вставит стихотворный монолог Агафонова о судьбе крепостного таланта. Другим героем должен был стать вернувшийся с каторги дворовый, который открывает свое дело, – фигура, подобная знаменитым купцам-промышленникам Морозовым. Их положительный вклад в преобразование России противопоставлялся романтически разрушительному началу истории в лице разночинной интеллигенции, основывающей свою деятельность на обиде и возмездии.
Папа огорчался, что работа над пьесой продвигается слишком медленно – он занимался ею только по утрам. Надо было делать Кальдерона, кроме того, много времени отнимала переписка.
Он рассказывал нам об американском издателе Курте Вольфе, который хотел собрать в книгу лучшие статьи о романе и издать ее под названием “Памятник Живаго”. Но папа остановил эти планы. Его интересы уже пережили время критических откликов на роман. Он отказался также написать контрстатью по поводу разборов известного критика Эдмунда Уилсона, о которой его просил английский поэт Стефен Спендер для своего журнала.
Папочка весело смеялся над тем, что Уилсон писал о символическом подтексте романе “Доктор Живаго”. Таинственный дом на углу Большой Молчановки и Серебряного переулка он трактовал как аллегорию пересечения Серебряного века русской литературы с “молчановкой” советского периода. Я хорошо помнил тот огромный доходный дом, который описывал папа в романе, – там жило семейство Серовых, детей художника, с которыми папа сохранял теплые отношения и куда ходил в гости. Мне тоже казалось смешным делать такие сопоставления. А другой случай, который привел папа, – была расшифровка вывески “Моро и Ветчинкин. Сеялки и молотилки”. Уилсон увидел в этих именах сочетание индоевропейского корня слова “смерть” – mort и Гамлета, имя которого может быть переведено на русский как Ветчинкин – Hamlet.
Понимая, что публикация его статьи в английском журнале может быть расценена у нас как новое преступление, папа написал Спендеру письмо. Не споря с аллегорическими трактовками Уилсона, он писал, что стремился в “Докторе Живаго” передать ход событий и фактов как движущееся целое, как действительность, наделенную свободой выбора. И отсюда – намеренное затушевывание характеров и произвольность совпадений, которые ставит ему в упрек критика.
Очень долго впечатления этого последнего папиного лета, проведенного с ним вместе, ярко горели в памяти во всех подробностях. Мы жили каждый своим ритмом и своими делами. Он был погружен в свои мысли, которые иногда прорывались блестящими монологами на самые разные и неожиданные темы. Они были так значительны, что еще долгое время потом думалось, что я всегда смогу их записать во всех деталях. Но логическое развитие темы, совершенно ясное вначале, стало с годами утрачиваться. Некоторые мысли из тех разговоров в сжатом виде мы находили потом в Бориных письмах к разным людям и радовались им, как старым друзьям.
Был разговор о разнице между настоящим искусством и подделкой:
– Представьте себе, что у вас погасла лампочка. Вы вызываете монтера. Приходит человек с кучей проспектов и книжек об электричестве и объясняет, как это полезно и удобно, но после его ухода свет как не горел, так и не горит. А другой человек, не говоря ни слова, лезет на лестницу, соединяет оборванные провода, и свет загорается. Так же и в искусстве. Не надо много поэтов, хороших и разных, которые только рассказывают о пользе и выгоде электричества. С ними нельзя не согласиться, это действительно так и все правильно. И вот читаешь чужие стихи, которые приносят мне, – все хорошо, все верно, но свет не горит. Нужен только один, тот, который ввинчивает лампочку, чтобы стало светло.
Продолжая наш многолетний спор по поводу Эренбурга, папа сказал, что ему и Федину он предпочитает Суркова, чья позиция логически понятна и проста:
– Его откровенное непризнание всего того, что я собой представляю, требует от него непрестанной борьбы. Это – советский черт, его выпускают, чтобы одернуть, обругать, окоротить, вернуть рукопись “Живаго” из Италии. Но я его понимаю: это искренне и неизменно в течение всей жизни. Он так и родился с барабаном на пупке. А Эренбург – советский ангел. Дело в самом спектакле – все роли в нем распределены. Эренбург ездит в Европу, разговаривает со всеми и показывает, какая у нас свобода, как все прекрасно.
И убежден в том, что знает, по каким правилам надо играть, что где говорить. И все в восхищении от того, что он себе позволяет. Такие люди мне непонятны и неприятны неестественностью положения и двойственностью своей роли.
Боря рассказывал, как весной 1956 года к нему приходили два человека. Это были Каверин и Казакевич, но папа не назвал их имена, только сказал, что одного из них даже считают талантливым. Они предлагали ему печататься в “Литературной Москве”, и он дал им “Заметки о переводах Шекспира”. Но вообще он не понимает этих, якобы свободных, писательских журналов. Лучше уж государственные, в них все ясно, что можно говорить, а что нет. А тут вроде все можно, тогда как из чувства взятой на себя ответственности они боятся вообще что-либо сказать. Он предлагал им напечатать роман, но они отказались, хотя Всеволод Иванов готов был его отредактировать.
Был разговор о музыке, о том, что все композиторы, классики, Гайдн и прочие – куранты своего времени, их очень приятно слушать – и только. Но дважды в истории музыки совершался обвал содержания, оно скапливалось и прорывалось Бахом или Шопеном.
Папа с воодушевлением говорил, что проза XX века научилась обходиться без авторского присутствия, освободившись от автора как рассказчика и судьи, в отличие от романов прошлого века, где автор неизменно присутствует и делит героев на хороших и плохих своим отношением к ним и их поступкам. Папа выделял из общего правила прозу Лермонтова и “Повести Белкина”, как родоначальников новой объективности в прозе, отмечая в этих вещах существование жизни самой по себе как реальности, в которой нет авторского суждения и участия.
Прервав себя, он внезапно, лукаво улыбаясь, спросил меня:
– Как ты думаешь, чем писал Достоевский? Я не сразу нашелся, что сказать.
Он продолжал:
– Если Лермонтов писал кровью, Гоголь – слезами, Толстой – краской, Салтыков-Щедрин – желчью, то Достоевский писал… – и папа сделал выжидательную паузу, – чернилами. И в этом заключается высшая профессиональность его прозы. У него – гипнотически-чернильная душа.
В “Повести о двух городах” Диккенса папа находил неиспользованные еще в литературе возможности. Его восхищал повторяющийся момент в “Повести”, когда эхо доносит в Лондон гул шагов революционных толп на улицах Парижа, герои “Повести” чувствуют тревогу, как будто они находятся одновременно в двух временах, в двух городах.
Помню приход Корнея Ивановича Чуковского, который после нескольких слов с папой мгновенно переключился на нашего Петеньку. Это было их первое знакомство. Корней Иванович уселся на лестнице террасы и сразу сумел завоевать его полное доверие. Он фантастически жонглировал стулом, веселился и сам смеялся и махал руками. Петя в ответ громко хохотал.
С Петенькой в то лето был еще другой забавный случай. В начале августа приезжал из Швеции впоследствии знаменитый славист Хедрик Бирнбаум. После разговора с папой они вышли в сад, где сидела Алёнушка, Петенька рядом во что-то играл. Алёнушка читала сборник рассказов о Йосте Берлинге Сельмы Лагерлеф. Увидев гостя, Петя взял у нее книжку и протянул ее ему. Папу очень рассмешила эта “шведская” ситуация.
Папе нравилось, что мы ежедневно купали Петеньку в большой ванне на огороде, приучая к холодной воде, и каждый раз, когда Петенька сидел на ковре в столовой, чем-то сосредоточенно занимаясь, а папа проходил мимо, он непременно останавливался, и они начинали играть в такую игру: Петенька махал на папу ручкой, а папа импульсивно шарахался в сторону и вскрикивал “Айяй-яй!”, как будто пугался. И оба весело смеялись. Это можно было повторять несколько раз подряд, что доставляло обоим почти равное удовольствие.
Зинаида Николаевна подарила Петеньке большой музыкальный волчок, который при запуске издавал сильный звук. Мальчик гудел вместе с ним. Папочка раскручивал его, и ему казалось, что Петенька совпадал с ним в тон, – и радовался тому, что у него хороший слух.
Папа говорил ему серьезным голосом:
– Вот ты скоро начнешь разговаривать как большой, и тогда мы с тобой поговорим по-настоящему.
Петенька действительно вскоре, той же осенью, начал говорить, с каждым днем увеличивая словарь, но, к сожалению, “ поговорить по-настоящему” им уже не пришлось – через полгода папочки не стало. Но тогда, мысленно сопоставляя привычную ему строгую педантичность ухода за ребенком, с тем, как моя Алёнушка легко сама справлялась с мальчиком, он говорил:
– Может быть, вы и правы, что так просто его воспитываете. Наверное, так и надо.
В разговорах о Петеньке Боря с удовольствием отмечал, что мальчик похож на него, судя по его детским фотографиям. Петина смуглость напоминала ему, что его самого в детстве принимали за цыганенка.
Иногда папа ездил по делам в Москву. Рано утром, до жары, он бежал на электричку, возвращался вечером, усталый, но как всегда бодрый:
– Вот что значит – не читать никогда газет! Не знаешь, что происходит, – рассказывал он как-то после такой поездки. – Рядом со мной сидел человек с “Правдой”, я заглянул через плечо и вдруг вижу: большими буквами “Император”. Я удивился, что это значит – в “Правде” – и вдруг – Император! Что-то произошло, а я и не знаю ничего. Дальше больше, посмотрел еще: “Приезд в Москву императора”. Ну и ну! Вот-так-так, дожили! Снова заглянул к соседу: Император Эфиопии. Вот чудеса! Такого и не при думаешь!
Это были сообщения о встрече с Хрущевым Хайле Силассие.
Помню, как однажды приходила к папе группа мальчиков – лет 18–20. Следуя установке, что папу нельзя отрывать от работы, мы пытались им это объяснить. Но такие разговоры обычно кончались тем, что папочка подходил к окну и говорил, что сейчас спустится. Так было и тут. Когда он пришел, они уселись стайкой на диванчике в рояльной комнате, и папа довольно долго разговаривал с ними. Проходя в сад или столовую, я слышал, как папа объяснял им, что под внешним благополучием наших будней на каждом шагу вскрывается пропасть бесхозяйственности, воровства и беззакония. Одним из доказательств были Лёнины рассказы о невозможности легально достать на дорогах бензин, который он вынужден покупать у самосвалов – краденый из государственного кармана.
Со стыдом вспоминаю, как я пытался объяснить папе, что опасно так разговаривать с незнакомыми людьми. На это он мне рассказал несколько совсем смешных случаев.
Как-то вечером, занимаясь у себя наверху, он услышал шаги на чердаке, над головой. Он вышел и открыл люк. Оттуда вылез молодой человек. На вопрос, как он туда попал, тот сказал, что с улицы Горького он увидел свет в его окне и залез на чердак по пожарной лестнице. Папа удивился, услышав про улицу Горького, с которой видно его окно. Но это оказалась не московская улица Горького, а та, что в Переделкине, около магазина. После некоторого разговора о смысле жизни молодой человек стал раскланиваться, отец хотел выпустить его через дверь, но тот снова устремился на чердак. Оказалось, он оставил там свои галоши.
Другой юноша рассказал отцу, что все время чувствует себя словно во сне и спрашивал, что это такое и бывает ли у него тоже самое. Папа показал какие-то странные кругообразные движения около живота, которые делал при этих словах молодой человек. Папа сказал ему, что каждое жизненное проявление требует усилия, жизнь происходит наяву, и для того чтобы жить, надо сделать усилие и проснуться.
В страшные дни прошлой осени подобные посещения и встречи на улице внушали нам всем страх за папочку, которому могли причинить вред спровоцированные на это люди. Однажды, выйдя из ворот, я увидел за кустами фигуру. Это был один из рабочих поселка, я узнал его, он часто бывал у папы. Я остановился, он подошел ко мне и сказал:
– Вы не беспокойтесь, Борису Леонидовичу бояться нечего, мы его в обиду не дадим, мы здесь все при деле.
Однако я понимал, что это “дело” зависит от данного им приказания, которое в любой момент может смениться на противоположное. Папе приходилось все время жить, преодолевая страх. Как-то раз, возвращаясь после прогулки, он грустно сказал мне, указывая на свою дачу:
– Раньше я думал, что здесь повесят доску: “Дом Живаго”, а теперь понял, что этого никогда не будет.
Часто, уходя из дома, он просил нас задержать Тобика, большую белую собаку, которая всегда сопровождала его на прогулках. Это было опознавательным знаком для жителей. Видя Тобика, все понимали, что это идет Пастернак, и отмечали направление его походов, что было для папы не всегда желательно и в некоторых случаях опасно.
Зинаида Николаевна с Лёнечкой и Ниной Табидзе вернулись числа 8–9 августа, но нас оставили пожить еще на месяц – до холодов:
– Пока тепло, – сказала Зинаида Николаевна, – они с Ниной будут жить на террасе, и лесная комната им не нужна.
В доме теперь все время звучала музыка. Играл Лёнечка. Папа с гордостью объяснял нам, что он самоучкой, почти без помощи преподавателя, одолевает настоящие, серьезные вещи. Зинаида Николаевна с утра отправлялась на огород – полоть, и оттуда раздавался равномерный звон ее маленького совочка, у которого оторвался от ручки металлический кружок и мелодично звенел при каждом движении.
Приезжали дядя Шура с Ириной Николаевной.
Все лето регулярно приходила Зоя Афанасьевна Масленникова лепить папин портрет. Ее работа стояла в маленькой комнате при гараже, куда папа иногда заходил “постоять” для нее. Мы с Алёнушкой и Шурой помогали ей поставить станок, смотрели ее работу. Мне показалось, что она слишком выдвинула подбородок и неверно передает форму головы, характерную конструкцию папиного затылка. Она хорошо видна на всех дедушкиных рисунках с Бори, так что он узнается даже на тех, где голова видна хотя бы частично. Чтобы объяснить Зое Афанасьевне, что я имею в виду, мы показывали ей дедушкин набросок с папы сепией 1916 года с гордым поворотом головы и слегка удлиненной шеей, который висел в рояльной комнате.
Как-то за обедом – разговор затеяла Зинаида Николаевна – я спросил папочку, почему он отказался подписаться под Стокгольмским воззванием за мир. Он не ответил мне тогда, но вечером сам продолжил эту тему и сказал, что борьба за мир с помощью прокламаций – глупость и бессмыслица, и если он не сделал ничего в этом направлении тем, что он написал в течение всей жизни, то грош цена и его подписи. Его несколько часов уговаривал Ираклий Андроников, а Зинаида Николаевна объясняла, что это не 37-й год, чтобы отказываться от подписи, что все подписываются, потому что хотят мира. Но Боря говорил, что и без воззвания все знают, что мир хорош, а война страшна. Подписываться под этим бессмысленно, но надо суметь сделать так, чтобы укрепить в человеке любовь к жизни, веру в то, что жизнь стоит того, чтобы жить. Надо сделать жизнь человека дороже, чтобы было жалко ее лишиться. А когда жизнь – копейка и гроша ломаного не стоит, ее не жаль потерять, отдать ни за что. Тогда человек готов на все, и на войну тоже. Искусство – та сила, которая придает жизни бо́льшую ценность, делает ее краше, дороже и тем противостоит разрушительным, самоубийственным тенденциям, то есть войне.
Я плохо себе представлял, что происходит с папочкой в это время. Мне казалось, что я не выспрашиваю его из деликатности. Но, может быть, это был мой эгоизм и самопогруженность – привычка, – так ведь было всю жизнь. И меня больно поразили его слова, как-то сказанные о домашних:
– Ты знаешь, если я на их глазах буду в пруду тонуть, – и он сделал движение головой в сторону соседней комнаты, – то никто на помощь не кинется, пока я не позову.
И прибавил:
– Это я сам их так приучил.
Так вот – и я был тоже так приучен, точнее, так получилось по удаленности нашей раздельной жизни.
Как-то во время очередного ухода папочки к Ольге Всеволодовне Татьяна Матвеевна сказала:
– Если бы дома ему хоть чуточку ласки, да кто бы ему еще был нужен, никуда бы он искать не пошел.
Я спросил:
– А Ольга Всеволодовна?
– А та? Та его к смерти готовит.
Стихотворение “Ева” вызывало у Зинаиды Николаевны и еще у каких-то знакомых дам раздражение. Я в то время связывал его с папиным разговором с одной южноамериканской поэтессой. Папа рассказывал, что она спросила его, почему он не касается в романе и своей поэзии душевных частностей интимной жизни, вообще, почему лирика остается отгороженной от “прелести обнажения”. С сожалением, как о чем-то упущенном, он сказал ей, что это осталось для него в прошлом, он в молодости думал об этом, и у него был плодотворный опыт. Но он не стал его развивать, потому что ничего такого в нашей литературе нельзя было себе представить, а теперь его интересуют более широкие планы.
Вероятно, “Еву” я зря ставил в связь с этим разговором. Тема страсти в поздних стихах, как я понимаю теперь, носит иной, мучительно преодолеваемый характер. Как сказано в статье о Шекспире, “для мыслителя и художника не существует последних положений, но все они предпоследние”. Тут, в “Еве”, намеренный уход от приблизившейся открытости.
Эта поэтесса была Надя Вербино де Таненбаум, которая приезжала к нему по поручению Сюзанны Сока, издававшей в Монтевидео в своем журнале “La Licorne” папину Автобиографию. Отец рассказывал нам, что она спрашивала его также, почему он пишет классическими размерами, которые теперь в западной литературе считаются совершенно устаревшими, так как сковывают мысль, а поиски рифмы навязывают лишние слова. Отец сказал, что пробовал vers libre в молодости и решительно отказался от него. Он считал, что славянским языкам свободный стих несвойствен, а формальная несвобода в стихотворении, напротив – напрягает мысль и слово, заставляет их быть более точными и лаконичными и не дает ложному глубокомыслию заполнять водой страницы.
Мы смотрели по телевидению кинофильм “Последний дюйм”, где несколько раз повторялась удивительная песня, которую пел женский высокий голос в сопровождении хора. Боря как раз проходил через столовую, где мы сидели и, послушав и взглянув на экран, сказал, что на него всегда с неотразимой силой действует женский сольный альт над хором. Я спросил его, не фольклорная ли это песня.
– Нет, что ты, – возразил он, – конечно, авторская, и хорошего композитора.
На титрах потом мы увидели фамилию Метека Вайнберга, мужа Талочки Михоэлс.
21 августа мы с папой были приглашены к Ивановым на Комин день рожденья. Ему исполнилось 30 лет.
Боря пришел только около 10 часов. Когда он появился в дверях, поднялся спор, где ему сесть. Его сажали в центре стола – рядом с Анной Андреевной Ахматовой, он хотел с краю, был внутренне напряжен и не соглашался на роль свадебного генерала, которую ему навязывали хозяева. В результате они с Анной Андреевной сидели друг против друга.
Анну Андреевну спросили о ее публикациях и издательских предложениях. Она сказала, что как раз недавно получила заказ от “Правды”. В то время в газету по воскресеньям вкладывалась дополнительная литературная страница, для которой и требовались ее стихи. Она послала, но “Правда” не напечатала. Анну Андреевну попросили прочесть эти стихи и она прочла:
Я к розам хочу в тот единственный сад, Где лучшая в мире стоит из оград…Про Летний сад, статуи и лебедей, про шествие теней прошлого, освещенных переливами перламутра.
После чтения возникло молчание, которое нарушил папочка, сказав, что если бы “Правда” напечатала это стихотворение, она должна была бы совершенно перемениться с этого дня, а литературная страница – выходить в кружевных оборках и вся розовая и т. п. Анна Андреевна обиженно промолчала, комплименты не были ею приняты и, может быть, даже задели ее.
Стали просить ее еще что-нибудь прочесть. Она выбрала “Из тайны ремесла”, но перед этим она спросила, знают ли присутствующие, что такое lime lite. Пришлось объяснять, что это театральная рампа. Мне показалось, что стихотворение обращено к папе как продолжение разговора. В чтении слышались раздраженные интонации:
И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло, Лайм-лайта холодное пламя Его заклеймило чело.Потом были стихотворения “Работа”, “Муза” и что-то еще, затем Анна Андреевна попросила почитать Борю. Он сказал, что ничего не пишет сейчас и занят только перепиской. Рассказывал об огромном интересе к России во всем мире, вызванном спутником. Одна французская девочка прислала ему стихи:
O, Laпka, tu es la victime de la science…[397]Папа долго отказывался читать свои стихи и с большой неохотой, после настойчивых просьб Симы Маркиша, прочел “Снег идет” и “Золотую осень”.
В начале сентября мы еще были в Переделкине, когда папочка, как-то вернувшись после прогулки, неожиданно сказал, что к вечеру приедут американский дирижер Леонард Бернстайн с женой. Он встретил ее на дороге и пригласил их обоих к себе. Когда гости приехали, то г-жа Бернстайн рассказала, что сегодня восьмая годовщина их свадьбы, и она решила доставить себе удовольствие, наугад поехала в Переделкино и встретила Пастернака.
Пока готовился ужин, Бернстайн в маленькой гостиной играл на рояле мелодии из своей “Вестсайдской истории”, показывая пальцами левой руки на крышке рояля, как танцуют герои. Потом, уже за столом он рассказал о своем вчерашнем концерте, где дирижировал одно произведение американского композитора из Кентукки Чарлза Айвза и “Весну священную” Стравинского. Перед началом концерта Бернстайн сказал несколько слов об их удивительном музыкальном родстве, несмотря на взаимную удаленность – географическую и культурную. После слов о том, что оба произведения равно не известны советским слушателям, из правительственной ложи раздался крик министра культуры Михайлова: “Это ложь!” На следующий день в газете объяснялось, что дирижер позволил себе клеветнические выступления, потому что “Весна священная” Стравинского исполнялась в России в каком-то клубе в начале революции. Бернстайн кинулся в редакцию с требованием опубликовать письменное опровержение, поскольку он хотел сказать всего лишь, что сидящие в зале не знакомы с музыкой, которую он привез. Но газета отказалась его печатать, и он был взбешен.
– Как вы можете жить с такими министрами! – воскликнул он.
Папа улыбнулся и порывисто возразил:
– Что вы говорите, при чем тут министры. Художник разговаривает с Господом Богом и для него пишет свои вещи. А тот ставит ему спектакли с разными персонажами, которые исполняют разные роли, чтобы художнику было что писать. Это может быть трагедия, может быть фарс – как в вашем случае. Но это уже второстепенно.
Бернстайн был в восторге.
В следующее воскресенье, 12 сентября, к обеду, как обычно, съехались гости, Зинаида Николаевна пригласила Ливановых. Их ждали, затягивая начало обеда, но они все не приезжали.
Борис Николаевич появился только к концу обеда. Он был сильно пьян. Оказывается, они сегодня поссорились с женой – и тут по ее адресу полилась грубая брань, разносимая его громким актерским голосом по всему дому. Еле удалось переключить его на другую тему. Ливанов привез с собой двух незнакомых людей странного вида и, представив их как своих друзей и замечательных людей, объяснил, что сегодня познакомился с ними в ресторане “Националь” и обещал им показать Пастернака.
За столом происходила перетасовка, находили места новым гостям, пересаживались, искали чистые приборы. Ливанов потребовал, чтобы спутники произнесли тост в честь гениального Пастернака. Преодолевая страх, косноязычие и хмель, они что-то по очереди пытались выжать из себя и называли папу “известным переводчиком”. Я понимал, как должны были подействовать на него такие похвалы. Это было как красная тряпка для быка. Папочка терпел, терпел и наконец взорвался, наговорил Ливанову резкостей и попросил его уехать и увезти своих собутыльников.
Обед был испорчен, все подавлены некрасивой сценой, папочку страшно мучило, что он сорвался, Зинаида Николаевна защищала своего любимца Ливанова.
В какой-то из дней начала сентября мы ездили на машине за грибами. Такие поездки были ежегодной традицией. Для папочки это была встреча с настоящим лесом, далекое путешествие – почти за 100 верст, тема стихотворения, издавна существовавшая в его жизни и недавно нашедшая свое новое выражение. Для меня это было впервые. Наверное, можно было найти грибное место значительно ближе, но после многих вариантов излюбленным местом стал лес вблизи Вереи.
С вечера Зинаида Николаевна готовила обильную еду – ведь уезжали еще затемно, а возвращались к осенним сумеркам. В багажник складывались большие корзины. Вел машину Лёня. В тот раз ездили папочка, Зинаида Николаевна, Татьяна Матвеевна и я. Разговаривать во время поездки было нельзя. Папа сидел впереди рядом с Лёнечкой и неотрывно смотрел на дорогу и по сторонам. Движущаяся окрестность требовала его неослабного внимания, это было как молитва, в его сосредоточенности чувствовалось религиозное отношение к природе как воплощению Божию.
Ехали по Минскому шоссе, промеж густых лесов, въезд в которые был запрещен. С шоссе сворачивали влево у памятника Зое Космодемьянской и в конце концов выезжали на старую дорогу с канавами по обе стороны. Лес был еловый с примесью берез. Попадались осиновые рощицы. Папа собирал только белые, подосиновики и подберезовики, за остальными – не нагибался. Расходились в разные стороны, аукались. Лёня давал сигнал клаксоном, приглашая поесть. Папа облюбовал себе осиновый перелесок с густой травой и набрал почти полную корзину крепких и чистых красноголовых подосиновиков.
С опушки за большим полем были видны крыши окраинных домиков Вереи. Мы собрали сотни две боровиков разного возраста и качества. Молодые потом Зинаида Николаевна сушила в духовке, а более старые вместе с лисичками и всеми прочими жарила в сметане на огромной сковороде. Грибы ели несколько дней.
Как-то вскоре, вернувшись в Переделкино после работы, я застал Зинаиду Николаевну в полной растерянности и волнении. Папочка заперся у себя наверху, не обедал и был самоубийственно мрачен. Я постучался, он меня впустил. На конторке лежали газеты, в которых в холуйски восторженных тонах сообщалось о поездке Хрущева к Шолохову, в его поместье в станице Вешенской: фотографии, текст речей. Причиной встречи было желание Хрущева убедить Шолохова переписать конец “Поднятой целины”.
– Что с тобой? – спросил я папу.
Он был чернее тучи и смотрел на меня с гневом и негодованием.
– Почему это так огорчает тебя, ведь это совершенно тебя не касается.
– Что? – почти закричал он на меня. – Глава государства едет к этому мерзавцу, чтобы уговорить его написать еще одну ложь. Какое неприличие, разнесенное на весь мир! Раньше расстреливали, лилась кровь и слезы, но публично снимать штаны было все-таки не принято.
Я рассмеялся и стал говорить ему, что именно поэтому ему нет до этого никакого дела, точно так же, как к нему не имеют отношения другие виды фиглярства и беспардонной лжи, даже на мировом уровне. Я говорил довольно долго. Отец постепенно отходил, стал успокаиваться, надел сапоги и собрался на прогулку. Мы вышли вместе. Проходя через столовую, он улыбнулся Зинаиде Николаевне и поцеловал ее. Уже темнело, когда мы подошли к трансформаторной будке, и он сказал:
– Иди домой и не беспокойся.
Потом добавил:
– Но им придется еще сильно потратиться, чтобы ему дали Нобелевскую премию.
Вскоре мы перебрались в Москву, но Зинаида Николаевна приглашала нас приезжать к ним на выходные дни.
Как-то в один из таких приездов мы оказались невольными свидетелями семейной сцены. Зинаида Николаевна, посадив папочку за стол против себя в столовой, а Лёничку со Стасиком по бокам от него, выговаривала ему свои претензии. Мы были в маленькой рояльной комнате, запертые закрытой дверью в столовую. По-видимому, причиной этого была необходимость покупки новой машины “Волги” вместо “Победы”, деньги на которую папа принес вечером, видимо, от Ольги Всеволодовны. После разговора папочка вышел серый и подавленный.
Через много лет, перебирая оставшиеся черновики и наброски пьесы “Слепая красавица”, я наткнулся на запись, сделанную в те дни и датированную 14 октября 1959 года. Выйдя тогда на лестницу террасы, отец увидел “бело-черную картину октябрьского вечера, танцующий снег. Катя<тся> холодные несущиеся облака, луна <…>. Взмолился, быстрый монолог из коротких фраз: «И это тот человек, ради которого я пожертвовал…»[398]”. Желая передать своей героине графине Елене Артемьевне то состояние униженности и тоски, которое им владело, он хотел, чтобы она выглянула в окно, произнося “короткие реплики быстрого монолога”.
На этих днях ему пришлось оставить работу над пьесой и гнать перевод Кальдерона, который он окончил 5 ноября.
Снова вернувшись к пьесе, он передвинул начало действия в середину и стал писать пролог, относящийся к 40-м годам. Вскоре было найдено название – “Слепая красавица”. Оно объяснялось судьбой крепостной девушки, ослепшей от осколков и пыли гипсовой головы, разбитой выстрелом. С другой стороны, – как рассказывал нам папа, этот образ возник по аналогии со “спящей родиной – красавицей” у символистов, у Андрея Белого и Блока из “Возмездия”.
На Рождество папа получил такое количество открыток с поздравлениями, что увешал ими все стены своего кабинета. Он радовался, показывая их нам и объясняя, что на какой изображено и откуда она получена. Главным образом это были репродукции старых мастеров.
Периодически отношения с Ольгой Всеволодовной создавали отцу мучительные ситуации, особенно в те моменты, когда, по ее словам, она ставила вопрос ребром и требовала легализации их отношений. Ей казалось, что Борино имя защитит ее от ареста. Уступая ей, папочка достаточно открыто афишировал свою “двойную жизнь” и называл ее Ларой своего романа.
Как-то, наткнувшись на эти слова в какой-то публикации, принесенной доброхотами, Зинаида Николаевна затеяла разговор с папочкой:
– Как же так, Боря, ведь ты всегда говорил мне, что Лара это я. И Комаровский – мой первый роман, мое глаженье, мое хозяйство.
Папа, на ходу, подымаясь по лестнице к себе наверх и не желая заводить долгий разговор, спокойно ответил:
– Ну, если это тебе льстит, Зинуша, то – ради Бога: Лара – это ты.
Тема была продолжена с нами уже у нее в комнате. Зинаида Николаевна вспоминала, как Боря у нее на глазах в течение многих лет истекал кровью сердца по первой жене, и считала, что если бы она теперь собрала чемоданы и уехала из Переделкина, – этого расставания ему просто не пережить.
Мы поехали в Переделкино 10 февраля – хотели покататься на лыжах и поздравить папу с днем рождения. Постояли, поглядели на нарядный темнокоричневый дом с белыми рамами окон и решили, что приедем на следующий день – с цветами и подарками. На этот раз с нами была мамочка. Боря выглядел усталым и мрачноватым. Когда я стал расспрашивать, сказал, что вчера были гости, Рихтер и Мария Вениаминовна Юдина, прекрасно играли.
Он рассказал, что его беспокоят трения с Фельтринелли, который как акула капитализма хочет получить права на все написанное им – раннее и то, что он еще напишет. Однако был очень недоволен, когда Боря попросил его послать небольшие денежные подарки сестрам в Англию, своим переводчикам и другим друзьям за границей из своих заработков, и не торопился выполнять эту просьбу, объясняя это тем, что на такие подарки уйдет половина гонорара.
– Бог с ним, – устало заключил он.
Папа совершенно не знал, сколько на самом деле там денег и не хотел знать, сказал, что знает только, что деньги Нобелевской премии в связи с его отказом должны вернуться в Нобелевский фонд.
Он показал нам прекрасное французское издание романа с иллюстрациями Алексеева. Некоторые сюжеты ему очень нравились. Особенно начало, которое сделано как кинокадры движущейся похоронной процессии. Он рассказывал о технике Ecran d’epingle, выдуманной Алексеевом, и специальной бумаге, через которую картинки не просвечивали и не мешали напечатанному тексту.
Эпилог
О первых признаках заболевания отца мне стало известно только после 9 апреля, когда мы ходили на “Братьев Карамазовых”, где Ливанов играл Митеньку. Билеты передала нам Зинаида Николаевна по папиной просьбе. Сказала, что у папы боль в левой лопатке и он не может пойти.
Потом я узнал, что папочка хотел закончить намеченную часть работы и полежать несколько дней и показаться врачу. Он переписал набело сделанные сцены пьесы вскоре после Пасхи, превозмогая страшные боли в спине. Рассказывал, как ему приходилось время от времени ложиться, чтобы их унять, и снова садиться за переписывание. В конце апреля боли стали невыносимыми, и он слег. Чтобы не подниматься по лестнице, он расположился на диванчике в рояльной.
Мы с Алёнушкой были у него 2 мая. Он рассказывал нам о переписанной части пьесы, которую хочет прочесть, если поправится. Его состояние не вызывало тогда особого беспокойства, к нему, как обычно, приходили знакомые, и врач Самсонов находил только отложение солей и велел больше двигаться. Но папа ясно предчувствовал свой скорый конец и сам поставил себе диагноз рака легких. Для убедительности он напомнил мне, как в Кремлевской больнице у его соседа были такие же боли в спине, и ему так же говорили про отложение солей.
– Вчера приходила ко мне Катя Крашенинникова, – добавил он, – и я ей исповедался, она приготовила меня к смерти.
Через несколько лет Екатерина Александровна нам рассказала, что попала в Переделкино в тот день совершенно случайно, по делам прописки одного монаха. Неожиданно для себя решила зайти к папочке. Зинаида Николаевна встретила ее словами: “Борис Леонидович вас звал”. Когда она вошла к папе в комнату, он ей сказал: “Я умираю”.
Оказывается, он уже давно собирался пойти с нею в церковь, чтобы исповедаться и причаститься, но что-то помешало им встретиться. И тут он уже не мог более этого откладывать в предчувствии близкой смерти, которую ждал с часу на час. Он просил ее вместе с ним пройти через таинство исповеди и стал читать наизусть подряд все причастные молитвы с закрытыми глазами и преобразившимся, светлым лицом. Сила таинства и живое ощущение присутствия Христа были настолько поразительны, что даже неожиданность его слов о близости смерти отошла на задний план.
Он сказал, что Зинаида Николаевна отказалась позвать к нему священника, и просил Катю взять на себя все, что касается его погребения. Он это говорил нарочно громким голосом и попросил Катю открыть дверь, чтобы Зинаиде Николаевне было слышно. Прощаясь, он поцеловал ее в глаза, Катя его перекрестила. Эту исповедь она потом сообщила священнику, своему духовнику, о. Николаю Голубцову, и он дал разрешительную молитву.
– Так делали в лагерях, – закончила она свой рассказ.
В тот день папа сказал нам также, что хочет, чтобы его архив, за исключением начатой “Слепой красавицы”, продолжение которой лежало у него в папке в рояльной комнате, был уничтожен. Он говорил, что у него в ящиках стола, кроме чистой бумаги и некоторого запаса хорошей бечевки, нет ничего ценного, и просил Зинаиду Николаевну позвать для уничтожения его бумаг Костю Богатырева и Кому Иванова. Он объяснял это тем, что нам с Лёнечкой это будет слишком больно, а чужим мальчикам – все равно, и они сделают с легкостью. Вероятно, он помнил, как плохо я в свое время выполнил подобное поручение. Но Зинаида Николаевна, по его словам, наотрез отказалась звать Кому и Костю. Более того, она после этого ни того, ни другого просто не хотела к нему пускать.
В этом сказывалось папино желание, многократно высказывавшееся нам ранее, уберечь нас с Лёнечкой от участия в его жизни как от несвободы и тяжести, взятых на себя добровольно, но приносящих только огорчения. По его представлению, занимаясь его делами, мы обречем себя на вторичность, чего он сам всю жизнь всеми силами старался избегать. Начало этого лежит в подкупающей легкости вторичного, а в перспективе получается отказ от необходимых для подлинной и первичной работы усилий и труда.
Лёнечка, следуя папиному желанию, сумел избежать этого, а я волею судьбы встал на этот путь, пожиная на нем и радость душевной близости с отцом, и оскорбления, с этим сопряженные.
Папино состояние резко ухудшилось 6–9 мая. Я возил к нему кардиолога Татьяну Ивановну Бибикову и через день – клинициста широкого профиля Нину Максимовну Кончаловскую. Они отмечали у него сильную стенокардию. Начиная с 8 мая он не вставал с постели. Было установлено круглосуточное дежурство врача и сестер из литфондовской поликлиники. Кардиограмма показала инфаркт. Я ездил в Переделкино почти каждый день. Когда зашла речь о его госпитализации и приехала машина “Скорой помощи”, чтобы везти его в Первую градскую больницу, папа вызвал меня к себе и резко сказал, что он категорически отказывается ехать в больницу.
– Ты знаешь, в чьи руки я там попаду. Я этого не хочу.
Зинаида Николаевна завернула машину обратно.
Ответственность теперь целиком ложилась на наши плечи, а папино состояние ухудшалось с каждым днем. Появились признаки внутреннего кровотечения. По просьбе Зинаиды Николаевны в Переделкино переехал Шура. Он предлагал папочке позвать к нему Ольгу Всеволодовну – по первому требованию. Зинаида Николаевна согласна была уйти на это время из дома. Но отец каждый раз отказывался, говоря, что не хочет ее видеть. Он писал и посылал ей каждый день записки, уверяя ее в том, что ему действительно плохо и он правда не может с нею увидеться. Не хочу гадать, что это все значило, это полностью на совести Ольги Всеволодовны. Она звонила мне по телефону, и ее расспросы поражали наивностью и совершенным непониманием того, что происходит в действительности. Несмотря на сведения, регулярно получаемые от медсестер, которых папа посылал к ней с записками, ей казалось, что все это – только предлог, чтобы не встречаться с ней. В ее интонации слышалась обида на него. Но в то время я совершенно не думал об этом, тем более что в своем последнем разговоре со мной папочка вменил мне полное безучастие по отношению к ней и тому, что ее касается.
Диагнозы врачей все время менялись. Миша Поливанов с Еленой Ефимовной Тагер привезли папе кислородную палатку.
По совету Нины Кончаловской я привез к папе прекрасного кардиолога профессора Виталия Григорьевича Попова, который сразу заметил сходство картины заболевания с раком легкого и метастазом в сердце. Это нас всех очень напугало, но когда вечером Нина Максимовна позвонила ему, он сказал, что это не диагноз, а только предположение, не подкрепленное исследованиями, и он не может на этом настаивать.
Началось катастрофическое падение гемоглобина, встала необходимость переливания крови. Привезли рентгеновскую установку. Попов и Кассирский подтвердили диагноз рака левого легкого с метастазом в сердце. Это было 26 мая.
Несмотря на тяжелое самочувствие и мучительные боли, папа мужественно и с неугасающим интересом относился ко всему происходящему. Он с пониманием и по существу разговаривал с врачами, которые старались скрыть от него серьезность его положения, и он позволял им обманывать себя и поддавался их уверениям, что ему станет легче после переливания крови, шутил с сестрами. Живая непосредственность характера не оставляла его до последних дней. Ему было трудно отказаться от общения с людьми, но нас предупредили, что разговоры и волнения вредны, и мы отказывали ему в неослабном желании делиться своими наблюдениями и мыслями. Теперь, когда я знаю, что все предосторожности были излишни и он был обречен, особенно больно вспоминать об этом лишении.
На следующий день после рентгена и окончательного диагноза папочка, почувствовав страшную слабость, позвал меня к себе. – Как все неестественно. Этой ночью мне вдруг стало совсем хорошо, а оказалось, что это – плохо и опасно. Спешными уколами меня стали выводить из этого состояния и вывели. А теперь, вот пять минут тому назад, я сам стал звать врача, а оказалась – чепуха, газы.
И вообще я чувствую себя кругом в дерьме. Говорят, что надо есть, чтобы действовал желудок. А это мучительно. И так же в литературе: признание, которое вовсе не признание, а неизвестность. Казалось бы, засыпало раз, и уже окончательно, хватит. Нет воспоминаний. Все по-разному испорченные отношения с людьми. Все отрывочно – нет цельных воспоминаний. Кругом в дерьме. И не только у нас, но повсюду, во всем мире. Вся жизнь была только единоборством с царствующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь.
Я записал эти слова сразу по возвращении домой, взволнованный и потрясенный разговором. Но теперь, по прошествии более чем тридцати лет, я вижу в них незнакомые мне у папочки отчаяние и безнадежность, которые с неуменьшающейся силой заставляют меня по-прежнему страдать вместе с ним.
Мы со дня на день ждали приезда Лиды, а она сидела в советском посольстве в Лондоне и ждала визы. Мы с Лёней отправили телеграмму Хрущеву, чтобы ей разрешили попрощаться с братом. Я старался вселить в папу силы и надежду на встречу с сестрой. Мамочка с Мишей Поливановым ездили во Внуково ее встречать, но она не прилетела.
На следующий день после моего разговора с папой ему делали переливание крови, и его общее состояние резко улучшилось. Когда я приехал в Переделкино, то с порога услышал его звонкий и бодрый голос. Он просил Шуру принести ему газетные вырезки и телеграммы и рассказать о новостях. Вечером я уехал несколько успокоенный. Но на следующее утро, 30 мая, снова стало плохо, папа терял сознание, а новое переливание крови врачи не решались делать до вечера. Оно не дало результата – кровь пошла горлом. Давали кислород. Я просил папочку, чтобы он дождался приезда Лиды, которая в пути.
– Хорошо, – ответил он, – только скорее. Вспоминая его желание, чтобы мы назвали Борей своего сына, мне хотелось сказать ему, что у нас скоро будет ребенок, но он уже не отреагировал на это.
Через некоторое время папочка позвал нас с Лёнечкой к себе и попросил оставить нас одних.
– Что же – давайте прощаться? – как бы спросил он.
– Вы оба мои законные дети, – и кроме естественного горя и боли после моей смерти, кроме самой этой утраты, вам ничего не угрожает. Вы признаны законом.
Но есть другая сторона моего существования, незаконная. Она стала широко известна за границей. Это получилось так – из-за участия в моей судьбе, в моих делах, особенно в последнее время, в истории с Нобелевской премией… Когда приедет Лида, она этим займется. Она многое должна узнать не от вас. Лида все это устроит… Это – сторона незаконная, и ее никто не сможет защитить после моей смерти. Поняли ли вы?
Я спросил папочку:
– Ты хочешь сказать, что поручаешь нашей защите все, что ты оставляешь?
– Нет, совсем не то. Я хочу, чтобы вы были к этому безучастны и чтобы эта вынужденная безучастность не была вам обидна и в тягость.
Он дышал все реже и реже, пульса не было. Мучительно было видеть движения его губ, как у рыбки, вытащенной из воды.
Почти как продолжение разговора с нами, но несколько громче, обращаясь к врачу и сестрам, он сказал:
– Какая у вас следующая процедура – кислородная палатка? Давайте кислородную палатку.
Минут через десять его не стало.
К маме я приехал только под утро, после телефонного разговора с Оксфордом. Она не спала и горько пеняла мне за то, что я не дал ей присутствовать при папиных последних минутах. Наутро мы поехали с ней в Переделкино.
В ту ночь внезапно потеплело, и единым порывом в саду зацвели вишни. Та самая аллея, которую он сам когда-то посадил, теперь наполняла воздух умиротворяющим благоуханием.
Вечером мы присутствовали на отпевании, которое совершал в той же маленькой комнате архимандрит Иосиф из Переделкинской церкви.
В этой книге адресатом последних папиных писем и автором воспоминаний о его последних годах оказываюсь я. Это может создать неверное впечатление, будто мамина роль в его жизни стала меньше. Писем не было потому, что она жила в Москве, они часто виделись с отцом, разговаривали по телефону. У нее он узнавал все обо мне, и потому его письма ко мне в Черкассы и Кяхту относились только к тому времени, когда ее голос не мог заменить моего. Каждое ее свидание с папой по-прежнему оставалось для нее праздником. При нем она была весела и приподнята, старалась поддержать его и успокоить, потому что, как и раньше, он делился с ней всеми своими бедами и огорчениями и нуждался в ее сочувствии. Держась при нем молодцом, после его ухода она обычно сникала и часто плакала, жалея его и чувствуя его растущую с годами усталость. Она видела в нем загнанную лошадь, которую все эксплуатируют и любят постольку, поскольку живут во всех отношениях за его счет. Она говорила, что его ценят лишь как курицу, которая несет золотые яйца.
Друг с другом они разговаривали короткими фразами и, казалось, понимали больше сказанного, с полуслова, без разъяснений. Она не надолго пережила папочку и скончалась 10 июля 1965 года от кровоизлияния в мозг.
Евгений Пастернак Реквием
Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.
1
Да будет свет – лиловый полдень леса. Мачтовых сосен бронзовый отвес Стоит опорой синему навесу. Прозрачно звонок в эту осень лес! Неяркий свет, как сумрак мирозданья, Ничем не обусловленного дня, Который завершится в урагане Или затмится, синеву храня. Ковер душистых трав таит дубрава, Цветет лиловый вереск, мох растет, — Былинка каждая полна сознаньем права На свет и неизменный обиход. Развитие без воли непреклонно, Сторицей восполняется урон, И вольно жить природе по законам, Свободным от резонов и препон.2
Блажен художник, чей талант – вниманье. Исполнено животворящей волей Все, что он сделал, – Божие созданье, Как зверь и птица, как река и поле. Оно реально не законом копий, — Подобья мертвого изведанным явленьям, А верностью вселенной – в полном скопе Движений жизни к новым откровеньям. Естественно, как зов иль возглас боли, Необусловленно и откровенно, Кристаллизованной земною солью Выходит мысль из векового плена. Он не творец, а инструмент, что поднят. Не вольный быть виновным или правым, Блажен творящий именем Господним И верою – не замыслом лукавым.3
Настанет день тоски и боли смертной. Волна стенаний хлынет за порог С крыльца в озноб и оторопь рассвета. Конец мучителен и безнадежно строг. Так входит смерть, и пустота без края Нас окружает – тот бесцветный свет, В котором мысль следа не оставляет И для поступков оправданья нет.4
Идущих шаги – это шорох морского прибоя, И ребра ладьи похоронной до боли врезаются в плечи. Ни капли участия эти мгновенья не стоят, Все кончено – ты неизменен и вечен. Корявые ветви деревьев качает над мертвою зыбью, И путного слова друзья не промолвят на сходке. Чужое волненье, – никчемная оторопь рыбья. И грохот земли по бортам перевернутой лодки.5
Не дышит горизонт, застыло море Туманное, белее молока, И сушь песка уже с дождем не спорит, И каплет время с мокрого сука. Страницы писем в каплях слез, струится Слепая влага, всхлипом раздвоен Разбег полей, и сосен вереница, Платки у лиц, и кладбища границы, И свежее надгробие твое. Намокших листьев спутанная мякоть, Ветвей слезоточивый купорос. Не думать, не глядеть и вечно плакать С деревьям – не утирая слез.6
Над полем и соснами – вечный покой, Недвижный небесный шатер голубой Недремлющий ветер и солнечный свет И в нем ни ответа, ни жалости нет.7
Что делать нам – осиротелым? Проходят дни, уходит год. Глядишь – столетье пролетело, Переменился обиход. Живая память быстротечна, Ее не заготовишь впрок. Самим собой пребудет вечно Блестяще сделанный урок, Как жизнь от домыслов далекий, Без одобрений и прикрас, Способный ждать любые сроки Всеобщего признанья час. И нам не выдумать преданье, И близости не передать, И памятников очертанье Я не могу предугадать. Август 1960Вкладка
Женя Лурье. 1902.
Мама – Александра Николаевна Лурье.
Женя Лурье с куклой. 1905.
Могилев. Начало XX века.
Могилев. Начало XX века.
Семья Лурье. Стоят Анна, Гитта, Семен; сидит Александра Николаевна (в центре), внизу Женя, стриженная после тифа. 1911.
Семен Лурье. 1919.
Женя Лурье – гимназистка. Фотография на удостоверении Высших женских курсов. 1917.
Конверт письма Бориса Пастернака Евгении Лурье от 23.XII.1921.
Евгения Лурье. Портрет Бориса Пастернака, читающего письма Пушкина. 1921
С. Сахаров. Портрет Евгении Лурье. 1920.
Евгения Пастернак. 1922.
Борис Пастернак. 1922.
Л. О. Пастернак. Портрет Евгении Пастернак. 1922.
Л. О. Пастернак. Портрет Бориса Пастернака. 1922.
Ольга Фрейденберг. 1920-е.
Конверт письма Бориса Пастернака Ольге Фрейденберг от 29.XII.1924.
Волхонка, дом 14, где в 1922 г. поселились Борис и Евгения Пастернаки.
Борис и Евгения Пастернаки с сыном Женей. 1924. Фото И. Наппельбаум.
Женя. 1925.
Во дворе дома на Волхонке. Фотография И. Эренбурга. 1926.
Мюнхен, 1926.
Леонид Борисович, Розалия Исидоровна, Жозефина, Лидия и Женя Пастернаки. Мюнхен, 1926.
Евгения Пастернак. Портрет Бориса Пастернака. 1923.
Евгения Пастернак. 1927. Фото М. Наппельбаума.
Москва, 1925. Стоят: В. Маяковский, О. Брик, Б. Пастернак, С. Третьяков, В. Шкловский, Л. Грингут, П. Незнамов. Сидят: Э. Триоле, Л. Брик, А. Кушнер, Е. Пастернак, О. Третьякова.
Рисунок Евгении Пастернак. Ирина Вильям. Ирпень, 1930.
Рисунок Евгении Пастернак. Анна Вильям. Ирпень, 1930.
Рисунок Евгении Пастернак. Рудольф Вильям. Ирпень, 1930.
Рисунок Евгении Пастернак. Маргарита Вильям. Ирпень, 1930.
Валентин Фердинандович Асмус. Ирпень, 1929–1933.
Ирина Сергеевна Асмус. Ирпень, 1929–1933.
Яков Захарович Черняк. Ирпень, 1929–1933.
Елизавета Михайловна Стеценко. Ирпень, 1929–1933.
Курс ВХУТЕМАСа. В третьем ряду слева – Евгения Пастернак. 1930.
Евгения Пастернак с сыном Женей. 1931.
Л. О. Пастернак. Портрет Жени. Берлин, 1931.
Открытка Жени Пастернака в Берлин. 2.IV.1933. Адрес написан рукой Б. Пастернака.
Женя Пастернак. 1933.
1930-е.
Женя на Тверском бульваре. 1935.
Евгения Пастернак. Портрет и набросок к портрету Бориса Пастернака. 1933.
Евгения Пастернак. Женя. Наброски. 1938–1939.
Крым: Геленджик и Гурзуф.
Евгения Пастернак. Коктебель, 1937.
Р. Фальк. Портрет Евгении Пастернак.1948.
Сарра Лебедева, Евгения Пастернак, Александр Румнев. Коктебель, 1949.
Евгения Пастернак. Набросок с Сарры Лебедевой. 1949.
Сарра Лебедева. Набросок с Евгении Пастернак. 1949.
Евгения Пастернак. Женя. 1949.
Тверской бульвар с крыши дома Нирнзее. 1948.
Евгения Пастернак. 1950.
Евгений Пастернак. Забайкалье, 1954.
Станислав Нейгауз, Анка, Федя и Роза Пастернаки, И. Н. Вильям, Боря, Леня, Петя, Евгения Владимировна, Евгений Пастернаки и собака Тобик. Переделкино, 1964. Фотография М. Дьюхаса.
Евгения Владимировна Пастернак с внуком Петей. Переделкино, 1962.
1964.
Евгений Борисович Пастернак.
Примечания
1
Жозефина Леонидовна Пастернак (1900–1993).
(обратно)2
Из письма Лидии Леонидовне Пастернак-Слейтер от 25 декабря 1964 г. Hoover Institution Archive.
(обратно)3
Александра Николаевна (1870–1928) и Владимир (Вениамин) Александрович Лурье (1865–1943).
(обратно)4
Семен Владимирович Лурье (1895–1960).
(обратно)5
Анна Владимировна (1894–1957); Гитта Владимировна (1897–1975).
(обратно)6
Абрам Бенедиктович Минц (Хиля; 1894–1970).
(обратно)7
Густав Густавович Шпет (1879–1937; расстрелян), философ.
(обратно)8
Александра Александровна Экстер (1884–1949).
(обратно)9
Любовь Михайловна Козинцева (Эренбург; 1900–1970).
(обратно)10
Сарра Дмитриевна Лебедева (Дармолатова; 1892–1967), скульптор.
(обратно)11
Елена Михайловна Фрадкина (Хазина; 1901–1981), художница.
(обратно)12
Юлий Дмитриевич Энгель (1868–1927), композитор и музыкальный критик. Ада Юльевна Энгель (Рогинская; 1901–1970), художница, и Вера Юльевна Энгель (Добрушина).
(обратно)13
Михаил Львович Штих (1898–1979), скрипач, журналист.
(обратно)14
Александр Львович Штих (1890–1962), экономист.
(обратно)15
Мария Львовна Пуриц (? – 1974), скрипачка, вдова адвоката С. Н. Пурица.
(обратно)16
Леонид Осипович Пастернак (1962–1945), художник, его жена пианистка Розалия Исидоровна (Кауфман; 1867–1939) и дочь Лидия Леонидовна (1903–1989), биохимик.
(обратно)17
Александр Леонидович Пастернак (1893–1982), архитектор.
(обратно)18
Сергей Семенович Сахаров (о. Софроний; 1896–1993); Леонардо Михайлович Бенатов (Левон Бунятян-Бунатянц; 1899–1972); Наталья Георгиевна Челпанова (Парен; 1899–1958).
(обратно)19
Письмо от 25 декабря 1963 г. Hoover Institution Archive.
(обратно)20
Отец семейства Самуил Соломонович, его жена Людвига Бенционовна (1880–1976) с сестрой Юлией Бенционовной, дочь Стелла Самойловна (1901–1988) с мужем Абрамом Вениаминовичем Адельсоном.
(обратно)21
Флейшман Л. С. Сердечная смута поэта // Eternity’s Hostage: Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak. 2004. Part 2.
(обратно)22
В письмах по большей части сохраняется авторская пунктуация. – Е. П.
(обратно)23
Строчная буква в автографе.
(обратно)24
28 декабря – Женин день рождения по новому стилю.
(обратно)25
Издательский макет сохранился – его приобрел Е. С. Левитин; настоящее его местонахождение неизвестно.
(обратно)26
Рита Яковлевна Райт-Ковалева (1898–1989) написала об этом (Труды по русской и славянской филологии. Вып. 9. Тарту, 1966).
(обратно)27
Яков Ефимович Шапирштейн (Эльсберг; 1901–1972), в будущем литературный критик.
(обратно)28
Флейшман Л. С. Сердечная смута поэта.
(обратно)29
Пастернак Ж. Л. Хождение по канату. М.: Три квадрата, 2010.
(обратно)30
Василий Иванович (†1928), Елизавета Ивановна (†1924) и Прасковья Петровна в 1922 году были выселены из соседней квартиры, и Пастернаки предоставили им комнату у себя.
(обратно)31
Поэт Сергей Павлович Бобров (1889–1971) вместе с Пастернаком входил в литературные группы “Лирика” (1912) и “Центрифуга” (1914–1917).
(обратно)32
Поэт Дмитрий Васильевич Петровский (1892–1955) и его жена Мария Павловна Гонта (1904–1995).
(обратно)33
Историк литературы Яков Захарович Черняк (1898–1955) и Елизавета Борисовна (Тубина; 1899–1971).
(обратно)34
Черняк Е. Я. Из воспоминаний / Борис Пастернак. Полное собрание сочинений. М., Слово. 2003–2005. Т. 11 (далее: ПСС).
(обратно)35
Я утверждаю, что М-м Евгения Лурье-Пастернак была моей очень прилежной ученицей и в течение двух лет очень успешно работала в моем классе в Московской школе изящных искусств. Художник Петр Кончаловский. Москва. 25 июля 1922. (Фр.)
(обратно)36
Издательство писателей в Москве, 1914.
(обратно)37
Пастернак Ж. Л. Хождение по канату. С. 243.
(обратно)38
Абрам Григорьевич Вишняк (1895–1943), владелец изд-ва “Геликон”.
(обратно)39
Шкловский В. Б. Zoo или письма не о любви. Атеней (Atheneum). Ленинград, 1924. С. 58–59.
(обратно)40
Писатель Борис Константинович Зайцев (1881–1972).
(обратно)41
Из письма от 15 декабря 1922 г. С. Боброву. ПСС. Т. 7.
(обратно)42
Героиня книги “Сестра моя жизнь” Елена Виноград.
(обратно)43
ПСС. Т. 7.
(обратно)44
Письмо от 19 февраля 1923 г. ПСС. Т. 7. С. 447.
(обратно)45
Черняк Я. З. Записи 1920-х годов. ПСС. Т. 11.
(обратно)46
Письмо не сохранилось. Текст взят из книги Жозефины Пастернак “Хождение по канату” (с. 274).
(обратно)47
Осип Максимович Брик (1888–1945), идеолог ЛЕФа, муж Лили Брик (1888–1978), подруги Маяковского.
(обратно)48
Ольга Викторовна (1895–1973), жена поэта и драматурга С. М. Третьякова (1892–1937).
(обратно)49
Григорий Николаевич Петников (1894–1977).
(обратно)50
Московское управление недвижимым имуществом, где надо было заниматься отстаиванием квартиры, на которую посягал Наркомпрос (Наркомат просвещения).
(обратно)51
Митрофан Петрович Горбунков (1888–1964), историк искусств, знакомый Пастернака по Марбургскому университету.
(обратно)52
Имеются в виду китайские прачечные.
(обратно)53
То есть знакомые мужского и женского рода (старая форма прилагательного).
(обратно)54
Лев Борисович Каменев (1883–1936; расстрелян), партийный деятель.
(обратно)55
Лев Григорьевич Левин (1870–1938; расстрелян), врач, консультант лечебно-санаторного управления Кремля.
(обратно)56
Лев Соломонович Лейбович (псевдоним: Ларский; 1883–1950), писатель.
(обратно)57
Философ Михаил Павлович Столяров (1888–1937; расстрелян), сотрудник Наркомпроса.
(обратно)58
Художники Лев Александрович Бруни (1894–1948) и Александр Алексеевич Осьмеркин (1892–1953).
(обратно)59
Абрам Бенедиктович Минц, муж сестры Анны.
(обратно)60
Николай Николаевич Вильям (псевдоним: Вильмонт; 1901–1986), поэт и историк литературы.
(обратно)61
Татьяна Николаевна Лейбович (Зильберман; 1887–1964).
(обратно)62
Няня Евгении Пастернак, приехавшая из Могилева.
(обратно)63
Из письма О. М. Фрейденберг Л. О. Пастернаку от 1932 г. Hoover Institution Archive.
(обратно)64
Евгеника – наука о наследственности: здесь метафора, объединяющая двух членов семьи “под одним именем” Евгению и Евгения.
(обратно)65
Речь идет о рассказе “Воздушные пути”, который Пастернак хотел прочесть на вечере.
(обратно)66
Иоанн (Иван) Эдуардович Саломон (1901–1937), заместитель директора Физико-химического института им. Карпова. Его жена Ефросинья Ивановна (Новикова; 1903–1971).
(обратно)67
Актриса Варвара Владимировна Алексиева-Месхиева (1875–1942).
(обратно)68
ПСС. Т. 7. С. 565.
(обратно)69
Абрам Осипович Баландер, детский врач, женатый на племяннице Р. И. Пастернак Розе Метельниковой.
(обратно)70
Калева, калевочка – крошка, пылинка.
(обратно)71
Раиса Николаевна Ломоносова (1888–1973), корреспондентка Пастернака. Из письма от 23 мая 1931 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 177.)
(обратно)72
Земмеринг находится недалеко от Вены, где жили сестры Федора Пастернака.
(обратно)73
Это на рожденье всякого из семьи Федя такой торт приносил. Боря. – Примечание Б. Пастернака.
(обратно)74
Название дачи. – Примечание Б. Пастернака.
(обратно)75
Сын генерала, учился в кадетском корпусе, но, отказавшись от военной службы, вошел в состав Малого театра в 1915 году, где состоял до 1922-го, после чего эмигрировал. О своей влюбленности Ж. Л. Пастернак написала в книге “Хождение по канату”. Там же подробно рассказано и о ее замужестве.
(обратно)76
Маленький сын Михаила Павловича Столярова.
(обратно)77
Имеется в виду писатель Валентин Петрович Катаев (1897–1986).
(обратно)78
Ponto dei suspiri (ит.) – знаменитый мост в Венеции, так Пастернак называет няню Евдокимовну.
(обратно)79
В Братовщине Пастернаки проводили лето 1923 года.
(обратно)80
Надежда Григорьевна Елина, жена знакомого старших Пастернаков Генриха Марковича Елина, который недавно вернулся из Германии и виделся с ними.
(обратно)81
Медаль, полученная за окончание гимназии.
(обратно)82
Борис Ильич Збарский (1885–1954), биохимик, занимался бальзамированием тела Ленина и пригласил А. Л. Пастернака составить альбом красок для поддержания натурального цвета лица. См. об этом: Пастернак А. Л. Воспоминания. М., 2002.
(обратно)83
Александр Осипович Гавронский (1888–1958), сын крупного чаеторговца и друг ранней юности Пастернака, кинорежиссер.
(обратно)84
Евгений Германович Лундберг (1887–1965), писатель, журналист.
(обратно)85
Лето 1917 года, когда писались стихи “Сестры моей жизни”, было для Пастернака определением творческого вдохновения.
(обратно)86
Речь идет о времени обучения на Высших женских курсах и друге тех лет.
(обратно)87
Письмо от 1923 г. маминому учителю художнику Петру Петровичу Кончаловскому перед отъездом в Берлин.
(обратно)88
Речь идет о Михаиле Львовиче Штихе, который приходил к Пастернаку с Е. В. Лурье в 1921 году.
(обратно)89
Имеется в виду Леонардо Михайлович Бенатов, сокурсник по ВХУТЕМАСу и мастерской Кончаловского. О неприятных отношениях с ним Евгения Владимировна упоминала в своем дневнике.
(обратно)90
Имеется в виду Михаил Львович Штих.
(обратно)91
Спектакль по пьесе Н. Н. Лернера “Петр III и Екатерина II” в Русском драматическом театре Ф. А. Корша.
(обратно)92
Опера Р. Вагнера в Мариинском театре.
(обратно)93
Писатель Сергей Федорович Буданцев (1896–1938) и его жена поэтесса Вера Васильевна Ильина (1894–1966).
(обратно)94
В конверт вложен кусочек светло-желтой папиросной бумаги.
(обратно)95
ПСС. Т. 10. С. 514.
(обратно)96
Из письма к Цветаевой от 11 июля 1926 г. ПСС. Т. 7.
(обратно)97
Николай Леонидович Мещеряков (1865–1942), главный редактор Гослитиздата.
(обратно)98
Моисей Семенович Альтман (1896–1986), специалист по античной литературе, записал свои встречи с В. И. Ивановым в Баку и Москве (“Разговор с Вячеславом Ивановым”. СПб., 1995).
(обратно)99
Переводчик Евгений Львович Ланн (1896–1956), друг М. И. Цветаевой.
(обратно)100
Мария Павловна Кудашева (Майя Кювилье, 1895–1987), поэтесса, впоследствии жена Р. Роллана.
(обратно)101
Анри Франсуа Жозеф де Ренье (1864–1936), французский писатель.
(обратно)102
В. О. Станевич (1890–1967), поэтесса, жена поэта и художника Юлиана Павловича Анисимова (1889–1940). Ее статья о стихах Пастернака написана не была.
(обратно)103
Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993), у нее к тому времени вышли два сборника прозы “Королевские размышления. 1914 год” (1915) и “Дым и дым” (1916). В 1920-е годы ей ничего не удалось издать.
(обратно)104
Мария Константиновна Башкирцева (1860–1884), художница, автор книги “Дневник Марии Башкирцевой”.
(обратно)105
Третья студия – первоначальное название театра им. Е. Б. Вахтангова. Пьеса Антокольского не была поставлена.
(обратно)106
Художница Полина Шуриго, подруга Е. В. Пастернак по харьковской школе.
(обратно)107
Имеется в виду ЛЕФовский кружок, собиравшийся у Бриков в Гендриковом переулке на Мясницкой, 29, куда входил также Дмитрий Петровский.
(обратно)108
Поэт Василий Васильевич Казин (1898–1981) заведовал отделом поэзии в журнале “Красная новь”. Поэма Николая Тихонова “Лицом к лицу” (1924) была опубликована в альманахе “Недра” (1925. № 6).
(обратно)109
Абрам Захарович Лежнев (1893–1937), литературный критик, главный редактор журнала “Россия”.
(обратно)110
Поэт Арсений Иванович Митропольский (Несмелов; 1889–1945). Переписывался с М. Цветаевой.
(обратно)111
Письма были привезены на дачу только 23 июня 1924 года.
(обратно)112
Не все ли равно? (фр.)
(обратно)113
Зоологический сад в Берлине.
(обратно)114
Абрам Вениаминович Адельсон.
(обратно)115
Евгения Филипповна Кунина (1898–1997), знакомая Пастернака и его поклонница, поэтесса.
(обратно)116
Домашнее имя Б. И. Збарского.
(обратно)117
Известный фотограф Моисей Соломонович Наппельбаум (1869–1958).
(обратно)118
В свою бытность в Петрограде Пастернаки познакомились с дочерью М. С. Наппельбаума Идой Моисеевной (в замужестве Фроман; 1900–1992), которая как поэтесса входила в поэтическую группу Н. С. Гумилева “Звучащая раковина”.
(обратно)119
Сестра Л. О. Пастернака и мать Ольги Михайловны Анна Осиповна Фрейденберг (1860–1944).
(обратно)120
Писатель Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965).
(обратно)121
Из письма от 20–23 сентября 1924 г. ПСС. Т. 7. С. 517–518.
(обратно)122
Александр Сергеевич Барков (1873–1953), географ, автор учебников, академик с 1944 г.
(обратно)123
Сестры Синяковы: Надежда Михайловна (Пичета; 1889–1975), пианистка; Мария Михайловна (Уречина, 1890–1984), художница; Вера Михайловна (Гехт; 1895–1973) и Ксения Михайловна (Асеева; 1893–1985).
(обратно)124
Почему-то мне кажется, что сегодня особенно радостно и удачно пишет.
(обратно)125
Художник-график Дмитрий Исидорович Митрохин (1883–1973).
(обратно)126
Николай Николаевич Купреянов (1894–1933), художник-график.
(обратно)127
ПСС. Т. 7. С. 563–564.
(обратно)128
Из письма от 25 марта 1926 г. ПСС. Т. 7. С. 624–625.
(обратно)129
Николай Нилович Бурденко (1876–1946), нейрохирург.
(обратно)130
Из письма от 17 июня 1926 г. ПСС. Т. 7. С. 703.
(обратно)131
Юрий Владимирович Ломоносов (1876–1952), инженер паровозостроения, глава Стокгольмской ж.д. миссии. Раиса Николаевна (1888–1973), его жена и многолетняя корреспондентка Пастернака.
(обратно)132
Ломоносова просила сборник прозы Пастернака “Рассказы” (Изд-во “Круг”, 1925).
(обратно)133
Речь идет об авансе, присланном Ломоносовой за предполагавшееся участие Пастернака в американских газетах.
(обратно)134
Имеется в виду поездка Е. В. Пастернак летом 1925 года с дачи в город, отказ от выплаты в издательстве “Земля и фабрика” и неожиданное получение чека от Ломоносовой.
(обратно)135
Берте Самойловне Кауфман.
(обратно)136
Осип Мартынович Бескин (1892–1969), директор Госиздата.
(обратно)137
Из стихов А. Крученых “Лето городское” из сборника “Календарь”, 1926: “Антициклон… / Ш (ж) ара-а… / Африка – /Мессинский лимончик усох…”
(обратно)138
Лазарь Соломонович Минор (1855–1942), врач-невропатолог.
(обратно)139
Лидия Пастернак заканчивала аспирантуру в Мюнхенском психиатрическом институте по кафедре биохимии и получила степень доктора философии.
(обратно)140
Во Францию Е. В. Пастернак не попала.
(обратно)141
Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года. С. 194.
(обратно)142
ПСС. Т. 7. С. 749–750.
(обратно)143
Имеются в виду куранты на мюнхенской ратуше, украшенные движущимися фигурами рыцарей и дам.
(обратно)144
Марину Цветаеву.
(обратно)145
Арсений Моисеевич Уречин (1898–1942) и его жена Мария Синякова, художники.
(обратно)146
Эрнст Розенфельд, племянник друзей Л. О. и Р. И. Пастернаков, живших в Берлине, приезжал по работе в Москву, взятые у него взаймы деньги пошли на погашение долга.
(обратно)147
Брат матери Осип Исидорович Кауфман (1870–1940) с ранних лет был земским врачом в Касимове. Его жена Варвара Григорьевна была медицинской сестрой.
(обратно)148
Для маленького Женички в Мюнхен отец послал несколько детских книжек, среди них “Мороженое” С. Я. Маршака с дарственной надписью автора и “Присказки” С. З. Федорченко.
(обратно)149
Прислуга Фришманов, иногда помогавшая Пастернакам и занимавшаяся с Женей.
(обратно)150
Райнер Мария Рильке. Марина Цветаева. Борис Пастернак. Письма 1926 года.
(обратно)151
Речь идет о художнике Леонардо Бенатове.
(обратно)152
От 12 августа 1926 г.
(обратно)153
От 16 и 17 августа 1926 г.
(обратно)154
См. в стихотворении “Магдалина” 1949 года: “Но объясни, что значит грех… / Когда я на глазах у всех / С тобой, как с деревом побег / Срослась в своей тоске безмерной”.
(обратно)155
Лиза Павловская, в чьей квартире во время ее отсутствия лежала больная А. Н. Лурье.
По возвращении хозяйки ее нужно было перевезти к сыну С. В. Лурье.
(обратно)156
Поэтесса и переводчица Вера Оскаровна Станевич (1890–1967), жена поэта и художника Ю. П. Анисимова.
(обратно)157
Мария Соломоновна Маркович (Лукина), подруга юности Е. В. Пастернак.
(обратно)158
Дочка Л. С. и Т. Н. Лейбовичей Сара Львовна Лейбович, в будущем переводчица.
(обратно)159
1) Герман Коген. Эстетика. 2 тт. 2) Ф. Гундольф. Гёте. Эта книга была нужна для курсовой работы Н. Н. Вильяма о развитии материи поэзии, в которой он показывал повышение динамичности глаголов у Гёте.
(обратно)160
Феня в отсутствие маленького Жени ухаживала за больной А. Н. Лурье, у которой в доме было более “усиленное питание”, чем у Пастернаков.
(обратно)161
ПСС. Т. 8. С. 164.
(обратно)162
Прибываем через Варшаву (нем.).
(обратно)163
Друзья отца: историк искусств Павел Давыдович Эттингер (Паветти; 1866–1948) и художница Ольга Александровна Бари (Айзенман; 1879–1954).
(обратно)164
Сотрудник советского посольства в Берлине.
(обратно)165
Писатель Овадий Герцович Савич (1896–1967).
(обратно)166
Семен Петрович Либерман от издательства И. П. Ладыжникова вел переговоры с Пастернаком об издании “Спекторского”.
(обратно)167
Журнал “Версты” 1926 года, где опубликована глава “Морской бунт” из поэмы “Девятьсот пятый год” и “Поэма Горы” М. Цветаевой.
(обратно)168
Большой эскиз девочек Жозефины и Лидии для картины 1915 года “Поздравление”, выполненный пастелью.
(обратно)169
ПСС. Т. 7. С. 779.
(обратно)170
Художник-анималист Василий Алексеевич Ватагин (1883–1969) по приезде в Москву сделал скульптурный портрет Пастернака.
(обратно)171
Н. Н. Вильям.
(обратно)172
Жена Я. З. Черняка, пианистка.
(обратно)173
Сосед В. И. Устинов.
(обратно)174
Сестра Е. В. Пастернак А. В. Минц.
(обратно)175
Николай Александрович Семашко (1874–1949), нарком здравоохранения.
(обратно)176
Зоопарк (нем.).
(обратно)177
Мария Федоровна Андреева (1868–1953), актриса и общественная деятельница.
(обратно)178
На Рождественке в то время располагался ВХУТЕМАС.
(обратно)179
Издательство “Круг”, где в 1925 году вышла книга Пастернака “Рассказы”.
(обратно)180
Литературный критик Корнелий Люцианович Зелинский (1896–1970) работал в советском посольстве в Париже.
(обратно)181
Теперь Белорусский вокзал, где Пастернак собирался встречать жену с сыном, возвращающихся из Германии.
(обратно)182
Врач-пульмонолог Зиновий Давыдович Лурье (1887–1938), двоюродный брат Е. В. Пастернак.
(обратно)183
Прислуга Фришманов.
(обратно)184
То есть на квартире родителей Пастернака в Берлине.
(обратно)185
Устиновы, соседи по квартире.
(обратно)186
Братья Федор и Альберт Пастернаки. Воспоминание относится к 1922–1923 годам.
(обратно)187
Книги “Сестра моя жизнь” и “Темы и варьяции”, изданные в 1923 году в Берлине, нужны были для обещанного их переиздания в Москве. У Пастернака никогда не было в наличии своих книг.
(обратно)188
Спального вагона (англ.).
(обратно)189
Персонаж немецких народных сказок.
(обратно)190
ПСС. Т. 7. С. 803.
(обратно)191
Из письма от 21 октября 1926 г. ПСС. Т. 7. С. 181.
(обратно)192
Теперь на этом доме висит мемориальная доска.
(обратно)193
“Записки Патрика”. ПСС. Т. 3.
(обратно)194
Из письма от начала декабря 1926 г. ПСС. Т. 7. С. 814.
(обратно)195
Из письма от 14 апреля 1928 г. (Неоценимый подарок: Переписка Пастернаков и Ломоносовых 1925–1970 гг. // Минувшее. Исторический альманах. № 15. М. – СПб., 1994. С. 239.)
(обратно)196
Елена Павловна Разумова (1887–1971), врач-терапевт ЦЕКУБУ.
(обратно)197
Маргарита Николаевна Вильям.
(обратно)198
Вячеслав Павлович Полонский (1886–1932), главный редактор журнала “Новый мир”.
(обратно)199
Поэт Григорий Александрович Санников (1899–1969) был редактором в журнале “Красная новь”, куда Пастернак передал последнюю главу “Спекторского”.
(обратно)200
Борис Федорович Малкин, друг Маяковского, заведующий Центропечатью.
(обратно)201
Из письма от 9 июля 1928 г. ПСС. Т. 8. С. 245.
(обратно)202
Имеются два письма Н. И. Замошкину от 24 и 25 августа 1928 г.
(обратно)203
Письмо К. А. и В. П. Полонским от 24–25 июля 1928 г. Литературное наследство. Т. 93. С. 701.
(обратно)204
Из письма Ж. Л. Пастернак от 14–19 ноября 1928 г. ПСС. Т. 8. С. 261.
(обратно)205
Из письма от 21 февраля 1929 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 150.)
(обратно)206
Юрий Владимирович Канабих (1872–1939), психиатр.
(обратно)207
Домашнее имя маленького Жени.
(обратно)208
Пастернак Б. Л. Пожизненная привязанность: Переписка с Ольгой Фрейденберг. М., 2000. С. 162.
(обратно)209
Группа специалистов по проблемам детской преступности.
(обратно)210
Эстер Кон (Kohn; 1875–1965), приятельница Ломоносовой со времени их пребывания в 1918–1920 гг. в чикагской “социологической коммуне”.
(обратно)211
Григорий Яковлевич Сокольников (1888–1939; расстрелян), политический деятель, знакомый Пастернака по гимназии, и его жена писательница Галина Иосифовна Серебрякова (1905–1980).
(обратно)212
Прасковья Петровна Устинова.
(обратно)213
Алексей Николаевич Бах (1857–1946), академик, биохимик.
(обратно)214
Художница Анна Ивановна Аристова (1886–1963) была ученицей Л. О. Пастернака в Училище живописи.
(обратно)215
Из письма от 24 мая 1929 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 157.)
(обратно)216
Владимир Соломонович Познер (1905–1991), французский поэт и писатель.
(обратно)217
Из письма от 13 мая 1929 г. ПСС. Т. 8. С. 325
(обратно)218
Из письма от 23 мая 1929 г. ПСС. Т. 7.
(обратно)219
В стихотворении “Мейерхольдам” (1929) есть такие слова: “Я люблю ваш нескладный развалец, / Жадной проседи взбитую прядь. / Если даже вы в это выгрались, / Ваша правда, так надо играть”.
(обратно)220
Из письма от 12 июня 1929 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 159.)
(обратно)221
Маргарита Кирилловна Морозова (Мамонтова; 1873–1958).
(обратно)222
Из письма от 15 июля 1929 г. ПСС. Т. 8.
(обратно)223
Из письма от 9 июля 1929 г. ПСС. Т. 8. С. 340.
(обратно)224
Из письма от 7 июня 1929 г. Пастернак Б. Л. Письма к родителям и сестрам. М., 2004. С. 447.
(обратно)225
Дмитрий Петрович Кончаловский (1878–1952), историк.
(обратно)226
Зинаида Ивановна Кончаловская (Иловайская; 1874–1955).
(обратно)227
Мария Павловна Гонта.
(обратно)228
Мария Павловна Гонта.
(обратно)229
ПСС. Т. 8. С. 342–343.
(обратно)230
Нина Максимовна Кончаловская (1908–1991), врач-клиницист.
(обратно)231
Из письма от начала сентября 1929 г. ПСС. Т. 8. С. 352–353.
(обратно)232
Письмо от 15 декабря 1929 г. ПСС. Т. 8. С. 375.
(обратно)233
Из письма от 6 марта 1930 г. ПСС. Т. 8. С. 409.
(обратно)234
Федор Федорович Кенеман (1873–1937), пианист.
(обратно)235
ПСС. Т. 8. С. 390.
(обратно)236
Из письма от 16 апреля 1930 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 169.)
(обратно)237
Поэт Леонид Николаевич Вышеславский (1914–1984) проводил то лето в Ирпене.
(обратно)238
Художница Анна Ивановна Трояновская (1885–1977), ученица В. Серова и А. Матисса, вокалист-педагог, пригласила Пастернаков к себе на дачу в Бугры.
(обратно)239
Из письма от 31 мая 1930 г. ПСС. Т. 8. С. 427.
(обратно)240
Берта Самойловна Кауфман.
(обратно)241
Рычащей собакой Е. В. Пастернак называет себя, отваживавшей посетителей, мешающих работе мужа.
(обратно)242
Здравствуй, дорогой папа! Благодарю тебя за хорошее письмо. Я много ем и отдыхаю.
Холодно, нет солнца, вчера был дождь. Наша кухарка купила на рынке вполне спелую клубнику. Нежно целую тебя. Твой сын Е. Пастернак. (Фр.)
(обратно)243
Из письма от 11 сентября 1930 г. ПСС. Т. 8.
(обратно)244
Анна Николаевна Вильям.
(обратно)245
Из письма от 26 июля 1930 г. ПСС. Т. 8. С. 443.
(обратно)246
Из письма от 20 октября 1930 г. ПСС. Т. 8. С. 458.
(обратно)247
Из письма от 5 ноября 1930 г. ПСС. Т. 8. С. 459.
(обратно)248
Ура, ура! Отгадайте почему? (Фр.)
(обратно)249
Из письма от 8 марта 1931 г. ППС. Т. 8. С. 482.
(обратно)250
Школьная подруга Жони Надежда Дмитриевна Денисова (Шарыгина), писавшая работу о художнике П. Н. Филонове, обратилась к Пастернаку с расспросами о “Союзе молодежи”. Сохранилось его недатированное письмо к А. Е. Крученых, состоявшем в свое время в этой группе.
(обратно)251
Рядом с Петровским парком на Ямском поле Пастернак жил в доме Б. А. Пильняка.
(обратно)252
Из письма от 28 августа – 22 сентября 1931 (?) г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 182.)
(обратно)253
Поздравляю, обнимаю, целую, напишу из Москвы в середине октября. Борис. (Нем.)
(обратно)254
Записки Патрика. ПСС. Т. 4. С. 254.
(обратно)255
Ирина Сергеевна Асмус.
(обратно)256
Р. А. Розенфельд, приятельница Р. И. Пастернак, по просьбе которой Пастернак должен был послать деньги ее родным в Москве с тем, чтобы аналогичная сумма в марках была передана Евгении Владимировне.
(обратно)257
Кира Александровна Полонская.
(обратно)258
Иван Эдуардович Саломон.
(обратно)259
Главный герой драматической поэмы Генрика Ибсена “Бранд”, человек железной воли и мужества.
(обратно)260
Письмо от 14 декабря 1931 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 189–190.)
(обратно)261
Пастернак Б. Л. Письма родителям и сестрам. М., 2004. Т. 8. С. 519–520.
(обратно)262
Письмо от 15–21 (?) декабря 1931 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 190.)
(обратно)263
Из письма от 11–27 февраля 1932 г. ПСС. Т. 8. С. 579.
(обратно)264
Из письма от 11–27 февраля 1932 г. ПСС. Т. 8. С. 588.
(обратно)265
Иван Васильевич Евдокимов (1887–1941), писатель, историк народного искусства.
(обратно)266
Петр Владимирович Слетов (Кудрявцев; 1897–1981), писатель.
(обратно)267
Генрих Густавович Нейгауз.
(обратно)268
Верх листа оторван.
(обратно)269
Из письма от 18 октября 1932 г. ПСС. Т. 8. С. 617–618.
(обратно)270
Из письма от 24 ноября 1932 г. ПСС. Т. 8. С. 635–636.
(обратно)271
Зиновий Исаакович Горбовец (1897–1976), художник-график.
(обратно)272
Из письма от 4 августа 1933 г. ПСС. Т. 8. С. 673.
(обратно)273
Из письма от 4 января 1933 г. ПСС. Т. 8. С. 647.
(обратно)274
Михаил Львович Левин (1921–1992), сын академика Р. С. Левиной, будущий крупный физик, профессор.
(обратно)275
Из “Гамлета” Шекспира в переводе Пастернака.
(обратно)276
Имеется в виду письмо от 20 августа 1959 г. ПСС. Т. 10. С. 520.
(обратно)277
Из стихотворения “Волны” 1931 года: “…Огромный берег Кобулет / Обнявший, как поэт в работе, /Что в жизни порознь видно двум, / – Одним концом ночное Поти, / Другим – светающий Батум”.
(обратно)278
Нико Пиросманишвили (1862–1918), грузинский художник-примитивист.
(обратно)279
Поэт Тициан Табидзе (1895–1937) и его жена Нина Александровна (1900–1964) стали для Пастернака близкими друзьями после его поездки в Грузию в 1931 году. Он перевел многие стихотворения Табидзе.
(обратно)280
Жена поэта Паоло Яшвили (1895–1937).
(обратно)281
Виктор Викторович Гольцев (1901–1955), литературный критик.
(обратно)282
Биолог Левинсон и племянник О. Л. Книппер-Чеховой композитор Лев Константинович Книппер (1898–1974).
(обратно)283
Из письма от 9 июля 1934 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 17. С. 358.)
(обратно)284
Издательство “Московское товарищество писателей”, вскоре ставшее “Советским писателем”.
(обратно)285
Из письма от 23 августа 1934 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 7. С. 359.)
(обратно)286
Урожд. Игнатова, дочь И. И. Игнатова, издателя “Русских ведомостей”.
(обратно)287
Письмо от 28 декабря 1934 г. (Минувшее. Исторический альмананх. № 17. С. 368.)
(обратно)288
ПСС. Т. 9. С. 19.
(обратно)289
Из письма от 14 марта 1935 г. ПСС. Т. 9. С. 19.
(обратно)290
Галина Лонгиновна Герус (1906–1987), жена композитора Алексея Федоровича Козловского (1905–1977).
(обратно)291
Иосиф Павлович Уткин (1903–1944).
(обратно)292
Письмо от 24 апреля 1935 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 17. С. 369.)
(обратно)293
К юбилею Пушкина Ломоносова написала пьесу “Дуэль”, она была передана К. С. Станиславскому, которому она понравилась.
(обратно)294
Л. Б. Фришман.
(обратно)295
Ю. Ю. Ломоносов – сын Р. Н. и Ю. В. Ломоносовых.
(обратно)296
Из писем от 20 октября и 19 декабря 1935 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 17.) С. 386, 387.
(обратно)297
Михаил Прокофьевич Герасимов (1889–1939; расстрелян), поэт.
(обратно)298
Из письма от 9 октября 1936 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 17. С. 396.)
(обратно)299
Прозаик Иван Иванович Катаев (1902–1939) и его жена Мария Александровна.
(обратно)300
Из письма от 1 октября 1937 г. ПСС. Т. 9. С. 120–121.
(обратно)301
ПСС. Т. 9. С. 110.
(обратно)302
Дочери поэта и переводчика Сергея Васильевича Шервинского (1892–1991), художница Анна Сергеевна и Екатерина Сергеевна Дружинина, преподаватель французского языка.
(обратно)303
Василий Дмитриевич Шервинский (1849–1941), врач-эндокринолог.
(обратно)304
Е. М. Стеценко тяжело болела артритом рук, отмороженных во время снеговых повинностей 1919–1920 гг.
(обратно)305
Лев Владимирович Горнунг (1901–1993), поэт и фотограф, и детская писательница Анастасия Васильевна Петрово-Соловово (1897–1956).
(обратно)306
Иван Михайлович Беспалов (1900–1937), литературный критик.
(обратно)307
Литературный критик Константин Григорьевич Локс (1889–1956) с женой и падчерицей.
(обратно)308
Домашнее имя сына Всеволода Иванова Вячеслава Всеволодовича Иванова.
(обратно)309
Дворник дома на Тверском бульваре, 25.
(обратно)310
Писатель Евгений Яковлевич Хазин муж маминой подруги Е. М. Фрадкиной и брат Надежды Яковлевны Мандельштам. Физик Михаил Константинович Поливанов (1904–1986) и его жена Маргарита Густавовна. Марина Казимировна Баранович (1901–1975), переводчица и машинистка.
(обратно)311
Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962).
(обратно)312
Рубен Николаевич Симонов (1889–1968), актер и режиссер.
(обратно)313
Двоюродные сестры и жена брата Г. Г. Нейгауза: Наталья Феликсовна (1884–1960) и Ольга Феликсовна Блуменфельд (1887–1946), Анна Робертовна Грегер (1897–1986), жена арестованного Виктора Феликсовича Анастасьева (Блуменфельда; 1888–1938).
(обратно)314
Софья Андреевна Толстая-Есенина (1900–1975), внучка Л. Н. Толстого, директор Толстовского музея.
(обратно)315
Кира Георгиевна Андроникашвили (1909–1960), актриса, жена Б. А. Пильняка, была арестована.
(обратно)316
Адриан Генрихович Нейгауз (1925–1945), пасынок Пастернака. Заболевание стало началом костного туберкулеза и причиной его ранней смерти.
(обратно)317
В. Ф. Асмус.
(обратно)318
Племянница Л. О. Пастернака Софья Иосифовна Геникес (1866–1941) и ее дочь.
(обратно)319
Нины Александровны Табидзе.
(обратно)320
СС. Т. 9. С. 175–177.
(обратно)321
Драматург Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941) был соседом Пастернака по даче в Переделкине.
(обратно)322
Любовь Михайловна Эренбург.
(обратно)323
Поэт Абулькасим Лахути (Гасем; 1887–1957) поддерживал нас с мамой в Ташкенте.
(обратно)324
Сестра Е. В. Пастернак Анна Владимировна Минц.
(обратно)325
Елизавета Михайловна Стеценко.
(обратно)326
Надежда Александровна Павлович (1895–1980), поэтесса и переводчица.
(обратно)327
Поэт Семен Исаакович Кирсанов (1906–1972) с женой.
(обратно)328
Драматурги Николай Федорович Погодин (1900–1962) и Николай Евгеньевич Вирта (1906–1976).
(обратно)329
Актеры Театра Революции Максим Максимович Штраух (1900–1974) и Михаил Федорович Астангов (1900–1965).
(обратно)330
Август Вильгельм Шлегель (1767–1845), немецкий поэт и историк литературы.
(обратно)331
Михаил Михайлович Морозов (1897–1952), историк английской литературы.
(обратно)332
Александр Константинович Гладков (1912–1976) не попал в Ташкент.
(обратно)333
Ксения Михайловна, жена Асеева, и ее сестра Надежда Михайловна Синякова.
(обратно)334
Генрих Нейгауз был арестован, как и Тициан Табидзе.
(обратно)335
Адик Нейгауз находился в туберкулезной больнице в Нижнем Уфалее на Урале.
(обратно)336
Гаспар Монж (1746–1818), французский математик и инженер, основатель нормальной и политехнической школ в Париже. Эварист Галуа (1811–1832), французский математик, создатель теории алгебраических уравнений.
(обратно)337
То есть в интернате Литфонда, которым руководил Хохлов.
(обратно)338
Поэтесса Мария Сергеевна Петровых (1908–1979) во время войны в Чистополе подружилась с Пастернаком, который устроил ей вызов в Москву и переводческую работу.
(обратно)339
Г. Г. Нейгауз был выпущен из тюрьмы 19 июля 1942 г.
(обратно)340
Виктор Михайлович Гусев (1909–1944), поэт и драматург.
(обратно)341
Мы привели эту рекомендацию в первой главе.
(обратно)342
Сообщения о здоровье и трудных условиях военной жизни без всяких помех пересекали два фронта в оба конца.
(обратно)343
Художница Зинаида Владимировна Каширина, сестра Т. В. Ивановой, была в эвакуации в Ташкенте.
(обратно)344
Елена Ефимовна Тагер (1909–1981), историк искусств.
(обратно)345
Капитан Гавриил Антонович Половченя (1907–1988), Герой Советского Союза.
(обратно)346
Мария Ивановна Бабанова (1900–1983), актриса Театра Революции.
(обратно)347
Пастернак читал свои стихи последних лет, составившие книгу “На ранних поездах”, на издание которой он подписал договор.
(обратно)348
Михаил Борисович Храпченко (1904–1980), председатель Комитета по делам искусств.
(обратно)349
Григорий Борисович Хесин (1899–1983), директор Управления по охране авторских прав.
(обратно)350
Борис Александрович Вадецкий (1907–1962), писатель. Есть фотографии Пастернака с Лёнечкой, сделанные им в Чистополе.
(обратно)351
Александр Борисович Раскин (1914–1971), писатель. Сигурд Оттович Шмидт (1922-2014), историк.
(обратно)352
Валентина Михайловна Ходасевич (1894–1970), художник.
(обратно)353
Яков Эммануилович Голосовкер (1890–1967), филолог, переводчик.
(обратно)354
Лев Абрамович Кассиль (1905–1970) и его жена.
(обратно)355
Ольга Николаевна Сетницкая (1916–1987), историк, сотрудница Музея Скрябина.
(обратно)356
Мария Степановна Волошина (1887–1976), жена поэта М. А. Волошина.
(обратно)357
Анна Александровна Кораго (1890–1953), переводчица и педагог, преподавала в Коктебельской школе.
(обратно)358
Иван Александрович Кашкин (1899–1963), историк англо-американской литературы.
(обратно)359
Письмо от 25 августа 1945 г. ПСС. Т. 9. C. 407–408.
(обратно)360
Нинель Семеновна Муравина (Нина Скорбина; 1923–2009), литературный критик.
(обратно)361
Виктор Викторович Гольцев (1901–1955), литературный критик, редактор.
(обратно)362
Екатерина Александровна Крашенинникова (1918–1997), библиограф и историк церкви.
(обратно)363
Михаил Константинович Поливанов (1929–1991), физик.
(обратно)364
Галина Сергеевна, жена Станислава Генриховича Нейгауза.
(обратно)365
Имеются в виду пятая и шестая части романа “Прощание со старым” и “Московское становище”.
(обратно)366
Николай Платонович Бажан (1904–1983), украинский поэт.
(обратно)367
Мирон Семенович Вовси (1897–1960), врач-терапевт.
(обратно)368
Из письма О. М. Фрейденберг от 12 июля 1953 г. ПСС. Т. 9. С. 733.
(обратно)369
Николай Васильевич Банников (1918–1982), редактор Гослитиздата.
(обратно)370
Николай Дмитриевич Мордвинов (1901–1966), народный артист СССР.
(обратно)371
Лина Ивановна Прокофьева (1897–1989), певица.
(обратно)372
Борис Всеволодович Ряжский, военный прокурор.
(обратно)373
Валентина Ароновна Мильман (1900–1968), секретарь журнала “Знамя”.
(обратно)374
Вера Клавдиевна Звягинцева (1894–1972), поэтесса.
(обратно)375
Симон Перецович Маркиш (1929–2003), филолог-классик.
(обратно)376
Алексис Раннит, в 1970-е–1980-е годы профессор Йельского университета.
(обратно)377
Английский поэт Джеральд Манли Гопкинс (1844–1889) и прозаик Томас Харди (1840–1928).
(обратно)378
Английский писатель Антони Троллоп (1815–1882) и поэт Дилан Томас (1914–1953).
(обратно)379
Виктор Хинкис (1930–1981), переводчик с английского.
(обратно)380
Татьяна Матвеевна Михеева, домработница в Переделкине.
(обратно)381
Исаак Григорьевич Баренблат (1899–1981), врач-эндокринолог.
(обратно)382
Сергей Иванович Радциг (1882–1968), профессор античной литературы.
(обратно)383
Исайя Берлин (1909–1997), английский писатель и историк.
(обратно)384
Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен. (Фр.)
(обратно)385
Физики Игорь Евгеньевич Тамм (1895–1971), Илья Михайлович Франк (1908–1990), Павел Александрович Черенков (1904–1990).
(обратно)386
Людмила Васильевна Веприцкая (1902–1988), писательница.
(обратно)387
Артур Лундквист (1906–1991), шведский писатель.
(обратно)388
Лев Давыдович Ландау (1908–1968), физик-теоретик, академик.
(обратно)389
Джон Эрнст Стейнбек (1902–1968), американский писатель.
(обратно)390
Олдос Леонард (1894–1963), английский писатель, его брат Джулиан Сорелл Хаксли (1887–1975), биолог.
(обратно)391
Александр Николаевич Шелепин (1918–1994), партийный деятель; в 1958–1961 гг. – руководитель МГБ.
(обратно)392
Корнелий Люцианович Зелинский (1896–1970), литературный критик.
(обратно)393
Иллюстрированная биография (нем.).
(обратно)394
Берлинское метро (нем.).
(обратно)395
Жан Антуан Гудон (1741–1828), французский скульптор, автор галереи портретов эпохи Просвещения.
(обратно)396
Павел Степанович Мочалов (1800–1840) и Михаил Семенович Щепкин (1788–1863), актеры Малого театра; М. С. Щепкин играл в крепостном театре.
(обратно)397
“Лайка, ты жертва науки” (фр.). Лайка – имя собаки, запущенной в космос.
(обратно)398
ПСС. Т. 5. С. 581.
(обратно)




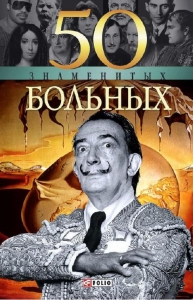


Комментарии к книге ««Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями», Борис Леонидович Пастернак
Всего 0 комментариев