Борис Васильев В окружении. Страшное лето 1941-го
© Васильев Б. Л., правообладатели, 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
Моя семья
Ни отец, ни мама никогда мне ничего не рассказывали о себе. Ни о своем детстве, ни о своей молодости. Они исходили из главного принципа того времени, когда я был ребенком: чем меньше я буду знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь. Зато бабушка и моя тетя Таня кое во что меня посвящали, и я – запомнил.
Я знал, что мой отец – офицер царской армии, закончивший курсы прапорщиков где-то в самом начале 1915 года и – уже на фронте – дослужившийся до поручика. Знал, что его отец умер вскоре после его рождения, оставив четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Старший сын традиционно готовился к военной службе, моему же отцу был предоставлен выбор. Закончив городское училище, он возмечтал было об университете, но мечта эта так мечтою и осталась, поскольку не была подкреплена соответствующей экономической базой. Впоследствии отец жалел, что не рискнул тогда учиться на собственный заработок (уроки, переписка и тому подобное), но в то время он еще болел крапивницей сословных предрассудков. Дескать, мы бедные, но гордые, и прочая ахинея, вбитая в юные головы и искалечившая немало судеб. Потом-то он от нее излечился, поскольку окопная грязь, вши и немецкая артиллерия действовали на дворянские недуги куда интенсивнее пресловутых заграничных вод. Но тогда, за четыре года до начала предписанного историей курса лечения, батюшка подался в школу прапорщиков.
Отцу суждено было прожить на свете 76 лет и два месяца: в отличие от большинства сверстников, ему повезло. Каскад из трех войн унес из России такое количество душ, что их вполне хватило бы для освоения небольшой планеты в соседней Галактике, а ведь кроме войн были и мирные периоды, во время которых с душами обращались избирательно, следуя правилу: «Пуля – дура, да расстрел – молодец». Целеустремленное проведение в жизнь второй половины этого правила во дни мира, а первой – в дни войны практически ликвидировало последние остатки русского потомственного офицерства, и после заключительного каскада – Великой Отечественной войны – отец представлялся мне экспонатом Красной книги с горестной пометкой: «Встречаются отдельные экземпляры».
То, что отец уцелел, несмотря на немыслимое количество обрушенного на него во всех трех войнах металла, удивительно, но не парадоксально. Парадокс в том, что, начав самостоятельную жизнь со спесивого нежелания самому зарабатывать на обучение, батюшка к концу ее знал столько ремесел, сколько мало кто знает. Он мог срубить дом и сложить печь, починить телевизор и сапоги, исполнить любую столярную работу, капитально отремонтировать автомашину, подковать лошадь, переплести книгу… Нет, я не в состоянии перечислить всего, что он умел делать, потому что он умел делать все. И делал все и для всех, ибо не обладал удобной способностью отказывать кому бы то ни было в просьбе, старомодно полагая такой поступок неприличным. В 1969 году – через год после его смерти – мы с сестрой вздумали почистить печь на отцовской даче. Домик – крохотный, в 18 квадратных метров – был выстроен отцом от фундамента до конька, а печь – чудо-печь, нагревавшая дом считанными поленьями! – сложена его руками. Мы ухлопали на эту операцию весь день, разворотили полтрубы, но печь упорно продолжала дымить.
– Молодцы мы с тобой, – сказала сестра, в бессчетный раз присев передохнуть перед новым отчаянным штурмом непокорного устройства. – Отец ее один сложил, а мы вдвоем вычистить не можем.
– Так то – отец, – вздохнул я.
Теперь-то я понимаю, в чем дело: нам сопротивлялась сама печь. Когда умер отец, она начала дымить, дом – скрипеть, неожиданно перекосился стол во дворе, и сам собою обрушился колодец. Созданные мастером изделия не хотели жить без него, потому что он вкладывал в них свою душу.
* * *
У меня сохранилось очень мало фотографий отца, а относящихся к Первой мировой и Гражданской войнам нет вообще. История их исчезновения могла бы послужить сюжетом, отображающим не только время, но и сопутствующие ему страхи. Это очень любопытная тема: исследование взаимодействия и взаимовлияния страхов и времени, – но она вполне самостоятельна, а посему пока отложим ее. И примем как данность, что из всех фотографий времен отцовской молодости чудом уцелели две в семейном альбоме его сестры Марии Александровны Денищик, женщины самостоятельной и отважной. Но даже ее отвага не смогла сохранить фотографий поручика-брата, уклончиво оставив его для памяти в цивильном костюме, правда, такого качества, которое в тридцатые годы тянуло на добрых десять лет общего режима.
На этой фотографии («Собственное дело Горбачева H. M. Смоленск, Кадетская № 17») батюшка на фоне расплывчатых руин застенчиво попирает локтем утес из папье-маше. Добрые глаза его смотрят с невероятным молодым напряжением, а роскошные, любовно ухоженные усы просто обязаны заверить нас в его неотразимой мужественности. Разглядывая этот снимок, я пытаюсь отвлечься от осознания, что на нем запечатлен мой отец. Я пытаюсь увидеть молодого человека времен заката царской России, не крестьянина и не торговца, не социалиста и не монархиста, не слишком образованного, не слишком терзаемого совестью, не слишком размышляющего над судьбами Отечества. То есть абсолютно нормального, здорового двадцатилетнего молодого человека из провинции. Он кое-как и кое-что болтает по-французски, играет для дам на гитаре, а для себя – на мандолине, поет цыганско-гусарский репертуар, развлекает декламацией модных стихов, а развлекается за карточным столом. «Общество» для него – арбитр элегантиерум, мода – символ веры, вечера, балы, пикники и карнавалы – апофеоз существования. Дыра в башмаке равносильна катастрофе и уж, безусловно, страшнее дыр в семейном бюджете. А там их в избытке, и провинциальный юнкер, не подозревающий, что кончит он свое земное существование коммунистом, вертится волчком, чтобы удержаться на скользком паркете губернского города Смоленска.
Таково содержание первой фотографии. На второй отец изображен на фоне тех же руин, но рядом стоит очень изящная молодая дама. Это – моя будущая матушка, а посему разглядывание второго семейного снимка отложим до соответствующего места. Все хорошо в свое время, а особенно – фантазии на семейные темы.
Я люблю рассматривать старинные фотографии. Люблю толстый картон, который не сворачивается в трубочку, подобно пересохшему сыру. Люблю неторопливую, обладающую глубоким смыслом ретушь. Люблю серьезность – серьезность мастера, который никуда не спешит, наводя на фокус, и серьезность объектов его мастерства, которые встали перед объективом не потому, что случайно проходили мимо. Люблю детскую наивность рисованных замков, утесов и пальм. Люблю, наконец, полновесность серебра, до сей поры хранящего изображения. Серебро – не просто благородный, а единственно благородный металл, ибо только оно обладает человеколюбием, убивая болезнетворных микробов и увековечивая людей. Цвет серебра изящен и аристократичен: недаром мы сравниваем с ним седину, достойную почитания. Серебро воспитанно и худощаво, в отличие от крикливого и жирного золота, залившего весь мир кровью и ничего так и не давшего человечеству взамен. Золото оскорбительно своей демонстративностью: лишенное скромности и внутреннего такта, оно способно лишь вопить о кошельке владельца. Рот, набитый золотом, с детства воспринимается мною как пасть скоробогатея. Да, да, того самого буржуя, презрение к которому было привилегией нашего голодного, разутого и раздетого Отечества, единственной, но до чего же гордой привилегией!
Серебро исчезает: тот, кто работает на человека, всегда сжигает себя. А вот количество золота в мире неуклонно растет, но люди не становятся богаче от того, что оно растет. Когда человечество уразумеет, наконец, эту простую истину, оно шагнет вперед сразу на два порядка. Однажды мы пытались доказать это миру, но то ли мир не понял нас, то ли мы мир не поняли, то ли доказательства были не слишком доходчивыми, а только набитые золотом пасти по-прежнему зевают мне в лицо из-за каждого прилавка. И я горжусь тем, что на старой фотографии отца нет никакого золота. Есть только благородное серебро, сохранившее для меня его дорогой облик.
Я видел, как этот сохраненный серебром облик сгорал в пламени печурки в старом смоленском доме на Покровке. Моем первом доме земного бытия. Доме, где я учился узнавать своих родных, ползать и говорить первые слова. Это был лучший Дом на земле, поверьте, я уже старше собственного отца и успел сменить множество домов. Там жила не только сама Гармония, но и ручная белая крыса без хвоста, аккуратность которой за столом – мы с ней вместе завтракали, обедали и ужинали – мама всегда ставила мне в пример.
Так вот в этом замечательном доме было то ли холодно, то ли я простудился, а только ночью я проснулся от озноба и увидел, как в раскаленном жерле печурки сгорают толстые дореволюционные паспарту, унося вместе с дымом облики запечатленных на их серебре людей. И я не удивился, я, как мне кажется сегодня, понял, что есть времена сжигания своего прошлого.
* * *
Через год после посещения «Собственного дела Горбачева» облик батюшки резко изменился: он надел военную форму, которую не снимал до своей кончины. Она словно приросла к нему, стала второй кожей, частью его существа и смыслом его существования. Судьба чуть было не напутала: солдатом родился отец, а не его старший брат Павел. Подчеркиваю: родился, ибо до тех пор, пока человечеству свойственно нападать и обороняться, оно будет поставлять солдат для самого себя, не полагаясь на волю случая, а программируя это традициями, обычаями, престижностью и девичьими вздохами о душках-военных. Мы застали еще – правда, уже на излете – те времена, когда служба Отечеству была столь же естественна, как забота о собственном достоинстве, и шпага считалась естественным продолжением руки. Но и при этом случались казусы, шпага оказывалась при младшем сыне, а не при старшем, как того требовал обычай. Так произошло с моим отцом, но история исправила ошибку: за десять лет до моего рождения новоиспеченный пехотный прапорщик отправился в окопы Первой мировой, успев, к счастью, жениться между выпускным парадом и погрузкой в эшелон.
Я убежден, что каждой человеческой душе нужна своя, единственная, ей присущая форма проявления, если рассматривать душу не как мистический символ, а как философское понятие, как ДУХ. Борения этого духа и есть поиски своей формы существования, но большинство так и не находит ее, и, следовательно, жизнь их не просто дисгармонична, не только судорожно перенапряжена, но и может считаться несостоявшейся, ибо их дух не нашел возможности выразить себя. Талант – я имею в виду его проявление, то есть действие, а не термин – и есть соответствие формы и содержания, а гениальный скрипач Ойстрах он при этом, заботливая мать или безымянный таксист, получающий наслаждение не от суммы чаевых, а от собственной реакции, ловкости и расчета, это уже не существенно. Мой отец, к примеру, воспринял военную форму как форму своего духа, и был прав, и был счастлив, ибо не знал ни зависти, ни неудовлетворенных желаний. Я особо подчеркиваю важность соответствия духа и формы его выражения, так как дух просыпается незаметно, и воспитатели детских душ должны быть чрезвычайно внимательны, добры и бдительны. Тенденция силой запихивать душу ребенка в приятную, доступную, понятную или просто престижную форму приводит к внутренней трагедии во всех случаях без исключения. Проявление этой трагедии может быть различным – дерзость, грубость, открытая конфронтация со всем и со всеми, тартюфовское смирение или уголовное деяние, – но причина одна: покушение на детскую душу.
К великому моему счастью, батюшка мой обрел единство формы и содержания быстро, без особых терзаний и задолго – за десять лет! – до моего рождения. Таким образом, одно из слагаемых было заведомо гармоничным, но человек есть сумма двух слагаемых и разность двух векторов.
* * *
Отец мало и неохотно рассказывал о себе. Он чудом пережил три армейские чистки, бившие больше всего по офицерам царской армии, которые сразу или не сразу, а подумав и помучившись, добровольно или по призыву приходили в Красную армию. В конечном итоге их оказалось больше именно в Красной армии, нежели в Белой: по данным на 20-й год, их числилось в ней около 170 тысяч. Именно они и создали Красную армию гибкого трехчленного состава (три роты – батальон, три батальона – полк и так далее), что резко упростило управление, тогда как царская армия упорно сохраняла четырехчленный состав. Им принадлежит честь создания основной ударной силы Красной армии – ее стремительных конных армий – и принципиально иной, куда более современной тактики ее частей и соединений. И именно этих офицеров изгоняли из Красной армии в первую очередь.
В этом сказывалось не только недоверие к вчерашним золотопогонникам и даже не только застарелая, с молоком матери впитанная ненависть к дворянству. Они были профессионально требовательны к подчиненным, добиваясь беспрекословного исполнения приказов и неукоснительно строгой дисциплины, то есть именно того, чем всегда славилась русская армия. Это было в традициях русского офицерства, точно так же, как и забота о солдатах. Дедовщина в нашей армии возникла тогда, когда эти традиции были окончательно забыты. Офицеры-дворяне попали под тяжкий каток выравнивания социальной поверхности русского общества одними из первых. План уничтожения русской интеллигенции был запущен Сталиным сразу же по окончании Гражданской войны и действовал вплоть до его смерти.
В 48-м я сдал госэкзамены и сделал диплом в начале августа. Получил все требуемые отзывы от консультантов и заверения, что защищаться мне предстоит в начале сентября, и наша компания решила сходить в поход на Истринское водохранилище. Нас было пятеро – три девицы и двое парней. Мы сошли на станции Березки и пошли к водохранилищу. Пишу об этом потому лишь потому, что при пересечении деревень за нами бежали все местные ребятишки с воплями: «Девки в штанах!..», а деревенские дамы неодобрительно плевались вслед. Все относительно в мире сем, и мы к этому тоже относились спокойно.
Дней пять мы жили на берегу Истринского водохранилища в полном одиночестве. Грибов было много, мы ели их во всех видах, а потом двинулись к дому, потому что 31 августа был день рождения моей жены Зори. 29-го вечером мы с ней пришли в свою квартиру на Хорошевском шоссе и обнаружили записку: «Борис, твоя защита – в 10.00 30 августа». На следующий день я помчался на защиту, получил «4» и полуторамесячный отпуск и 2 сентября уехал к отцу на Сорок третий километр Ярославской дороги. Вот ради этого отпуска я и позволил себе совершенно ненужные отступления.
Отец решил пристроить террасу к домику, и я ему помогал по мере возможности. А попутно варил похлебку из мясных консервов на два дня и спускал ее в колодец, откуда мы ее и извлекали для очередного обеда, потому что жили вдвоем, и я не хотел, чтобы отец разрывался между работой и необходимостью меня кормить. Собирал грибы прямо на участке, который все еще оставался лесом, и варил их на закуску. Ходил в Зеленоградскую за хлебом и большой ржавой селедкой, которую отец почему-то предпочитал всем иным (помнится, она называлась каспийской). Раз в три дня нам приносили молоко из Горелой Рощи, но это – для завтрака, потому что еще были куры. Штук семь, что ли, во главе с задиристым петушком. Перед обедом мы с отцом непременно выпивали по две рюмочки, и нам вполне хватало бутылки на два дня. После обеда отец, как правило, заваливался на часок поспать, а я бродил по соседним перелескам, прихватывая что-либо полезное для нашего хозяйства. Сухой ствол, к примеру, или какую-нибудь смешную корягу.
Мы мало разговаривали с отцом: на работе не поговоришь, да он и не был особо разговорчивым человеком, хотя в детстве мы всегда гуляли с разговорами. Но то было еще ДО разгрома Сталиным офицерского корпуса Красной армии, в котором отец уцелел истинным чудом. Накануне мая 37-го года его послали с инспекцией в Якутию и на Дальний Восток, там он оказался посторонним, а когда вернулся, аресты командного состава резко пошли на убыль, и отца перевели в Воронеж, куда мы и переехали. ДО – и это ДО весьма на него повлияло: он вдруг стал неразговорчивым. Вечерами мы оба читали – отец еще только начал собирать собственный телевизор и в конце концов сделал его. А тогда много читали при свете керосиновой лампы, пока нам наконец-таки не провели электричество. Но один вопрос меня мучил давно, и как-то я задал этот мучивший меня вопрос. За обедом, после рюмки:
– Объясни мне, пожалуйста, как это ты, командир роты, поручик, золотопогонник, перешел вдруг на сторону большевиков?
Я тогда, помнится, налил ему картофельной похлебки, поставил перед ним тарелку, но он – закурил, хотя по негласной договоренности мы курили после первого, а не до него. И сказал:
– Видишь ли, Борис, в России офицеры присягали не народу, не родине, а – Государю. И когда Николай отрекся от престола, а его брат Михаил отказался от короны, русские офицеры оказались свободными от присяги. И каждый поступал согласно своим представлениям о будущем России.
– И многие решили стать большевиками?
– Дело не в большевиках, дело в семьях. Фронт был огромным, три тысячи верст, а царский офицерский корпус – из центральных губерний, как правило. Московская, Смоленская, Рязанская – старые дворянские гнезда. А там – советская власть. Вот русское офицерство в основном и подалось к семьям своим. Многие просто отсидеться надеялись, а тут – призыв офицеров в армию. Вот так и пошли. По мобилизации.
– И ты – тоже?
– Я? Нет. Я на фронт прибыл субалтерн-офицером, взводным фендриком. В бою на Болимовском выступе – это под Варшавой – германцы применили хлор. Я нахлебался, сознание потерял, солдаты вытащили. У фронта – свои законы. Я рукоприкладством не занимался, из общего котла ел, как все, они меня за своего и считали. Письма неграмотным писал, портянки теплые для солдат пробивал. Солдат все видит, его не обманешь. И когда в семнадцатом рота постановила, что будет за большевиков, я им сказал: «Я – с вами». Все куда проще, чем об этом потом стали писать. Война – это не пальба да атаки, сам знаешь. Война – это быт. Ненормальный, но – быт. По нему и судят об офицере.
– Это тебе помогло?
Отец пожал плечами:
– Жив остался.
Я написал это и взял в руки старую, выпущенную еще в начале века безопасную бритву «Жиллет»: когда-то мама подарила ее отцу, который уезжал на свою первую войну. Я бреюсь ею и сегодня, и это – мое единственное наследство, не считая, разумеется, подаренной мне жизни. Отец пронес ее по всем своим военным тропам, дважды терял, но солдаты находили, и она опять оказывалась в его полевой сумке. Когда-то она была в фиолетовом бархатном футляре, но футляр где-то затерялся, а бритва жива и поныне. Когда я бреюсь, я испытываю странное чувство причастности к жизни собственных родителей. Юная мама дарит уезжающему на фронт столь же юному мужу, в сущности, бесполезную вещь: на фронтах не продают безопасных лезвий. И отец таскает этот бесполезный подарок по всем фронтам в своей полевой сумке…
Странные люди жили в начале века. Люди, умеющие любить и прощать. И завещали это нам, но мы растеряли этот дар в суете наших бессмысленных и бесконечных строительств, обид, невзгод и невероятного накопления чисто обывательской безадресной злобы. Злобы против всех.
* * *
Моя матушка Елена Николаевна, урожденная Алексеева, родилась в том же, 1892 году, что и отец, но на четыре месяца позже – в июле. История юности ее отца и многочисленных дядюшек и тетушек рассказана в романе «Были и небыли», где ее батюшка (мой, стало быть, дед) выведен под именем Ивана Ивановича Олексина. Я изменил фамилию реальных людей на созвучный псевдоним литературных героев только ради свободы романного маневра, поскольку мои предки по материнской линии оказались связанными с Пушкиным, Толстым и общественным движением XIX века, что могло вызвать множество уточняющих вопросов историков. Правда, все мои консультанты легко и просто в этом разбирались, лишь порою сердито спрашивая, откуда мне известна биография братьев Алексеевых. Но, выяснив, откуда, переставали задавать вопросы.
Однако вернемся в день вчерашний.
История далекого предка не сохранилась в семейных преданиях, уйдя, по всей вероятности, в другие линии Алексеевского рода. А вот историю своего дяди Василия Ивановича Алексеева – его американский эксперимент и дружбу со Львом Николаевичем Толстым – матушка все же мне рассказала, так как очень этим гордилась. По ее словам, ее отец Иван Иванович Алексеев активно участвовал вместе с братом Василием в кружке чайковцев, строил коммуну в американском штате Канзас по методу Фурье и был близко знаком с Л. Н. Толстым. Василий Иванович, как известно, не только стал первым толстовцем, истово уверовав в учение своего гениального друга, но и спас от забвения и уничтожения его «Евангелие», переписав рукопись Льва Николаевича за одну ночь перед ее отправкой в Синод.
…К толстовскому юбилею (150 лет со дня рождения) журнал «Дружба народов» предложил мне написать статью. Я начал ее, но показалось вдруг, что запутался, что не смогу осилить, осмыслить, и – оставил. А сейчас понял, что она – сумма моих детских, юношеских, взрослых, литературных и семейных представлений о великом писателе земли Русской. Возможно, они наивны, возможно – банальны, но они – мои, и я попытаюсь их изложить, поскольку корни моего особого отношения ко Льву Николаевичу заложены все-таки мамой.
Только сначала – маленькое отступление. Года два назад (если не больше) «Литературная газета» попросила у меня интервью. Я заканчивал роман, а потому боялся перерывов и отказал.
– Не отказывайте, Борис Львович. Интервью у вас хочет взять пра-пра… внук Льва Толстого.
Мы встретились с потомком графа Толстого, поговорили на самые разные темы, после чего он пригласил меня в Ясную Поляну на очередной ежегодный съезд всех прямых потомков Льва Николаевича. Я поблагодарил, но в сентябре он позвонил, напомнил о моем обещании и сообщил число, когда меня будут там ждать. Я вежливо отказался, сославшись на то, что встречи родных – дело семейное и мне как-то не совсем удобно нарушать обычай. Тогда мне позвонили из Ясной Поляны (кто-то из более старшего возраста), сказали, что приглашают меня официально, но я все же отказался. Внучатый племянник учителя старшего сына Льва Николаевича, Сергея – это даже не седьмая вода на киселе… А теперь понимаю, что гордыня то была. Гордыня, почему и жалею, что отказался от такой чести.
* * *
В отличие от Василия, его брат Иван – отец мамы – устоял перед авторитетом, но не устоял перед юбкой: подобные парадоксы часто случаются с мужчинами. Когда я читаю набоковскую «Лолиту», я вспоминаю деда. Как знать, может быть, Набоков что-то слышал о его трагедии?
Когда это стряслось, дед был уже взрослым, а главное, многое пережившим человеком. Отсидел в «Крестах» за участие в студенческих демонстрациях, проходил по процессу «83-х», был сослан на родину под надзор полиции, сбежал вместе с братом Василием в Америку, где братья и решили строить счастливую жизнь по рецепту Фурье, организовав трудовую коммуну. Из этого дела ровно ничего не вышло, и, когда закончились деньги, братья подались на родину.
Да, поиски нравственного идеала в России конца прошлого века многих уводили за океан и очень многих – в места не столь отдаленные. Деду повезло уцелеть и вернуться, а когда его брат Василий вдруг увлекся религиозными построениями Толстого, он – в знак протеста – приехал в Петербург, где и продолжил учиться, но уже не в Университете, а в Технологическом институте, «Техноложке» – как тогда, да и сейчас, его называют. Сняв комнату у вдовы чиновника, бородатый студент учился легко и увлеченно, что не помешало ему, впрочем, вскоре жениться на своей квартирной хозяйке. Брак не вызвал особых пересудов: супруги были одного круга, Дарья Кирилловна сохранила и красоту, и обаяние, несмотря на то что родила дочь в очень юном возрасте. Покойный супруг ее – отец девочки – был грек, и дочь-полукровка возвела в квадрат красоту, живость и обаяние русской матери и греческого папы. Это было на редкость грациозное существо с идеальной фигуркой, черными косами ниже пояса и густо-синими глазами: сочетание, которое не может спокойно вынести ни один нормальный мужчина. И дед не был исключением: через год после свадьбы пятнадцатилетняя падчерица родила ему первого ребенка – мою старшую тетю Олю.
На этой клубничной сенсации давайте остановимся. Я рассказываю о своем деде и о своей бабке, и мне совсем не хочется, чтобы их трагедия выглядела этакой секс-опереттой. Может быть, она и была бы таковой, если бы мой дед всю жизнь до безумия не любил бы этой женщины и если бы эта женщина не была такова, какова она была. И, к сожалению, выражение «до безумия» в данном случае не метафора. Дед и впрямь тронулся рассудком от этой несчастной любви, которая превратилась в ненависть, оставшись великой любовью и породив в реальной жизни поэтическое единство диалектических антиподов. Но все должно знать свое место, а в особенности – рассказ о бабушке, ибо она-то и стала моим главным наставником, учителем и воспитателем.
Когда несовершеннолетняя девочка оказывается мамой, это естественно, но не совсем привычно, что ли, а потому способно создать лавину слухов и сплетен. Когда же эта родившая девочка – ваша падчерица и вы не только не открещиваетесь от всего на все стороны – нет, вы безмерно счастливы! – это уже гран-скандал. И, учтя неизбежность этого гран-скандала, дед при первых намеках падчерицы на взаимность честно рассказал все ее матери, то есть своей законной жене. Не повинился, а объявил, что любит он не ее, а ее дочь, и женился только для того, чтобы быть рядом с девочкой всю жизнь и всю жизнь любить ее. И что девочка ответила взаимностью со всем пылом греко-славянского происхождения. Не знаю, любила ли Дарья Кирилловна моего деда, но все их объяснения закончились тем, что оскорбленная супруга уехала в Высокое, отошедшее к тому времени в собственность Ивана Ивановича, заявив, что не желает более видеть ни мужа, ни дочери.
Вскоре у двух горячо и искренне любящих людей родился первый незаконный ребенок. Незаконный потому, что Дарья Кирилловна о разводе не желала ничего слышать, и в глазах церкви и общества получалось, что юная грешница прижила ребенка на стороне. В соответствии с этим ребенок получил отчество не по родному отцу, а по крестному, а поскольку крестным был брат Ивана Ивановича Георгий, то моя старшая тетушка и писалась всю жизнь Ольгой Георгиевной во всех бумагах и документах. Матушка моя оказалась второй незаконной дочерью, крестным отцом ее был другой брат, Николай, и звалась она, соответственно, Еленой Николаевной. И только последующие дети – Владимир и Татьяна – родившиеся после смерти Дарьи Кирилловны и венчания собственных родителей – получили право на отцовское имя: Владимир Иванович и Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, моя тетя Таня, пережила всех и вся: революцию и Гражданскую войну, смерть первого мужа и расстрел второго, коллективизацию и опричнину, Великую Отечественную войну и угон в Германию.
* * *
Когда это случилось, она с маленьким сыном Вадимом и дочерью Ольгой, у которой уже был ребенок, жила в Жиздре – маленьком городке тогда Смоленской области, выбранном заботливым НКВД для ее ссылки без права изменения места жительства. К тому времени Оля уже закончила педагогический техникум и преподавала немецкий язык, что в какой-то степени помогло им выжить. Когда наши войска освободили Жиздру, мама писала множество запросов во все инстанции, но получала один ответ: «О судьбе ваших родственников известий не имеется». И только в 45-м, вскоре после Победы, из Смоленска пришло письмо от самой тети Тани. И мы с мамой тут же выехали в Смоленск.
И я увидел разрушенный почти до основания город моего первого вздоха. Разбитые и взорванные дома, исчезнувшие улицы, руины кварталов, в которых мне до сей поры чудился запах трупов и взрывчатки. И над всем этим возвышался не тронутый ни единой бомбой Успенский собор, в котором шли службы. Я не мистик и тем не менее не мог не признать, что здесь не обошлось без какого-то чуда. Уцелело самое высокое здание, отличный ориентир для бомбежек как германских, так и наших самолетов, и – ни одной бомбы не попало в него, хотя рядом было решительно все сметено с лица земли.
Тетя Таня нас встречала. Она жила на Покровке в каком-то огромном подвале, где на узлах, на досках, на охапках соломы ютилось множество беженцев и перемещенных лиц. Вместе с нею были Оля и Вадим: Олин ребенок умер еще во время оккупации. Я оставил их в этом подвале и помчался в центр Смоленска, где провел свое детство. Здесь тоже было много разрушенных домов, но сам центр пострадал все же меньше, чем иные районы города. Целым оказался ансамбль, окружающий Блонье, Лопатинский сад и, как ни странно, все памятники Отечественной войны 1812 года: немцы увезли в Германию только памятник генералу Энгельгардту. Я пометался по знакомым местам, выяснил, что наш дом во дворе по улице Декабристов 2/61 тоже разрушен бомбой, и уже под вечер вернулся в подвал на Покровку. На следующий день мне предстояло помочь тете получить хоть какой-то «вид на жительство» и место этого жительства.
Признаться, я не умею продираться куда бы то ни было, расталкивая всех локтями. Не умею просить, не умею жаловаться: родители постарались избавить меня от этих холопских качеств, не очень полагаясь на гены (тогда это не было столь модным, каким стало впоследствии). Поэтому я провел трудную ночь, ни на что не решился, но когда пришел вместе с тетей Таней и своими двоюродными братом и сестрой на какой-то контрольный пункт и увидел огромную очередь на улице, то что-то со мной случилось. Я уже был офицером (я получил звание младшего техника-лейтенанта еще в апреле 45-го), а потому решительно пошел мимо всех обреченно стоявших и угнетенно молчавших. В приемной тоже яблоку некуда было упасть, хотя сюда вызывали людей порциями. У входа в кабинет стоял какой-то сержант, но я отодвинул его и без стука распахнул дверь. Пишу об этом столь подробно потому лишь, что и до сей поры этого не забыл и до сей поры удивляюсь самому себе.
За столом в кабинете сидел немолодой майор, если судить по званиям армейским, напротив его – тихо плачущая женщина. Тогда многие плакали, но всегда – тихо, всегда собирая в платочек собственное горе, точно стесняясь его.
– Проездом, – объявил я, козырнув майору. – Дело у меня, а времени – в обрез.
– Обождите в приемной, – сказал майор женщине.
Несчастная женщина еще не успела выйти, как я, развалившись на освободившемся стуле, уже начал что-то говорить. Помнится, одна здравая мысль тогда сидела в моей голове: не дать майору перехватить инициативу. И я не дал. Я рассказывал майору о Параде Победы, участником которого был и в самом деле; об академии, в которой учился, о преимуществе наших танков… Ну и, конечно же, о тете и ее семье, угнанных немцами в Германию. Развязностью, которой стыжусь до сей поры, я прикрывал свое полное неумение разговаривать с незнакомым человеком: черта, свойственная мне от природы. Я умею и люблю говорить с аудиторией, она меня не пугает, и я всегда нахожу верный тон. Но разговор тет-а-тет был и остался моим слабым местом: я – скорее массовик-затейник, нежели собеседник.
Сдается мне, что майор прекрасно понял меня тогда. Понял мою полную беспомощность и наивность, но понял и то, что я изо всех сил, глупо и неумело пытаюсь исполнить долг: помочь родным, попавшим в тяжелое положение. Конечно, он мог бы сказать уже ставшее знаменитым «разберемся», тем более что я намеревался в тот же день уехать в Москву, но сказал другое:
– Все сделаем. Учись спокойно.
Я ушел. А майор, закончив с плачущей женщиной, вызвал к себе тетю Таню и Олю. Не знаю, о чем они говорили, но документы им были выданы, а местом проживания определена Ельня по их просьбе. Все же ближе к родному гнезду…
Вечером того же дня мы выехали в Москву, взяв с собою Вадима. Он никогда не учился в школе, а болтал куда чаще по-немецки, основательно путаясь в русском языке. Предстояло подготовить его для пятого класса, что нам и удалось. А затем Вадим закончил техникум, следом – заочный институт, всю жизнь проработал в ГАИ Ярославля и вышел в отставку полковником милиции.
Тетя Таня умерла счастливой при всей своей сказочно несчастливой жизни, и в этом смысле она несколько выбивается из легиона большевистских жертв. А причина в редкостном жизнелюбии, улыбчивом оптимизме и поразительном для такой горькой судьбы чувстве юмора. Ее сестра, моя матушка, была полной ее противоположностью, хотя тетя Таня уверяла меня, что в молодости мама была совершенно иной. И дело совсем, совсем не в возрасте…
* * *
Опять – о маме. О том, почему она однажды разучилась улыбаться и не улыбалась уже никогда. И никогда не плакала, даже на похоронах отца не проронила ни слезинки.
К моменту рождения первого ребенка ее грешный отец уже где-то служил, но в преддверии скандала сразу же перевелся подальше. Не знаю точно, где родилась тетя Оля, но мама увидела свет в Варшаве. Эта неосторожность родителей лишь чудом не испортила жизнь дочери: в 1939 году во время злосчастной Финской войны матушка оказалась в числе зачинательниц движения командирских жен по оказанию помощи раненым воинам. Для нее это было обычным занятием, поскольку подобной деятельностью занимались когда-то ее бабки, прабабки, кузины, тетки и вообще «дамы общества», но командование было потрясено порывом патриотизма, список жен-благотворительниц доложен куда следовало, и «ТАМ» соизволили пожелать лично поглядеть на подвижниц. А поскольку грамотность уже овладела массами, то ни одно доброе дело теперь не мыслилось без бумажек, и началось писание анкет и заполнение автобиографий (я сознательно написал абракадабру, достойную этого занятия). Матушка и там, и там, и там, и… в общем, во всех видах жандармских бумажонок честно указала, что родилась в Варшаве, и была, естественно, немедленно изъята из всех списков. Так она и не пообщалась с товарищем Сталиным, но зато, правда, не познакомилась и с его Малютами Скуратовыми на местах, что следует рассматривать как сказочный подарок судьбы.
Она познакомилась с ними раньше, но об этом знакомстве – в свое время.
Я мало интересовался детством матушки, о чем очень сожалею сейчас. Знаю, что совсем еще маленькой девочкой она оказалась в Брест-Литовске во время страшного пожара, когда сгорел весь город: мама помнила, как бабушка несла ее на руках сквозь горящие улицы, а кошка вырвалась из кошелки и бросилась в пламя. Сама же бабушка этой истории никогда не касалась, может быть потому, что огненное крещение повлияло на нее совершенно непостижимым образом и вскоре после пожара восемнадцатилетняя мать двух незаконнорожденных дочерей сбежала от них, семьи и безмерно любящего ее мужа с каким-то усатым прохиндеем при шпорах и сабле.
Для того чтобы представить себе, что было с дедом, надо учесть, что дед был материалистом-фанатиком, если вообще возможен подобный симбиоз. А фанатические материалисты переносят удары судьбы особенно тяжко по той простой причине, что исходно не верят в эту самую предначертанную судьбу. И там, где идеалист утешается велением рока, мистик – вмешательством потусторонних сил, а циник – уверенностью, что худшее – всегда впереди, материалист оказывается безутешным. Самая рациональная философия бессильна в сфере людских отношений, а в особенности – в отношениях между мужчиной и женщиной, и бездушно жестока к своим верномыслящим: закон конечной справедливости действует с непреложной беспощадностью. Выигрывая в знаниях, ты проигрываешь в вере, а поставив на материальное, лишаешься иллюзий, столь необходимых человеку, чтобы нормально прожить отпущенную жизнь: убежденные материалисты куда чаще заболевают психическими расстройствами, нежели идеалисты, – эту истину вам откроет любой серьезный психиатр. А дед был убежденным трижды: убежденным материалистом, убежденным атеистом и убежденным влюбленным – и в соответствии с такой надстройкой падал с третьего этажа возведенного им замка. Поначалу он попытался пить, но это был еще не запой, а попытка компенсации. Девочки плакали и звали мамочку, и это отрезвляло. Дед устоял на ногах, упаковал детей и лично отвез их в Высокое к своей собственной жене Дарье Кирилловне.
Здесь начинается путаница, в которой я не в силах разобраться. Поскольку Дарья Кирилловна была законной супругой Ивана Ивановича, то она приходилась мачехой его дочерям. Но поскольку она же была матерью их сбежавшей матери, то она одновременно приходилась осиротевшим девочкам и бабушкой, а ее законный супруг был одновременно и отцом, и дедом. Тут было от чего свихнуться, и мама считала, что все несчастья материнского рода начались с этой неразрешимой задачки.
Итак, дед привез Олю и Элю в Высокое, честно рассказал о бегстве жены неизвестно куда и неизвестно с кем и попросил приютить малюток. Судя по маминым весьма скупым рассказам, он не стремился получить личное прощение и, заручившись помощью растроганной бабки (!), тут же укатил в Брест-Литовск к месту государственной службы.
* * *
Неизвестно, как бы сложилась судьба и моей матери, и моего отца, да и меня самого, если бы Иван Иванович Алексеев служил не в городе Брест-Литовске, а, скажем, в Нижнем Новгороде. Почти наверняка я бы не родился, поскольку причинный ряд моих родителей был бы нарушен и они попросту не смогли бы встретиться, а уж тем паче полюбить друг друга. А если бы я все же и родился, то у меня были бы иные родители, иная судьба, а следовательно, это был бы не я. Здесь заключена некоторая мистическая предопределенность, что является одним из родников искусства, пытающегося предложить свои варианты бесконечных человеческих «если бы». Это не игра в слова, а вполне трезвое размышление, позволяющее сделать вывод о господстве случая в личной судьбе каждого человека. Закономерности верны лишь для масс, для общего потока, для всех оптом. Судьба каждой овцы и каждого барана общего человечьего стада есть реализация чистой случайности, и никакие законы тут не действуют и действовать не могут. Ради постижения этого парадокса человек и призвал на помощь искусство с его весьма относительными законами любви, верности, долга и прочего орнамента случайностей самого зарождения человеческой жизни.
Дедушка Иван Иванович служил в городе Брест-Литовске. А спустя семь-восемь месяцев после бегства юной полукровки возвращался из Европы родной брат Ивана Ивановича и крестный отец моей матушки Николай Иванович Алексеев. А так как в те времена люди считали спешку ниже собственного достоинства, то Николай Иванович сделал трехдневную остановку, дабы не просто повидаться, но и потолковать с братом. А поскольку ехал он из Парижа, то и поведал младшему брату, что шпоры с усами и саблей оставили беглянку на произвол судьбы и что беглянка уже полгода зарабатывает на жизнь, распевая в ночных кабаре. Короче говоря, легкий жанр.
Дед проводил брата, испросил отпуск и укатил в Париж. Там он разыскал беспутную бабку, заплатил все ее долги, молча выслушал задыхающийся от слез и раскаяния лепет и взял два билета до дома. А вернувшись в Россию, сам съездил в Высокое и забрал девочек, ничего не объяснив законной жене. Дарья Кирилловна кое-как перенесла и этот удар, догадавшись, что дочь вернулась. Но она уповала на свое, материнское знание этой дочери. И действительно, через год с небольшим подросшие малютки Оля и Эля вновь были доставлены в Высокое, поскольку их родная маменька во второй раз сбежала от мужа. На сей случай с проезжим итальянским тенором и ненадолго: через три месяца она добровольно вернулась в слезах вместо бриллиантов.
Все эти истории мне рассказывала тетя Таня. Она никогда не осуждала свою грешную мать, поскольку была убеждена, что та просто не понимала, какую боль приносила близким, которых, как ни странно, очень любила, но – как-то по-своему, что ли. А мужа, то бишь моего деда, полагала просто святым человеком, умеющим любить и умеющим прощать. Последнее, правда, до известного предела, как потом выяснилось.
Но тогда дед и впрямь был святым, ибо простил своей любви и этот, повторный грех. Но в семейную жизнь он, вероятно, уже не верил, потому что категорически запретил забирать детей из Высокого. Бабка согласилась с невероятным смирением, но без детей ей было скучно, и… И постепенно, день за днем, ласка за лаской…
Надо хоть чуточку представить себе эту грешную мою бабку. Я помню ее, естественно, в возрасте, но, вспоминая ее сейчас, ясно понимаю, какой вулкан обаяния, женственности, кокетства и лукавства это был (даже тогда!), а потому могу вообразить, что за дьявольская сила была заключена в ней в ее феерические восемнадцать лет. И понимаю, что с такой женской мощью дед совладать не мог. Да и никто не мог, я в этом сейчас убежден: бабку не бросали – от нее убегали, только и всего. Убегали в страхе, ибо такая женщина могла потребовать королевство за завтраком, и пришлось бы идти его завоевывать.
* * *
При всей наружной мягкости внутри Ивана Ивановича сидел кремешок. Дед предъявил его позже, а тогда показал только одну грань, категорически заявив, что если бабка не может без детей, то пусть сама за ними и едет.
И бабка поехала. Поехала к собственной матери, у которой увела мужа, забирать собственных детей, к которым одинокая Дарья Кирилловна успела привязаться со всем неистовством брошенной женщины. Ни бабушка, ни тем более мама никогда не рассказывали мне об этом свидании: я знаю лишь сам факт. Но это такой факт, что я завидую тому писателю, который наполнит его плотью и кровью. Воистину эта сцена – сцена свидания матери и дочери – достойна самого талантливого пера. Особенно если учесть, что там не могло быть и не было современной крикливой суеты и спешки: женские судьбы и судьбы детей решались за чашечкой чая сдержанно и вдумчиво, но сколько страсти клокотало под этой сдержанностью!
Молодая мать забрала детей, а несчастная Дарья Кирилловна так и не оправилась от последнего трехдневного разговора с единственной дочерью и вскоре умерла. Смерть ее глубоко и искренне потрясла мою бабушку; она остепенилась, возилась с детьми, вела дом, была ласкова с мужем и через отмеченный приличиями срок обвенчалась с ним в церкви села Уварово. Родившийся после свадьбы мальчик был уже вполне законным, равно как и последняя дочь Татьяна. Бабка рожала, была сказочно приветлива и нежна с мужем, держала дом, прислугу, выезд, принимала у себя и наносила визиты, и эти три или пять лет были, по всей вероятности, самыми счастливыми годами жизни Ивана Ивановича Алексеева. А счастье всегда недолго, ибо часы его сочтены, почему их и не наблюдают, и вскоре после рождения последней дочери бабка сбежала в третий раз.
Если быть точным, то не сбежала, а ушла, оставив записку, в которой писала, что жить не может без сцены. Что понимает, насколько она мерзка и отвратительна. Понимает, что она – падшая женщина, что порочная и порченая и что ее необходимо проклясть и забыть. Дед проклял, но не забыл, и начал пить. И пил, уже не переставая, пропив службу, Гражданскую войну (попросту не заметил!) и в конце концов свой собственный очень ясный и острый ум. А бабка металась по провинциальным подмосткам, мелькая черными чулками в кладбищенском свете свечей вчерашнего дня. И по окончании Гражданской войны объявилась у своей второй дочери и как ни в чем не бывало взялась за мое воспитание.
Дети, лишенные матери и практически отца, росли в семьях теток и дядей. Как бы там ни было, а они чему-то выучились, тем паче что новое время требовало и новых знаний. Все они – три сестры и брат – встречали эти новшества уже в собственных семьях, и все – в Смоленске. А дед проживал в своем доме невылазно. В родовом поместье Высокое, двадцать две версты от Смоленска. Учитывая то, что он потерпел за свои убеждения от царизма, ему выдали какую-то охранную грамоту, а крестьяне не тронули не только его дом, но и огромный сад, может быть, потому, что он отдал свои земли общине без всякого выкупа, исходя из собственных представлений о справедливости. У него была новая гражданская супруга – его прежняя домоправительница, воспринявшая революцию как право залезть к барину в постель. По странному стечению обстоятельств звали ее Дарьей: думаю, у деда был определенный комплекс вины, связанный с этим именем. Эта Дарья Матвеевна была очень гостеприимна и домовита, чудовищно гордилась своей новой родней и всегда приглашала в Высокое. Дед пил ежедень, а когда не пил – молчал, но при всех вариантах не стремился навстречу взрослым детям и подрастающим внукам. Скорее, он избегал их, делая исключение только для моей мамы. С нею он разговаривал, если был в начале запоя, или молча разглядывал ее, если находился в кратком периоде трезвости. Он перенес внимание к ней и на ее детей – на Галю и на меня; я жил у него года три, что ли, когда у моего отца был период частых переводов по службе. Дед научил меня читать и слушать, молчать и спрашивать, а это – великие науки детства.
* * *
Лет в шесть, когда отец прочно осел в Смоленске и даже получил квартиру от штаба Белорусского военного округа, меня от деда забрали, а вскоре Иван Иванович умер. Я был маленьким, но почему-то помню его. По крайней мере, ясно помню три или четыре эпизода.
У деда была белая лошадь Светланка (тогда это имя еще не стало в России женским), на которой он ездил по утрам в седле, если стояла хорошая погода. В дождь ему закладывали пролетку, но в тот день, который мне помнится, дождя не было, потому что дед взял меня на руки, уже сидя в седле. И Светланка куда-то зарысила, а я запомнил это утро, потому что не боялся. Даже когда дед пересадил меня вперед и только придерживал рукой. И я помню чувство своей небоязни, потому что очень верил деду.
Как-то деревенские ребятишки, дружбу с которыми дед всегда приветствовал, попросили меня надергать волос для лесок из белого хвоста Светланки. И я пошел дергать, а у Светланки был в то время маленький жеребенок. И увидев, что я оказался от него в опасной близости, Светланка отбросила меня копытом. Именно отбросила, а не ударила: кобылка была сообразительная. Но я испугался и заорал, и дед сразу же кинулся ко мне. Вероятно, помнится потому, что от деда исходил густой запах табака. Отец мой тоже курил всю жизнь, но запах его был иным, почему, вероятно, я и запомнил.
Дом в Высоком был кирпичным, с четырьмя колоннами у парадного входа. От него шли два деревянных крыла, куда вели два лестничных марша, между которыми стоял белый концертный рояль. Дед купил его для того, чтобы бабка музицировала и распевала свои песни, но почему он стоял тогда в маленьком холле при входе, я не знаю. Может быть, дед сослал его из гостиной после последнего бабкиного побега, что при его характере, думаю, допустимо. Как бы там ни было, а располагался он там, и на его крышке осенью всегда стояла большая ваза с самыми красивыми яблоками. В огромном саду было множество плодовых деревьев, яблоки и груши никогда полностью не собирали, почему мне, вероятно, и снился когда-то заваленный листвой осенний сад.
И однажды мне вдруг захотелось во что бы то ни стало достать самое красивое яблоко. А взрослых не было, да они мне и не были нужны для моей почти преступной цели. Я подволок к роялю нечто весьма шаткое, кое-как взгромоздился, потянулся за вазой, ухватил ее за край, и тут сооружение подо мною рухнуло. Я свалился на пол, не отпустив во время вазы, она упала, осколки и яблоки посыпались на пол, а в дверях возник дед. На сей раз он не торопился меня поднимать, а сказал весьма укоризненно (странно, порою я слышу эти спокойные укоризненные интонации и до сих пор):
– Видишь, Боря, что происходит, когда берут без спросу.
И еще я помню библиотеку. Она представлялась мне огромной, но вероятно потому, что сам я был маленьким. Смутно помню читающего в кресле деда и себя самого, разглядывающего картинки в книжках у его ног. Эти книжки – полную, роскошно изданную серию для юношества – дед распорядился передать мне, и однажды в Смоленск приехала подвода с тремя ящиками дедовского завещания. К сожалению, они сгорели в Воронеже, но я помню их. Даже картинки в них помню.
А библиотека досталась дяде Володе, маминому брату. Он решил стать букинистом и торговал в павильоне на Блонье. Правда, недолго и, к счастью, без последствий, потому что уже кончался нэп.
Да, только Эля и ее дети имели право на внимание деда и даже на его ласку, потому что мама была очень похожа на свою мать. Полугречанку, полушансонетку, полудурную и полухорошую стихийную язычницу. Похожа, правда, не более, чем копия на оригинал: только внешне, не унаследовав от своей матери поразительного таланта всю жизнь прожить полуженщиной-полуребенком с характером удивительно легкомысленным и удивительно чистым.
* * *
Дед пил, не теряя здравого ума, много лет, а начал заговариваться во вполне трезвом виде. Дело в том, что по возвращении из нетей – это почему-то совпало с окончанием Гражданской войны – бабка с самыми благими намерениями решила нанести визит мужу, с которым, правда, была разведена уже новой властью. И нанесла: Дарья Матвеевна рассказывала, что влетела она со щебетом и сияющей улыбкой, а дед встал, простер руку и выкинул свой кремень:
– Вон!..
Бабка ушла, а дед стал малость заговариваться. Но все проходило, когда он видел мою маму, потому что она была похожа на бабушку.
Повторюсь: к сожалению, только внешне. Бестолковое, по сути, сиротское детство – а детство всегда при всей его хрупкости остается фундаментом характера – не могло пройти даром. Матушка выросла истеричной, подозрительной, скорее мрачной, чем веселой. Все это с лихвой компенсировалось ее самоотверженной любовью к детям. Мама прожила свою жизнь только ради нас, во имя нас и для нас, исполнив до конца свой материнский долг. Поэтому мы с сестрой почти не ощущали ее тяжелого, надрывного характера – матушка обрушивала его на отца. И – странное дело! – отец тоже оказался святым. В иной, разумеется, форме. Ему не приходилось прощать, а только терпеть, но у святости разные жанры.
– Из колокольчика вырвали язычок, – со вздохом сказала мне тетя Таня, когда гостила у нас на даче, а отца уже не было в живых.
В 18-м году маму арестовали как заложницу. Смоленскому ЧК было известно, что ее муж – царский офицер, но почему-то совершенно неизвестно, что он еще в 17-м перешел вместе с ротой в Красную армию. А тут вскрыли какой-то очередной заговор и стали брать всех по спискам с общим ультиматумом: «не сознаетесь – расстрел». Сознаваться было не в чем, и маму ночью повели расстреливать куда-то за башню Веселуха. Однако почему-то не расстреляли, а привезли назад, в тюрьму. На следующий день пришло сообщение об отце, маму отпустили, но еще в камере она подцепила бушевавшую в Смоленске оспу и угодила в больницу. Умирать второй раз.
Это было уже слишком, и мама сломалась. Стала мрачной, неразговорчивой, углубленной в собственные думы и совершенно разучилась улыбаться, а уж смеяться – тем более: кажется, я ни разу не слышал, чтобы мама смеялась в голос, от души. А в двадцатом у нее бурно стала развиваться чахотка (так тогда именовали особенно тяжелую и быстротечную форму туберкулеза). Форма была открытой, мама кашляла кровью, и дни ее были сочтены.
Маму и меня спас тихий совет участкового врача доктора Янсена:
– Рожайте, Эля. Роды – великое чудо. Только не кормите ребенка грудью.
Терять маме было уже нечего, и она – рискнула. И это действительно оказалось чудом: туберкулез начал рубцеваться, и когда мне было лет двенадцать, меня и маму сняли с учета в тубдиспансере. Мама прожила 86 лет, напрочь забыв, что когда-то была смертельно больна. Однако даже мое рождение не вернуло маме улыбку и не смягчило ее постоянно напряженного взгляда.
В Смоленске
Мне сказочно повезло: я издал свой первый вопль и увидел свой первый свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен – есть множество городов и красивее, и древнее его. Повезло потому, что Смоленск моего детства к моменту моего первого крика еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.
Город превращают в плот, плывущий по течению времени, история с географией. Географически город Смоленск – в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей – расположен на Днепре. То есть на вечной границе между Русью и Литвой, между Московским Великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, между Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегала когда-то пресловутая «черта оседлости», о существовании которой вряд ли помнят наши внуки. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены и стойкость его защитников, а брызги оседали в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой для всех формуле ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние хозяева превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь оседали искатели истины, так и не сумевшие преодолеть черту оседлости, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное Детство.
А ведь Детство человеческое не имеет национальности – никогда не задумывались над этим? Эта категория самосознания появилась тогда, когда человек стал взрослым, навсегда утратив детскую чистоту и детскую непосредственность. И я завидую Детству. Самому естественному и самому независимому из всех человеческих возрастов.
И здесь очень важно, где именно ты увидел свет и вдохнул первый глоток воздуха. И можно только себе представить, каким бы стал я, если бы родился не в древнейшем городе России, а где-либо, скажем… в Магнитогорске. Городе без прошлого. Без истории, без Крепости, без традиций, без Лопатинского сада, без бронзовых пушек на стадионе, без трех отцовских автомобилей, без спасенных и спасающихся. В городе, который никак не смог бы стать плотом, на котором плывут сквозь время России ее души. На котором спасаются от мора, глада и пожара, не думая о том, чьи деяния принесли это вселенское горе, не испытывая ни злобы, ни ненависти, а только ужас пред завтрашним днем.
Смоленск спасал всегда. До сей поры помню табличку на остатках крепости в Лопатинском саду: я непременно читал ее всякий раз, когда бывал в нем, и всякий раз испытывал невероятный прилив гордости:
«СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ ВЫДЕРЖАЛА ПЯТЬ ОСАД…»
С той поры она выдержала уже семь. Семь, потому что не сдалась гитлеровцам в сорок первом и сумела выстоять растянутую на десятилетия осаду большевиков. То, что сегодня их последователи правят бал в моем родном городе, – явление временное, поскольку само их время уже давно прошло…
Я вырос рядом с Крепостью: до нее было всего-то два квартала. Я исползал и излазил ее всю, вдоль и поперек, я знаю о ней то, чего не знают даже дотошные краеведы, потому что ребенок куда глазастее и зорче любого взрослого специалиста. Ему практически неведом страх, он гибок и ловок и может пролезть в любую дыру, порою даже не зная, а куда, собственно, она ведет. Для него не существует искусственных запретов взрослых, его не остановишь ни надписью «Вход воспрещен», ни забором с колючей проволокой. Его ведет безгрешная любознательность – та страстная внутренняя потребность узнать мир, которая и привела человечество к вершинам знаний.
В надвратной башне Никольских ворот, над которыми со времен Отечественной войны 1812 года лежало французское пушечное ядро, хранились какие-то документы, сваленные в кучу, насыпом. Вход в башню был забит досками и опутан колючей проволокой, но нас это не смущало. Мы выломали доску, отогнули колючку и получили доступ к этому архиву, обреченному на нетление. Я взял с собою какую-то тощую папку и показал отцу.
– Документы Городской управы, – сказал он, просмотрев. – Где ты их взял?
Я рассказал о Никольской башне. Он велел положить папку на место, запутать вход колючей проволокой и больше туда не залезать. Попутно он объяснил мне самое главное: что такое архивы и почему их надо хранить. И я – понял.
А левее Никольских ворот стояла башня без перекрытий, но мы обнаружили в ее стенах лазы, которые соединяли капониры друг с другом. И пробирались по ним, не боясь застрять. Впрочем, как-то раз меня вытаскивали за ноги, поскольку лаз оказался заваленным, а развернуться в нем я не имел никакой возможности.
Однажды я сорвался с высоченной крепостной стены в Лопатинском саду. Обычно мы поднимались на нее, хватаясь за уцелевшие кирпичи и опираясь на них. И я уже добрался до верха, когда подо мною вдруг обрушился опорный кирпич, и я, естественно, полетел вниз. К счастью, я упал в ров, в который каждую осень сваливали листья, подметая аллеи сада, а потому только растянул ногу. Друзья помогли мне добраться до дома, а уж там бабушка распарила ступню и наложила тугую повязку.
* * *
В Смоленске моего детства был Храм. Двери его были распахнуты во все стороны света, и никто не стремился узнать имя твоего Бога и адрес твоего исповедника. И никто не спрашивал, какой ты национальности и кто твои родители. Имя этого Храма – Добро. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра – детство или Смоленск.
– Эй, ребятишки, отнесите-ка бабушке кошелку до дома!
Так мог сказать – и говорил! – любой прохожий любым ребятам, играющим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть кем угодно – русским или эстонцем, евреем или татарином, цыганом или греком, – а старушка тем более: это было нормой жизни, и я не помню, чтобы кто-либо из заигравшихся детей не выполнил подобного распоряжения. Повторяю, помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова к людям и выжить можно было, только ощущая плечо соседа. Конечно, помощь – простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.
Мы снимали домик на Покровской горе: четыре комнаты и кухня. А через овраг на холме рос огромный дуб: сегодня такое дерево непременно снабдили бы охранной табличкой, но дуб не дожил до наших дней. Это с него упал Метек Ковальский; это с него меня снимал дядя Сергей Максимович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Моня Мойшес, младший сын тети Двойры, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для всеобщего обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры. Не по этой ли причине и спилили тебя проклятые наци, старый славянский дуб?..
– Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Сергею Максимовичу соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у бабушки Ханы стакан пшена в долг…
Голос мамы до сей поры звучит в моей душе. Стараясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких слов и пустопорожних цитат прививала мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, а тетя Фатима одаривала нас сушеными грушами; дядя Антал разрешал мне торчать у него в кузнице, где легко ворочали молотами двое цыган, Коля и Саша; тетя Двойра поила меня козьим молоком; дядя Сергей Максимович учил вырезать свистки из ракиты, а еще были… Были, были…
Боже мой, в моем Смоленске обитала вся Россия!..
В семь лет я расстался с дубом: мы переехали с Покровской горы в центр города на бывшую Никольскую, переименованную в улицу Декабристов. А вернулся к нему неожиданно – через год: пришел на экскурсию. Первую экскурсию в своей жизни.
Есть слова и понятия, которые маленький человек воспринимает, как Моисей воспринимал Заповеди на Синайской горе. Это связано с Первой учительницей, если ей, этой Первой, удалось раздвинуть горизонт и показать, что там, за его видимой чертой, лежат неведомые земли. В этом и заключается великое открытие детства: увидеть невидимое и непривычное за видимым и обычным.
* * *
Мою Первую учительницу звали… К стыду своему, я не помню ее имени, но помню ее. Худощавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались свежие воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень, очень старой, из прошлого века. Правда, каким-то образом мы узнали, что на Гражданской у нее погиб жених, но мы еще не умели считать года.
В один из солнечных сентябрьских выходных… Не воскресений, а общевыходных, что в те времена было совсем не одно и то же. В стране шла яростная борьба с религией, сильно смахивающая на «охоту на ведьм». Под флагом этой святой борьбы с Богом, этого краснозвездного похода против традиционной веры, скрывалась элементарная страсть варваров сокрушать культуру побежденных. Ну, к этому мы еще вернемся, а суть в том, что и в календаре усмотрели нечто церковное, а посему вместо привычных недель ввели «пятидневки», и все числа каждого месяца, делимые на 5, считались выходными. Потом сообразили, что выходных многовато, и пятидневки заменили шестидневками, объявив выходными те числа, которые делились на 6. Однако и эта мера не приумножила выхода конечного продукта, в результате чего все вернулось на круги своя, то есть выходным опять оказалось воскресенье. Отступление это дает картину полного сумбура, царившего в правительственных головах.
Так вот, в один из общевыходных учительница велела нам собраться у школы. Не всем, а тем лишь, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел и явился одним из первых. Учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским «часам», под которыми назначалось большинство свиданий и откуда шло измерение на всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый, чрезвычайно звонкий смоленский трамвай, цена за проезд в котором была несуразно дорога: 25 копеек из конца в конец – от Молоховских ворот до вокзалов. И мы покатили вниз, к Днепру, по Большой Советской. Грохочущий трамвай миновал Соборную гору, где шла ожесточенная борьба с верой, церковью и прихожанами купно и в розницу, выбрался через Пролом из старого Смоленска, пересек мост и остановился у вокзалов, где мы и сошли. И под предводительством Первой учительницы переулками, задами, садами и дворами вышли к… дубу.
– Это самый древний житель нашего города, – сказала она.
Может быть, она сказала не теми словами, но суть я запомнил навсегда. А суть заключалась в том, что этот дуб – остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и до сей поры сохранились их гигантские могильные курганы. И что вполне возможно, что Смоленска в те времена еще не было, что появился он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной дубраве и плыли дальше «из варяг в греки». И постепенно вырос город, в названии которого сохранился как труд его древних жителей, так и аромат его красных боров.
Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я и до сего дня помню грубую теплоту его многовековой брони: теплоту пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к Прошлому, ощутил это Прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с горечью думаю, что было бы со мной, если бы я не встретился со своей Первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать из них Граждан Отечества своего. Низко кланяюсь светлой памяти Вашей, учительница Первая моя!
История разлита во времени и пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно, и не обладая ими. Есть счастливые города и страны, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие историю. Камни Смоленской крепости, кривые Варяжские улочки древнего города, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и сам воздух Смоленска питали меня Историей, и я чувствовал ее и любил ее, еще не зная, что это – наука, а не только богиня.
В Лопатинском саду сохранились остатки темницы, где томился Кочубей со своим верным Искрой. Я касался решеток, за которые держался он, ожидая решения своей судьбы.
Любимый смолянами сквер, ныне прозаически названный именем Глинки, в моем детстве хранил древнее название: Блонье. Блонье… болонье… заболонь… Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы осаждающих и где прятались дети и женщины во время осад.
При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар зарезал муромского князя Глеба, брата Бориса. Братья стали первыми русскими святыми, а Смядынь – это окраина Смоленска.
Огромная смоленская крепость, в моем детстве почти замыкавшая старый город, была постоянным местом игр и источником легенд. О кладах, о подземных ходах, о прикованных скелетах. Само место располагало к сочинительству, но ведь детское сочинительство – первая ступенька взрослого творчества.
Безликость современного города, удобного лишь для спешащих на работу взрослых, для транспорта, ремонта да надзора, тяжело ударила по неповторимости детства: все стали «родом из Черемушек». Что будут вспоминать выросшие в казарменно распланированных микро – и макрорайонах дети? Какая разница между 8-й улицей Строителей и 5-й улицей Созидателей? Стандартизация детства неминуемо приводит к стандартизации человека. Так не в этом ли причина, что ностальгия перестала быть русской национальной болезнью?
Место рождения играет совершенно особую роль во всей последующей жизни человека. Чаще всего она не осознается, эта уже сыгранная роль, но Маленький человек должен получить свою пещеру и свою Бекки Тэтчер, свой клад и своего индейца Джо, иначе детство его будет заведомо ограбленным. Образы детства всю жизнь живут в человеке, и – кто знает?.. – не они ли последними заглядывают в его тускнеющие глаза?..
Пойте гимны земле вашего Детства, ибо это и есть ваша Родина. Пойте себе, своим детям и детям ваших детей, влюбляя их в то, что они обязаны любить, беречь и защищать пуще собственной жизни.
* * *
Я рос на улицах Смоленска куда быстрее и интенсивнее, чем дома. Как только мы переехали с Покровской горы в центр, на Декабристов дом 2 дробь 61, так покой дворов, садов, сараев и ничейных оврагов, в которых мирно паслись козы, сменился мощеным двором, с трех сторон замкнутым трехэтажным зданием, а с четвертой – единой системой бесконечных сараев. А шелест листвы, кудахтанье кур и нервозные вопли коз – грохотом ошинованных колес, стуком копыт, скрипом, криками, ржанием, отдаленными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.
Основным транспортом гористого Смоленска были в ту пору ломовики. Так именовались грузовые извозчики. Летом – на огромных платформах с обязательным ручным тормозом; зимой – на тех же платформах, поставленных на полозья, где роль тормоза выполнял железный лом, которым придерживали сани на спусках. Лошади, лошади, лошади – сквозь все мое детство прошли лошадиные морды и крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Тысячи лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их подкармливали лошади, щедро рассыпая овес из торб, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый – в фольклор вошедший грубостью своей! – ломовой извозчик не поделился бы со своей лошадью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».
В те давно прошедшие времена любая домашняя животина была необходима человеку как помощник в нелегкой жизни. Животное, содержавшееся для развлечения, умиления, а тем паче – престижа, было редчайшим исключением и оценивалось, в общем, неодобрительно. К людям с подобными причудами относились иронически, и по завышенным меркам тогдашней нравственности отношение это было справедливым. В стране не хватало еды, и дети зачастую голодали куда страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добрым, но требовательным к себе самому. И не было того массового умилительного восторга перед, скажем, собакой, судьба которой резко ухудшилась, несмотря на все внешние признаки благополучия. Ухудшилась потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.
А машины были чрезвычайно редки. Мы знали их наперечет, тем более что на бортах они имели точные адреса: «Завод имени Калинина» или «Льнокомбинат». С началом шпиономании, беспрестанно подогреваемой властями, надписи на бортах исчезли, но мы все равно знали, что, скажем, к «Язу» Льнокомбината прицепиться можно (шофер остановит, если заорешь), а к «Форду» горперевозок лучше не подходить, потому что увезет черт-те куда, несмотря на все твои крики.
Любопытно, что городские власти города Смоленска получили светофоры куда раньше, чем автомашины, и немедленно установили их на всех перекрестках. Светофоры были двух типов: с четырьмя циферблатами, причем каждый – из двух секторов: красного и зеленого, разделенных желтыми просветами. По этим циферблатам безостановочно ползла стрелка, и движение регулировалось цветом сектора, в котором стрелка в данный момент находилась. Вторым типом был обычный трехцветный с ручным переключением, но их было куда меньше. Почти повсеместно висели стрелочные светофоры, и было очень солидно, когда стрелка бродила по красному сектору, а лошади терпеливо ждали, когда она переберется на зеленый, хотя на поперечной улице никого решительно не было. В этом желании во что бы то ни стало регулировать то, чего пока еще нет, уже заключалось нечто в высшей степени символическое.
* * *
Потом произошло событие невероятное. Где-то в начале 30-х штаб Белорусского военного округа, который размещался в Смоленске (в нем тогда служил отец), начал получать машины отечественного производства: легковые ГАЗ-А и грузовые ГАЗ-АА. Штабное начальство тут же решило списать в утиль все автостарье. Однако, узнав об этом, отец предложил им не выбрасывать эти развалюхи, а отремонтировать и на их базе создать клуб любителей автодела. Отца кто-то поддержал и… передал в его распоряжение три списанные машины и даже бывший каретный сарай для их хранения. Он находился напротив стадиона с памятником-часовней в честь погибших во время Отечественной войны 1812 года и уцелел до сей поры.
Три машины: грузовой «Уайт», столь же древний «Бенц» (еще без «Даймлера») и знаменитая русская легковая машина «Руссобалт» – все дореволюционных времен. Каждая машина отличалась не только маркой, формой и назначением, но и имела свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу чем мог и сейчас хочу представить каждую машину как друга далекого детства.
«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон с камерой и покрышкой, а металлические колеса, облитые резиной, как танковые катки. Поэтому летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил и терял управление на всех горках, и поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им очень редко. Кроме того, он имел настолько низкие борта, что отец всегда сажал людей на пол. Шоферской кабины у «Уайта» не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно по оси машины. Однако управление было простым, и отец именно на нем учил своих автолюбителей.
Насколько «Уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «Бенц» казался несуразно коротким, даже кургузым. Его основной деталью была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина становилась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и несуразно кривые смоленские горки.
Второй особенностью был автомобильный сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собою маленькую сирену с ручкой вроде вентиля, которую надо было вращать. Естественно, водитель не мог подавать сигналов, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку, несмотря на неимоверное количество светофоров, смоляне ходили как хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки всего города безошибочно определяли:
– Борькин папка на драндулете шпарит!
Сложно было, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была, мягко говоря, человеком взнервленным, легко выходила из равновесия, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось некому. А люди то и дело возникали буквально под колесами, и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:
– Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!..
Сиденье «Бенца», в отличие от аскетичного «Уайта», было пухлым от обилия нежнейших пружин, и на каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова. Отец при этом держался за руль, женщины – за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука.
«Руссобалт» – автомобиль, широко известный и сегодня. Он – непременный участник почти всех фильмов о Гражданской войне. Водительский салон его имел только одну дверцу – с левой стороны, а за бортом правой на подножке размещался рычаг переключения передач. Салон был просторен, и можно было сидеть, вытянув ноги. Мы ездили на нем только летом, потому что верх у него был брезентовым и пассажиры мерзли из-за вечного сквозняка.
Правда, отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом для постоянных шуток, но отец охотно разделял шутки в свой адрес.
Он выпросил в штабе совершеннейший металлолом, который красноармейцы на руках перекатили в каретный сарай, ставший отцовским гаражом. И можно представить, сколько сил, терпения и времени затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого дела, упорно веря, что все решается желанием да трудом. И ему всегда доставало труда и желания.
В нашем гараже не было ни окон, ни электричества: только настежь распахнутые двустворчатые ворота. Пол был цементным, слева от входа находился верстак, прямо – все три машины, а справа – ящик с песком и бочка с бензином. Автоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду на весь месяц, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели на воздух.
Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под машиной на войлочной кошме и регулировал сцепление капризного «Бенца». Это была тонкая работа, а потому рядом на полу стояла керосиновая лампа. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая отцу требуемые инструменты. И тут погас фонарь.
– Спички на верстаке, – сказал отец. – Сможешь сам зажечь?
– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу.
Раздался хруст и звон, по кошме побежали огненные ручейки, а я почему-то заорал от восторга. И сквозь крик расслышал напряженный, но вполне спокойный отцовский голос:
– Открой ворота и беги. Открой ворота и беги.
Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, но зацепился гимнастеркой за рычаг. Пока я в дрожащем свете начинающегося пожара открывал тяжелые створки ворот, а отец, разодрав до горла гимнастерку, выкатился из-под машины, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант. Бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это еще не руки горели – горел бензин на руках – но я и сейчас вижу бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил бочку на бок, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и торопливо покатил бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за секунду до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя многие окна недосчитались стекол.
– Шляпа! – сказал отец, вернувшись в гараж и загасив остатки пожара.
Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: все определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться…
* * *
В начале лета мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни. Но срабатывала привычка: пока был жив дед, ездили в Высокое, потом снимали дом где-либо за городом. И в начале мая отец отправлялся искать подходящее место для лета. Три машины были в его личном и бесконтрольном владении. А мы поехали в Вонлярово на велосипеде. И помню разговор накануне.
– Я не могу, Эля, не имею права. Это машины штаба, и использовать их без особой надобности я не хочу. До Вонлярова мы и на велосипеде доберемся.
– Я не пущу с тобой Бориса!
– А ему-то не все равно, на чем ехать?
И я поехал на велосипеде. А сколько отцов не выдержало, не выдерживает и еще будет не выдерживать искуса и везет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на этот взгляд. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся – так уж распорядилась сама Природа. И еще раз поклон тебе, отец, за то прекрасное путешествие на велосипеде из Смоленска в Вонлярово при трех машинах в личном пользовании!..
Мы ехали на велосипеде вопреки такой естественной, такой логичной возможности, как личная машина. Вопреки бессмертному, как сам обыватель, представлению о престижности, лишь поколебленному революцией и вновь поднимавшему голову. Вопреки маминой боязни за меня. Наконец, вопреки элементарному удобству: отцу пришлось вертеть педали полсотни верст, да еще я сидел на раме.
В Вонлярово можно было проехать большаком, можно – по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не из стремления к оригинальности – он вообще был лишен его начисто. А вот стремление к расширению моего кругозора у него было всегда.
Кто не видел тропинок, бегущих по обе стороны железнодорожного полотна в полосе отчуждения! Они резво взбегают на откосы, спускаются в низины, перескакивают через ручьи, петляют, иногда исчезая, но непременно появляясь вновь. И, доведя вас до города, растворяются в нем, чтобы потом, когда вы снова тронетесь в путь, весело бежать рядом. Я и сейчас люблю на них смотреть и, изъездив много стран и километров, знаю, что они – русские: за рубежами нет такого непременного атрибута железной дороги. Этакой крепенькой босоножки, что бежит рядом с городским могучим франтом, ловко попадая ему в такт смуглыми ножками…
И в Вонлярово мы поехали по такой тропинке. Она была утоптана до бетонной твердости, но сохранила теплоту и стремительность топтавших ее ног. Я сидел на раме меж отцовских рук и держался за руль, а отец неспешно вертел педалями, и мы катили. По ровному и под гору, а вот в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем – именно так разговаривают с детьми во всем мире, а со взрослыми – только в России. Но дело не в разговорах – в конце концов, разговоры одинаковы для детства, – дело в дороге. В том третьем пути, который я прошел с отцом туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не по спидометру автомашины – измерив его собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под гору ты отдыхаешь, а в гору – задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых у речки, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне сейчас кажется, что все те объяснения – что машина не его, что бензин не его, что… – были затеяны отцом с единственной целью: показать мне, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой.
* * *
Техническая элита Смоленска именовала отцовский автопарк гробами. В подтверждение правильности этого определения приведу один из множества случаев.
Шуточку эту старина «Уайт» сыграл с нами солнечным январским днем, в те времена именовавшимся «общевыходным». Отцу поручили перевезти какие-то ящики из штаба округа в казармы на Покровской горе. Груза было много, почему и пришлось взять «Уайт», чтобы обойтись одной ездкой. И мама меня отпустила, и машина завелась быстро, и мы покатили к штабу. Там красноармейцы загрузили кузов ящиками, и справа от отца – я сидел слева – сел сопровождающий: весьма располневший коротышка-командир. И мы тронулись, пробираясь к Большой Советской по обледенелым горбатым улочкам. Выбрались вполне благополучно и спокойно покатили вниз, к Днепру. Помню, что двигатель ревел немилосердно, и теперь понимаю, что отец им тормозил наш спуск, поскольку хорошо знал о грузошинах, гладких, как хромовое голенище.
И тут я почувствовал, как начала разгоняться машина, увидел, как судорожно вцепился в баранку отец, а мы все быстрее и быстрее неслись вниз на громоздкой, тяжело груженной машине. Тормоза работали, но как только отец прикасался к ним, наш «англичанин» начинал вальсировать, и отец тотчас же давал ему полную свободу. На счастье, повторяю, был общевыходной, ломовики не работали, и по Большой Советской не тянулись бесконечные обозы.
Напротив Соборной горы, где кишмя кишел народ, начинался тихий переулок, ведущий к Резницкой улице. На подлете к нему отец крикнул, чтобы мы покрепче держались, и круто заложил руль налево, надеясь ворваться в пустынный переулок. Так бы оно и вышло, если бы из переулка навстречу нам не выкатились вдруг детские санки. Отец судорожно завертел рулем, нас занесло, закружило, санки скользнули мимо, а длинный кузов машины со всего маху врезался в деревянную лестницу, пристроенную к дому и ведущую на второй этаж. Раздался грохот, кузов стал быстро наполняться рухнувшими столбами и досками, меня треснуло по спине чем-то увесистым, а слетевшее с верхней площадки мусорное ведро, перевернувшись в воздухе, ловко село на голову нашего сопровождающего, по плечи накрыв его вкупе с буденовкой. Ревел мотор, с грохотом рушилась лестница, орали лишившиеся ее жильцы второго этажа, а перепуганный сопровождающий вертел во все стороны ведром, продолжая двумя руками изо всех сил держаться за рамку ветрового стекла…
С того дня прошло более шести десятков лет, а я и до сего дня отчетливо вижу эту чаплинскую сцену. А когда смотрю фильм «Александр Невский», не могу удержаться от смеха при виде псов-рыцарей. Уж очень они напоминают мне спуск на нашем «англичанине», удар о лестницу и ведро на голове у добродушного сопровождающего…
* * *
Хочется рассказать и еще одну историю. О людях тех тяжелейших времен России. Времен страха, мора, голода и отчаянной борьбы за жизнь.
В суровую зиму начала 20-х, когда я еще не родился, но уже существовал, отца во главе летучего отряда бросили на уничтожение крупной банды, терроризировавшей Рославльский уезд. Он гонялся за бандитами по немереным, заснеженным, окончательно одичавшим за девять лет беспрерывной войны смоленским лесам, а мама мерзла в насквозь продуваемом домишке, потому что сожгла все заборы и вообще все, что могло согреть. Но ни мама, ни бабушка никому об этом не говорили не только потому, что жаловаться неприлично, но и потому, что все вокруг переживали те же беды. И терпеливо ждали отцовского возвращения, когда в один прекрасный день два заиндевелых битюга подвезли двое саней, ломившихся от мерзлых бревен. И два ломовика, два закадычных друга Кузьма Мойшес и Тойво Лахонен по собственной инициативе и совершенно бесплатно согрели нас всех. Маму, бабушку, Галю, отсутствующего отца и меня, еще не родившегося, на всю жизнь разом.
Мама рассказала об этом подарке отцу, как только он переступил порог. Отец, не сняв шинели, взял две пачки чая – единственный подарок, который он привез семье из всех своих перестрелок и атак – и пошел к тете Двойре, матери веселого и отчаянного забулдыги Кузьки. И с той поры, встречаясь с отцом, Кузьма улыбался и подмигивал:
– Как чай дрова, Лева. Как чай!
Сейчас эта фраза вряд ли понятна, но во времена, когда к стоимости вещей добавляется теплота дружеского участия, дрова могут оказаться, как чай, а чай – как дрова. Как же это далеко от холодного торгашеского расчета с прищуром: ты – мне, я – тебе. Будто все происходило на другой планете… А может быть, и впрямь – на другой?.. Уже канувшей в Лету…
– Как чай дрова.
Через десять лет отец получил возможность сделать то же. Не расплатиться, не вернуть долг, даже не повториться – обрадовать. Он хотел обрадовать, но на дворе мела метель, и мама никак не желала меня отпускать. Если бы мы везли обыкновенные дрова, отец бы и сам не взял меня, но мы везли РАДОСТЬ, и он настоял на своем. И мы уже в сумерках выехали на кургузом «Бенце», который благополучно спустил нас по Большой Советской, пересек Днепр, протарахтел мимо вокзалов и, кряхтя, стал подниматься на Покровскую гору.
Чуть-чуть топографии. Дом, где жили Мойшесы, стоял тылом к нашему прежнему дому. Для того чтобы въехать к ним во двор, надо было взобраться на крутую, кривую и обледенелую Покровку, свернуть направо и по совсем уж лихо закрученному переулку спуститься до их ворот. Мы вползли на гору, завернули направо и стали осторожно спускаться, когда наш грузовичок вдруг вздрогнул и покатился сам собой. Как коляска, то есть свободно, легко и все быстрее и быстрее.
Тут уж никаких возможностей остановить самоуправство машины просто не существовало. Лопнула цепная передача, а так как тормоза стояли на карданном валу, то колеса вертелись, как хотели. Проезд был кривым, крутым, темным и заснеженным, пытаться попасть во двор тети Двойры нечего было и мечтать. Оставалось одно: вывернуть на ровное место, остановиться, надеть цепь и только тогда продолжать путь. Поэтому отец повернул в первый же переулок. Мы влетели в чей-то двор, с разбега выломали ворота и оказались на Покровской горе. А сверху, как на грех, спускался обоз, и отец круто заложил вниз.
– Крути, Борис!
Крутить надлежало сирену, и я крутил. Улица была узкой, навстречу ползли обозы, мы кого-то обгоняли, чудом объезжая перепуганных людей и лошадей. Выла сирена, меня мотало на сиденье, и отец то и дело ловил меня за воротник. Не понимаю, как мы ни в кого не врезались, никого не зацепили и никого не задавили: отец обладал завидным мастерством и завидным самообладанием. Мы пролетели всю Покровку, выкатились на площадь перед железнодорожным переездом, а… А переезд оказался закрытым: шел поезд. И отец круто заложил руль на полной скорости. И я ощутил, что лечу. С сиреной в руках, которую я успел крутануть и во время полета. И уткнулся головой в сугроб.
* * *
Я перечитал этот кусок и понял, что надо ставить точку. Ведь я писал не затем, чтобы рассказать, каким счастливым мальчишкой я рос, имея возможность кататься аж на трех автомашинах. Я писал для того лишь, чтобы вы увидели сухонького старика в белой полотняной фуражке, который едет в гости к фронтовому другу за четыреста верст на велосипеде. Это – мой отец, который выбрал однажды узкую тропинку от точки отсчета до цели. Вот ею я и стараюсь идти всю свою жизнь, а поезда и автомобили пусть себе катят по своим дорогам…
Перед войной
Перед войной мы жили уже в Воронеже, куда перевели отца. В 40-м году наша школа по какому-то там обмену послала желающих под Калач. В свою очередь, казачата из какой-то станицы приехали к нам. Я выразил горячее желание и поехал под Калач. В донскую станицу, имя которой, к сожалению, уже забыл.
Это была честная работа от зари до зари. Поначалу я очень уставал, но потом втянулся и работал, как все мои казачьи сверстники. Кормили там два раза в день густым наваристым борщом, не считая лежавшего на деревянных выскобленных столах «приварка»: хлеба, вареного мяса, кур и яиц вкрутую, сала и овощей разного рода, среди которых особенно запомнились огромные плошки с крупным нечищеным чесноком. На этих двухразовых обедах не было никакого ограничения как в еде, так и в «приварке», и я вернулся с шеей, плавно переходящей в плечи.
Но еще до возвращения меня определили возить зерно. Бричку насыпали вровень с бортами, и волы неторопливо тащились через степь сорок верст до элеватора. Пока дорога шла через свекольные поля, приходилось смотреть в оба, потому что волов неудержимо тянуло к свекольной ботве. Зато когда кончались поля и по обе стороны дороги начиналась нескончаемая, выгоревшая на донском солнце степь, волов напрочь переставали интересовать окрестности. Их вообще ничего не интересовало, кроме еды.
Бричка медленно ползет по степной, покрытой толстым слоем нежнейшей пыли дороге, а я смотрю в черное ночное небо. С него часто срываются звезды, чертя краткий миг своего существования, и я лениво раздумываю, как же похож этот миг на человеческую жизнь. Если она удалась. Если высветила хотя бы крохотную траекторию пути представителя всего человечества в черной бездне бытия…
Я ведь не знал, да и не мог знать, что через год я буду видеть те же звезды в окружении и молить Бога, чтобы он послал хотя бы две-три темные ночи. Мы взываем к звездам, исходя из личных, всегда корыстных интересов. Но тогда, когда я смотрел в небо, лежа на теплом зерне, я был великодушен, думая не о себе, а о человечестве в целом. Чего не приходит в голову в шестнадцать лет!
Признаться, там я влюбился в свою ровесницу, с которой так и не перемолвился ни единым словечком. Не только потому, что девушки взрослеют гораздо быстрее юношей во всех смыслах, но и потому, что я и от природы был наделен повышенной застенчивостью. А тут – казачка, которая по всем статьям считается девушкой на выданье без учета образовательного ценза. Естественно, она чувствовала мой повышенный интерес – все девушки на свете наделены этим чувством, – а поскольку была заводилой среди девушек на току, то я подвергался совершенно неожиданным атакам. То в меня летела полная лопата зерна, то моя собственная лопата вдруг ломалась пополам, то меня походя сваливали на груду половы, а сверху оказывалось такое количество девичьих упругостей, что я с трудом выбирался из-под них, красный совсем не от затраченных усилий. А сколько было хохота, соленых шуток казаков, тут же поддержанных девицами, розыгрышей и прочей веселой игры, которую так немыслимо трудно принимать, когда тебе – шестнадцать!
Именно это и послужило причиной, почему я чуть ли не по два раза на дню обращался к своему бригадиру. Я был согласен на любую работу, только не на току! И в конце концов получил унылых волов и бричку, до бортов наполненную зерном…
Ах, если бы можно было вернуться в то счастливое время!..
* * *
Наконец мы прибываем на элеватор, и наступает час мук.
Никто мне не помогает, потому что все заняты на токах. Все решительно, даже дети. Я знал, на что иду, ребята меня предупредили, но терпеть насмешки от девчонок я больше не мог. И теперь тружусь в поте лица, как то и было предписано Адаму.
Сначала я пересыпаю зерно из брички в мешки. Распределив его по чувалам, волоком оттаскиваю к весовщику и предъявляю. Он кочевряжится, поскольку мешки получаются неодинакового веса, но я чуть ли не слезно его уговариваю, упирая на то, что я – один-одинешенек. В конце концов, он соглашается, ставит клейма, и я опять же волоком оттаскиваю свои мешки к началу восхождения на Голгофу.
Потом долго брожу, разыскивая пенек или что-либо на него похожее. У меня нет помощника, который бы взваливал чувал на мои плечи, и мне нужно некое приспособление. В конце концов, мне везет, и я качу толстый обрубок бревна к моим мешкам. Здесь я устанавливаю его на торец, ставлю на него чувал, а уж потом, крякнув, взваливаю этот 75-килограммовый чувалище на собственную городскую спину. И, покачиваясь, иду по крутым сходням на второй этаж к прожорливому зеву ссыпки. На обратном пути сдаю пустой мешок и получаю квиток, удостоверяющий, что, по крайней мере, 75 кг зерна сданы государству.
Поклон тебе до земли, отец, за то, что ты с детства настойчиво прививал мне чувство долга. Сначала – перед семьей, как то всегда водилось в дворянских провинциальных семьях без всяких громких фраз. Потом – знакомство с историей, и долг перед семьей незаметно перерастает в долг перед Россией. Неоплатный долг русской интеллигенции…
Чувство долга – единственное, что поддерживает меня на сходнях с грузом в три четверти центнера на плечах. Если бы не это чувство – я бы не дошел. Я бы бросил мешок с зерном к чертовой матери…
Нет, русская интеллигенция – совсем не аморфные, кисло-сладкие мечтатели Чехова. Антон Павлович, как мне кажется, всю жизнь втайне завидовал настоящей русской дворянской интеллигенции, но, будучи мещанином города Таганрога, и помыслить не мог о причастности к ней. И изливал самого себя в своих беспомощных героях, поскольку дворянская интеллигенция России всегда ставила долг перед Отечеством на первое место. Она ощущала свою огромную ответственность перед прошлым, поскольку вся русская культура была дворянской.
И я, задыхаясь и изнемогая, волок чувалы…
Из-за этого рекордного урожая наш класс вернулся в школу что-то около двадцатого сентября. С опозданием на три недели, зато с благодарностью от колхоза. И тут выяснилось, что школа не учится, а деятельно готовится к двухдневной общегородской репетиции по противовоздушной обороне. С затемнениями, запрещением позже десяти вечера появляться на улицах без особого пропуска, тревогами и прочими удовольствиями.
И теперь, когда я читаю в серьезных трудах по истории Великой Отечественной войны (естественно, издания сталинского периода), что, де, мы к войне не готовились, что фашистская Германия напала на нашу ультрамирную страну вероломно и внезапно, я улыбаюсь. Историей вертели, как то было выгодно правящей верхушке, и продолжают ту же традицию и сегодня.
Мы нагло лжем собственному народу не потому, что наивно полагаем, будто эта ложь во благо государства, а потому, что власть большевиков в конечном итоге выродилась во власть обывателей с крестьянской психологией, освобожденной от христианской морали. Нынешняя бессмысленная суета вокруг русской Церкви только подтверждает это. Так веруют не христиане, воспитанные с детства на заповедях Христа, а язычники, полагающие, что крестного знамения достаточно, чтобы искупить все грехи разом.
* * *
Вернемся в роковой для нас сороковой год. Больше всего этой кутерьмой с учебными тревогами, затемнениями и патрулями на улицах были, естественно, довольны мы. Школьники старших классов, которые писали сочинения по «Герою нашего времени» в противогазах. Трубка при этом отсоединялась от громоздкого фильтра и лежала в сумке рядом с ним. Мы дышали вполне нормально, а списывали как хотели, потому что преподавательница тоже была в противогазе, но ей приходилось страдать, так как трубку она отсоединить не осмеливалась (еще донесут, не дай бог!). Проку от этой государственной затеи было нуль, зато шумихи и всяческих удовольствий нам хватало.
Однако показуха закончилась, а у нас отменили уроки физкультуры. Вместо нее ввели «Военное дело» и впервые отделили мальчиков от девочек.
Нас учили строевой подготовке, обращению с винтовкой образца 1892-го дробь 30-го года и с пулеметом, как с ручным, так и со станковым. Мы разбирали и чистили это оружие, выполняли строевые команды и бегали кроссы по пересеченной местности. Девочки учились оказывать первую помощь, делать уколы, перевязывать раненых и вытаскивать их из-под огня.
И закончили мы свой девятый класс на месяц раньше без экзаменов; нам просто зачли четвертные отметки. Не знаю, было так во всех городах или нам повезло.
А повезло нам, как я теперь понимаю, благодаря хаотичной застройке купеческого города Воронежа. Его центральный (и очень большой) квартал был застроен кирпичными зданиями в два-три этажа. Внутри же его стояли деревянные дома и сараи, потому что во дворах держали всякого рода живность. Кур, уток, индюков, свиней и даже овец. Все это требовало дворовых подсобных помещений, которые были чрезвычайно опасны из-за возможных пожаров. Вот их-то и решено было ликвидировать в первую очередь, для чего и мобилизовали комсомольцев из школ этого квартала. Так сказать, по месту жительства. Я попал старшим одной из пятерок. Мы ходили по дворам, уговаривали хозяев живности убрать свои сарайчики, но толку из этого не вышло. Хозяева встречали нас в штыки, немедленно писали коллективные письма в обком партии, а поскольку инициатива эта была местной, то обком предпочитал не создавать ненужного шума. Шли вялые отписки, создавались какие-то комиссии, кому-то разрешали держать живность в дворовых сарайчиках, кому-то – не разрешали. Избирательность вообще характерна для советской системы, никакого равенства не существует, но существуют родственники, знакомые, земляки и т. д. и т. п. Уже тогда, по крайней мере в провинции, проявилось то, что махровым цветом расцвело сегодня. Устройство родственников и земляков на должности, предоставление им мелких льгот – признак все той же крестьянской культуры, подмявшей под себя дворянский менталитет России с его долгом перед Отечеством, а не перед соседом по хате.
Это наше бурное начинание тогда захлебнулось, но с началом войны, благодаря приказу сверху, возникло с новой силой. До ухода на фронт, т. е. до 4 июля, я деятельно занимался разгромом частного сектора в центре города, но на сей раз с моей группой ходили либо представители милиции, либо чиновники из райкома партии.
* * *
…Тот воскресный день выдался в Воронеже на редкость жарким. Где-то на краю горизонта темнели облака, но в городе было душно. И мы со школьными друзьями решили идти купаться.
Но пока собирались, облака стали тучами, а когда поравнялись с нашей бывшей (семилетней) школой, хлынул дождь. Мы спрятались на крыльце под навесом, а гроза грохотала во всю мощь, и, помнится, мы этому буйно радовались. Но вдруг открылась дверь школы, и наш бывший директор Николай Григорьевич выглянул из нее. Лицо его было серым, это я помню точно.
– Война, мальчики… – сказал он.
А мы заорали: «Ура!»…
Из четверых мальчишек, глупо оравших «Ура!» на крыльце школы, в живых остался я один.
Купаться мы раздумали и ринулись по домам. Обрадовать матерей, что наконец-таки началась… Мы еще не знали, не понимали и представить себе не могли, что это событие на века войдет в историю как Великая Отечественная война.
Дома я застал маму, которая разглядывала большую карту Европейской части СССР – у нас дома было множество карт, потому что я их любил и собирал. Я восторженно сообщил, что наконец-то началась война, мама странно посмотрела на меня и вышла из комнаты. А я сразу же подошел к расстеленной на столе карте.
На ее глянцевитой поверхности остались два пятнышка. Следы маминых слез. И я понял – нет, не понял, а почувствовал, – что мое детство закончилось. Его провожали две мамины слезинки…
Война
За неделю до начала войны отца перевели в Днепропетровск, и он уехал принимать дела. Я уже писал, как встретил сообщение о начале войны. Тогда мы еще не знали, где проходит фронт. (Я-то знал! Знал, что фронт проходит по территории бывшей Польши, потому что свято верил в идиотскую концепцию: «Бить врага на его территории».) Поэтому я отметил на карте только города, о которых сообщили, что они подверглись налету германской авиации. А потом опять куда-то побежал, то ли потому, что мне не сиделось дома, то ли в предчувствии, что с завтрашнего дня сидеть мне там не придется.
На следующее утро поступило распоряжение о сдаче всеми гражданами приемников и велосипедов, а меня вызвали телефонным звонком в райком комсомола. К тому времени я был заместителем секретаря школьной комсомольской организации, но секретарь уехала на лето с родителями, почему и востребовали заместителя. Я отнес на пункт приема отцовский приемник и личный велосипед, получил справку и умчался в райком.
– Завтра к девяти – в обком партии, – сказал мне секретарь.
Боже, как я возгордился! Я говорил всем, к месту и не к месту, что вызван в обком на совещание. Мама обеспокоенно спрашивала, зачем вызван-то, но я и сам не знал, зачем вдруг понадобился, однако напускал на себя таинственный вид.
В зале заседаний обкома нас, комсомольцев, запихали на балконы, но и это не могло принизить самого факта моего присутствия на важном совещании. Какой-то очень серьезный человек, скучно читая по бумажке, докладывал, что наша армия пока отступает в полном порядке, но фашисты все же продвигаются, занимая наши города и целые районы. И что местные партийные и комсомольские органы не успевают с эвакуацией партийного и государственного имущества, архивов и ценностей, и в этом им должна помочь комсомольская организация города Воронежа.
Признаться, я слушал плохо, все еще пребывая в эйфории по поводу моего – первого в жизни! – присутствия на столь важном, секретном, по сути, государственном совещании. А потому уловил лишь общий смысл доклада, что пока дела наши складываются неважно, и очень удивился вопросу комсомольского вождя в перерыве:
– Понял свою задачу?
– Разъяснять? – спросил я.
– Нет! – он досадливо отмахнулся. – Отбери ребят, которым уже исполнилось восемнадцать, и завтра к девяти список передай в райком комсомола.
– А если спросят, зачем?
– Для эвакуации архивов и ценностей из временно оккупированной прифронтовой полосы. Желательно добровольцев.
Прифронтовая полоса!
Это было самым главным в поставленной мне задаче. После совещания в обкоме я собрал десятиклассников в школе, лично пробежавшись по адресам. Я знал их, но не дружил, поскольку десятиклассники всегда держались обособленно. И слушали мое сообщение с какой-то обособленной иронией, но пять человек я все же наскреб. Добавил себя самого и утром явился в обком комсомола со списком.
– А тебе сколько лет? – спросил уже надолго успевший не выспаться секретарь.
– Будет восемнадцать.
– Вот когда будет, тогда и запишешься.
И вычеркнул мою фамилию из списка счастливчиков, которые ехали в прифронтовую полосу. И неизвестно, как бы сложилась вся моя жизнь и какой длины она бы оказалась, если бы машинистка не потребовала диктовать ей принесенные списки. Я немедленно вызвался диктовать, уселся рядом с нею и назвал свою фамилию совсем в другом списке. По-моему, даже не в школьном.
Я очень боялся, что меня выловят и опять вычеркнут, но всем было уже не до проверок. Во второй половине дня фашистский самолет без всяких помех сбросил несколько бомб на Воронеж и преспокойно улетел. И все бросились смотреть, что он там натворил своими бомбами.
Я тоже побежал, но после того, как лично отнес список на подпись первому секретарю, поскольку все разбежались. Он подписал, и я, счастливый, помчался домой. Обрадовать маму.
Мама не обрадовалась, а вздохнула и горько покачала головой.
* * *
На следующий день я получил в обкоме вожделенную справку, в которой почему-то было написано, что я «боец Истребительного батальона Воронежского Обкома комсомола». Почему нас так обозвали, я не знаю, но сочетание «Истребительный батальон» звучало весьма лестно. Два дня я всем подряд показывал эту справку, а потом нас, «истребителей», собрали, сообщили, что следует взять с собой, и отпустили по домам.
Брать с собой следовало кружку-ложку, смену белья, теплую куртку или свитер и туалетные принадлежности. Мама приготовила вещи, а я, кроме того, взял с собою чистую манерку с солью, которую отец всегда брал в командировки. На сей раз он ее не взял, потому что ехал на новое место службы, а мне выпало нечто вроде командировки, и я таким образом получал некие права на манерку. Надел черные сатиновые брюки с застежками на щиколотках, называвшиеся тогда спортивными, и сатиновую стального цвета рубашку с карманом, в котором хранился комсомольский билет с выданной обкомом комсомола справкой. Все остальное прекрасно уместилось в отцовский вещмешок, хранившийся в кладовке чуть ли не с времен Гражданской войны, и утром 3 июля 1941 года я прибыл в обком. Один, поскольку с трудом, но все же уговорил маму не провожать меня.
В обкоме мы торчали довольно долго: то ли не подали состав под погрузку, то ли что-то решали и утрясали. В час дня нас покормили обедом в столовой, построили в колонну и повели на вокзал. А все провожатые – среди них особенно много было девушек, в том числе и из нашей школы, – сопровождали нас, грустно стуча каблучками по булыжникам мостовых. А на вокзальной площади окружили колонну и – молчали. А мы пели «Орленка» и «Каховку».
Наконец, ко второму пути подали эшелон из теплушек и одного – штабного – пассажирского вагона. Нас повели к составу через ворота, и девушки шли за нами. А потом вдруг хлынул проливной дождь. Мы стояли на платформе, потому что еще не прозвучала команда на погрузку, а девушки стояли чуть поодаль, на первой платформе, и легкие их платьица мокли под проливным дождем. Они чувствовали, до ужаса ясно чувствовали, что очень многие из нас никогда не вернутся домой. А мы ничего не чувствовали, кроме радостного оживления, но уже, правда, молчали. Молчали потому, что поданный эшелон оказался зримой чертой, через которую нам сейчас суждено было переступить. Шагнуть в иной мир. Жестокий, взрослый, военный.
Двери в этот мир были уже распахнуты настежь, но нас почему-то все еще держали под дождем на платформе. Мы не могли понять, почему, уже начали было ворчать, и тут из репродукторов громко, на весь вокзал, зазвучал знакомый глуховатый голос с кавказским акцентом:
– Братья и сестры!
Выступал Сталин. Это было его первое выступление после двенадцатидневного молчания, и он впервые так тепло, по-родственному, к нам обратился. Мы вытянулись по стойке «смирно», дождь лил, как из ведра, но мы слушали своего Вождя, не шелохнувшись.
Он говорил о смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной, о тяжести первых сражений, об отступлении и оставленных городах. Он призывал к мужеству и самоотверженности, к организации борьбы в тылу врага, к своевременной эвакуации промышленности и уничтожению того, что невозможно вывезти в тыл.
– Земля должна гореть под ногами фашистских захватчиков!
Мы вразнобой, но весьма воодушевленно заорали «Ура!», заглушив последующие слова, но нас за это, помнится, похвалили.
По окончании выступления Сталина нас, вымокших до нитки, стали наконец-то грузить в теплушки. Никаких нар не было, а пол был застлан гнилым сеном. Я возмутился и, бросив в угол вещмешок, побежал в штабной вагон. Там я с излишней горячностью выступил с требованием выдать нам одеяла или заменить сено. Я сказал, что товарищ Сталин лично приказал проявлять заботу о советском человеке, что в вагонах – сквозняк, а мы насквозь промокли, что в результате вместо здоровых помощников партия и комсомол получат эшелон сопливых мальчишек, что…
И тут в штабной вагон вошел военный комендант станции майор Емельянов. Они были друзьями с отцом еще с Гражданской, часто ходили друг к другу в гости, и я хорошо знал его сына Вадима, который был младше меня на три года, но умел ловить рыбу мне на зависть.
– Мать знает, что ты уезжаешь?
– Знает.
– Командирский сын, – пояснил Емельянов. – Рекомендую старшим по вагону. Одеял у меня нет, но два брезента выдам. Пришли ребят в комендатуру.
Никто в вагоне моему назначению не воспротивился, выделенные мною ребята притащили брезенты, начали устраиваться, и эшелон вскоре тронулся неизвестно куда. Мы разделись практически донага, кто-то из старших ребят – впрочем, все они были старше меня – поднес мне полстакана водки в благодарность за брезенты. Мы выпили, закусили хлебом и салом и пели под грохот колес, пока я не уснул.
* * *
Ехали мы медленно, подолгу останавливаясь на запасных путях станций и даже разъездов и пропуская воинские эшелоны. В мои обязанности входило выделять дежурных по вагону и по доставке бачков с полными двухразовыми обедами, поддерживать порядок и следить, чтобы никто не отстал. Кормили нас горохом с тушенкой да макаронами, но зато вволю, а погода стояла на редкость жаркая, и мы блаженствовали, открыв настежь обе двери. У меня в вагоне ссор не случалось, никто не отстал, и через три, что ли, дня мы прибыли на Павелецкий вокзал Москвы.
Эшелон остановился на запасных путях далеко от вокзала, но, на мое счастье, среди моих подчиненных любителей познакомиться со столицей не оказалось, кроме меня самого. В Москве, совсем недалеко от Павелецкого, у Новоспасского моста, на территории Главной насосной станции жила моя сестра Галя вместе с мужем, Борисом Ивановичем, в то время главным инженером этой самой станции. Я долго и нудно просил разрешения отлучиться на часок, не получил его и вернулся в вагон.
Почему мне не дали увольнительной, не знаю, поскольку паровоз был отцеплен и, судя по всему, продолжать путешествие мы не торопились. Однако я был хорошо приучен отцом к дисциплине, особенно не огорчался и до ночи пересказывал своим ребятам «Тугов-душителей» Луи Жаколио.
Потом прицепили паровоз, нас стали куда-то дергать, стук и грохот мешали рассказу, и мы завалились спать.
Проснулся я на подъезде к какому-то большому городу и еще издалека, не доезжая до вокзалов, понял, что наш эшелон прибывает в мой родной город Смоленск.
Боже мой, сколько я мечтал о городе своего детства. Сколько раз он мне снился, сколько раз я о нем рассказывал друзьям, рисовал планы его крепости и Лопатинского сада, назубок знал его историю. Знал я и область, поскольку мы с отцом изъездили ее на старом «Руссобалте».
Как только эшелон остановился на запасных путях, я помчался на вокзал. Здесь передо мною предстала разрушенная уборная, куда угодила бомба, но все остальное оказалось целым, если не считать выбитых стекол. Сиял куполами Успенский собор, ясно виделась крепость на холмах противоположного берега, в заросших оврагах которого еще доцветала сирень. Снизу, с вокзальной площади, невозможно было определить, насколько пострадал мой город от бомбежек, хотя о них сообщали в газетах с первого дня войны. По-прежнему шумели вокзалы, соседний рынок был полон народу, то ли покупающего что-то, то ли что-то продающего, и Смоленск не выглядел прифронтовым городом.
Мы жили в центре, на улице Декабристов, недалеко от знаменитых Часов, от которых в Смоленске отсчитывались все расстояния. Напротив них была моя школа, бывшая мужская гимназия, все мои друзья и знакомые жили в Крепости, но мне категорически отказали в просьбе хотя бы прокатиться до центра на трамвае. И напрасно отказали, потому что мы проторчали на вокзале до позднего вечера. Даже больше, поскольку я почувствовал первый толчок прицепленного паровоза уже во сне.
Потом мы опять где-то очень долго стояли, потому что раннее утро я встретил в Гнездово.
Когда после смерти моего деда Ивана Ивановича Алексеева отобрали его именье Высокое в двадцати верстах от Ельни, мы часто снимали дачу в Гнездово. Я хорошо знал эти места, копался на знаменитых Гнездовских курганах, надеясь непременно где-нибудь найти меч, самостоятельно ходил к Днепру, где купался с местными ребятишками, хотя мне это запрещалось. Пойма реки начиналась с крутого и высокого песчаного обрыва, где под вековыми соснами росли кочаны молочая, которые мы ели с удовольствием, несмотря на весьма своеобразный вкус. Я тогда знал множество съедобных трав, потому что в Смоленске в начале 30-х был самый настоящий голод и нашествие беженцев и беспризорников из Украины и из южных областей. Отощав за зиму, мы с первым теплом бросались либо в Лопатинский сад, либо в Чертов ров, где набивали себе животы сочной молодой травой. Пишу об этом потому, что вскоре эти знания мне пригодились, но об этом – в свое время.
В Гнездово мы проторчали довольно долго. Нас зачем-то снова переписали, потом разбили на десятки, и я оказался уже не старшим по вагону, а – десятником, учитывая наше гражданское положение. Там же мы и заночевали, а утром, после завтрака, получили на руки сухой паек и, построившись в колонну, куда-то двинулись с одноглазым майором на смирной лошадке впереди и собственными вещами на плечах.
Потом-то, побегав по лесам и повалявшись под бомбами и пулеметными обстрелами, я понял, какому чудовищному риску подвергли нас организаторы этого марша. Колонна в чистом поле да еще в безоблачный жаркий день – желанная мишень для любого летчика. Хоть бомби, хоть расстреливай ее из пулеметов – деваться некуда, до ближайшего леса добегут единицы. Но тогда я, естественно, об этом и не думал. Да и никто не думал – даже немцы. Мы растянулись на добрую версту, и майор напрасно орал на нас с седла. Было безветренно, душно и жарко, и если у меня был вещмешок, то большинство ребят тащились с чемоданами, а то и с корзинами.
Впрочем, дважды появлялись одиночные самолеты. Они не обращали на нас никакого внимания, а мы принимали их за свои, орали и махали руками. В пути мы сделали всего один большой привал с командой «Принимать пищу!», приняли эту пищу, а ночевали на огромном сеновале в каком-то селе. Там нас до отвала накормили похлебкой, утром подняли затемно, и к вечеру мы подошли совсем близко к фронту. Было 8 июля 1941 года.
* * *
Близость фронта ощущалась не только потому, что вокруг оказалось множество людей в форме и с оружием, но и потому, что где-то слышалась вдруг вспыхивающая пулеметная стрельба, а порою и редкая пушечная. И еще здесь всем было явно не до нас.
– Имущество вывозить? – почему-то очень раздраженно спросил какой-то немолодой полковник. – У меня в батальонах – по два бойца на десять погонных метров окопов, что уж тут вывозить? Спрячьте своих покуда в сарай, и пусть не высовываются!
Нас загнали в какие-то сараи, откуда стали вызывать командиров десяток по одному. Так дошла очередь и до меня. Вызывавший нас сержант довел меня до избы с часовым у крыльца, что-то ему сказал, и тот махнул мне рукой:
– Иди.
Я вошел в избу и, увидев за столом давешнего раздраженного полковника, вытянулся и доложил. Так, как учил меня отец:
– По вашему приказанию старший второго вагона…
– Значит, командир отделения, – уточнил полковник. – Добре. А чего на тебе такая светлая рубаха?
– Мама велела.
– Тут мам нет. Тут – снайпера. Дам записку на вещевой склад. Там тебе что-нибудь подберут. Потемнее.
В тот же день мне была выдана чистая, но очень уж мятая гимнастерка с солдатским ремнем и пилотка, которую я выпросил сам. А на следующее утро нас разбили на взводы и отделения, и я получил восемь ребят, ехавших со мною в вагоне, под свою команду. Потом нас строем повели на оружейный склад, где и раздали оружие. Самозарядные полуавтоматические винтовки Токарева (СВТ) и по три обоймы. До вечера мы занимались разборкой и чисткой оружия, которое оказалось весьма капризным, если судить по предупреждениям обучавшего нас сержанта-сверхсрочника:
– Песка боится, воды боится, всего боится. Если случилось, что на песок положил, тут же разобрать и заново вычистить. Иначе после первого выстрела откажет в подаче патрона. Очень деликатная винтовочка. Для стрельбищ.
На следующее утро мы немного – ровно по одной обойме – постреляли в овраге, а после обеда нас развели по участкам обороны. Мне достался полнопрофильный, песчаный, но кое-где обшитый горбылем участок окопа второй линии. Параллельно Днепру, левее города Красный. Это случилось 10 июля 1942 года.
Боялся ли я? Помнится, не очень, просто сердце в первую ночь постукивало чаще обычного. Смелость это? Конечно, нет. Это всего лишь уверенность юности в своем бессмертии. Да, первую ночь я почти не спал, зато вторую дрых за милую душу. Немцы стреляли редко и, как мне казалось, куда-то в другую сторону.
На другой день, уже под вечер, случилось событие, во многом, как я понял впоследствии, изменившее мою судьбу. Мы торчали в этом окопе, когда пришел немолодой – впрочем, в то время все мне казались немолодыми – лейтенант, командовавший участком.
– Выводи отделение, – сказал он. – В распоряжение командира поисковой группы.
– Немцы десант сбросили, – объяснил мне старший сержант-сверхсрочник, в распоряжение которого я поступил со своими восемью бойцами. – Мостик в деревне перекроешь на всякий случай.
Многое забылось, а его я помню. Сначала думал, что он стоит перед глазами потому, что вооружен был немецким автоматом, а потом понял: нет, не поэтому удержала его моя память. И не память удержала его ничем не примечательный облик, а – благодарность. Увидев подкрепление из восьми необстрелянных мальчишек, он отправил нас охранять никому не нужный мост. Подальше от немецких диверсантов. С надеждой: авось уцелеют.
Деревенька оказалась небольшой, но весьма гостеприимной. Она стояла на крутом откосе маленькой топкой речушки, через которую был переброшен деревянный мост к исчезающей в лесу за полями проселочной дороге. Нас встретили как дорогих защитников, кормили картошкой и поили молоком. Я ел с удовольствием, но был настороже, поскольку ясно расслышал намеки на самогонку. Из-за этих намеков мои ребята самовольно решили ночевать в деревне, но я впервые в жизни разорался, помянул о трибунале и в конце концов настоял на своем. Я очень боялся, что мое войско, откушав самогонки, разбежится по сеновалам, почему и заставил-таки их выполнить мой приказ. И они, ворча, пошли за мной. Под ракиты на противоположном берегу. Но самогонку все же пронесли, поскольку долго веселились и хохотали, так и не выполнив моего приказа выставить на ночь часовых.
Это я выяснил, проснувшись ночью в полной темноте. Было тихо, неподалеку, на западе, изредка взлетали осветительные ракеты, еще реже – трассы коротких пулеметных очередей. Я пересчитал своих сладко спящих ребят и опять завалился под кривую ракиту.
И, кажется, опять не видел никаких снов. А ведь наступало 12 июля.
* * *
Разбудил меня сплошной рев, в котором глохли все иные звуки. Мы вскочили, не соображая, что происходит. Над недалекой линией фронта небо полыхало разрывами, левее ее поднимался столб дыма: горел город Красный. Мы заметались перед мостом, криком решая, переходить его или нет, и решили уже, что надо бы перейти, но, на наше счастье, не успели. Сквозь рев ясно донеслись резкие отрывистые выстрелы танковых пушек, и из деревни к мосту побежали женщины и дети.
И мы побежали тоже. Побежали прямо по дороге, и я напрасно кричал, чтобы бежали напрямик, через луг. Я скорее почувствовал, чем понял, что если не танки, то немецкие мотоциклисты наверняка нацелились именно на эту дорогу. Меня никто не слушал, но тут по дороге дважды пальнули из танковой пушки, взметнулись взрывы, и это подействовало куда лучше всех моих истошных воплей. Все дружно свернули на луг и, путаясь в траве, бросились к лесу.
Мы успели добежать до первых кустов на опушке, когда нам в спины ударил пулемет. Кто-то из ребят попадал на землю, но я добежал до леса и остановился только за первыми стволами. Из моих ребят собралось лишь четверо, и я не знаю, что случилось с остальными. Надеюсь, что тогда они не погибли, потому что немцы стреляли не прицельно и пули их шли выше наших голов. Где-то кто-то еще ломился сквозь кусты, мы кричали им, но никто не отозвался.
– Куда бежать?
Не поручусь, что кто-то задал этот вопрос. В окружениях такие вопросы плавают в самом воздухе, и их не приходится произносить вслух. Я решил держаться дороги, потому что она была единственным ориентиром, иначе мы рисковали запутаться в незнакомом лесу, закружить в нем и либо пойти не туда, куда следовало, либо нарваться на немецкие разъезды. И еще я подумал, что на грунтовке непременно отпечатаются следы – почему-то они представлялись мне оттисками кованых сапог. А со всех сторон доносился грохот разрывов, рев двигателей, автоматные и пулеметные очереди. Но мы все-таки пошли к дороге.
На ней никого не было. Я положил ребят за кустами, а сам пополз к обочине. Полежал там, вслушиваясь, потом решился, выскользнул на дорогу и внимательно ее осмотрел.
Никаких свежих следов на дороге я не обнаружил, не считая нескольких босых ног. Ни кованых сапог, ни танковых траков, ни отпечатков мотоциклетных протекторов. Я как-то вдруг успокоился (или – почти успокоился, что, вероятно, точнее), позвал ребят и начал соображать, куда нам следует идти.
Мои ребята нехотя вылезли из-под кустов, и тут я обнаружил, что у двоих нет винтовок. У меня хватило ума не упоминать ни об уставах, ни о трибунале, но я, честно признаться, почувствовал некий прилив гордости. Я-то не бросил свою СВТ, и это тогда укрепило мою уверенность в собственных возможностях.
Мало того, что отец во время наших многочисленных путешествий на машинах научил меня ориентироваться на местности, – я с детства обладал чувством направления. Думается мне, что это чувство когда-то было вообще присуще человеку, как присуще, скажем, кошке, но с развитием дорог, появлением компаса, карт и тому подобных способов безошибочной ориентации постепенно исчезло в нем. Я впервые подумал об этом, когда в 1948 году приехал в Свердловск. Поезд прибыл в два ночи, никакой транспорт еще не ходил, а мне нужно было на Уралмашзавод. Спать не хотелось, я вышел на вокзальную площадь пустынного незнакомого города, огляделся и вдруг понял, где центр. И безошибочно, прямым путем пошел к нему.
Это чувство развил во мне отец. Он сознательно долго кружил меня по лесу, а потом спрашивал, в какой стороне Смоленск или, скажем, Витебск. И я постепенно научился инстинктивно определять верное направление.
Точно то же самое произошло и на пустынной проселочной дороге 12 июля 1941 года.
– Нам – туда, – сказал я.
И повел своих ребят. Не по дороге, которая мне казалась опасной, а просто махнул рукой в лес и пошел напрямик. И ребята пошли за мной. Я необъяснимо знал, что мы идем к печально известной ныне Катыни, как потом, впервые попав в Свердловск, знал, что иду к центру города.
Сначала мы осторожничали, обходили поляны, по одному, пригнувшись, перебегали лесные дороги. Но хотя где-то продолжалась пальба, в лесу было настолько тихо, что мы малость обнаглели. И чудом не поплатились за это легкомыслие.
Мы вышли к какой-то реке. Лезть в воду нам не хотелось, правее, за кустами, виднелся деревянный мост, и мы пошли к нему по берегу шумно и почти открыто, поскольку на нем никого не было. И неожиданно были обстреляны доброй парочкой автоматов. Сейчас думаю, что мы нарвались на немецкую моторизованную разведгруппу, но тогда мне было не до размышлений. Мы бросились назад, в лес, а обстрел продолжался, но нам удалось унести ноги в целости. Забежав за крутой поворот реки, мы решили переправляться. Ребята друг за другом полезли в воду, а я вспомнил про комсомольский билет и справку из обкома и, чтобы документы не промокли, переложил их за отворот пилотки. А потом шагнул в воду вслед за ребятами.
Я плыл на боку, спиной к течению, держа над головой винтовку, в зубах – пилотку и загребая правой рукой. Плавал я тогда неплохо, жарким летом сорокового был мобилизован в ОСВОД по комсомольской линии и воды не боялся. Но тогда, где-то на середине незнакомой реки, что-то скользкое вдруг мягко ткнулось мне в спину. Я почему-то решил, что это – утопленник, перепугался до ужаса, выпустил из рук винтовку, перевернулся на живот и, изо всех сил махая руками, поплыл к берегу, по-прежнему стиснув в зубах пилотку. Плыл, пока не влез в камыши головой, встал на ноги, вырвался на твердую почву и сразу же отбежал от берега. Сейчас-то я понимаю, что в меня ткнулась какая-то коряга, но это – сейчас. А тогда было почему-то очень страшно. Страшнее, чем под обстрелом.
То ли, переплыв реку, мы миновали окружение, то ли выскочили из еще не замкнутого кольца раньше, но больше с нами тогда ничего не случилось. Мы вышли к своим, попили молочка в какой-то деревне и под утро следующего дня пришли в Смоленск. И на рыночной площади упали без сил от полного изнеможения. Я и сейчас могу показать камни, на которые мы рухнули.
* * *
По дороге к нам присоединялись какие-то бойцы: одному в окружении неуютно. И такой неизвестный присоединившийся боец растолкал меня ранним утром:
– Старшой, вставай. Тебя командир спрашивает.
Я открыл глаза, так и не сумев оторвать голову от булыжников рыночной площади. Увидел запыленный хромовый сапог, повернулся и сел, ничего еще не соображая. И тупо спросил:
– Какое сегодня число?
– Четырнадцатое. Откуда идете?
– Из-под Красного.
– Перепиши своих бойцов, – командир протянул блокнот и карандаш. – Видишь двухэтажный деревянный дом во дворе? Принесешь туда список. Последний подъезд, второй этаж, направо.
В 1975 году в Минске на праздновании тридцатилетия Победы я рассказал писателю Евгению Захаровичу Воробьеву о своем пробуждении на булыжной мостовой родного города.
– Последний подъезд, второй этаж, направо? – радостно перебил он меня. – Мы тогда списки в той комнате составляли. Только что-то я тебя не помню… В каком ты был звании?
– Я был не в звании, а в спортивных штанах.
– И достал из пилотки комсомольский билет со справкой? – улыбнулся Евгений Захарович. – Ты еще просил маме куда-то позвонить.
А я его тогда не запомнил, хотя головой в Минске покивал. Я еще не проснулся, соображал плохо, но консервы – опять тушеный горох! – для своих ребят, которые почему-то считали меня старшим, получил. А еще получил винтовки, патроны и участок на Витебском шоссе возле какого-то завода. По-моему, кирпичного.
Окопы там были едва обозначены, и мы рыли их в две смены. Одна спала, другая копала. Потом менялись. К вечеру сделали, но получились не окопы, а ровики, потому что песок все время осыпался, а досок для обшивки не было. Да и времени, признаться, тоже, потому что на Смоленск накатывался грохот.
В Смоленске жило много моих родственников со всех родственных сторон. Когда я прибыл в город прямиком из Воронежа, я очень хотел их повидать, но когда вернулся из-под города Красного, это желание куда-то испарилось. Я не мог оставить окопы, не мог оставить участок, не мог оставить ребят, считавших меня старшим. А потому и не вспоминал о родне.
Как-то интервьюер меня спросил, не видел ли я, как мои пули попадают в немцев. Я ответил, что не только не видел, но и очень надеюсь, что вообще не попадал ни в кого. Конечно, у войны – да еще такой, как наша Великая Отечественная, – свои законы, но все-таки мне легче будет умирать.
В тех песчаных ровиках под Смоленском нам пришлось вдосталь пострелять. Вроде бы никто нас особенно не атаковал, но немцы атаку демонстрировали, а патронов у нас хватало. Спали мы урывками прямо на дне ровиков под грохот собственной пальбы.
* * *
Так продолжалось дня два или три, точно уж и не помню. А потом, уже в сумерках, нас неожиданно сняли с позиций, привели на станцию и погрузили в эшелон из телячьих вагонов. Никаких нар не было, и мы повалились прямо на пол. Уж очень хотелось спать…
Не видел я никаких снов, а проснулся вдруг от страшного грохота. Обе двери вагона были распахнуты настежь, и мы, сонные, прыгали из него в обе стороны.
Рядом с нами горел наполовину разваленный взрывом вагон. Кругом рвались снаряды, где-то совсем близко били пулеметные очереди. Я спрыгнул на насыпь и, еще не поднявшись с нее, увидел совсем рядом немецкий танк, стоявший посреди путей. Его пушка была развернута в нашу сторону и выплевывала снаряд за снарядом. Но снаряды уже летели за спины, я это понял, скатился в кювет, на четвереньках выбрался из него и нырнул в придорожные кусты.
Уже не вспомнишь, полз я через кусты или бежал, согнувшись в три погибели. Помню, что передо мною вдруг оказалось поле, на котором тоже рвались снаряды, но – редко и неприцельно. Многие из тех, кто выскочил из эшелонов, оставались в кустах, но за полем виднелся лес, и я побежал к нему. Побежал перебежками, стараясь падать в свежие воронки, и их удушливый смрад снится мне по ночам. Но отец успел вдолбить в мою голову, что снаряд никогда не попадает в одно и то же место, а значит, всегда есть шанс уцелеть. Словом, домчался я до леса, но уже без воздуха в груди, потому что дышать в воронках было совершенно нечем. Упал я за первыми деревьями, меня била судорога, я очень хотел вздохнуть полной грудью и – не мог. Потом из груди вырвался какой-то жалобный сип, и меня стало мучительно рвать желчью. Но дышать я уже начал. С трудом и свистом, но – начал.
Потом отдышался и сел. На железной дороге еще продолжалась стрельба, но в лес залетали только случайные пули, да и то поверху, а у меня совершенно не было сил. И еще я очень плохо соображал, потому что думал не о том, как уйти поскорее, а о том, что у меня есть. А у меня были спортивные штаны, гимнастерка, парусиновые туфли, в которых я бегал кроссы по пересеченной местности еще в школе, пилотка с комсомольским билетом и справкой из обкома и – манерка с солью в кармане, застегнутом на пуговицу. И больше ровнехонько ничего не было. И я горестно думал, какой же я несчастный парень, и очень жалел себя.
Но потом этот приступ бессильного детского страха прошел. Где-то еще стреляли, где-то грохотали танки… Нет, не «где-то», а совсем рядом, за первыми деревьями леса и кустами на опушке, но я окончательно пришел в себя, перебрался под куст и представил себе карту. Немцы перерезали дорогу где-то под Ярцево, я прыгал из вагона в левые двери. Значит, если я хочу выбраться, мне следует идти строго на запад, в сторону Москвы, но ни в коем случае не пересекать железнодорожного полотна. Так я наверняка выйду на старую Смоленскую дорогу, по которой когда-то шла армия Наполеона. И шла она – через Соловьеву переправу.
Я решил следовать путем великого полководца и вылез из-под орехового куста. И – очень обрадовался, увидев совсем рядом двух ребят из своего отряда. Это была удача, огромная удача, и мы направились лесом к Соловьевой переправе почти спокойно.
Было раннее утро. Мы шагали через лес без дорог, изредка встречая каких-то потерянных людей, сумевших вырваться из-под танкового расстрела эшелонов. Кто-то присоединялся к нам, кто-то продолжал путь в одиночестве, но все подавленно молчали. Кроме нас. Потому что мы были очень молоды и знали, куда идем. Цель в молодости успешно заменяет оценку реальности, свойственную более разумному возрасту, чем широко пользовалась советская власть.
* * *
Кажется, во второй половине дня мы услышали густой гул взрывов. Бомбили где-то впереди, я уже понимал, но ни за что не хотел верить, что бомбят цель нашего пути через лес – Соловьеву переправу. И продолжал упорно идти вперед. Грохот бомбовых разрывов периодически сменялся пулеметными очередями, и я успокаивал ребят, объясняя, что это наши зенитчики отгоняют немецкие самолеты. И, по-моему, сам в это верил. Или, во всяком случае, очень хотел верить.
Смена звуков продолжалась с малыми промежутками тишины. И чем ближе мы подходили, тем все явственнее прояснялась система: «юнкерсы», отбомбившись, улетали за новым запасом бомб, а им на смену шли «мессершмитты» с солидным грузом пулеметных лент, чтобы не дать нашим перебежать, укрыться, просто хотя бы перевести дух.
Это был ближайший путь к Москве, и уходить мне отсюда не хотелось. Я подумал, что немцы ночью, возможно, прекратят налеты или хотя бы умерят пыл. Правда, ночи были очень короткими, но мне надо было всего лишь проскользнуть на другой берег Днепра. Требовалось осмотреться, чтобы понять, как действовать, и я, оставив ребят на опушке, ползком перебрался в кусты поближе к бомбежке. Я глох от грохота разрывов, но из кустов ничего не было видно. Заметив впереди воронку, я добежал до нее, пока «юнкерсы» разворачивались для пикирования, и нырнул на дно. Здесь тоже воняло взрывчаткой, но зато я твердо знал, что бомбы не падают в одно и то же место.
Отдышавшись, я осторожно подобрался к краю и выглянул. И то, что увидел, никогда уж из памяти не изгладится.
Весь берег перед переправой был заполнен машинами, повозками, санитарными обозами, артиллерией без снарядов и снарядами без артиллерии. Людей видно не было – вероятно, они прятались то ли в воронках, то ли под машинами – но они были там, в этом пекле, были! А вот наших зенитчиков нигде не было видно, как я ни всматривался. Заметил только счетверенную пулеметную установку на грузовом газике, но огонь из нее не вели. То ли расчет уже погиб, то ли с пулеметами что-то стряслось, а только никто от налетов фашистской авиации не отбивался.
Это было жестокое планомерное уничтожение тылов нашей отступавшей армии вместе с переполненными обозами раненых. Двойки пикирующих бомбардировщиков, отбомбившись, сменялись двойками истребителей, расстреливающих живое и мертвое, и уцелеть здесь было просто невозможно. Мне следовало бежать отсюда, пока еще было время, но я не мог оторвать глаз от этого гигантского эшафота.
Тупая механическая жестокость войны была столь зримой, что с той поры я смотрел все наши парадно-победные фильмы с горечью и досадой. А много позже это страшное юношеское впечатление помогло мне понять, что в России, друг с другом рядышком, всегда сосуществовали две истории в полном соответствии с ее двумя культурами. История, которая рассказывалась на завалинках заслуженными ветеранами крестьянским ребятишкам («И тут закричал наш геройский поручик: “Вперед, ребята, за мной!” Мы молодецки ударили в штыки, и басурманы побежали, как зайцы…»), и история, которая рассказывалась в салонах и гостиных («Дьявол попутал Каульбарса опоздать на целых двадцать минут! Мы же оголили весь левый фланг…»). Крестьянская история воспевала победы, дворянская – анализировала поражения, исходя из того, что победы ничему не учат, а воевать еще придется. Но советское искусство всегда послушно следовало крестьянской психологии.
* * *
…Вдруг кто-то сзади свалился в мою воронку. Я оглянулся и увидел молодого лейтенанта. Действительно молодого, даже щетины на щеках не было заметно. Он сидел на откосе и смотрел на меня.
– Ты мимо пробежал, – зачем-то пояснил он. – Я кричал, но тут такое…
Он понравился мне с первого взгляда. Подтянутый, в гимнастерке с красными кубиками, туго перехваченной командирской портупеей, с пистолетной кобурой на боку и полевой сумкой через плечо. И фуражка на нем сидела лихо, и со звездой была эта фуражка.
– Здесь не проскочим. Направление главного удара, по всей видимости.
– Надо на юг идти, – сказал я. – Назад через железную дорогу и лесами – на юг. Пока их правый фланг не обойдем.
– Местный?
– Родился тут.
– Не пойму, ты – в армии или нет?
Я извлек из пилотки комсомольский билет и справку. Лейтенант прочитал, улыбнулся:
– Ну веди, истребитель. Меня Валентином зовут.
И протянул мне руку.
В окружении
С этой встречи начался мой самый долгий путь к своим. Долгий, тяжелый и опасный.
Мы с Валентином прошли много верст и много дней, мы прикрывали друг друга огнем, мы поровну делили последнюю горсть полузрелой земляники или пучок щавеля, но я ни разу не назвал его по имени. Я обращался к нему только по уставу: «товарищ лейтенант», потому что он олицетворял для меня всю мою Красную армию.
И поэтому я просто не спросил его фамилии. Она мне была не нужна.
А вот уцелел ли он на войне, как сложилась его судьба, я не знаю и не узнаю уже никогда. Мы оказались в разных фильтрационных лагерях, когда вырвались из окружения. Он – в офицерском, я – в солдатском. Нас, окруженцев сорок первого, старательно разводили по разным лагерям всегда. Даже когда Сталин помер.
Но тогда мы молились на Сталина в душе своей. Он присутствовал в каждом из нас, он помогал нам верить в победу и, губя тысячи жизней, спасал каждого в одиночку.
– Отходим в лес, – сказал Валентин. – Ты – первым. Как только «юнкерсы» отбомбятся, вылетай из воронки и без остановки – в кусты. Там падай, даже если стрелять не будут. Лежи и жди меня.
Мы благополучно перебежали в лес, где можно было уже не ползать. Там мы походили среди укрывшихся людей, Валентин предлагал им идти с нами, но никто не пошел. Все боялись отдаляться в глухие леса от ближайшей дороги на Москву, надеясь, как надеялся я, когда лежал в воронке, ночью перебраться через Днепр. Это казалось всем самым простым решением, и с нами пошли только двое из тех ребят, которых я знал.
Вчетвером мы осторожно двинулись назад, к железной дороге, а на подходе к ней к нам присоединились трое красноармейцев. Вот тогда лейтенант Валентин достал из полевой сумки командирский блокнот и приказал мне составить список отряда. Я составил список с указанием годов рождения и воинской специальности, за что получил одобрительную улыбку командира.
Чем ближе мы подходили к железной дороге, тем медленнее и осторожнее шли. От куста к кусту, от дерева к дереву, напряженно вслушиваясь и внимательно оглядываясь. Эта настороженность и обостренное внимание и привели меня к счастливой и очень нужной находке.
Я нашел солдатский котелок. Не круглый, времен Первой мировой, а алюминиевый, плоский, с крышкой и удобной ручкой. По-моему, такие котелки появились в нашей армии после Финской войны, выпущено их было еще немного, и как именно этот новейший котелок оказался на моей дороге, да еще в самом начале наших странствований в окружении, я не берусь объяснять. Счастье потому и счастье, что не поддается никаким логическим заключениям. А эта находка спасла мне жизнь без всякого преувеличения.
Добравшись со всеми предосторожностями до железной дороги, мы укрылись в кустах и начали ждать короткой июльской темноты. Там, куда мы вышли, целых эшелонов на дороге не просматривалось, и я понял, что мы оказались западнее того места, где немецкие танки перерезали железную дорогу Смоленск – Москва. На путях валялись остатки разбомбленных составов, обгоревшие вагоны, колесные пары, но людей нигде видно не было. Я уж подумал, что нам невероятно повезло, хотел сказать лейтенанту, что немцев на этом участке нет и в помине, но не успел вскочить.
И слава богу, что не успел.
Издалека послышался рокот мотоциклетного мотора, и на тропинке, которая у нас в России бежит вдоль всех рельсов, куда бы они ни вели, показался военный мотоцикл с коляской, двумя ручными пулеметами и тремя фашистскими солдатами. Я знал эти мотоциклы по описаниям в газете «Красная Звезда», которая много и восторженно живописала победы немецкого оружия, не забывая рассказывать и о самом оружии. Такие мотоциклы назывались «цундапами», были очень мощными и высокопроходимыми, но на узкой, извивающейся во все стороны тропинке выглядели тяжелыми и неуклюжими. Это был патруль, и если водитель не отрывал глаз от дорожки, то солдаты, сидевшие позади него и в коляске, не отрывали глаз от придорожных кустов.
Сейчас у меня такое ощущение, будто я видел их лица. Но, скорее всего, я видел нечто подобное в кино, потому что тогда лежал ничком, уткнувшись лицом в траву.
Пересекать железную дорогу было нельзя. И мы продолжали тихо лежать в кустарнике, осторожненько шевелясь в промежутках между патрульными мотоциклистами. Тогда казалось, что большей муки – чисто физической куда более, нежели психологической – просто не может быть, но во время наших дальнейших блужданий по лесам выяснилось, что может. И тот день, когда это случилось, я помню хорошо. Снится даже, когда на животе сплю…
* * *
А той короткой и душной июльской ночью мы перемахнули через насыпь вполне благополучно. По одному, с небольшими интервалами и только по команде Валентина. И поспешно скрылись в густом ольшанике, который надо было пересечь, чтобы войти в лес.
Здесь мы вздохнули с облегчением, но это освежающее чувство стало исчезать, как только мы приблизились к лесу. Слабый запах тления делался все сильнее и сильнее с каждым нашим шагом. Это еще не был непереносимый смрад разложения, это был сигнал его начала. Липкий, еще не вызывающий спазмов в горле, но уже включающий ощущение тошноты запах начавшегося распада.
Первые трупы появились на стыке ольшаника и лесной опушки, круто падавшей в низину, по которой мы пробирались. Я видел их сквозь кусты, но ребята, приставшие к нам, бегали посмотреть, а потом возбужденно рассказывали:
– Ног нету у мужика! Как бритвой срезало…
Мне было неприятно. Я, сколько помню себя, всегда старательно избегал глядеть на покойников. Но мои сверстники – да и не только сверстники, а вполне взрослые дяди и тети – и тогда часто бегали посмотреть на тех, кто либо сам помер, либо попал под трамвай, и всегда с массой подробностей рассказывали потом в непонятном возбуждении. Теперь-то я понимаю, что подобный интерес объясняется уровнем культуры и эстетического развития, но мне горько от подобного объяснения. Люди чаще всего неповинны в безгрешном своем любопытстве, чем широко пользуются авторы не только фильмов ужасов…
Впрочем, не мне одному было тогда противно выслушивать подобные рассказы, потому что лейтенант Валентин, если случался рядом, всегда резко обрывал рассказчика.
Потом мы сообразили, что немцы, по всей вероятности, били из танковых орудий и пулеметов по убегавшим из эшелонов людям с железнодорожной насыпи. Тела убитых во множестве попадались нам на выходе из зарослей ольшаника и на опушке леса. А когда мы немного углубились в лес, дышать стало значительно легче.
Тут нас ожидало целых три события: мы нашли оружие и еще одного соратника. Оружие – два карабина с полными патронташами – принес боковой дозор, который выслал лейтенант. Людей у нас было немного, в дозоры справа и слева лейтенант назначал по одному, причем только из бойцов, двоих отправлял в головной дозор, а остальные следовали в основной группе. Те карабины левый дозорный подобрал прямо на земле: вероятно, они принадлежали охране какого-то эшелона и, по его словам, аккуратно лежали под кустом. Железнодорожная охрана состояла из пожилых, непризывного возраста мужчин, одетых в форму железнодорожников, почему они и поторопились избавиться от оружия, попав в окружение. И я их не осуждаю: в окружениях люди ведут себя согласно собственным представлениям о долге и нравственности. А для нас их поступок оказался весьма кстати.
Карабины получили кадровые бойцы: дозорный, который нашел их, и еще один достался красноармейцу из нашей, основной группы. Вероятно, лейтенант заметил мой завистливый взгляд при этом, однако ничего не сказал, но сделал так, что я под вечер того же дня все-таки обзавелся пистолетом. Об этом – чуть ниже.
* * *
Вскоре после находки брошенных охранниками карабинов из головного дозора пришел наш боец, сопровождающий немолодого сержанта с винтовкой на плече. Увидев лейтенанта, сержант шагнул вперед, отдал честь и четко доложил, что во время танковой немецкой атаки потерял своих, ушел в лес и готов приступить к исполнению служебных обязанностей. Затем несколько смущенно добавил, что штык он самолично закопал в лесу, потому что бегать с ним ему несподручно. А признавшись в нарушении устава, предъявил Валентину документы.
Так у нас появился помощник командира, которого лейтенант не снял с должности даже тогда, когда к нам прибились два представителя среднего командного состава. Об этом я непременно расскажу в свое время, а пока – о тяжком нервном испытании, выпавшем на мою долю в тот же день где-то под вечер.
Валентин отошел куда-то в сторону вместе с сержантом, приказав нам двигаться за головным дозором скрытно и тихо. Мы и двигались тихо и скрытно, когда лейтенант вернулся и сразу же отозвал меня подальше от нашей группы.
– За соснячком лежит майор. Он застрелился, в руке – ТТ. Возьми себе и нагоняй нас.
Как же я обрадовался! Я много раз разбирал и чистил отцовский пистолет и дважды стрелял из него на полковом стрельбище. Я знал, что он тяжел, но вполне уравновешен, хотя и подбрасывает ствол после каждого выстрела, почему отец и требовал, чтобы я стрелял, держа его двумя руками. Все так, так, но TT был грозным оружием, его пуля легко пробивала дюймовую доску. И, от души поблагодарив Валентина, я тотчас же бросился к соснячку. Еще на подходе к нему уловил тяжкий сладковатый дух. Сообразил, что тянет им с того места, где лежит майор, поскольку помнил слова командира, что он застрелился. Но шаг свой почему-то замедлил. И тут увидел сержанта, который двумя часами раньше появился с винтовкой и четким рапортом.
– Вон майор, – сказал сержант. – Да не крадись ты, он не укусит.
И тут я увидел самоубийцу. Он лежал навзничь, раскинув руки, а головы его не было видно из-за горой вздувшегося живота. Я приближался к нему, как к взведенной мине, ступая по шажочку и пригнувшись. Я изо всех сил пытался разглядеть, где же его пистолет, и… И наконец заметил.
Пистолет был намертво зажат в распухшей правой руке. Намертво. Я увидел, где он, и зачем-то присел на корточки.
Кажется, дальше я передвигался почти на карачках, а может быть, полз. Не помню. Помню, что приближался я к разбухшему трупу почему-то со стороны простреленной головы. А когда добрался, лежа начал выкручивать пистолет из мертвого, страшного кулака обеими, далеко вперед вытянутыми руками. И – вывернул. И поспешно пополз задом к ближним сосенкам. Только там вскочил и бросился бежать.
Так я добыл первое в своей жизни личное оружие. Без кобуры и запасной обоймы, но отсутствие кобуры оказалось более существенным, нежели отсутствие второй обоймы. Пистолет был тяжел и неудобен, я таскал его засунутым за ремень, а он все время норовил вывалиться, когда приходилось перебегать, согнувшись в три погибели. Правда, кто-то из ребят вскоре дал мне брючный ремешок, то ли свой собственный, то ли снятый с убитого. Я пропихнул его сквозь скобу, прикрывающую спусковой крючок, а конец застегнул пряжкой и надел эту петлю на шею. Это было не очень удобно, зато пистолет знал теперь свое место.
Меня преследовал трупный запах. По пути я все время оттирал рубчатую рукоятку пистолета травой, зеленой хвоей, папоротником, но мне продолжало чудиться, что он все еще пахнет. Кругом – в ельниках, кустах, на полянках, пересекать которые мы не решались, еще встречались убитые, хотя, правда, реже, но вся беда заключалась в том, что я тащил их тяжкие ароматы внутри себя. То ли в памяти, то ли в подсознании – это не так уж важно. Важно то, что я очень долго не мог от них избавиться…
Вечерело, когда мы в уже сумрачной лесной тишине услышали недалекий рокот моторов. Надо сказать, что прошли мы от железной дороги немного, потому что двигались очень настороженно и медленно. Мы еще не знали, что немцы никогда не лезут в лесные чащобы, если не имеют точных координат хоть какого-либо скопления противника, будь то партизанская база, окруженный отряд или наши десантники. Не было тогда ни партизан, ни тем паче десантников, а окруженцы, деморализованные и растерянные, не успели еще хоть как-то сорганизоваться. Но, повторяю, мы еще не сталкивались с нашим противником, не знали ни его самого, ни присущей ему тактики и – осторожничали сверх меры.
А уж расслышав рокот моторов, мы вообще шарахнулись в кусты и затаились. Валентин выслал вперед разведку, а нам приказал и дышать через раз. И мы дышали через раз, хотя наша разведка пропадала не менее часа. Наконец, вернулся сержант.
– Впереди – проселочная дорога вдоль опушки леса. За нею – кусты и вроде бы поля. Вроде бы потому, что плохо просматриваются. По дороге проезжают немецкие патрули. Интервал между ними – минут пятнадцать-двадцать.
Сержант-сверхсрочник был на редкость точен, и то, что он докладывал, не требовало, как правило, дополнительных вопросов. Я, парнишка из военных городков, встречал таких старослужащих. Они учили нас ездить верхом, правильно наворачивать портянки и стрелять из мелкокалиберок в тире, ходить строем и исполнять уставные команды. Я и впоследствии сталкивался с ними, учился у них уму-разуму, перенимая их точность и исполнительность. И, много раз читая в нашей прессе о состоянии современной армии, никак не могу понять: как же мы умудрились извести под корень саму основу этой армии?..
По краткому и очень толковому докладу сержанта лейтенант принял тогда решение пересечь дорогу в промежутках между патрулями. Он лично выбрал место ее пересечения, лично распределил очередность перехода, выставил наблюдателей, и мы проскочили проселок без осложнений.
* * *
В нормальной жизни каждый человек – и мужчина, и женщина – по ступеням проходит все три этапа ее социального постижения. В детстве ребенок знакомится с окружающими его людьми, в молодости определяет свои возможности, в зрелом возрасте реализует их. Наши военные поколения, те, кто родились в 1924-м, 25-м, 26-м годах, были лишены второй ступени познания. Их возможности в подавляющем большинстве оказались невостребованными, а значит, и нереализованными. Войне нужны солдаты, но солдат способен в лучшем случае лишь исполнять волю как своего командира, так и стечения обстоятельств. Иного ему просто не дано – не в его власти. Я уж не говорю о том, сколько талантов губит война, я напоминаю о том лишь, сколько простых человеческих судеб ломает она, даже позволив большинству вернуться живыми. Прикиньте количество незамужних женщин, неродившихся детей, сирот, одиноких стариков, вчерашних школьников, ставших солдатами, обученных беспрекословно исполнять чьи-то команды, и скороспелых офицеров, привыкших только командовать. А города надо поднимать из руин; а деревни надо отстраивать заново, а семьи, в которые не вернулись кормильцы, надо кормить. Образовательный ценз общества начинает снижаться, обрывается духовная нить, связывающая поколения, и общество обречено долго топтаться на месте, даже если это самое общество и победило в войне.
Конечно, во время войны, а уж тем паче в окружении, я об этом не думал. Я просто хотел жить. Абсолютно неосознанно, что весьма свойственно молодым.
Сказать, что нас, рядовых, да к тому же еще и необученных, не приучали проявлять инициативу, было бы неправдой. Уж где-где, а в окружении без этого никак невозможно было обойтись, но порою мои молодые воспитатели прибегали и к сознательному испытанию возможностей своих подчиненных.
В тот же вечер, вскоре после пересечения проселка, мы вышли к какой-то деревне. Перед нами лежали вполне мирные поля, и вполне мирные вечерние дымки тянулись над крышами тихой усталой деревеньки, готовящейся ко сну. Мы залегли в кустах, долго наблюдали, не заметили ничего подозрительного и не услышали никаких посторонних шумов. И тогда командиры, тихо посовещавшись, отозвали меня в сторону.
– Значит, смоленский, говоришь? – спросил лейтенант. – И с названиями не напутаешь?
– С какими названиями?
– Ну, хотя бы куда дорогу спрашивать.
– На Ельню.
– Тогда иди спрашивать. Только не прячься. Вот тропка, по ней и иди. Узнай, не было ли там немцев, но от ночевки откажись, даже если предложат.
– Ремень и пилотку оставь, – сказал сержант. – Говори, что с железной дороги идешь.
– И все свои документы тоже оставь, – добавил Валентин. – В разведку с документами не ходят.
В разведку!.. Представляете, какой музыкой для меня это прозвучало!
И я пошел в разведку. По узкой вертлявой тропинке через ржаное поле, раскрашенное васильками. На мне была мятая, порядком уже грязная гимнастерка, спортивные штаны да прорезиненные туфли на ногах. Хорошие туфли, легкие и разношенные, я ни разу в них ноги не натер. За полем оказался пруд с раскидистыми старыми ракитами и околица деревни, огороженная жердями, чтоб скотина не самовольничала. Я пролез между жердей, миновал огороды и вошел в первую избу. Поздоровался и замер у порога.
Семья ужинала, по очереди зачерпывая ложками варево из большого чугуна, стоявшего посередине стола. Ложки замерли в воздухе, все воззрились на меня, но я запомнил только хозяина и хозяйку. Хозяин – худощавый бородач – сидел под божницей напротив двери, а хозяйка – боком ко мне. Были еще дети, но я их как-то в памяти не удержал.
– Из Смоленска? – спросил хозяин.
– Из Смоленска. Эшелон разбомбили.
– Садись к столу. Мать, дай ему ложку поухватистей. Пока не наешься, разговору не будет.
Господи, когда же я в последний раз борщ, салом заправленный, ел? И я метал в рот ложку за ложкой, старательно подставляя под каждую хлебушек, чтобы и капля на стол не упала. А семья хлебала степенно и неторопливо и столь же неторопливо разглядывала меня. Потом все, как по команде, отложили ложки, а я выскреб чугун до дна, поблагодарил и спросил главное:
– Немцы в деревне не появлялись?
– Бог миловал. Куда идешь?
– В село Высокое, Ельнинского района. Родственники у меня там. Боюсь только, что с дороги сбился.
– Прямая дорога тут простая, – сказал хозяин. – Только по прямой сейчас уж не пройдешь. Значит, лесами тебе путь держать, парень. В лесу, поди, много наших прячется?
Вопрос прозвучал неожиданно, и я насторожился.
– Встречаются. И живые, и убитые. А как лесами-то к Ельне выйти?
– С утречка укажу, а пока отоспись на сеновале. С зарею разбужу.
– Это никак невозможно, – сказал я, хотя перспектива отоспаться на сеновале была весьма заманчивой. – Немцы сплошь на мотоциклах, танках да автомашинах. Мне спешить надо, пока они меня не обогнали. А то от Ельни отрежут.
– Верно, – согласился хозяин. – Тогда сейчас пойдем. Мать, собери ему чего в дорогу.
Хозяйка дала мне узелок с хлебом, кусочком сала и вареной картошкой в мундире. Хозяин околицей вывел меня на противоположный конец деревни, указал, как лесными тропками выбраться на Ельнинское направление, и распрощался. Я нашел дорогу, о которой он говорил, опушкой обошел поля и вернулся к своим из первой в своей жизни разведки. Не только с хорошими известиями, но и с кое-каким продовольствием.
* * *
С едой у нас было скверно, но об этом как-то в первые дни не думалось, что ли. Во-первых, кое-что оказалось у каждого: нам, к примеру, выдали по три армейских сухаря и по одной ржавой селедке. Селедку я забыл в вагоне, когда немцы перерезали дорогу и пришлось бежать без промедления. А сухари распихал по карманам, жевал помаленьку, закусывая ими щавель, незрелую землянику или заячью капустку. А во-вторых – если вообще, не в главных, – нервное напряжение притупляло голод настолько, что он пока ощущался просто как желание поесть досыта. Ребята в дозорах собирали еду у всех убитых и умерших и сдавали найденное в общий котел. И я сдал сержанту все, что мне дали в деревне. Меня наградили маленьким кусочком сальца в качестве премии, но я честно разделил его с Валентином.
– Это правильно, – одобрительно сказал он. – Не в сале дело, а в последнем куске пополам.
Уже стемнело, хотя ночи были короткими. Однако в лесу искать тропинку до большака на Ельню было затруднительно, и лейтенант приказал ночевать на старом месте. Мы передремали до зари – удивительно, как мало я спал тогда, а мне хватало сил и на марш-броски через лес, и на беготню на едином глубоком вдохе, когда приходилось пересекать дороги. Но пока мы с немцами лицом к лицу еще не сталкивались, шли, в общем-то, спокойно, хотя и с оглядкой, о которой постоянно напоминал Валентин. И – солнце только-только выскользнуло из-за горизонта – вышли к месту, где я быстро отыскал тропку, указанную мне моим проводником еще на зорьке вечерней.
– По ней должны к Ельнинскому большаку выйти.
– Идти по лесу так, чтоб тропинка просматривалась. Сержант, в головной дозор.
Мы осторожно двинулись по лесу, придерживаясь тропинки, как только головной дозор скрылся из глаз.
В лесу было душно и тихо. Здесь попадалась еще незрелая земляника, я рвал ее на ходу и жевал зеленые ягоды вместе с листьями. На каком-то участке оказалось довольно много одуванчиков и подорожника. Одуванчик уже отцветал, листья его стали жесткими, но я все равно собирал их вместе с подорожником, складывал в котелок, мял и присыпал солью. В котелке было немного воды, а я знал, что от соленой воды отходит судорожная горечь листьев одуванчика: этому меня научил еще отец. Все это я проделывал на ходу, не задерживая общего движения и не отставая.
Где-то около полудня пришел сержант из головного дозора:
– Впереди – пшеничное поле, довольно обширное. Тропка в него ныряет, но уж больно открытое место, товарищ лейтенант.
Валентин приказал нам попрятаться и ждать, а сам вместе с сержантом ушел вперед. Я лежал в орешнике, доставал из котелка листья одуванчика вместе с подорожником, отжимал воду и ел эту соленую горечь, тщательно, как учил отец, пережевывая.
Кто-то из ребят, лежащих рядом, заинтересовался, я предложил им, но они, пожевав, с отвращением выплюнули угощение:
– Гадость какая!
Я прожил достаточно длинную жизнь, случалось и голодать, и жить впроголодь, и вкушать заграничные яства в ресторанах и на приемах, и я, как мне кажется, имею право на некий вывод. С моей точки зрения, есть можно все, что ест человек, где бы он не жил и какую бы веру не исповедовал. А также то, что, согласно твоим знаниям, не может повредить твоему здоровью. У отца было много подшивок дореволюционного журнала «Природа и люди». Лет до семи я с наслаждением разглядывал картинки и читал подписи к ним, лет с восьми – читал все подряд, а что не понимал, спрашивал у отца. И я глубоко убежден, что внутренние наши запреты, оценки незнакомой, а в особенности иноземной, пищи зависят от уровня личной культуры. Помню, как на стрелковом полигоне в Бронницах, где мне пришлось отстреливать бортовую пулеметную спарку калибра 12,7 мм для броневичка ГАЗ-40А, я жил в одной комнате с подполковником-калмыком, испытывавшим на том же полигоне одну из модификаций автомата Калашникова. Это был очень сдержанный немолодой человек, фронтовик в прошлом, хлебнувший лиха вдосталь и строго исповедовавший то ли фронтовое, то ли степное братство. На второй день нашего совместного житья он угостил меня калмыцким чаем. Густым, коричневым, с солью, перцем и бараньим жиром. Поначалу мне это варево не очень понравилось, но уже на следующий день я понял, почему его пьют степняки. Он снимал чувство усталости, заменял суп, а выпивать под него водочку было сплошным удовольствием. Мы балдели на стрельбище от жары, глохли от бесконечной стрельбы настолько, что чесалось в ушах, а калмыцкий чай пился легко, с каждым глотком вливая в тебя силы. Подполковник отстрелялся первым и устроил отвальную для таких же стрелков, как и мы. И сварил калмыцкий чай для закуски. И я опять услышал брезгливое:
– Фу, какая гадость!
Это – вопль уровня культуры. Я ел все незнакомое с острым чувством любопытства. Однажды в Голливуде мы с Будимиром Метальниковым не по своей вине опоздали на частный прием на одной из вилл в Беверли-хиллз. Вошли в пустую гостиную, поскольку хозяева в этот момент показывали гостям свой фильм, снятый ими в Москве. Будимир не впервые был за границей, а потому по-хозяйски прошел за стойку бара, приготовил мне джин с тоником и, обследуя огромную – в полкомнаты – отделанную деревом стойку, обнаружил серебряное ведерко.
– Устрицы. Хочешь?
Тогда я только читал об устрицах, а потому, естественно, хотел. Будимир тут же позвал дворецкого, потребовал тарелок и вилочек и показал мне, как выковыривают саму устрицу из раковины. Я попробовал, устрицы мне понравились, особенно с лимоном, и я под джин с тоником наковырял этих устриц с полведерка. А мог бы с ними и покончить, если бы не кончился сеанс и в гостиную не вернулись гости вместе с хозяевами. Будимир повинился в самоуправстве, и я услышал общий смех и аплодисменты. По американским приметам если в вашем присутствии кто-то впервые пробует какое-либо блюдо, то присутствующие имеют право загадывать желание.
Морских моллюсков я пробовал и до этого американского вояжа. Когда мы с отцом в 34-м году путешествовали по Крыму, я во время наших остановок в местных деревнях и аулах порой по целым дням пропадал на море то с татарскими, то с греческими парнишками. Они научили меня собирать и есть мидий, и я до сей поры очень их люблю. Так что к устрицам я был подготовлен не только литературой.
А в журнале «Природа и люди» я вычитал, что животный белок вообще не опасен для человеческого здоровья. Попросил отца уточнить это свидетельство, и он мне растолковал, что так оно и есть на самом деле, только не надо пробовать внутренности животных, поскольку в них содержатся ферменты, которые могут оказаться ядовитыми для человеческого желудка. Я не очень разбирался в ферментах, но отцу верил безоговорочно и однажды, когда мы купались, поймал и на его глазах съел живого малька.
– Вкусно? – усмехнулся отец.
– Нет, – сознался я, поморщившись.
– Зато полезно.
Я столь подробно пишу об этом, потому что легче перенес голодовку в окружении, чем многие ребята. Нет, я не был крепче – они были куда посильнее меня, – просто я обладал более высокой степенью культуры. Ведь одно из свойств общечеловеческой культуры и состоит в отсутствии предрассудков. Национальных, религиозных, расовых, семейных, наконец. Кроме того, она дает возможность человеку самому оценивать обстановку и делать выводы на основании этой оценки. О воле как фундаменте культуры я не упоминаю только потому, что в семнадцать лет юношей командуют инстинкты в полной мере своей мощи, но именно об этом – о воле – говорит Шаламов. Он утверждает, казалось бы, невероятную вещь: в нечеловеческих условиях ГУЛАГа процент выжившей интеллигенции существенно превышал все остальные социальные группы заключенных.
* * *
Прощения прошу за столь длинное отступление. Вернемся в знойный июль 1941 года.
Далекие взрывы начались раньше, чем вернулись наши командиры. Грохотало где-то впереди, мы притихли и примолкли, вжавшись в землю, и лежали как мыши, пока не вернулся сержант.
– За мной, скрытно. У опушки всем залечь и не двигаться.
Мы перебежали на опушку, укрылись за кустами, и я выглянул.
Передо мною лежало огромное пшеничное поле, переходить которое так опасались наши командиры. И слава богу, что командирское чутье их не подвело: в селе, которое виднелось за этим полем, шел бой. Слышалась лающая, отрывистая пальба танковых пушек, горели избы, метались люди и скотина. Мне подумалось тогда, что село стоит на большаке, ведущем к Ельне, и что немецкие моторизованные части сейчас захватывают его, громя то ли нашу окруженную часть, то ли передовые заслоны фронта. В последнее очень хотелось верить, но я понимал, что этого не может быть. Что наши войска отброшены на восток, а в этом неизвестном селе умирает сейчас окруженная войсковая часть, сумевшая сохранить и боеспособность, и волю к сопротивлению.
Вероятно, к селу подошли одни танки с мотопехотой, потому что наши еще держались, еще седлали большак, и немцы, ведя огонь из танковых пушек, пока топтались на месте. По всей видимости, они ожидали подхода артиллерии, чтобы смести внезапно возникшую на марше преграду, а у наших, судя по их ответному огню, никакой артиллерии не было вообще. Это была стрелковая часть, лишившаяся своих пушек где-то во время отступления.
Наши командиры не возвращались, наблюдая за развитием боя и наверняка прикидывая, когда и каким образом обойти поле сражения, не особенно при этом отрываясь от Ельнинского большака. А наше дело было набраться терпения и ждать, что мы и делали.
Вскоре к немцам подошла артиллерия: пушечные выстрелы стали раскатистее, а разрывы снарядов – мощнее. Немецкие танки, нарвавшись на организованное сопротивление в селе, отошли и начали бить прицельно по первой оборонительной линии наших. А подтянутая и очень быстро развернувшаяся артиллерия вела огонь по глубине нашей обороны, стремясь нарушить связь, подход резервов и накрыть командные пункты. В селе рвались снаряды, в нескольких местах вспыхнули избы, и жители побежали в поле. Мы видели, как они метались, путаясь в высокой пшенице, падая при близких разрывах, вскакивая и вновь стремясь к лесу. Перелетные снаряды рвались и в поле, и оно вдруг задымилось ленивым черным дымом, стелющимся поверх колосьев.
Не видели, как горят хлеба? И не дай вам бог увидеть. Когда на ваших глазах горит хлеб, у вас что-то происходит внутри. В душе просыпаются тревога и боль, древние, как сама эта земля. Горящие хлеба – это голод. Это страшный голод, и вы это знаете, даже если вы – горожанин.
А густой, черный дым горящего пшеничного поля пахнет чем-то сладким, с детства знакомым, хотя сразу же вызывает кашель. От него першит в горле, не продышишься, потому что он липнет к человеку. Мистика?.. А может быть, он – живой и просит человека убить огонь немедленно, тотчас же, иначе гибель придет в село?..
Потом на этом горящем поле левее села появились танки. Их было три-четыре, не более, но за ними и в промежутках между ними шли тяжелые «цундапы», на ходу простреливая поле огнем из пулеметов, установленных на колясках. Люди тотчас же попадали на землю, но со стороны села по мотоциклистам ударил огонь из винтовок и ручных пулеметов. Вероятно, командир части, перекрывшей в селе большак, держал на окраине заслон, чтобы его не обошли. Мотоциклисты начали разворачиваться, торопясь уйти под прикрытие танков, кто-то из них уже летел с задних седел или оседал в колясках, а танки, притормозив, начали разворачивать башни в сторону нашего заслона.
Сзади нас, лежавших в кустах на кромке леса, появился сержант.
– Лежать. Ждать команды. Ничем себя не обнаруживать.
Сказал и тут же исчез, а среди ребят раздался ропот. Никто не понимал, зачем нам рисковать, когда надо «рвать когти», пока немцы заняты боем. Я тоже не понимал, но к дисциплине был приучен, равно как и к тому, что командир всегда прав. Я припугнул взроптавших, сказав, что немцы давно наблюдают за лесом и потому нам шевелиться не следует, пока не дадут команду, куда и как отходить. Наиболее нетерпеливые угомонились, и мы продолжали осторожно наблюдать за боем.
Не знаю, как обстояли дела на большаке, но заслон с нашей стороны вскоре раскололся. Большая часть его оказалась прижатой к селу, а другая сумела выскользнуть из-под удара и перебежками, уже без сопротивления, откатывалась к лесу левее нас. Немцы их не преследовали, только обстреливали, сосредоточив все внимание на разгроме прижатых к селу бойцов. Им пришлось отойти назад, и немцы на их плечах ворвались в село с фланга.
* * *
Как только немцы окончательно отвлеклись от леса, практически повернувшись к нам спиной, из передовой группы прибыл боец с приказом незаметно отойти в лес и следовать за ним.
Мы задом отползли от опушки, чтобы не колыхались кусты, и вслед за бойцом прибыли к командирской группе. Бой в селе еще слышался, но явно затихал. А пока он шел, лейтенант лично ходил в разведку и теперь объяснил нам, что далее лес обрывается точно таким же полем, как и то, которое продолжало нехотя гореть, а потому нам необходимо взять поглубже, чтобы скрытно обойти это второе поле. Но прежде чем идти, Валентин отправил в поиск сержанта с бойцом. Что он приказал ему искать, мы не знали, но лейтенант стал отводить нас в глубину леса по иному направлению.
На нашем пути оказался большой овраг, перебравшись через который, Валентин велел нам укрыться и ждать, когда вернутся наши поисковики. Мы опять завалились в кусты, устроились поудобнее и замерли. Окруженцы в степях вели себя, естественно, по-другому, но в лесистой (в то время) Смоленской области на первом этапе окружения мы куда чаще лежали, чем бегали. Стрельбы из села более не доносилось, бой там уже закончился, а в лесу стояла настороженная тишина.
А потом где-то хрустнула ветка, послышались шаги, и на противоположной стороне оврага появился сержант в сопровождении семерых вооруженных бойцов и старшего лейтенанта с перевязанной головой. Это были остатки заслона, успевшие перебежать горящее хлебное поле и скрыться в нашем лесу.
– В твое распоряжение, лейтенант, – сказал командир с перебинтованной головой. – Согласен возглавить боевую группу, бойцы у меня обстрелянные и все – с оружием.
– Кстати, об оружии, – сказал Валентин. – На пшеничном поле оно могло остаться?
– Могло. Троих немцев мы вроде бы свалили, и вряд ли они их до утра искать будут. Ну, и нашего там, само собой, в достатке.
– Ночью собрать оружие, сколько удастся. Ты – старший группы. Список своих с указанием званий продиктуешь моему адъютанту.
Адъютантом оказался я, и мне было невероятно лестно получить первую военную должность. Да еще офицерскую. Я возгордился, вызвался ночью сходить на лениво горящее хлебное поле за оружием, получил жесткий отпор и успокоился.
За оружием отправили бойцов из примкнувшей к нам группы. Они знали, где искать, и были обстрелянными солдатами. К рассвету принесли ручной пулемет с двумя полными дисками, три наши винтовки и немецкий автомат с тремя нерасстрелянными рожками. А старший лейтенант подхватил изматывающий кашель, надышавшись пшеничным дымом.
Перед выходом командиры собрались на совещание, куда пригласили и меня, не столько как адъютанта, сколько как человека, более или менее знающего Смоленскую область. Решено было двигаться на юг лесами, придерживаясь большака, который прочно захватили немцы. Растолкав наших ребят, мы скрытно двинулись лесом, выбросив на опушку боковой дозор во главе со старшим сержантом.
Я не спал почти двое суток и свирепо хотел есть.
Так мы брели часа два, когда из головного дозора, которым командовал боец-старослужащий, уж не помню, где к нам присоединившийся, пришел связной.
Наш путь пересекала проселочная дорога, на которой ясно отпечатались протекторы мотоциклов и автомашин.
Валентин приказал отряду залечь, а сам пошел вслед за связным, прихватив с собою меня. Не для того, чтобы, так сказать, обкатать на опасностях, а чтобы я, поглядев, мог прикинуть, куда ведет дорога. Хотя бы приблизительно.
Еще на подходе мы расслышали тяжелый рокот мощных моторов, сквозь который пробивался и треск мотоциклов. Мы залегли, и через листву кустарника разглядели силуэты трех «цундабов» и две большегрузные машины. Как только они миновали нас, Валентин приказал подойти к дороге вплотную, хорошо укрыться на опушке и оглядеться. Моторов больше не слышалось, мы перебежали и устроились в кустах. От дороги нас отделял неглубокий кювет, зелень разрослась пышно, и нам оставалось только ждать, чтобы определить ритм движения и перебраться через проселок в интервалах размеренного и аккуратного немецкого марша.
Вновь послышался слитный гул моторов, и вскоре мимо нас проехали тройка мотоциклистов и тяжелый грузовик с укрытым брезентом кузовом. За ним следовал «цундап» с двумя ручными пулеметами и тремя мотоциклистами.
– Как проедут, выскочи на дорогу и попробуй определить, куда и откуда она ведет.
Мне бы, дураку, скатиться в кювет и из него определяться, а я, гордый особым заданием, выбежал на проселок в полный рост. И спасло меня то, что на дороге я все же упал. Упал, решительно ни о чем не подумав, руководствуясь только инстинктом, то есть генетической памятью предков. И предки меня не подвели: пулеметная очередь прошла над головой.
Как потом выяснилось, ребята успели засечь, откуда велся огонь. С мотоцикла, застрявшего на изгибе дороги. Прикрывая меня, Валентин отдал команду, и наши ударили по немцам из двух автоматов и трех винтовок. Под эту пальбу я перекатился в кювет, где и лежал лицом в землю, не рискуя поднять головы. Пули свистели надо мною, и неизвестно, сколько бы я еще пролежал в мелкой этой канаве, если бы чудом не расслышал надсадный крик лейтенанта:
– Уходи оттуда! Уходи!.. Мотор заводят!..
Я расслышал и слова, и рокот мотоциклетного мотора. Пальба продолжалась, но лес был единственным шансом на спасение. Трудно, ох, как же трудно было подниматься под пулями, но у меня хватило соображения не ползти в кусты, а одним рывком нырнуть в них. Я собрал всю свою решимость, вскочил, прыжком взлетел на край кювета и тут же упал, но уже в кустах на опушке. Расцарапал лицо, но успел собраться в комок и рвануть поглубже, пока пулеметчик снижал прицел.
– Не задело? – спросил командир. – Уходим в глубину!
* * *
Бежали мы тогда в глушь без всяких ориентиров. Кроме того, я не успел сообразить, куда вел проселок, по которому немцы что-то перебрасывали, а потому и несколько запутался. Нет, общее направление я не потерял, но каких именно дорог следует придерживаться, представлял смутно, в чем и признался Валентину.
– Дороги нам все равно заказаны, – сказал он. – Будем держаться общего направления, а дороги пересекать только ночью. Усилить все дозоры.
Я всегда ясно запоминаю первый этап событий, каким суждено было произойти в моей жизни. Отчетливо помню первый самостоятельный выезд на испытания нового танка, первый прыжок с парашютом или, скажем, первый день съезда народных депутатов. А потом начинается некое единообразие, новизна исчезает, и я забываю не только детали, но и саму последовательность дальнейших событий. Не знаю, это личное свойство или оно вообще присуще человеку, а только, хорошо помня встречи и неожиданности первых дней второго окружения, я не очень ясно представляю последовательность дальнейшего. Так что извините, но вспоминать придется блоками, которые врезались в память.
Отрезанные от дороги и, признаться, напуганные внезапным столкновением, мы просто уходили подальше, в глубину немереного леса. Надо было прийти в себя, понять, как действовать дальше и, главное, как прорваться сквозь передвижения немецких войск на юг. Нашей целью по-прежнему оставалось обойти фронт и пробиться к своим где-то за правым флангом наступающей немецкой армии.
И еще мы были голодны до нестерпимой, сосущей боли в животах. Мне все же было легче: меня борщом накормили, и вкус этого борща я запомнил на всю жизнь. Но то было когда-то, с той поры все перебивались подножным кормом, а шли много, по иссушающей жаре, спали кое-как и всегда настороженно, зверино спали, вполуха, урывками. Земляника с черникой да щавель попадались нечасто, рвать на марше их было несподручно, а потому представьте мою радость, когда мне посчастливилось поймать ужа. Я свернул ему голову, повесил туловище на собственную шею и брел вместе со всеми, едва передвигая ноги, пока не прозвучала команда на отдых. Тогда подошел к Валентину и показал ему свою добычу.
– Их что, едят? – спросил он, судорожно двинув кадыком.
– Деликатес.
– Сырым не смогу. Вывернет.
Я, признаться, тоже не рвался жевать этот деликатес в натуральном виде, несмотря на свою приверженность к экзотике. Лейтенант будто прочитал мои мысли (а может, просто есть хотел до головокружения), сказав неожиданно:
– Без дыма костерок сотворить можешь?
Вот этому меня отец учил, а я учился с удовольствием. В июльскую сушь 41-го да еще в сосновом лесу разжечь такой костер труда не составляло, что я и сделал.
Дальше следовало заняться жарким, но кроме из книжек вычитанного знания, что змей едят, я абсолютно не представлял, а как же их готовят. Однако потребовал нож (свой я утопил при переправе вместе с винтовкой СВТ) и начал разделывать этого ужа, как рыбу. Отрезал голову, выпотрошил и даже поскреб ножом его кожу. Мне бы содрать ее вместо того, чтобы скрести, но, повторяю, я об этом даже не подумал. Я вообще никуда не годный кулинар, готовить не люблю и не умею, и хорошо уже то, что я сообразил посолить выпотрошенного ужа. К тому времени образовались уголья, я не стал резать свою охотничью добычу на части, а свернул ее кольцом и положил на угольки.
И запахло жареным. Но как запахло! Ребята сразу потянулись к костру, однако почти все, увидев натуральную змею, с руганью поворотили назад. Даже голод не помог им перебороть заложенную в детстве брезгливость к незнакомой еде.
Ну а командный состав, глядя на меня, ел этого ужа, хотя и с осторожностью, что ли. Мне первому предложили попробовать, я отважно вонзился зубами в предназначенную мне долю и… И с опозданием понял, что кожу с этого пресмыкающегося надо было снимать. То ли она вообще была у него бронированная, то ли закалилась на угольном жару, а только оказалась не по зубам. Но это были сущие мелочи, по сравнению с удивительно нежным, чуточку недожаренным, необыкновенно ароматным натуральным мясом, по которому до спазмов стосковались наши желудки.
Вот это врезалось в память, хотя я никогда более не повторял подобного кулинарного подвига. С отцами-командирами тоже ничего не произошло, однако они решительно и дружно пресекали все расспросы любопытствующих относительно вкуса этого ползающего блюда.
Через много-много лет мне посчастливилось оказаться в составе писательской делегации, направленной в Китай по случаю начала дружеских контактов. По счету мы были вторыми – первыми туда поехали, естественно, писательские начальники, – но нам повезло больше, потому что им показывали север, а нас возили по югу. Двадцать дней мы провели там, придерживаясь исключительно китайской кухни, по-моему, лучшей в мире. На юге она особенно изощренная, и если обычный обед на севере состоит, как правило, из двенадцати блюд, то на юге – из шестнадцати, причем ты никогда не знаешь, что ты ешь в данный момент, да и не пытаешься узнать: настолько это вкусно. Руководитель нашей делегации Роберт Рождественский до этой поездки побывал во всех государствах бывшего французского Индокитая, разбирался в экзотической кухне тамошних народов, почему – на пятый, что ли, день – я и спросил его, а не угостят ли нас гостеприимные хозяева блюдом из змеи.
– Боря, ты вчера ее ел не без удовольствия. Но уверял всех, что это – молочная телятина. Я думал, что ты говоришь так ради самочувствия Ларисы Васильевой, почему и промолчал.
Но тогда, в сорок первом, мы просто хотели выжить. Это желание существовало помимо нашей воли, на уровне врожденных инстинктов, которые с наибольшей силой срабатывают именно в юные годы.
* * *
Я написал еще девять страниц наших блужданий в окружении и, перечитав, отправил их в корзину. Мне показалось все однообразным и – скучным. Ну, бегали, ну, отстреливались, ну, отлеживались, ну, голодали. Что еще? А ничего: это – окружение, винтовка – одна на двоих, три или четыре автомата на всех. Нет в этом решительно никакого подвига, а есть одна мечта: как бы до своих добраться.
И все же кое-что рассказать придется, потому что это – сюжет из моей жизни, не мною выдуманный, хотя я и научился это делать. Но жизнь не перехитришь, а ее сюжетов заново не перепишешь. Что было, то и было.
А было, что шли мы как-то по лесу вдоль дороги, на которой изредка появлялись немцы на мотоциклах. Поэтому близко к дороге мы не подходили, выслав к ней дозор из опытных бойцов. Неожиданно лес пошел под уклон, а вскоре наш головной дозор донес, что впереди – сильно заболоченный луг с редкими кустами, где укрыться невозможно. Оставался единственный выход: пересечь дорогу и идти с другой, лесистой стороны. А это было непросто, так как именно в это время немецкие патрули зачастили по ней на своих «цундапах».
Мы подобрались к опушке. Шум моторов слышался довольно близко, но наши лесные дороги прокладывают не дорожники, а сама природа, не признающая прямых линий. И на видимых отрезках этих прямых линий ничего угрожающего не просматривалось.
– Все дружно! – шепотом скомандовал Валентин.
И мы рванули «все дружно», пересекли неширокую дорогу и очутились в маленьком, со всех сторон просматриваемом клочке редких кустов, за которыми оказалась… опять дорога. И на ней стоял немецкий броневик.
Это были просто-напросто заросли кустарника, которые обтекала лесная дорога с двух сторон, создав таким образом нечто вроде островка. И по обеим этим сторонам неожиданно пошли машины с пехотой в сопровождении мотоциклистов.
Кусты, за которые я упал, были настолько чахлыми и редкими, что я не мог поднять головы. То есть мог, конечно, но для этого надо было знать, куда смотрят немцы.
Вот тут-то я и проверил, что человек и впрямь ко всему привыкает. Мне было страшно, может быть, даже больше, чем страшно: просто не знаю точного слова, но я ничего, решительно ничего не чувствовал, и казалось, что и само-то сердце мое замерло с перепугу. А немцы никуда не спешили, порядок движения был нетороплив и постоянен, и лежать приходилось не только без какого бы то ни было шевеления, но и дыша через раз. На меня, как на теплое бревно, садились мухи, по мне ползали муравьи, может быть, кто-то пробовал меня на вкус, но я ничего не ощущал. Я видел, что на мне сидят и по мне ползают, только и всего. Будто я и в самом деле уже помер.
А где-то совсем рядом по-прежнему рокотали моторы. По непонятному счастью, ни одна машина не притормаживала даже по солдатской нужде, что я могу отнести только на счет германского «орднунга», в который входит и спасительное в данном случае правило «всему свое время». Если бы мы поменялись местами и немцы лежали бы мордой в траву, а мы бы ехали на машинах, кому-то из наших непременно приспичило бы, и все бы немедленно обнаружилось, но немецкая физиология подчинялась порядку прежде всего. И я готов приветствовать этот самый «орднунг» – тогда мы спаслись только потому, что таков немецкий порядок.
Через какое-то время я понял, что одеревенел от пяток до макушки. Мне нестерпимо хотелось шевельнуться не столько потому, что я уже изнемогал, сколько от сознания, что вот-вот помру. Чертов TT стволом упирался мне в ребро, вызывая уже воистину невыносимую боль, которую не только приходилось терпеть – это неудивительно при создавшемся положении, – но которую следовало игнорировать, в противном случае я подводил не только себя.
Не знаю, что было бы с нами, если бы наш арьергард из семи человек при одном ручном пулемете, подобранном среди горящих хлебов, не решил прийти к нам на выручку.
Арьергардом командовал тот самый старший лейтенант, что примкнул к нам вскоре после разгрома своего полка в окруженной деревне.
Неожиданно левее того островка, с двух сторон обтекаемого дорогами, ударил пулемет. Началась пальба, движение немцы прекратили, и мы на одном рывке пересекли дорогу и скрылись в лесу. Некоторое время позади нас еще слышалась стрельба, взрывы гранат и пальба танковых пушек, но основная – наша – группа уже скрылась в чаще, где лейтенант и приказал ждать, разослав дозоры.
Из семи вернулось пятеро. Старший лейтенант и еще кто-то, оставшийся с ним, пожертвовали собою, чтобы мы остались живы. А я не помню их имен, потому что тетрадку с моими адъютантскими записями отобрали в фильтрационном лагере, когда мы наконец-таки прорвались к своим.
Это случилось уже осенью. Уже осыпалась листва, и я, признаться, боялся, что лес вскоре разденется догола и тогда нам не пройти к своим. А шли мы так долго потому, что дважды нарывались на немцев: один раз пересекая дорогу, а второй – на подходе к какой-то лесной деревушке. Мы так изголодались, что толком к ней не присмотрелись и попали под автоматный огонь, уже подходя к огородам. Пришлось залечь, отстреливаться, уходить перебежками, опять отстреливаться. Словом, вместо чугунка вареной картошки, о которой прямо-таки выли наши животы, потеряли шестерых, и то потому лишь, что немцы нас не преследовали.
А вареная картошка все же досталась нам в тот же невеселый день.
Мы вышли к пасеке. В лесу, вдоль какой-то неезженой дороги. Маленькая избушка, девять колод пчел и почти сказочный дед. Этакий гномик, заросший какой-то клочковатой шерстью по самые брови.
– Сынки!..
Он несказанно нам обрадовался. Внучка, которая носила ему хлеб да молоко, уж неделю как не появлялась, сам он до деревни добраться не мог, но уж что-что, а картошка у него была. Картошка, бочка соленых огурцов да меду – хоть в сотах, хоть ложкой черпай…
Мы наелись до отвала, до икоты, а кое-кто – и до рвоты. Многие не знали леса, его трав, кореньев и ягод, и их желудки вообще ничего сейчас воспринять не могли: они уже переваривали сами себя, как то бывает при длительных голодовках. А у меня хватило сил, глядя на них, тут же сказать себе: «Стоп!» И от картошки я отказался, а пил только отвар от нее, объяснив командирам, что наедаться опасно. Однако не все послушались, и мы с ними хватили лиху: троих пришлось оставить в лесу возле какой-то деревеньки. Я налегал на кипяток с медом, и это меня спасло, хотя живот вскоре прихватило основательно, но, по счастью, ненадолго.
Вот это и есть окружение. Блуждание по лесам и болотам с риском попасть под внезапный огонь противника или угодить в плен. Это – голод, голод и еще раз – голод, потому что ты без снабжения, без связи, без поддержки, без медицинской помощи, наконец, и любая рана может оказаться для тебя смертельной. А еще это усталость и чувство обреченности, это – сон урывками, когда спишь-то вполуха и вполглаза. А дороги патрулируются немцами, и наш путь должен проходить через непроходимое. Тогда есть шанс уцелеть. Крохотный, но – есть.
В десантниках
В этом месте я отложил рукопись почти на год. Не потому, что были срочные работы, а потому лишь, что почувствовал, насколько однообразным выглядит изложение. Кое-что я сократил, кое-что попытался переписать более живо и понял, что мне нужно выбираться из окружения собственных старательных воспоминаний, как я когда-то выбирался из реального окружения.
Поэтому – коротко.
Мы вышли из окружения под станцией Глинка где-то в начале октября. Нам повезло: немцы проводили разведку боем, и мимо кустарника, где мы лежали, дыша через раз, прошли два танка и группа автоматчиков. Было раннее утро, нацеленные на окопы немцы нас не заметили, и мы, во всю мочь крича «Ура!» для своих, ударили им в спины. Я бежал прямиком к нашим окопам, стреляя с двух рук из TT, остальные тоже палили из всех стволов, какие нам к тому времени удалось раздобыть, и… И я почти ничего не запомнил, кроме рук, которые втащили меня в родной окоп.
И здесь я расстался со своими друзьями-окруженцами. Я пронес в пилотке комсомольский билет и справку о том, что являюсь бойцом истребительного батальона. Меня после проверки, во время которой я попросил позвонить маме, сунули в лагерь для перемещенных лиц, а остальных в какие-то иные лагеря, и я ничего не знаю об их дальнейших судьбах.
Через сутки меня вызвали, сказали, что звонили маме в Воронеж, что отец – на фронте и что мне выписаны документы на поезд до дома. Но я отказался. Я сказал, что в окружении хорошо понял тактику немцев, что стрелял в них и они в меня стреляли, что, наконец, меня все равно призовут, так зачем же ждать, когда исчезнет мой опыт. Последний аргумент возымел действие, и мне предложили любую полковую школу. Я почему-то выбрал кавалерию – гусар! – и отправился в кавалерийскую полковую школу где-то под Липецком.
Я уже умел ездить на лошадях: в военных городках, где мы жили, с нами занимались сверхсрочники, так было принято повсеместно. Умел седлать, взнуздывать, подтягивать подпругу, чистить лошадь и даже вскакивать в седло, не касаясь стремян. И вскоре вышел на «первый номер», как это когда-то называлось в России. И первым в нашем полувзводе получил первое воинское звание: ефрейтор.
Занимались мы до полного изнеможения, а нам еще после занятий следовало почистить и покормить лошадей. Нагрузка была велика, но шла война, и тыловые нагрузки в расчет не принимались.
Мы уже прошли выездку, привыкли к рыси по кругу без стремян и поводьев («Руки назад! Завязать повод всем, кроме головного!..»), освоили вольтижировку и препятствия и приступили к занятиям рубкой, когда немцы обнаружили наш открытый манеж и разбомбили его, а заодно и конюшни с казармами. У меня убило лошадь (ее звали Азиаткой, очень хорошая и понятливая была кобылка), но самого, по счастью, не задело, а только треснуло по голове какой-то балкой, однако я быстро оклемался.
Кавшколу тут же расформировали, но меня как отличника отправили в другую полковую школу. На сей раз – пулеметную.
И ее я закончил первым номером, почему и был оставлен при школе. Получил звание старшего сержанта и был определен на должность помощника командира взвода.
* * *
Мне нравилась моя служба. В армию приходили взрослые мужчины из запаса, я рассказывал им о немецкой армии, о ее способах ведения боя. Я не занимался с ними строевой подготовкой, поскольку на фронте она не нужна, но без всякой пощады гонял их в двадцатикилометровые кроссы по пересеченной местности. Уж что-что, а бегать на фронте им придется немало.
А еще я рассказывал им, что нельзя хранить взрыватели в нагрудных карманах, нельзя пить перед боем – ни глотка! – если они хотят остаться в живых – и что в атаке нельзя расходовать всю обойму, поскольку на перезарядку времени не будет, а с немцем в рукопашную один на один может пойти только ненормальный.
– Это понятно! – гоготали мои мужики. – Они, поди, не одной картошечкой с детства кормлены.
И еще я вскоре начал писать рапорты с просьбой отправить меня на фронт. Причина была простой, как арбуз: я доходил на третьей норме, половину которой крали старательные интенданты.
После третьего рапорта меня вызвал к себе начальник полковой школы. Угостил чаем с армейскими сухарями, порасспросил о семье, и я – растаял. А вскоре – полагаю, после того как он проверил, правду ли я ему рассказывал, – я был не только вторично приглашен на те же сухари из армейского пайка, но и представлен его дочери, показавшейся мне тоже армейским сухарем, только с вышедшим сроком хранения.
Должен признаться, что в ту пору я несколько неуютно чувствовал себя среди девиц, поскольку все еще пребывал в девственном состоянии. Меня куда больше привлекали формы, нежели содержание, и чем роскошнее были эти формы, тем сильнее обалдевал я.
А вот отсутствие оных меня не привлекало. Не знаю, в какой мере та девица была внутренне совершенна, но ее внешние данные на том этапе моего становления мне не представлялись соответствующими идеалу. И я топорщился, но есть хотелось.
А папа-майор и мама-майорша вскоре сделали мои посещения регулярными: три раза в неделю. Во вторник, четверг и воскресенье. И в эти три дня я получал армейский сухарь и чай с ворованным солдатским сахаром. А получив его и выкушав, оставался наедине с дочерью. В конце концов, не я был первым и не я был последним, кто предпочитал миску чечевичной похлебки всем остальным благам.
Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы в полковую школу не прибыл некий старший лейтенант с весьма неопределенными обязанностями. Мы познакомились с ним у майора на очередном чаепитии за солдатский счет.
Мне он сразу же не понравился. Во-первых, был – с моей точки зрения – стариком, а во-вторых, майор с майоршей уж очень оказались к нему расположенными. А на второй день чаепития он мне заявил:
– Отвали от девчонки.
– Почему это, интересно?
– Потому что я на нее глаз положил.
– А если я тоже положил?
– Тогда поглядим, у кого глаз повострее.
Через два, что ли, дня явился какой-то очередной поверяющий. Я гонял своих солдат на двадцатикилометровый пробег, об этом узнал в бане, а после оной поверяющий вызвал меня.
– Установлено, что ты, старший сержант, распускаешь панические настроения и порочишь русского солдата.
– Какие настроения?
– Ты утверждаешь, что русский солдат не может устоять против фрица в рукопашном бою.
– Немцев учат ближнему бою специально. А нашего бойца учат орудовать штыком…
– Молчать! За распространение панических настроений…
– Но, товарищ…
– Молчать, пока я выводов не сделал! Увольняю в резерв. Все. Точка.
Через сутки я выехал в резерв сержантского состава Западного фронта. Он размещался в Алешинских казармах города Москвы.
* * *
Там свирепствовала дисциплина, какая и не снилась в страшном сне даже сержантам. Нас никуда не пускали, день был расписан по минутам, построения следовали за построениями, а за нарушения – гауптвахта. И кормили еще хуже, чем в полковой школе, а совсем рядом, на Главной насосной станции Москвы, жил и работал Борис Иванович, муж моей сестры Гали. Но я не видел даже насосной станции: окна моей казармы выходили в какой-то тупик. Через три дня я получил назначение в 8-й воздушно-десантный гвардейский полк 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Полк располагался в Монино, штаб дивизии – в Щукино. Я надеялся по дороге заглянуть на насосную станцию к Борису Ивановичу, но нас повезли на вокзал на машине и чуть ли не под конвоем доставили в вагон электрички на Щукино.
Я один вылез в Щукино, а другие ребята сошли раньше, по-моему, еще в Мытищах. Спросил у патруля, как мне найти штаб 3-й дивизии, и пошел по указанному адресу. Явился, передал дежурному лейтенанту тощий запечатанный пакет с моим направлением и получил устный приказ завтра в семь выехать электричкой до станции Монино в распоряжение исполняющего обязанности командира 8-го воздушно-десантного полка майора Царского.
– Переночуешь у караула.
Комната караула была пустой и просторной. На двухэтажных железных койках лежали тощие тюфяки и даже нечто похожее на сплющенные под прессом подушки.
– А пожрать не найдется, сержант?
– Что вы все голодные из Москвы едете? – недовольно сказал он.
И со столь же недовольным видом принес мне добрый ломоть хлеба, полкружка чайной колбасы и чайник с кипятком. И я впервые подумал: как же мне повезло, что я попал в десантные войска!
В восемь утра я прибыл в Монино. Спросил у патруля, как мне пройти в штаб полка, притопал по указанному адресу, объяснил дежурному, что направлен к ним в полк, и был допущен к самому исполняющему обязанности командира полка майору Царскому.
В большой захламленной и невероятно прокуренной комнате – бывшей учительской, поскольку штаб располагался в школе, – сидело и лежало десятка два людей самого растерзанного вида. Офицеры и сержанты были одинаково тяжелы с беспробудного похмелья, на столе среди объедков хлеба, колбасы, соленых огурцов и капусты валялись пустые бутылки.
Я доложил по всей форме здоровенному одесскому биндюжнику в распахнутой настежь гимнастерке со Звездой Героя, кто я, откуда и зачем прибыл.
– Пехота?
– Так точно!
Так я сам себя определил в пехоту, а посему был, с точки зрения десантного командования, обязан заниматься караулами, разводами, построениями, ночными поверками часовых – словом, всей пехотной суетой. Мне это было привычно, караульную службу я знал, а об уставах и говорить не приходится. Впрочем, о них никто и не вспоминал. Полк только приступал к формировке на основе чудом выживших из боевого сброса десантников, которым пока еще было не до того, чтобы заниматься поступавшим пополнением. Они еще переживали чудо собственного спасения, горячку скоротечных боев и гибель товарищей. Я их понимал, выполнял всю повседневную рутинную текучку строевой жизни, но как же я им завидовал! И как мечтал попасть в их окружение на любые роли. Даже на роль «выпить подано». Мечты были почти безгрешными: я просто хотел послушать их рассказы, еще не понимая, что десантники, побывавшие в боевых сбросах, больше всего на свете не любят рассказов о том, что с ними случалось по ту сторону фронта.
* * *
До десантников на этом месте формировался мотострелковый полк, оставивший нам свои запломбированные гаражи. Поскольку они были запечатаны, мы караулов к ним и не выставляли, но я все же спросил угнетенного неразберихой капитана-интенданта, что там хранится. Он сказал, что на баланс 8-го воздушно-десантного полка никто этих гаражей не передавал, а потому мы за них и не несем никакой ответственности. Тогда я, недолго думая, сорвал пломбы и проник в гараж.
В гараже стояли законсервированные грузовые трехосные машины ГАЗ. А на носу была зима, и я посмотрел, чем же они заправлены, и если водой, то самое время ее слить.
Машины были заправлены антифризом. Я осторожно попробовал его и не ошибся. Это был наш антифриз, которым мы заливали машины, начиная с Финской войны. Вода, спирт и сколько-то там глицерина. И это был пропуск в десантное общество, потому что они к тому времени уже выпили все, что было. Я разыскал добрую четвертную бутыль, наполнил ее антифризом и, выпросив на кухне луковицу, явился в штаб.
Там царило уныние. Дела не было, выпивки тоже.
– Чего тебе? – со вздохом спросил гвардии майор Царский. Я молча поставил на захламленный стол полную четверть.
– Это что?
– Антифриз.
– Отравить хочешь?
– Угостить хочу. – Я плеснул в стоявшую на столе кружку. – Только запить надо.
Господа офицеры мне тут же наполнили вторую кружку. Я неторопливо выпил антифриз и, не вдыхая, запил его водой.
– Что-то в нем есть от десантника, – объявил майор Царский, и все стали двигать ко мне кружки и стаканы. Но когда я налил в стакан, опять их пронзило некоторое недоверие. Оно основывалось на том, что сквозь грязь и муть стекла все же просвечивала синева напитка.
– Денатурат, – пояснил я. – Есть простой способ осветления.
И положил в стакан очищенную луковицу. Напиток стал светлеть, а луковица – наливаться густой синевой. И я был принят в заветный круг полковой элиты.
Нет, нет, я не приобрел никаких льгот, по-прежнему разводя и проверяя караулы. Но я был допущен в их общество, а когда они узнали, что я – окруженец сорок первого, то этот допуск утратил спиртовой дух навсегда.
Правда, одну льготу я все же получил. Мне выдали очень хороший комбинезон. Не меховой, разумеется, а ватный, но он мне очень пригодился, когда начались прыжки.
Начались они, как только стали прибывать кандидаты в десантники, а это случилось быстро. Нас сразу же освободили от всех караульных и прочих строевых обязанностей, и мы в еще не по штатам укомплектованном составе приступили к ежедневной и весьма жесткой программе подготовки завтрашней воздушной пехоты.
Больше всего меня угнетало не долгое подвешивание на парашюте с командами: «Солнце в глаза», «Ветер сносит влево» или, скажем, «Ускорить планирование, впереди – лес», а обязательные прыжки с трех трамплинов на пути в столовую – высотою в полтора, два и три метра. Грунт под ними был утоптан до бетонной твердости, но для того чтобы попасть на завтрак, обед и ужин, каждый потенциальный десантник должен был спрыгнуть с каждого из трамплинов, по крайней мере, хотя бы раз (это – в лучшем случае). В лучшем потому, что за прыжками внимательно наблюдал инструктор по приземлению, который, присев на корточки, смотрел, как приземляется каждый из нас. А приземляться следовало на обе ступни одновременно и ни в коем случае не на носки, а только на полные ступни разом. А если он обнаруживал, что кто-то схитрил и приземлился на носки сапог, то тут же отсылал ослушника на повторный прыжок. Правильное – с точки зрения инструктора – приземление отдавалось ударом во всем теле, что поначалу тяжко в нем и отзывалось. Инструктор был беспощаден, и я долгое время, пока не привык, ходил с постоянной тупой болью в низу живота.
Боялся ли я первого прыжка с парашютом? Конечно, боялся, это естественно. Теоретически я знал, что привязан фалом к самолету, что фал вытащит вытяжной парашютик, который, в свою очередь, извлечет из ранца и основной парашют. Но то – в теории, а на практике перед вами – бездна.
Однако оказалось, что боязнь эта носит массовый характер, поскольку заранее были предусмотрены меры борьбы с нею. Не успела вспыхнуть лампочка, сигнализирующая, что мы – над целью сброса, как возле двери нашего «Дугласа» выросли крепкие сержанты, которым вменялось в обязанность просто-напросто выбрасывать очередного десантника из самолета. Меня они выбросили тоже, хотя я к тому моменту оглох от стука сердца в собственных ушах.
Я летел к земле, ничего не видя и, кажется, мало что соображая. Ужас подкатывался к горлу, но тут меня рвануло за плечи, и падение резко замедлилось.
И пришло состояние небывалого восторга. Я парил над землей, я с огромным любопытством разглядывал ее снега, заметенные деревни и кривые русские дороги. И от этого никогда доселе не посещавшего меня восторга я горланил во все горло…
Мы совершили по шесть прыжков, в том числе четыре с полным снаряжением и два – ночных. Правда, ночь была относительной, потому что снега отражали неизвестно откуда идущий свет и я видел, куда приземляюсь.
* * *
Все шло удачно. Я удачно приземлялся, удачно гасил парашют, удачно скатывал его и волок к месту сбора. И так шло до первой половины марта.
16 марта 1943 года наш взвод подняли по тревоге, когда было еще темно. В оружейной комнате выдали снаряжение из запечатанных отсеков, и мы поняли, что сброс будет боевым.
Это знали и бывалые оружейники. Помогая каждому подогнать одежду и оружие, они после обязательного приказа «попрыгать» молча клали руку на плечо.
Мы грузились в уже прогретые и готовые к старту «дугласы» в сером предрассветном полумраке. В первый – командир с полувзводом, во второй – я со своими восемнадцатью бойцами. И не успели как следует рассесться на узких боковых скамьях, как самолеты пошли на взлет.
В «дугласах» было тесно и холодно. Кажется, мы молчали, не помню. Помню, что я только собрался заговорить, покопавшись в памяти и подобрав что-то смешное, как зажглась лампочка над кабиной пилотов, а возле дверей появились рослые фигуры выбрасывающих.
– Приехали, – сказал я, встал и, как положено, первым пристегнул кольцо фала к тросу.
Тогда я как-то не сообразил, что прилетели мы слишком уж быстро. Я тогда вообще мало что соображал, но когда меня приятно поддернуло открывшимся парашютом и никто по мне не стрелял, я подумал об этом, но как-то мельком, что ли. Было холодно, я только успел порадоваться, что у меня – ватный комбинезон (ребята прыгали в неуклюжих ватных штанах), как понял, что сейчас будет приземление. Внизу дул резкий ветер, и я, упав на бок, сразу же отстегнул парашют, чтобы меня не уволокло. Тут же вскочил на ноги и оглянулся.
До сих пор мне порою снится эта точка моего первого боевого приземления. Низменный заледенелый берег какой-то речки, на котором дугами торчали еще не вытаявшие вершинками лозы, и я крикнул ребятам, чтобы смотрели под ноги. Чуть левее горел то ли город, то ли большое село, откуда доносилась редкая стрельба орудий.
Никого из моих подчиненных никуда не отнесло, и хотя солнце еще не показалось, ледяная поверхность отсвечивала достаточно, чтобы всех пересчитать и не прибегать к свистку. А когда они собрались, трижды коротко свистнул командир: «Все ко мне!»
Но я уже знал, как нам бежать. Противоположный берег был обрывист, и под этим обрывом я и решил провести своих бойцов к командиру.
Сказал:
– За мной. Тихо и не отставать.
Это было последнее, что я тогда сказал. Я бежал впереди под обрывом и только завернул за поворот, как перед глазами сверкнула яркая вспышка.
И больше я ничего не помню. Ничего.
* * *
Что это было, я не знаю. По всей вероятности, я нарвался на минную растяжку, но, по счастью, все осколки прошли мимо. Однако меня оглушило весьма тяжело: я оглох, ничего не видел, кроме пламени, не мог ходить, потому что меня мотало из стороны в сторону, и все время болела голова.
Я более или менее пришел в себя только в Костромском госпитале. Стал кое-что слышать, прошел ожог в глазах, и даже голова в конце концов перестала болеть. Правда, читать я еще не мог, и это очень меня огорчало.
А через месяц мне разрешили ходить не только по палате. Я шлялся по всем палатам, болтал с ребятами, а потом, когда меня уже выпускали в госпитальный двор, доставал для них самосад. С куревом для солдат и сержантов было почему-то из рук вон скверно – насчет офицеров не знаю, к ним меня не пускали, – и мы меняли на него сахар. Собрав добровольные вклады курильщиков, я с кисетом сахара забирался на госпитальный забор и сидел, выжидая кого-либо из мужчин, чтобы он подобрал нам самосад покрепче и без обмана (такое тоже случалось). Вот только мужчин в Костроме было немного, да и те не ходили по базарам, а вкалывали у станков. Но однажды…
Нет, тут надо кое-что объяснить. Я дважды прокалывался на своих операциях, принося табачок слабенький. Ребята на меня не обижались, но мне самому было неприятно.
Так вот, однажды я дождался мужчину. Хромого, медленно перетаскивавшего протез, с костылем под мышкой и палочкой в левой руке для равновесия. Он брел с базара, и на крючке костыля висела сумка.
– Эй, браток! – окликнул я. – Табачку на сахар не сменяешь? Ребята без курева лежат.
– Разве что завтра, – сказал он. – Мне возвращаться – сам видишь.
– Давай завтра, – я кинул ему кисет с сахаром.
– Завтра в это же время.
И поковылял дальше с нашим сахаром. И я ему почему-то сразу же поверил, хотя кое-кто из ребят ворчал по поводу моей доверчивости.
На другой день я сидел на заборе уже без сахара. Просто ждал, когда инвалид махорку принесет.
И он принес отличного самосаду. Точно в назначенное время.
Это был Виктор Сергеевич Розов. Мы как-то – спустя три десятка лет – разговорились с ним о войне и дружно припомнили эту историю. О ней он рассказал в своих воспоминаниях.
В танковой академии
Вскоре после этой встречи с незнакомым тогда человеком мне стало в госпитале скучно. Размеренная и расписанная по минутам жизнь выздоравливающего всегда тягостна для него. Я стал все настойчивее просить о выписке и в конце концов допросился до официальной медицинской комиссии. Она признала меня временно непригодным для фронта, однако решила выписать на свободу при условии регулярного посещения госпиталя для процедур. Поселили меня в казармах резерва сержантского состава, а службу определили в Военной комендатуре Костромы. Казармы располагались при вокзале, тогда как комендатура – в центре города, а между вокзалом и городом шла некая ничейная земля, за годы войны превращенная в поле, на котором костромичи сажали картошку. Путь был неблизким, однако меня это не смущало. Я бегал по утрам и по вечерам, если не оставался ночевать в комендатуре.
Вот там-то я вскоре и познакомился с капитаном Дроздовым. И если бы не это знакомство, то еще неизвестно, как сложилась бы моя судьба.
Кадровый командир капитан Дроздов лежал в том же госпитале, но – в офицерском корпусе. Ранение у него было сложным, в бедро, он ходил с палочкой, заметно прихрамывая, и регулярно, как и я, посещал процедурный кабинет госпиталя.
У него была одна непозволительная, с точки зрения боевого офицера, слабость: он любил стихи. Обычные, хрестоматийно-классические, потому что больше никаких не знал. А я знал если не весь Серебряный век, то некоторые его яркие фигуры. Любил Блока и Маяковского, многое помнил наизусть (отец ведь требовал каждый день встречать его со службы новым четверостишьем, а я стремился перевыполнить план). И с удовольствием читал Дроздову чеканные строфы «Скифов» и отрывки из «Соловьиного сада», богатое образами и необыкновенными рифмами «Облако в штанах». Потом в городской библиотеке, которую посещал регулярно, раздобыл «Витязя в тигровой шкуре» в переводе Бальмонта, и мы наслаждались всю ночь, а в перерывах я ходил проверять караулы.
И как-то в конце июня 43-го, разведя утренние караулы, пришел в комендатуру с некоторым опозданием. Дроздов задумчиво посмотрел на меня и спросил:
– Какое, говоришь, у тебя образование?
– Девять классов.
– Хочешь в академии учиться?
– В какой академии?
– В Бронетанковой имени товарища Сталина на инженерном факультете. Хочешь? Тогда зубри за десятый класс. Скоро экзаменующие из Москвы приедут, мне заявка поступила ровно на одно место.
И я согласился, ничегошеньки не зная о биноме Ньютона. Достал учебники для десятого класса и засел повышать собственное менее чем среднее образование.
Однако повысить его мне никак не удавалось. Я жил в резерве сержантского состава, который со дня на день ожидал отправки на фронт, а потому гулял во все тяжкие. Самогонка, денатурат, политура, а изредка и водка заглатывались сержантскими глотками с раннего утра и снова – до утра. Терять парням было нечего, никакая гауптвахта их не пугала («Дальше фронта не пошлют!..»), и сегодня просто невозможно представить, что там творилось. Хохот, шум, гам, пьяные песни, а порою и жестокие драки – все это как-то не вязалось с моими попытками хотя бы просто открыть учебник.
– Гуляй, братва, пока гуляется!..
Я рассказал об этом Дроздову, добавив вывод, что мне придется снять угол где-то в тихом доме. Он усмехнулся:
– Знал, что так оно и выйдет. Я, когда лежал, с женщиной одной познакомился. Сержантская мать, ее сын еще в сорок первом погиб. Она без отца его поднимала, единственный сын… – Он вздохнул. – Словом, она тебя к себе возьмет. У нее комнатенка в коммуналке, но – с кухней. Вот там и пристроишься, и денег она с тебя не потребует, условие у нее такое. Она ночным сторожем работает, удобно.
* * *
Так я попал к Софье Владимировне, тете Соне, как она велела себя называть. В крохотной коммунальной квартирке была кухонька, комнатка метров десять, и все удобства, как говорится, за углом. В комнате стояли железная койка, канцелярский стол и большие фанерные ящики. В них были вделаны полки для книг, и книг было довольно много.
Как потом выяснилось, она – ленинградка. Ее мужа арестовали после убийства Кирова и, как она полагала, давно расстреляли. А ее с сыном и поражением в правах сослали в Кострому, где она должна была отмечаться в милиции два раза в месяц. Софья Владимировна была учительницей, но – была, поскольку ей запрещалось занимать какие-либо должности. И она работала ночным сторожем.
Ее сын мечтал поступить в какой-нибудь (в какой позволят) институт, но сначала решил отслужить в армии, куда пошел добровольно, раньше призывного возраста.
Все это я узнал, разумеется, позже, когда подружился с Софьей Владимировной. От ее сына остались учебники и даже тетради, я занимался по вечерам, а днем по-прежнему разводил караулы. От ночных проверок меня прикрыл Дроздов, Софья Владимировна уходила на двенадцатичасовое дежурство каждый день без выходных, поскольку время было военным. А я занимался до глубокой ночи в кухне, где и спал на топчане.
Софья Владимировна когда-то преподавала зоологию и ботанику, и ее учительское умение и терпение мне очень помогли. Я осилил кое-какие знания за десятый класс, а в начале августа приехал из Москвы и представитель Бронетанковой академии, возглавивший триумвират по приему вступительных экзаменов.
И тут случилось нечто такое, какое я не мог себе представить и в кошмарном сне.
Прибывший из Москвы полковник был небольшого роста полненький живчик с белоснежным пушком на черепе. Он любил улыбаться всем подряд, а меня при моем представлении милостиво похлопал по плечу и объявил:
– Завтра начнем с сочинения. Вот тебе, молодец, список тем. Готовься.
Тем, помнится, было три, но я запомнил только одну, поскольку именно ее и намеревался писать на экзамене: «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ КЛАССИКОВ». И вечером уселся на кухне, чтобы просмотреть Толстого. А летом электричества в Костроме вообще не было – его подавали только в госпитали, больницы, на производства и в учреждения. Поэтому все обходились светильниками – в блюдце наливалось льняное масло, в него окунался фитилек из разлохмаченных ниток, который отделялся от масла кусочком сырой картошки.
Горел дрожащий огонек, я читал, Софья Владимировна где-то что-то сторожила, в доме – а была уже ночь – стояла мертвая тишина, и я не заметил, как заснул.
Сколько я спал, не знаю, но когда я, не шевельнувшись, открыл глаза, то напротив себя, на столе рядом со светильником увидел огромную мерзкую крысу. Вероятно, она позарилась на масло и кусочек картофелины, но мне было не до размышлений.
Я медленно поднимал кулак, чтобы одним ударом покончить с этой гадиной, отравлявшей жизнь Софье Владимировне. Поднимал осторожно, чтобы не спугнуть крысу, а когда поднял до исходной позиции, подумал, что в меня брызнут остатки этого чудовища, и крепко зажмурился перед ударом.
И изо всех сил саданул кулаком по светильнику. Раздался звон разбитого блюдечка, и свет погас.
Свет погас, а руку к утру разнесло до размера кувалды. И ныла она, проклятая, от пальцев до плеча.
Полковник хохотал до слез, когда я ему поведал эту горестную историю. Ей-богу, если бы не свойственные ему смешливость и добродушие, я не был бы допущен к экзаменам. А он, отхохотавшись, вытер слезы и сказал:
– Заменим устным. Расскажи нам, что ты намеревался написать в своем сочинении.
Уж что-что, а рассказывать я умел. И рассказывал столь горячо и заинтересованно, что полковник зачел мне заодно и экзамен по математике, а обязательную в те времена «историю партии», написание которой молва приписывала самому Сталину, я сдал на пятерку. И полковник официально объявил, что я принят на Второй инженерно-танковый факультет Бронетанковой Академии имени товарища Сталина.
Объявить-то объявил, но вызов в академию пришел только после Ноябрьских праздников. И где-то в конце ноября я впервые пришел на Второй инженерно-танковый факультет. На нем я встретил свою будущую жену, с которой прожил всю жизнь и которую люблю сейчас так, как не любил и во времена юности своей.
* * *
На нашем курсе – единственном в Академии! – учились девочки. Из пяти отделений курса два были девичьими полностью. Частью – из фронтовичек, но в основном – из вчерашних школьниц, успешно сдавших конкурсные экзамены. Они все ходили в военной форме, дружно хохотали по каждому поводу и были недосягаемо, сказочно прекрасны. А мне было девятнадцать, и я еще не разучился смотреть на всех девчонок разом.
Правда, одну вскоре выделил: этакий колобок в длинной гимнастерке, стоявший на самом левом фланге во время курсовых построений. Собственно, не столько я ее выделил, сколько майор с обожженным лицом. Нас повезли знакомить с новой техникой – со знаменитой СУ-100, «соткой», как фамильярно ее называли тогда. Познакомили и снаружи, и внутри, а потом решили показать, как она стреляет, и майор вызвал рядовую Зорю Поляк. Зоря сказала: «Есть!», взобралась на самоходку, залезла в люк и, как положено, закрыла его за собою на все запоры. Долго целилась, а потом – пальнула. Самоходка отрывисто рявкнула, подпрыгнула, люк открылся, из него повалил дым, а следом появилась рядовая и еще не обученная Зоря Поляк.
И строй дружно грохнул от хохота. Как выяснилось, Зоря от волнения забыла включить вентилятор, пороховые газы превратили ее в негритянку, а над бровью оказался синяк, поскольку стрелок неплотно прижался к прицелу. И Зоря хохотала вместе со всеми. Не только потому, что тогда ей еще не исполнилось восемнадцати. Просто она никогда не боялась быть смешной.
С летней сессией я успешно справлялся, пока не заболел, почему и не смог сдать физику со всеми вместе. Экзамен мне перенесли, но это не освобождало меня от несения службы. Я оказался дежурным по общежитию, а дневальным ко мне попала самая маленькая и самая младшенькая из наших слушательниц рядовая Зоря Поляк. Единственный Ворошиловский стипендиат на курсе.
– Ты готовишься к экзамену? – спросила Зоря, когда мы вдосталь поболтали о Грине, Паустовском, Блоке и Есенине.
– Зачем? – нахально удивился я. – Пятерка мне и так обеспечена.
И показал своей дневальной билет по физике, который для меня сперли на экзамене заботливые друзья.
Боже, что тут началось! Зорька вскочила, одернула гимнастерку, стала алой, будто рак из кипятка, и звенящим от негодования голосом…
– В то время как наша Родина, истекая кровью, отбивается от фашистских орд, когда ее лучшие сыновья и дочери гибнут на полях сражений…
Ну, и так далее. Я тоже встал, тоже одернул гимнастерку и порвал грешно доставшийся мне билет по физике.
Экзамен я провалил с треском, за что и лишился представления к офицерскому званию, оставшись единственным старшим сержантом на курсе, поскольку все вчерашние школьницы стали младшими лейтенантами. Получил выговор по линии командования и общее собрание по линии комсомола. Там меня громили, требуя как минимум строгача, пока слово не взяла круглая отличница младший лейтенант Зоря Поляк.
– Васильев сдаст экзамен по физике. Я ручаюсь за него и даю общему собранию честное комсомольское слово.
И мы начали заниматься. Каждый день после лекций. Зоря была сурова, как айсберг. Сдвинув маленькие бровки, она гоняла меня по курсу физики вдоль и поперек. И так продолжалось до рокового дня переэкзаменовки.
Экзамен принимал доцент Фурдуев, и я оказался один на один с самым ироничным преподавателем академии. Взял билет, сел готовиться. А когда робко доложил, что готов к ответу, он спросил, не отрываясь от какой-то книги:
– Кто тебе помогал готовиться?
– Младший лейтенант Поляк.
– Позови ее.
Я позвал своего наставника, ожидавшего в коридоре, не успев сказать, что Фурдуев ни о чем меня еще не спрашивал. Зоря вошла, представилась и замерла у порога.
– Ты лучше меня разобралась в знаниях Васильева. Как, по-твоему, какой оценки он заслуживает?
– Если подходить с общими мерками, то четыре, – не задумываясь, ответила Зоря. – Если объективно, на крепкую тройку.
Фурдуев поставил мне четверку, так ни о чем и не спросив, а мы с Зоренькой стали друзьями. Регулярно ходили в консерваторию, в музеи, в театры, если удавалось достать хотя бы входные билеты. А по воскресеньям – в Московский университет на открытые лекции по литературе. О Шекспире, Свифте, Сервантесе, Даниэле Дефо. И ни разу не поцеловались. Просто держались за руки, и нам было хорошо.
А на лекциях обменивались друг с другом бесконечными записками. Впрочем, так поступали на курсе многие, потому что у нас были девушки. Но я составлял кроссворды всю первую пару, отдавал их Зоре, и она решала их на второй паре. А потом меня потянуло на формы стихотворные:
А созвездия сирени Точно гроздья винограда… Я сказал бы – винодара: Ведь вино надежды дарит, Май в созвездиях сирени!..Ну и так далее. По Лонгфелло в бунинском переводе.
* * *
В 45-м через месяц по окончании войны наш курс выехал в лагеря на берегу озера Сенеж. Мы ехали пригородным поездом, который останавливался на всех платформах. Поэтому путешествие наше было долгим, но мы не скучали.
На вокзальной площади Солнечногорска стоял подбитый немецкий танк Т-4. Я хотел было залезть в него, но тут подали машины в лагерь.
В лагере нас разместили в четырехместных палатках («ворошиловках», как они тогда назывались), и начались лагерные ученья. Кроме основ тактики, стрельбы из танков и стрелкового оружия и многого иного, мы обязаны были сдать на права вождения автомашины, мотоцикла и танка. А для тех, кто не умел кататься на велосипедах, требовалось вначале освоить этот вид транспорта.
Зоря не умела, и мы начали «осваивать».
Надо признать, что Зоренька была довольно тяжеленькой девочкой, очень не доверяла велосипеду и очень уж вертела рулем поначалу. Заодно она вертела и педали, почему мне приходилось все время бегать рядом, поддерживая ее. Это было нелегко, но мне на помощь пришел старший техник-лейтенант Саша Комаров.
Саша был старше меня, успел повоевать, получить орден Красной Звезды, жениться и родить ребенка. Он снимал комнату для семьи, жил бедно, как, впрочем, и все мы, но никогда не жаловался и всегда сохранял на лице спокойную благожелательную улыбку. Позднее судьба свела меня с ним на Уралмашзаводе, где мы вместе испытывали новые танки. Но подружились в академии, еще не зная о том, что после окончания оной станем служить в одной военной приемке. Он был пониже меня, но куда сильнее: этакий малоразговорчивый боровичок.
Мы побегали с двух сторон велосипеда, на котором сидела Зоря, отчаянно крутя рулем и педалями одновременно, и в конце концов Саше удалось внушить ей, что одновременно этого делать не следует. Зоря перестала вертеть руль, и дело пошло на лад.
А через несколько дней после того, как Зоря самостоятельно сделала два круга по плацу, подошло и 3 сентября. День победы над Японией. Он был объявлен праздничным, и желающим дали разрешение съездить в Москву с условием, что они вернутся к вечерней поверке. Мы с Зоренькой тут же и выехали, но, как водится, задержались и еле-еле успели на последний поезд, не говоря уже о вечерней поверке.
Подбитый немецкий танк оказался единственным ориентиром станции назначения: огней в городе не было, в домах не светилось ни одного окна.
Мы взялись за руки и пошли по шоссе к лагерю вокруг огромного Сенежского озера. Выбрались на дорогу, ведущую к лагерю, и – потопали.
Мы громко пели песни и по очереди читали стихи. Мы крепко держались за руки, и нам было хорошо.
Знаете, что такое «хорошо»? Это не просто согласие, это – полная гармония душ. Вероятно, славянский бог солнечного света способен был посылать лучи радости в души людей и в полной темноте…
На другой день мы получили легкую выволочку от начальства за опоздание и два часа строевой подготовки. А нам все равно было хорошо.
А через несколько дней я оплошал на глазах девушки, в которую уже был влюблен.
Мы занимались на мотодроме. Зоря, как и все наши девушки, училась водить легкий мотоцикл, а мне достался мощный и тяжелый ТИСС (кажется, так в те времена называлась эта машина). Девушки ездили по малому кругу, а мы – по внешнему, засыпанному гравием. Зоренька почему-то остановилась, а я слихачил и не сбросил скорость перед поворотом. В результате мой мотоцикл занесло, я врезался ногой в столб с указателем допустимой скорости (куда более низкой, чем та, на которой я демонстрировал свое уменье), упал грудью на бензобак, после чего рычащий мотоцикл упал на меня. Ко мне бросился Сережа Белоконь, извлек из-под мотоцикла, и тут выяснилось, что моя левая ступня смотрит в сторону, природой не предусмотренную. Сережа, не говоря ни слова, схватил эту вывернутую ступню и рывком поставил ее на предназначенное место. Боль была ослепляющей, подбежавшие ребята посадили меня на заднее сиденье мотоцикла, и Сергей помчал меня в медпункт.
Там мне туго забинтовали лодыжку, смазали йодом многочисленные царапины, похвалили Сергея, так вовремя вправившего мне ногу, и дали несколько дней на залечивание ран. Я вышел из медпункта, увидел присланный за мною мотоцикл, сел в коляску и сказал сержанту-водителю, чтобы гнал на стрельбище.
Шел зачет по стрельбе из винтовки, у меня болело от удара плечо, и Зоренька с Сергеем поразили мои мишени своими сэкономленными патронами. Так что зачет я все же получил.
* * *
В лагере мы впервые поцеловались и решили пожениться. Решающую точку в этом поставила Цецилия Львовна Мансурова, обнаружив нас в подъезде дома на Грановского, где в семье ее сестер жила Зоря. Объявила она это весьма решительно:
– Хватит вам, ребята, по три часа в подъездах простаивать. Женитесь, благословляю.
Жениться немедленно нам помешала очередная сессия. Мы сдали последний экзамен 10 февраля, а 12-го поехали регистрировать нашу любовь в органах, для этого предназначенных. В загсе на Конюшковской, по месту Зориной прописки.
Мы – естественно, в военной форме – ехали туда на трамвае, причем я висел на поручнях, протолкнув Зореньку в тамбур. И больше никого с нами не было, кроме старой нищенки у входа в загс, которая щедро одаривала нас крестными знамениями через окошко официального кабинета. И нам было хорошо.
К тому времени мой отец вышел в отставку, получил дачный участок неподалеку от станции Зеленоградская и две смежные комнаты в трехкомнатной квартире в офицерском городке по Хорошевскому шоссе. Вот эти две комнаты он и отдал в полное наше распоряжение.
Об этом он объявил мне, как только мы вернулись из загса, и я его слушал, еще весь осыпанный пшеном – им (за неимением зерна) осыпала нас с Зорей в дверях мама по старинной русской традиции.
Зоренька осталась помогать маме, а я помчался в общежитие. После сессии начались каникулы, но все же я разыскал ребят, которым некуда было ехать. Пригласил их на нашу свадьбу, и они приехали, зайдя предварительно в магазин и отоварив свои льготные карточки. В Москве было голодно, но открыли несколько коммерческих магазинов, где продукты и напитки продавали по повышенным ценам. А офицерам и кому-то там еще выдавали специальные льготные карточки, из которых кассиры вырезали талоны на четверть стоимости приобретаемого товара. Ребята притащили вина, шампанского и, кажется, несколько тортов. И было всем весело, а нам – хорошо.
На следующий день – стало быть, 13 февраля – мы переехали на первую в нашей жизни квартиру. Там была кое-какая мебель, выданная отцу комендантской службой городка. Стол, стулья, кресло, что-то еще. Все было весьма старым и потрепанным (то, что поновее, прибрали к рукам по пути из Германии до Москвы) и носило отчетливый немецкий акцент.
В том же году наш курс выехал на практику в Ленинград, на Кировский завод. В Ленинграде все еще инерционно было голодно, и нас кормили трижды в день проросшей пшеницей с сахаром. Мы жили в казарме неподалеку от Витебского вокзала, и по этой казарме днем и ночью нагло ходили огромные крысы. Кировский завод выпускал СУ-152 – тяжелые самоходки на базе танка КВ. И как-то раз нам с Зорей выпало счастье выехать на испытания. Самоходки испытывали на Пулковских высотах, и мы гордо ехали через город на грохочущем бронированном чудовище.
И приехали на линию Ленинградской обороны. Все там осталось в том виде, как было в войну. Заплывшие окопы, заросшие блиндажи, колючая проволока, земля, сплошь усеянная осколками, изломанным оружием и позеленевшими патронами, будто превратившимися в семена…
А может, и вправду в семена? Разве война не сеет саму себя для будущих поколений?..
Самоходка должна была следовать на боевые стрельбы, нас ссадили в какой-то низинке и велели ждать.
И тут я увидел незабудки. Пока Зоря разглядывала вчерашнее поле тяжелейших боев, я перешагнул через проржавевшую колючую проволоку и направился прямехонько к незабудкам. И уже набрал букетик, когда вдруг увидел минную растяжку. Проследил глазами и заметил мину, к которой она вела. Мину с невывинченным взрывателем. И понял, что меня занесло на неразминированный участок обороны. Осторожно развернулся к юной жене, а она оказалась передо мною. Лицом к лицу.
– Мины.
– Я знаю. Боялась кричать, чтобы ты не бросился ко мне. Сейчас мы осторожно поменяемся местами, и ты пойдешь за мной. Шаг в шаг.
– Первым пойду я. Я знаю, как и куда смотреть.
– Нет, ты пойдешь за мной. Я вижу лучше тебя.
Говорили мы почему-то очень тихо, но лейтенант Васильева говорила так, что спорить было бессмысленно. И мы пошли. Шаг в шаг. И – вышли.
С той поры я часто попадал на минные поля. В январе 1953-го, когда отказался сделать доклад о заговоре «убийц в белых халатах» и только смерть Сталина спасла меня от лагерей. В 1954-м, когда демобилизовался по собственному желанию, обозначив это желание в рапорте как «желание заняться литературным трудом». В Москве, когда спектакль ЦТСА по моей первой в жизни пьесе «Офицер» был запрещен Политуправлением CA без объяснения причин на второй премьере, и мы десять лет жили на Зорину зарплату в 86 рублей, пока я не написал «А зори здесь тихие…». И еще множество раз.
Вот уже более шести десятков лет я иду по минному полю нашей жизни за Зориной спиной. И я – счастлив. Я безмерно счастлив, потому что иду за своей любовью. Шаг в шаг.
* * *
В Ленинграде, как я уже говорил, было голодно, но мы не огорчались, потому что у нас была другая радость. Весь Невский был буквально заставлен книжными развалами, а потому и книги стоили очень дешево. Как только у нас оказывалось свободное время, мы мчались на эти развалы и с наслаждением рылись в старых, хранивших аромат прошлого века книгах. Мы истратили на них все деньги, какие только у нас были, и даже сколько-то там взяли взаймы. И вернулись домой, нагруженные бесценными сокровищами: они не уместились в чемодан, и я волок их завернутыми в шинель. Именно они и легли в основу нашей очень большой и очень бестолковой семейной библиотеки.
Вскоре по возвращении из Ленинграда нас ожидал приказ Верховного главнокомандующего, непосредственно касающийся всех армейских женщин, а потому и направивший нашу совместную судьбу по совершенно иному фарватеру. Все женщины, в войну служившие в армии (а было их свыше трехсот тысяч), подлежали демобилизации. Кроме медицинского персонала.
В офицерской службе таится некая опасность: убежденность в своей социальной защите. Куда бы ни забросила тебя судьба, ты не останешься без привычной работы и крыши над головой, а следовательно, и не пропадешь. Эта уверенность приводит порою к утрате инициативы, а то и к лености. Теперь этого прикрытия лишалась ровно половина нашей семьи…
Я быстро закончил диплом, потому что мне помогали чертить (вот этому я так и не научился) наши друзья, студенты Автомеханического института. Туда вскоре после демобилизации женщин из армии были переведены учившиеся в Академии девушки.
Защитился я на четверку. Считалось, что инженерные факультеты Военных академий дают сразу два образования: общее техническое и специальное военное. Для подтверждения этого у нас была и двойная система отчетов в усвоенном материале: мы защищали диплом как будущие инженеры и сдавали госэкзамены как военные специалисты. Таких госэкзаменов было три: 1) специальность, включавшая в себя знание материальной части танков и бронемашин, их эксплуатацию и ремонт; 2) тактика высших механизированных соединений и, естественно, 3) «Основы марксизма-ленинизма». По специальности и тактике я получил пятерки, а по «Основам» – еле-еле тройку. Из-за свойственной мне нахальной легкомысленности.
Дело в том, что память у меня была отличной, почему я и вызубрил эти «Основы» наизусть. Их тогда сдавали во всех высших учебных заведениях, программа была практически одинаковой, билеты мне достали приятели, и я выучил решительно все ответы.
А вытянув билет, убедился, что ответ знаю, и сразу же решил отвечать, не подумав, какие вопросы может вызвать мой ответ.
И начал отвечать. Громко и убежденно. Пожилой полковник из госкомиссии весьма заинтересованно меня слушал, и я упивался собственным ответом, постепенно превратившимся в некое выступление.
– Все? – весьма одобрительно, как мне показалось, спросил полковник.
– Так точно!
– Артист!.. – полковник поманил меня пальцем и, когда я приблизился и вытянул ухо, тихо сказал: – Ты с таким пылом защищал аргументы Троцкого, что я заслушался. Ставлю тебе тройку только для того, чтобы ты навсегда забыл о своих способностях на голубом глазу излагать чуждые нам идейки. Иди. Артист!..
В те времена слово «артист» в устах военных звучало весьма насмешливо и даже неодобрительно. Артистами называли болтунов, заменявших знания звонкой риторикой, и в этом слове не было того обывательского придыхания, которое столь часто чувствуется сегодня. Тогда в это слово инерционно вкладывалось русское, еще дореволюционное, весьма сдержанное отношение к актерам, с которыми оказывались за одним столом только в сугубо мужских компаниях, да и то, как правило, в состоянии длительного загула. Как вчерашнее, так и сегодняшнее отношения, конечно же, крайности, но мы, русские, чаще всего и полагаем крайности истиной.
После войны
Вскоре после защиты меня вызвали в Главное управление бронетанковых и механизированных войск, где генерал Гетман предложил мне на выбор сразу две дальнейшие службы: либо Капустин Яр, где испытывается новое вооружение, либо – Уралмашзавод, где тоже испытываются новые самоходки. Чтобы объяснить, почему в обоих случаях дело касалось испытаний, а не, скажем, службы в войсках в качестве зампотеха, следует сказать, что я окончал отделение Второго Инженерного факультета Бронетанковой академии именно с испытательским уклоном. И, подумав три минуты, я выбрал Уралмашзавод.
После защиты диплома мне полагался полуторамесячный отпуск, поскольку я не только отчитался за полученные в академии знания, но и уже получил назначение. И я поехал к отцу, который строил дом на пожалованном ему за многолетнюю службу гектаре леса недалеко от станции Зеленоградская.
Домик был маленький – всего-то восемнадцать кв. метров, с печкой посередине единственной комнаты. Но отец строил его сам, и для меня это и тогда, да и сейчас, решает все. Он не любил городской суеты и жил в этом домике зимой и летом, отдав нам с Зорей свою двухкомнатную квартиру.
А вскоре у нас появилась воспитанница. Зорина двоюродная сестра, тоже – Зоря, но – Волобринская.
Сестрам достались нелегкие судьбы, хотя и далеко не равные. Если моя Зоря в четырнадцать лет одна ушла пешком из горящего Минска – ее родители были врачами и уже на второй день войны разъехались по фронтам, – то родители Зорьки Маленькой были репрессированы еще до войны. Отца вскоре расстреляли, мать упекли в лагеря, а Зорьку отправили в детский дом для детей врагов народа. Там она и пребывала, пока ее мать Иду Борисовну, родную сестру матери моей Зори, не отправили на поселение в знаменитую Долинку. Едва узнав об этом, моя невеста (это случилось еще в сорок пятом) тут же выехала в Казахстан, забрала свою сестренку и привезла в Москву. И Зорька Маленькая стала жить с нами. В двух комнатах трехкомнатной квартиры на Хорошевском шоссе. Так начался счастливейший период нашей жизни, который мы и до сей поры называем «Хорошевкой».
Дело в том, что, в отличие от меня, Зоря всегда была невероятно общительна и очень быстро находила друзей. И, попав в институт, стала тут же ими обзаводиться.
Первой на Хорошевке появилась Рита Алешина. Очень юная беленькая девочка, которая только-только поступила в институт и была Зоре совершенно незнакома. А надо сказать, что у моей жены была одна всепоглощающая страсть: общественная работа. И Зоря в тот вечер застряла на очередном бюро комсомола, а когда пошла домой, возле института встретила горько плачущую незнакомую девочку. Немедленно стала выяснять, что же с ней стряслось, и выяснила, что хозяйка комнаты, где эта девочка снимала угол, обокрала ее и выгнала из дома. И Зоря тут же отвезла ее к нам. И Рита жила с нами, а потом осталась жить в отцовской квартире, когда мы с Зорей уже уехали на Уралмаш.
Вскоре после появления Риты в нашей квартире Зоря привела все комсомольское бюро факультета вместе с примыкающими к нему «болельщиками» обоих полов. Уж не помню, кто оказался в друзьях, а кто – просто знакомым, но основной костяк «Хорошевки» был заложен именно тогда. И вот как он выглядел.
Борис Черняк по прозвищу БЯЧ (Борис Яковлевич Черняк). Отец его был видным литературоведом, сестра Наташа добровольцем ушла на фронт, а проживали они на Большой Коммунистической в неуютной квартире с огромным нелепым холлом-передней.
Коля Алексеев. Лейтенант Коля Алексеев, командир взвода автоматчиков, получивший орден Красной Звезды за форсирование Немана и осколочное ранение в голову. Пуля в мозг не прошла, но многочисленные осколки каски прошли, и Коля всю жизнь мучился от постоянных головных болей. Но эта постоянная боль не мешала ему быть самым живым и самым смешливым парнем в нашей компании.
Саша Моисейчик. Он был немного постарше нас, закончил саперное училище перед войной и в первых же боях попал в плен с перебитой правой рукой. В лагере для военнопленных немецкие врачи оттяпали ему перебитую руку по локоть, а освободила его из плена наша армия. У него тоже часто и мучительно болела рука, которой не было. Он подолгу лежал в госпиталях, но оставался на редкость энергичным и веселым.
Георгий Орлов, Гарик, как мы его звали. Зампотех танковой роты. Размечая аппарели для танков в только что захваченных нами немецких окопах, попал саперной лопаткой в пехотную мину. Ему оторвало три пальца на правой руке, оставив только большой и мизинец. Он оказался главой семьи из четырех человек: его мать поднимала детей одна. Двух сыновей и неизлечимо больную дочь. Гарик жил в чудовищной бедности, подрабатывал, где только мог, но никогда не унывал и упорно учился, закончив свою жизнь доктором технических наук и профессором, руководителем кафедры в своем родном институте.
С ним вместе появилась и Маечка. Они были хорошей парой тогда и, кажется, первыми сыграли свадьбу.
А еще была Ниночка Кузнецова, всеобщая любимица, влюбленная в Колю. Но судьба распорядилась выйти за нелюбимого человека, родить двоих сыновей, поднимать их одной и погибнуть в жестокой автомобильной катастрофе.
И увалень Валя Золотаревский, друг Бориса Черняка.
Конечно, появлялся кто-то еще, кого-то приводили друзья – двери нашего дома были всегда распахнуты настежь. Но основной состав «Хорошевки» был именно таким.
* * *
Мы азартно спорили – не на политические темы (к счастью, как потом выяснилось), с удовольствием играли в шарады команда на команду, читали стихи и прозу. Бяч раздобыл журнал «Знамя», в котором была опубликована повесть Казакевича «Двое в степи», жестоко разгромленная «Правдой» и немедленно изъятая из библиотек, и мы читали эту повесть вслух.
А еще мы жили активной комсомольской жизнью, горячо откликаясь на всяческие решения. И кто-то из наших поехал добровольцем на строительство колхозных электростанций – очередное шумное мероприятие, из которого, как всегда, ничего не вышло.
Ну и конечно, учились, помогая друг другу. И еще – мечтали. И мечты наши сами собой почему-то укладывались в русло политики партии и комсомола. Впрочем, это понятно. Мы принадлежали своему поколению, свято верили в нашего Вождя и хотели достичь могущества и хорошей жизни для всех под его руководством. Вот это-то нас и спасло, когда бдительные органы заинтересовались нашей неформальной компанией.
На нашем курсе учился некий старший техник-лейтенант Павел Андреев. Он женился на генеральской дочери Гале Гурвич, и мы поддерживали с этой парой прохладно-приятельские отношения.
И однажды в разгар наших прекрасных дружеских встреч на Хорошевке меня на академической перемене отозвал в сторону Павел и с грустью поведал, что у них крупные нелады с Галей и он очень просит меня и Зорю разрешить ему пожить некоторое время у нас. Отказывать мы ни тогда, ни сейчас не умеем, а потому вскоре Павел и переехал к нам на жительство.
Наши друзья встретили появление в их среде нового человека с юношеским добродушием, и только Саша Моисейчик всегда с ним пикировался. Однако мы продолжали и наши игры в шарады, и чтение стихов, и песни во все горло, и Павел старательно нам подпевал. А потом вдруг объявил, что на его голову завтра неожиданно свалится двоюродный брат из какой-то глухомани, что он, то есть Павел, переедет временно в общежитие, но просит на несколько дней приютить брата у нас.
На другой день он привез этого брата. Угрюмого, скупо улыбающегося и словно вытесанного из бревна. А мы все равно продолжали свои шарады и споры образца «есть ли жизнь на Марсе», распевали свои комсомольские песни и читали стихи. Мы встретили Пашкиного братца улыбками и приглашениями разделить с нами наши удовольствия. Он их особо не разделял, но все же принял, как принял бы правила игры.
Единственным человеком, кто отнесся к нему резко отрицательно, был Саша Моисейчик. Он постоянно язвил, иронизировал в его адрес и вообще считал его лишним в нашей компании. Даже рисовал на него злые карикатуры, подписывая их не менее злыми четверостишьями. Но мы видели в этом лишь свойственную Сашке борьбу за лидирующее место в нашей компании.
Господи, мы настолько были наивно безгрешны, что мысль о проверке, с какой целью молодежь собирается чуть ли не каждый вечер, как-то не приходила нам в голову. Может быть, именно это нас тогда и спасло. И подсадная утка в лице Павла Андреева, и его таинственный провинциальный родственник не нашли никакой крамолы в наших сборищах. Мы прошли негласную проверку, но…
Но не все. Александр Моисейчик, потерявший руку в сорок первом, в сорок восьмом, когда мы с Зоренькой уже трудились на Уралмашзаводе, был арестован, судим и приговорен к двадцати пяти годам. Он освободился только во времена Хрущева, но это был уже не тот Сашка Моисейчик.
* * *
Но вернемся к рассказу о нашей семье.
Зорька Маленькая поступила в медицинский институт в год моего внезапного перевода из Свердловска в Горький, мы решили не срывать ее с занятий, и в Горький я поехал один. Принимал моторы для броневичков БТР-40, долго жил в гостинице «Волна», а накануне приезда моих Зорек получил казенную «жилплощадь». И немаленькую: две смежные комнаты в трехкомнатной квартире на окраине Соцгорода в 35-м квартале.
Зорина мать Хая Борисовна, хирург военного госпиталя, умерла от тифа в 1942 году, отец Альберт Львович Поляк служил на Дальнем Востоке, где после войны с японцами и женился на медицинской сестре Вере Ивановне. В 52-м он вышел в отставку, и они переехали к нам на постоянное место жительства. Благо у нас было аж две комнаты, что очень радовало Зорю. Не потому, что она трудно сходилась с людьми – как раз она-то с людьми сходилась куда легче и проще, чем я! – а потому лишь, что это не стесняло ни отцов, ни детей.
Альберт Львович был человеком очень скромным, тихим, молчаливым, но прежде всего он был – Человеком. Это не требует разъяснений хотя бы потому, что встречается чрезвычайно редко в полном, идеальном сочетании глубочайшей нравственности, знаний, опыта, любви к людям и абсолютного отсутствия зависти, корысти, чванства, мелочности, упрямства да и всего того, что мы привычно прощаем людям, хотя именно подобные заусенцы характеров чаще всего и превращают заглавное «Ч» в «ч» строчное. Закончив медицинский факультет университета в Лейпциге, доктор Поляк был не только отменным специалистом, но – врачом в старом, русском понимании этого слова. Он не просто лечил болезнь, но врачевал душу и тело больного. На прием в его кабинет всегда стояла очередь, и я не припомню, чтобы он хотя бы раз вернулся из заводской поликлиники вовремя. Он уходил домой только тогда, когда неторопливо и обстоятельно заканчивал прием последнего больного.
Дома он безотрывно читал. Начинал с газеты – мы выписывали, естественно, «Правду», потому что все прочие газеты просто-напросто повторяли ее, но – хуже, поскольку повторить что-либо лучше еще никому не удавалось. Покончив с газетой, брался за книгу или журнал. Предпочитал классику, но очень заинтересованно следил и за современной советской литературой. И никогда не давал никаких оценок прочитанному, а если Зоря или я уж очень на него нажимали, либо кратко отвечал: «Да», либо – смущаясь, точно прося извинения: «Не очень».
Вечерами я донимал его вопросами. Я был обыкновенным малообразованным офицером, но меня очень интересовала философия, а пресловутая четвертая глава «Краткого курса ВКП(б)» скорее путала, нежели что-то проясняла. Альберт Львович мягко, терпеливо и по возможности доходчиво раскладывал мне все по полочкам, но всеми силами избегал споров. Он вообще их не любил, а я в те времена был особенно задиристым спорщиком, что, впрочем, свойственно всем самонадеянным невеждам. С помощью Альберта Львовича я кое-как разобрался не в самой философии, разумеется, но в некой философской иерархии, что ли. Сообразив, что на вершине ее стоят отнюдь не Маркс с Энгельсом, а Кант с Гегелем, раздобыл «что-нибудь из Гегеля» в забытом отделе заводской библиотеки и медленно, мучительно медленно, по нескольку раз перечитывая каждую фразу, начал читать, конспектируя чуть ли не каждую страницу. Первым сочинением Гегеля, которое я получил на руки, была «Философия истории», но об этом я уже рассказывал в биографической повести «Летят мои кони». Кстати, в первом, моем, варианте эта повесть называлась, как мне кажется, лучше и точнее: «ВЗБЕЖАТЬ НА ХОЛМ И ОТДОХНУТЬ В ТРАВЕ», но подобные наименования главный редактор «Юности» Борис Николаевич Полевой совершенно не переваривал, почему и предложил обтекаемое «Летят мои кони».
А еще Альберт Львович очень любил стихи. Мой батюшка тоже любил стихи, но – прошлого, Золотого века русской литературы, а Зорин отец – века Серебряного. И я часто, затаив дыхание, слушал доселе неведомые мне строки:
В тени косматой ели Над шумною рекой Качает черт качели Мохнатою рукой. Качает и смеется Вперед, назад, Вперед, назад. Доска скрипит и гнется, О сук тяжелый трется Натянутый канат. Снует с протяжным скрипом Шатучая доска, И черт хохочет с хрипом, Хватаясь за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь, Вперед, назад, Вперед, назад. Хватаюсь и мотаюсь, И отвести стараюсь От черта томный взгляд. Над верхом темной ели Хохочет голубой: «Попался на качели, Качайся, черт с тобой». В тени косматой ели Визжат, кружась гурьбой: «Попался на качели, Качайся, черт с тобой». Я знаю, черт не бросит Стремительной доски, Пока меня не скосит Грозящий взмах руки, Пока не перетрется, Крутяся, конопля, Пока не подвернется Ко мне моя земля. Взлечу я выше ели И лбом о землю трах. Качай же, черт, качели Все выше, выше… ах!Федора Сологуба Альберт Львович читал нам особенно часто. Кроме него, звучали и другие поэты начала нашего века, но я почему-то запомнил только гумилевское «Шестое чувство». Может быть, потому, что Гумилев в те годы был категорически запрещенным поэтом:
Прекрасно в нас влюбленное вино, И добрый хлеб, что в печь за нас садится, И женщина, которою дано, Сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей Над холодеющими небесами, Где тишина и неземной покой, Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать… Мгновение бежит неудержимо, И мы ломаем руки, но опять Осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, Следит порой за девичьим купаньем И, ничего не зная о любви, Все ж мучится таинственным желаньем. Как некогда в разросшихся хвощах Ревела о сознании бессилья Тварь скользкая, почуя на плечах Еще не появившиеся крылья. Так век за веком – скоро ли, Господь? — Под скальпелем природы и искусства Кричит наш дух, изнемогает плоть, Рождая орган для шестого чувства.Вера Ивановна преданно любила своего мужа. И он любил ее и никогда не забывал спеть за праздничным столом озорную студенческую песню «Вера чудная моя». И надо было видеть, какой гордостью загорались тогда глаза Веры Ивановны, боевой медсестры, награжденной медалью за участие в давних-давних боях. Еще за озеро Хасан. При полном различии характеров, образования, воспитания Альберт Львович и Вера Ивановна были парой. Они гармонично дополняли друг друга, но гармония эта излучалась Альбертом Львовичем.
Альберт Львович умер в день собственного рождения, 2 ноября, на руках дочери и жены. Умер, до последнего вздоха повторяя одни и те же слова:
– Простите меня. Пожалуйста, простите меня…
За что он просил прощения? За боль, которую невольно причинял родным и близким своей внезапной смертью? За хлопоты, связанные с его похоронами? А может быть, за всех нас – суетных, громких, обидчивых, мстительных, злых?..
Не знаю. Я не поехал в Горький на тот день рождения. Я не простился с Альбертом Львовичем, не оказался рядом с Зорей в самый тяжелый час ее жизни. Я предал ее тогда, и осознание этого мучительно терзает меня сегодня. Ад и Рай человек носит внутри самого себя.
* * *
Вернусь к тем временам, когда все у нас так ладно складывалось. Зоря работала в военной автомобильной приемке, Зорька Маленькая училась в Горьковском медицинском институте, Альберта Львовича тотчас же пригласили на работу в заводскую поликлинику, Вера Ивановна готовила нам вкусные обеды, а я наконец-таки дорвался до полевых испытаний броневичка опытного образца. Может быть, как раз поэтому и не ощущал, что атмосфера в стране стремительно приближалась к катастрофе. Туманные рассуждения о космополитизме сменились вполне конкретными националистическими призывами, но я как-то не чувствовал в этом штормового предупреждения, прикрытый согласием семейного очага и отводя душу в азартных спорах с сослуживцами по поводу, а порою и без всякого повода, что свойственно людям молодым, самонадеянным и легкомысленным.
Эта артподготовка советской пропаганды ныне насмешливо именуется «Россия – родина слонов», но тогда тем, кто понимал, было совсем не до иронии. Разрушалась не только устоявшаяся схема приоритетов, но и система единства европейской культуры, ее взаимообогащение и преемственность. Все, решительно все, что открыло, изобрело, сочинило или сотворило человечество, объявлялось вторичным, заимствованным у нас или попросту украденным. Газеты зло и упорно, из номера в номер печатали статьи, безапелляционно утверждавшие абсолютное превосходство русского гения в науке, технике, философии, искусстве, праве, морали и нравственности. Еще до возведения общегосударственного «железного занавеса» советская идеологическая машина целенаправленно и неустанно строила частокол в душе каждого своего подданного.
Внутренне ощущая это и бестолково, но громко споря, я все-таки ничего не понимал. Я не мог взять в толк: зачем, с какой целью тотально разлагали весь советский народ, от стариков до еще не родившихся младенцев? Ведь мы разгромили лучшую армию мира, небывалыми в истории жертвами доказав как свое единство, так и собственной кровью расписавшись в своей безграничной преданности лично товарищу Сталину. Те, кого когда-то объявили «врагами народа», были либо уже уничтожены, либо медленно умирали за лагерной колючкой. Вместе с ними томились и бойцы Красной армии, плененные фашистами в многочисленных окружениях сорок первого года и чудом выжившие в немецких концлагерях. Сталину была безоговорочно послушна самая большая и самая могучая армия того времени, обладавшая бесценным опытом побед. В его руках был сосредоточен весь преданный, вымуштрованный всесильный карательный механизм огромной страны, подкрепленный могущественной и надежно контролируемой единовластной партией. Его войска стояли в центре Европы и активно помогали Мао Цзэдуну окончательно добить остатки чанкайшистов и водрузить над всем миллиардным Китаем красное знамя социализма. Я прекрасно осознавал наше могущество – все-таки в Военной академии, носившей тогда имя Сталина, меня неплохо выдрессировали, но понять то, что происходило внутри страны, оказался не в состоянии. Я был самым обыкновенным верноподданным офицером, верноподданным коммунистом и верноподданным гражданином. Избавить меня от всех этих прилагательных могло только либо постижение смысла происходящего, либо тяжкое испытание. Но постижение смысла есть уровень личной культуры человека, почему на мою долю и выпало испытание.
* * *
В январе 1953 года я получил отпуск и, пробыв несколько дней в Горьком, выехал в Москву, где в то время жили мои родители и сестра Галина с мужем Борисом Ивановичем и двумя детьми. Отец не любил шума городского и безвыездно жил в дачном офицерском поселке, как правило, оставаясь на зиму в одиночестве. Я навестил его, но в пятницу вернулся, чтобы повидаться с друзьями.
Повидаться с ними мне так и не пришлось. В субботу – хорошо ее помню! – произошло событие, резко изменившее мою жизнь.
Я в одиночестве завтракал на кухне (естественно, уткнувшись в книгу), потому что мама гуляла с внуком, а Галина была на работе (в те времена суббота была рабочим днем). И тут неожиданно вошел Борис Иванович и хлопнул перед моим носом газетой «Правда».
– Почитай.
На первой странице было опубликовано правительственное сообщение о заговоре «врачей-убийц».
Сейчас подавляющее большинство забыло, что это было «Дело врачей». И потому, что прошло время и свершилось множество очень серьезных событий, и потому, что сегодняшняя нелегкая жизнь отодвинула трагедию дедов и бабушек на самый дальний план памяти внуков и правнуков, и потому, наконец, что антисемитизм по-прежнему существует под легким флером сегодняшней демократии. И я считаю своим долгом напомнить хотя бы, как ЭТО звучало тогда.
«СООБЩЕНИЕ ТАСС от 13 января 1953 года
Некоторое время тому назад органами госбезопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сокращать жизнь активным деятелям Советского Союза… Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией “Джойнт”… Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директивы об истреблении руководящих кадров СССР через врача Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса».
Из книги Хрущева «ВОСПОМИНАНИЯ»:
«В августе 1948 года сотрудница Кремлевской больницы Лидия Тимашук сообщила в МГБ, что умерший секретарь ЦК Жданов якобы стал жертвой неправильного лечения. В ноябре были арестованы десятки медиков-евреев, в том числе лечащий врач Сталина Виноградов… Я лично слышал, как Сталин звонил министру госбезопасности Игнатьеву… Он требовал от Игнатьева: этих врачей бить и бить, лупить нещадно, заковать в кандалы».
Из письма группы московских врачей в ЦК КПСС от 16 июня 1952 года:
«До самого 1949 года все эти розенфельды и буткевичи командовали в медицине. Эта истина общеизвестна. Общеизвестно то, что эти розенфельды и буткевичи в медицине совершали злодеяния… Они убили Горького и его сына, убили Куйбышева, Жданова и Щербакова… Они же, эти враги и им подобные, применяли и такой гнусный метод: к влиятельным лицам подставляли в жены типов своей категории».
Из «Общей газеты» от 18–24 мая 2000 г.:
«СТАЛИНСКИЕ ЦВЕТИКИ И БАРКАШОВСКИЕ ЯГОДКИ
В числе привлеченных по «Делу врачей» был мой отец – известный профессор-кардиолог Яков Гиляриевич Этингер. Его арестовали первым в ноябре 1950 года по прямому указанию Сталина. Через несколько месяцев, 2 марта 1951 года, он погиб в Лефортовской тюрьме. Была арестована и моя мать Р. К. Викторова, тоже врач.
Я тогда учился на истфаке МГУ. Сотрудники госбезопасности схватили меня в 1950-м на Кузнецком мосту. Целью следователей Лубянки было получить признания во «вредительском» лечении моим отцом видных деятелей Советского государства. Они до полусмерти избивали меня, несколько раз бросали на три-четыре дня в карцер…
Освободившись в конце марта 1954 года, я стал собирать материалы, связанные с «Делом врачей», и встретился почти со всеми арестованными по этому делу профессорами, многими деятелями партийно-государственного аппарата. Из их рассказов составилась целостная картина «Дела врачей».
В 1970 году бывший член политбюро ЦК КПСС и Председатель Совета министров Николай Александрович Булганин рассказал мне, что за несколько дней до публикации сообщения ТАСС об «аресте группы врачей-вредителей» его текст обсуждало бюро Президиума ЦК КПСС (так назывался тогда высший партийный орган). Помимо членов Президиума в этом обсуждении участвовали секретари ЦК, не входившие в его состав, включая Брежнева и Суслова. Активнее всех на заседании был Каганович, обрушившийся с гневными нападками на «врачей-убийц» и в особенности на профессоров еврейской национальности. По словам Булганина, процесс над врагами намечался на середину марта 1953 года и должен был завершиться вынесением смертных приговоров. «Профессоров-убийц» предполагалось публично повесить на центральных площадях в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Свердловске и других крупнейших городах страны.
Булганин рассказал мне и о намечавшейся после процесса над врагами массовой депортации евреев в Сибирь и на Дальний Восток. В феврале 1953 года Сталин приказал подогнать к Москве и другим крупнейшим городам несколько сот эшелонов для выселения евреев. В ходе этой акции планировалось организовать крушение составов и «стихийные» нападения на них «возмущенных масс», чтобы с частью депортируемых расправиться в пути. По словам Булганина, идейными вдохновителями и организаторами «Дела врачей», а также намечавшихся антиеврейских акций были Сталин, Маленков и Суслов.
Немало интересного о плане депортации евреев рассказал Николай Николаевич Поляков, бывший сотрудник аппарата ЦК ВКП(б), а до этого работник органов государственной безопасности. По его словам, для руководства операцией по выселению евреев была создана специальная комиссия, подчинявшаяся непосредственно Сталину. Председателем комиссии Сталин назначил секретаря ЦК КПСС Суслова, секретарем стал Поляков. По свидетельству Полякова, для размещения депортированных в отдаленных районах страны спешно строились барачные комплексы наподобие концлагерей, а их территории попадали в ранг закрытых зон.
Смерть Сталина сорвала план организации процесса над врачами и депортации евреев. Арестованных профессоров освободили. Но политика государственного антисемитизма продолжалась. Евреев еще долго не принимали в некоторые учебные заведения, ограничивали их поступление в аспирантуру, препятствовали продвижению по служебной линии. В последние годы на официальном уровне сделано немало широковещательных заявлений, осудивших антисемитизм. Но ничего конкретного для искоренения этого явления не сделано. Вот почему так вольготно чувствуют себя в России националисты всех мастей. Вот почему свободно выходят фашистские газеты и нацистская литература продается с лотков рядом с Кремлем. Ядовитые семена великодержавного шовинизма и расовой ненависти, брошенные сталинским режимом, дали всходы…
Яков Этингер, доктор исторических наук, профессор».* * *
Однако вернемся в 1953 год, когда никто еще ничего не знал, да и знать не мог, а газете «Правда» верили без малейших сомнений.
Я успел прочитать только заголовок, когда Борис сказал:
– Я – на работу. Вечером серьезно поговорим.
В голосе его звучало странное торжество, но тогда я не обратил на это внимания. Я вцепился в газету.
В закрытой Кремлевской больнице («Кремлевке») лечили только высших партийных и государственных чиновников и членов их семей. Естественно, лечили лучшие, тщательно проверенные и отобранные «компетентными органами» врачи, и все они, судя по прозвучавшим фамилиям, были евреями. Они долго и старательно травили наших вождей и выдающихся сынов Отечества – Куйбышева, Орджоникидзе, Горького, а разоблачила это чудовищное злодеяние простая советская патриотка ординатор Лидия Тимофеевна Тимашук.
Однако прежде чем перейти к дальнейшему, придется пояснить, кем, а главное, каким был супруг моей сестры Галины Львовны.
Борис Иванович Мальцев был типичнейшим советским ортодоксом и если и размышлял о чем-либо, то никогда мыслей своих вслух не высказывал. Мы частенько спорили с ним, но споры, как правило, носили характер отвлеченный, и Борис всегда парировал все мои эскапады насмешками на грани превосходства и самолюбования, поскольку не обладал ни юмором, ни тем паче иронией. Он всегда полагал меня человеком легкомысленным, то есть заведомым антиподом того тяжеловесного идеала советского служилого специалиста, которому поклонялся сам. И по-своему был прав, поскольку его неуклонное следование избранному идеалу, подкрепленное его воистину героическим трудолюбием, в конечном итоге привело его в солидное руководящее кресло, к персональной машине с телефоном и полному удовлетворению собой. И это тоже понятно, так как стартовал он, безотцовщина и полубеспризорник, с окраинных улиц Рачевки, столь же печально известной в Смоленске в начале 30-х годов, как Марьина Роща в Москве.
Он был целеустремлен, упорен и очень трудолюбив. Кое-как отучившись в семилетке, сумел поступить в электротехникум. Подрабатывал грузчиком на вокзалах, осенью сгребал опавшие листья в Лопатинском саду, зимой рубил лед для холодильников на Днепре и упрямо учился. В тот же техникум поступила и Галя, хотя мечтала о медицинском институте, но отец настоял на техникуме. Она отставала от Бориса на один курс, что не помешало им познакомиться, подружиться, а потом и полюбить друг друга. Борис закончил техникум раньше и получил назначение в Москву.
В то время мой отец тоже оказался в Москве слушателем Высших командных курсов при Академии имени Куйбышева. Получил там квартиру в военном городке на окраине (в Покровском-Стрешневе), но родители решили отложить переезд, чтобы не срывать Галю с ученья. И поскольку жилье было, Борис и Галя объявили маме о своем желании немедленно расписаться.
Сейчас, задним числом, я думаю, что мама была против этого скоропалительного брака. Сужу по тому, что я оказался единственным, кто сопровождал их на это мероприятие. И еще по тому, что Борис Иванович всю жизнь, мягко говоря, недолюбливал мою маму, хотя они много лет жили вместе.
В июне 1936 года мы втроем направились в загс. Молодые купили мне самую большую порцию мороженого, усадили на Блонье и велели ждать. Я лизал мороженое и, признаться, ничего не ждал, поскольку меня это событие как-то не очень волновало. Когда счастливые молодожены вернулись с этого казенного мероприятия, я, руководствуясь Галиным указанием, ее расцеловал, а Борису пожал руку, поскольку он мне ее протянул. И ритуал был закончен.
Вечером того же дня Борис уехал в Москву. На поезд его провожали только мы. Я и Галя. Мама и бабушка отсутствовали несколько демонстративно, но, повторюсь, это – понимание задним умом. Тогда я так понимать еще не умел.
В июле, что ли, Галя сдала выпускные экзамены в техникуме, и мы переехали в Москву. В двухэтажные бараки, возведенные по линейке на самой окраине города. Сразу за ними шло поле, сосновый лесок, снова – поле и – Москва-река, куда мы бегали купаться.
Там я пережил удивление, которое отчетливо помню до сей поры. Неприятное удивление, скажем прямо.
Отец получил двухкомнатную квартиру, отдав первую – проходную – комнату молодоженам. Там стояла знакомая мне по частым переездам случайная гарнизонная мебель с инвентарными номерами, в том числе и этажерка, на которой я вскоре обнаружил початую пачку пиленого сахара, надорванную осьмушку чаю и половину черствой французской булки.
– А почему это лежит здесь, а не в буфете? – удивился я, поскольку с колыбели был приучен к порядку.
– Не трогай! – одернула мама, хотя я никогда ничего не трогал без спроса. – Это – чужое.
«Чужое» принадлежало Борису, нашему новому родственнику. Как потом мне стало ясно из нервных разговоров старших, он кормился отдельно от нас, поскольку зарплата его превышала отцовскую академическую стипендию, как это ни странно звучит сегодня. И Борис Иванович просчитал, что кормиться за общим столом для него невыгодно. И надо сказать, кормился так довольно долго, несмотря на Галины слезы и срывы моей матушки.
Так он начал жизнь в нашем доме, надолго взорвав царившую в нем всегда спокойную, доброжелательную, даже, пожалуй, улыбчивую атмосферу. Потом, правда, Борис не столько одумался, сколько изменился внутренне, но начало было именно таким, каков он был в сути своей.
* * *
В начале 50-х глубинные потрясения души его еще не коснулись. Он по-прежнему воспринимал мир только в черно-белом цвете, а человечество делил не по национальностям или религиозным признакам, а только на два точно обозначенных лагеря. На друзей и на врагов.
Однако в последнее время под влиянием оголтелой антисемитской пропаганды начал выделять евреев особо. Как особо опасных, особо коварных, до поры до времени затаившихся врагов номер один.
Вот об этом и шел разговор, когда Борис вернулся с работы. На работе он успел продумать, как именно легче всего спасти мою офицерскую карьеру:
– Ты должен немедленно подать на развод и указать в заявлении причины этого развода.
– Какие причины?
– Ты – коммунист и русский офицер. Ты не имеешь права связывать свою судьбу с агентом «Джойнта».
– Зоря – агент «Джойнта»?
– Вполне возможно, вполне. Она недаром прорвалась к совершенно секретной оборонной работе. Так думаю не я один, так думают все твои родные, Борис.
– Да, да, братец, – почему-то с укором сказала Галя, глядя на меня скорбными глазами. – Они травят лучших людей.
– Ты тоже так думаешь, мама?
Мама промолчала. Я побросал в чемодан вещи и поехал на вокзал. На душе было хуже, чем просто плохо.
Уж не помню почему, но я не достал билет на скорый поезд в Горький и поехал пассажирским. Он шел неторопливо, со многими остановками, и, зная об этом, я купил бутылку водки, чтобы скрасить длинный путь, а заодно и гнусное настроение. У соседа по купе оказался тот же походный набор и груз тех же настроений. Нам было за что пить без разногласий, и мы – выпили. И пили мрачно и почти молча, потому что все было ясно без слов. Даже не столько, может быть, ясно, сколько – вполне безопасно. Есть времена бесстрашия, и есть времена страха. Тогда оно и было. Время страха. И мы боялись говорить с соседом по купе даже за бутылкой водки в дальней дороге.
Я ввалился нежданно, и Зоря, вернувшись с работы, очень обрадовалась. А пока ее не было, мне обо всем рассказала Вера Ивановна. Сквозь слезы.
Автозаводский Соцгород жил с натянутыми нервами. Нервы рвались в бесконечных очередях, где измотанные вечной нехваткой женщины наконец-то поняли, кто во всем виноват. Конечно, евреи, на которых каменным перстом указала сама газета «Правда». Враг был обозначен, продуктов в магазинах от этого не прибавилось, но стало понятно, кого проклинать. И проклинали, а Вера Ивановна отругивалась, как только могла, и ее уже дважды изгоняли из очередей.
Альберт Львович ежедневно и строго по графику ходил на работу в заводскую поликлинику, но теперь больные очень редко посещали его кабинет. Иногда тихо приоткрывали дверь и, просунув в щель голову, торопливо и испуганно шептали:
– Лично я вас очень уважаю, но… Сами понимаете.
Дверь столь же тихо закрывалась, и доктор надолго оставался один на один с тяжелыми думами. Но сидел до конца. До последней минуты, пока к нему не заглядывал кто-нибудь из коллег:
– Вы уже освободились, Альберт Львович? Может быть, пойдем вместе? Мне как раз сегодня надо в ваши края.
Коллеги сменяли друг друга каждый день, провожая Альберта Львовича до самого дома. И это была высшая форма нравственности в те времена.
Зорю тоже провожали товарищи по работе. Утром либо заходили за нею, либо поджидали на пути к автобусу, а вечером сопровождали непременно. До подъезда.
* * *
Хуже всех приходилось Зорьке Маленькой. Она добиралась из Соцгорода до мединститута на двух вечно переполненных трамваях с пересадкой в Канавино, была и впрямь маленькой и беззащитной, и в Горьком у нее не было друзей. Кроме того, внешне она выглядела типичной еврейской девушкой, тогда как мою Зорьку чаще всего принимали за украинку. Сейчас об этом как-то нелепо говорить, но в той накаленной атмосфере внешний вид играл весьма существенную роль. Легче всего прослыть патриотом, гоняясь за старым евреем с дубиной в руке.
У нашей Зорьки Маленькой была одна страсть и одна слабость. Страстью, не оставившей ее и тогда, когда она стала бабушкой и весьма уважаемым доктором, было чтение. Возвращаясь из института поздним вечером, она ставила перед тарелкой (ей приходилось довольствоваться поздним обедом и, как правило, в одиночестве) очередную книжку и хлебала свои щи или кашу, так сказать, наизусть, ни на секунду не отрываясь от страниц. Серьезная литература ее привлекала мало, но исторические романы и приключения с плащом и шпагой утаскивали с головой в свои страницы. Память у нее была прекрасной, и, прочитав очередной роман, она с огромным увлечением пересказывала его, цитируя наизусть целые страницы.
В отличие от страсти, свою слабость ей удалось побороть совершенно или в значительной степени. А слабость ее заключалась в странной способности все ломать. Бить посуду, ломать табуретки, гнуть вилки, ронять на пол что-либо особенно громкое. Как-то в воскресенье она решила принять душ, и Зоря некстати сказала ей:
– Только кран не сломай.
– Неужели я такая уж никудышно неуклюжая? – возмутилась Зорька.
И ушла в ванную. А через три минуты появилась в наспех наброшенном халатике и сказала:
– Готово.
– Уже помылась? – удивленно спросила старшая сестра.
– Уже сломала, – виновато вздохнула Зорька, протягивая нам на ладони части от душевого крана.
Обычно мы встречали нашу воспитанницу вечером, ориентируясь на два расписания: занятий в институте и автобусов. И в конце января, когда я уже работал и задержался во второй смене, Зоря пошла встречать нашу студентку вместе с соседом по дому. А институтское расписание в этот день изменили, и Зорька, торопясь домой, села на трамвай, кольцо которого было дальше автобусной остановки. И когда Зоря с соседом подошли туда, Зорьку Маленькую уже окружила толпа возбужденно агрессивных подростков. С нее уже сорвали шапочку, ее уже дергали за волосы со всех сторон… Зоря и сосед разогнали толпу, но было поздно. Наша Зорька настолько испугалась, что могла только окаменело молчать, глядя на нас круглыми от ужаса глазами. Зоря утешала ее, как маленькую, Вера Ивановна умоляла заплакать, а Альберт Львович вздрагивающими руками пытался накапать валерьянки.
Зорька наотрез отказалась продолжать занятия в институте. С огромным трудом мы уговорили ее преодолеть страх и поехать на лекции, но добиться этого нам удалось только через неделю.
И тогда появился Валентин Бушля. Он учился вместе с Зорькой в мединституте, каким-то образом узнал, что ее чудом не избили, и с той поры провожал ее как на занятия, так и с занятий, поскольку жил неподалеку от нас в том же Соцгороде Автозавода. Позднее ему предложили перейти в Военно-морскую академию, но, к счастью, это случилось уже после смерти Сталина, когда государственный антисемитизм сменил свой оскал на улыбчивую маску.
* * *
Теперь-то, по прошествии времени, я понимаю, как мне кажется, что двигало Сталиным. Конечно, он не был ни интернационалистом, ни антисемитом, поскольку он был диктатором, и этим все сказано. Из всех чувств у любого диктатора – прошлого или настоящего, это безразлично – главным является страх. Страх перед расплатой за содеянное, страх перед покушением со стороны доведенного до отчаяния одиночки, страх потерять все, наконец. У любого человека есть два самых сильных чувства: любовь и страх. Любовь Сталину была неведома, следовательно, им руководил страх. И только страх.
Чего же боялся самый бесчувственный человек планеты?
Атомной бомбы? Вряд ли. Ему, угробившему десятки миллионов собственного народа, бояться потерять еще десятка полтора?.. Нонсенс. А о последствиях атомных бомбардировок в те времена почти ничего не знали. Тогда чего же он мог бояться?
Только собственного народа. Его спаянного общей бедой единства, его нищеты, его памяти, его интернационализма, который столько лет пестовали в людских душах по его же указанию. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь…» И еще – внезапного если не прозрения, которое из нас давно вышибли прикладами да наганами, то – удивления увиденному, пощупанному и украденному в Европе, доселе неизвестной, чужой, а потому и враждебной подавляющему большинству советского народа. Большая половина Германии была разграблена подчистую, досталось и Венгрии, и Румынии, и даже Польше, в основном на бытовом уровне. Грабили брошенные дома, магазины, лавки и лавчонки, рестораны и пивные, музеи и картинные галереи, замки и виллы. Грабили не только тайком, но и на глазах до смерти перепуганных хозяев. Генералы везли добычу эшелонами, офицеры – машинами, солдаты – на собственном горбу. Подозреваю, что в Советском Союзе не было дома, в котором не обнаружился бы подобный «сувенир», но я приведу всего два примера (хотя о первом из них я уже где-то упоминал).
В Москве я жил в военном городке, который строили пленные немцы рядом с собственным лагерем на Хорошевском шоссе. А когда он был построен и лагерь перестал существовать, спешно организованная комендантская часть стала выдавать жильцам мебель. Продавленные кресла, старые письменные столы, перекошенные шкафы и тому подобный бывший в употреблении хлам, запасливо вывезенный из Германии.
В начале мая 53-го года мой друг капитан Борис Челухин попросил меня помочь ему перегнать в Пензу два грузовых автомобиля. Один из них был доверху загружен досками, потому что Борис намеревался сделать небольшой круг и отвезти эти доски отцу в деревню Брюковка Пензенской области. Как мы пробирались в эту самую Брюковку по лесным дорогам – эпизод отдельный, и, возможно, я еще об этом расскажу. В конце концов, мы добрались до челухинской «малой родины», где три дня беспробудно пили мутный самогон под единственный тост: «Ну, будемте». Однако не ради этой пьянки я вспоминаю полутемную избу, в которой вырос веселый, шумный и обаятельный капитан Борис Челухин. Я был поражен тем, что все стены этой избы были утыканы узорчатыми вилками отличной немецкой работы. На них висели полотенца, тряпки, бечевки, ремешки и прочая хозяйская мелочевка. Борис пояснил, что среди всего прочего привез с войны в подарок отцу и этот дорогой столовый набор, но втыкать в бревенчатые стены вилки оказалось сподручнее, чем с той же целью заколачивать в них гвозди. Я уж не говорю о предметах роскоши, в число которых наш обыватель и сегодня зачисляет обыкновенный автомобиль. А тогда к нам хлынул поток легковых машин, мотоциклов и даже катеров, которые стояли в Москве в затоне за Водным стадионом.
Нет, Сталина испугал не сам грабеж как таковой, а то, что в капиталистической Европе нашлось что грабить. Как выяснил простой советский человек, жизнь европейца была куда богаче и уютнее нашей. Вся пропаганда о преимуществах социалистического строя грозила разлететься вдребезги.
Вот на таком сугубо материальном фоне возникли сразу две задачи. Во-первых, разгромить послевоенное единство советского общества и, во-вторых, подкрепить затрещавшую идею построения социалистического рая особой духовностью русского народа в доступной его пониманию форме неприкрытого национализма. Современная коммунистическая партия Российской Федерации, ежедневно олицетворяемая товарищем Зюгановым, шагает тем же, проложенным товарищем Сталиным, путем.
* * *
Но тогда мне было не до размышлений. Зоря не скрывала своей национальности, равно как и я – ее, и все было спокойно, просто и весело. У нас всегда было множество друзей, двери нашей комнаты были для всех распахнуты настежь, и нас очень хорошо принимали во всех компаниях – не только молодых, но и более старшего возраста. Мы знали массу стихов, умели рассказывать, и к нам относились тепло и искренне.
В военной приемке ко мне тоже относились вполне по-доброму. Именно в ее парторганизации меня приняли из кандидатов в члены партии, а начальство – полковник Константин Константинович Лисин утвердил меня испытателем нового броневичка, который я с упоением гонял по проселочным дорогам и шоссе Горький – Москва, набирая положенный по испытаниям километраж.
И вдруг как-то все изменилось. Друзья-офицеры стали умолкать, когда я входил, полковник Лисин более не разговаривал на вольные темы и начал придирчиво проверять мои отчеты по испытаниям. И только капитан Федор Федорович Разумовский по-прежнему улыбался, как всегда.
Я понял причину только тогда, когда секретарь нашей парторганизации майор Турчин сказал, не глядя в глаза:
– Сделаешь обстоятельный доклад на партсобрании о евреях – убийцах в белых халатах.
– Почему именно я?
– Тебе это лучше известно.
Я сообразил, почему он поручает этот доклад именно мне, сразу же. Требовалось только уточнение, которое я тут же и получил. И ответил:
– Я не буду делать этого доклада.
– Мы так и предполагали, – улыбнулся Турчин, не поднимая глаз. – Я поставлю вопрос на партсобрании о твоем отказе.
– Напрасно ты отказался, – вздохнул Разумовский. – Турчин раскрутит дело, помяни мое слово.
Дело и впрямь раскрутилось. Турчин заставил выступить всех поименно, и даже бедный Федор Федорович вынужден был осудить меня за отказ от партийного поручения. Он же предложил поставить мне «на вид», но его попытка хоть как-то спасти меня была тут же пресечена майором Мельником:
– Товарищ Разумовский предложил ограничиться, так сказать, замечанием. Это типично интеллигентские сопли. Я предлагаю – строгий выговор.
Однако и строгий выговор не устроил Турчина: он потребовал исключения из партии. До сей поры не могу понять, чем это было продиктовано: то ли исполнением тайного поручения райкома (ему ведь тоже отчитаться хотелось о принятых мерах!), то ли личной ненавистью ко мне.
Когда мне предоставили слово, все полагали, что я буду плакаться, обещать и умолять. Возможно, так бы оно и случилось, если бы мои друзья-офицеры не вылили столько грязи на евреев. Это были не просто антисемитские выступления – это были выступления фашистские. Вот об этом я и сказал, ссылаясь на декларированный большевиками интернационализм. В результате разобиженная парторганизация исключила меня из партии при одном голосе против. Естественно, что голос этот принадлежал Федору Федоровичу.
Дома я об этом промолчал: и так хватало огорчений. Антисемитский шабаш продолжался не только в газетах и по радио, но и вокруг нас, на доселе таком дружелюбном Автозаводе.
А назавтра, представ утром перед глазами полковника Лисина, я услышал приказ о том, что снят со всех опытных и секретных работ и переведен в цех на приемку амортизаторов для броневичка, уже не один год поставляемого в армию.
Я очень огорчился, но, как выяснилось, это было только началом.
Вечером меня вызвал полковник Лисин и объявил, что я подлежу офицерскому суду чести за оскорбление всего советского офицерства. Я вернулся в цех, хватанул у начальника цеха полстакана спирта и пошел домой.
Я сказал о суде офицерской чести только Зоре и – наедине. Тогда мы жили впятером в двух комнатах трехкомнатной квартиры – Зоренька, я, Зорька Маленькая и Альберт Львович с Верой Ивановной, – а одну комнату занимал старший техник-лейтенант Даниленко с женой. И я поведал, что отдан под суд, на кухне, шепотом и – подальше от ушей старшего поколения. Зоря почему-то очень испугалась, стала говорить «Что же делать?.. Что же делать?..», а я разозлился:
– Да плевать я хотел на их суд! Тоже мне, нашлись люди чести.
– Ничего ты не понимаешь, – горько вздохнула Зоря и ушла в комнату.
Потом-то выяснилось, что она знает о решении партийного собрания. И все знают и только делают вид, что ничего не произошло.
* * *
На офицерском собрании меня дружно обвинили в семитизме и…
– Интеллигентный он чересчур, – сказал некий капитан Бызин. – Не для нашего государства рабочих и крестьян.
Этот представитель рабочих и крестьян в акте по поводу проверки герметичности корпуса броневичка записал буквально следующее:
«Я, капитан Бызин, проверил (дата) корпус броневика. Герметичность показал хорошо.
Текет по левому шву сварки…»
Он ненавидел до дрожи даже тех представителей интеллигенции, которые доселе чудом сохранились в армии. Он никогда, ни разу не поздоровался со мной, а в сторону Разумовского только чуть заметно кивал, сохраняя на лице всю мощь классовой ненависти. Что он при этом понимал под интеллигенцией, оставалось тайной.
Но это – анекдот того суда офицерской чести. Остальное было совсем не смешным.
Главным обвинителем оказался мой сосед по квартире старший техник-лейтенант Гриша Даниленко. Получив слово, он достал общую тетрадь и начал зачитывать сделанные в ней записи с точным указанием дат и времени, а также имен присутствующих у нас гостей. Это был даже не донос – это было филерское «дело», полный отчет о слежке за «объектом».
– Подадите мне рапорт и к нему приложите все полученные вами данные, – сказал Лисин.
И все поняли, как прозвучат эти «данные» – разговоры молодых подвыпивших людей – там, куда полковник намеревался их переправить. Мы же и в страшном сне не могли себе представить, что нас подслушивают, что каждая наша личная оценка, насмешка, шутка, анекдот будут старательно записаны любезным соседом.
На основании этих записей, а также с учетом легкомысленного поведения, дурных компаний и пьянок неизвестно с кем суд офицерской чести постановил ходатайствовать перед командованием о лишении меня офицерского звания инженер-капитана. А заодно и Разумовскому поставить на вид за то, что он не явился на суд офицерской чести, сказавшись больным.
По окончании этой судебной процедуры меня ожидали капитан Борис Челухин из другой военной приемки – автомобильной – и Зоренька. У Бориса была «Победа» первого выпуска, мы сели в нее, молча доехали до нашего дома, предупредили, что придем поздно, и уехали к Челухиным пить водку. И, что странно, пили опять-таки молча. У меня никто ничего не спрашивал, а сам я еще не мог говорить.
Голос у меня прорезался только после третьей рюмки. Я поначалу очень скупо, а потом – под градом вопросов – с подробностями рассказал все до конца о каждом выступлении и, в особенности, о записях соседа Даниленко, оказавшегося то ли добровольным, то ли завербованным стукачом. Зоря склонялась к мысли, что он завербован, поскольку не могла себе представить, насколько низок может быть человек. Но Борис и его жена Рая считали, что это – добровольный вклад в борьбу с происками сионизма и империализма. Я тоже склонялся к мысли, что пострадал от добровольца, но мне было несладко при любом решении этого вопроса.
– Они тебя дожмут, – сказал Челухин. – Под каток ты угодил, а кто же каток остановит?..
Домой мы вернулись поздно. Любезные соседи то ли спали, то ли шушукались в темноте: света из-под двери не было видно. Спала и наша Зорька Маленькая, но старшие не спали. Зоря осталась с ними, а я завалился в постель. Я много выпил и надеялся уснуть.
И вправду уснул. И даже какой-то сон видел: молодость обладает свойством зализывать раны.
* * *
Утром я сразу прошел в цех, хотя полагалось сначала появляться в большой комнате административного здания, в которой размещалась наша бронетанковая военная приемка. Я это проигнорировал, но перед обеденным перерывом позвонил Лисин:
– Мне тоже мало приятного видеть тебя, Васильев, а потому выслушай мое распоряжение по телефону. Ты занимаешь две комнаты в трехкомнатной квартире, а родственников у тебя – всего одна жена. Поэтому изволь по-доброму передать две свои комнаты Даниленко и переехать в его одну. Неделя на исполнение.
И трубка загудела злыми отрывистыми гудками.
А я не мог больше работать. Я побежал в автомобильную приемку, в которой работала Зоря. Они занимали целые три комнаты, потому что как грузовых, так и легковых автомобилей в армию шло несравненно больше, чем броневичков, а потому и военпредов было, соответственно, куда больше, чем у нас.
Кажется, в тот день я парализовал нормальную приемку автомобильной техники. Военпреды из автоприемки толпились в одной из комнат, негодуя, возмущаясь и чуть ли не предлагая набить физиономии всей танковой приемке вместе взятой. Больше всего их возмущал вопрос нашего насильственного уплотнения, кто-то даже предложил мобилизовать автозаводскую многотиражку. Не знаю, до каких предложений они еще бы договорились, но долго молчавшая Зоря сказала наконец:
– Не надо. Спасибо вам большое за поддержку, только напрасно все. Это же согласовано, неужели вам непонятно?
Невесело, помнится, помолчали. И Зоря тихо, с горечью вздохнула:
– Самое обидное, что рядом с этой мразью жить придется.
– Не придется, – сказал Челухин. – Я с ним квартирами обменяюсь.
Так в конце концов и случилось. Челухины – Борис, Рая и двое детей – переехали в бывшую нашу двухкомнатную квартиру, а мы впятером, и все – взрослые, переселились в одну комнату, где спали в жуткой тесноте.
Меня преследовала не злость, не ненависть, а мучительное чувство несправедливости. И чтобы хоть как-то избавиться от него, я стал писать пьесу. Почему именно пьесу? Да просто потому, что писать что бы то ни было я еще не умел, и пьеса казалась мне самым легким жанром: слева пишешь, кто говорит, а справа – что говорят. И трудился с невероятным азартом, чаще всего – в цеху, на работе, прерываясь, только когда меня вызывали принимать очередные изделия.
К тому времени партком завода уже утвердил мое исключение из партии – оставалось проштамповать решение первичной парторганизации в райкоме и обкоме, после чего оно вступало в силу, а я сдавал партбилет. Никаких сомнений, что так оно и будет, ни у кого не было, и я торопился со своей пьесой. Видит Бог, не ради грядущих аплодисментов я ее писал. Я писал только ради сочувствия зрительного зала, ради его общего неприятия доносительства и бесчестия.
С Челухиными мы жили в полном мире и согласии. Почти всегда вместе ужинали, а в воскресенье и завтракали, после чего уезжали на машине куда-нибудь подальше от города. Это позволяло забыться, вновь почувствовать себя человеком, над которым не висит нечто завтрашнее, пугающее и мрачное. Я при всей своей легкомысленности понимал, что как только в обкоме утвердят решение о моем исключении, а в Москве согласятся с решением суда офицерской чести, меня, да и всех нас ожидают тяжелые времена. Это был конец февраля, и райком назначил дату заседания, на котором стоял вопрос о моем исключении.
Так бы оно и было, да вдруг все зависло. Райком перенес свое заседание, а 1 марта было горестно объявлено о тяжелой болезни товарища Сталина. В воздухе повисло странное напряжение, все выглядели озабоченными, почему-то все время заседали, но меня не трогали. Я ходил в свой цех, ставил личным клеймом штампы на принятые детали, пил по этому поводу спирт с начальником цеха, и все помалкивали. Вопрос с врачами-убийцами, столь сладостно обсасываемый нашей прессой, заглох сам собой, и только мой начальник цеха со странной фамилией Удод сказал с глазу на глаз после второго стаканчика:
– А Берия всех его врачей посадил.
5 марта все радиостанции Советского Союза с глубоким прискорбием сообщили о смерти гениального продолжателя неизвестно, правда, чего товарища Сталина Иосифа Виссарионовича. Мы, кажется, так и не позавтракав, помчались на завод.
Там уже шел общезаводской митинг. Женщины рыдали, мужчины ладонями смахивали скупые слезы, и над всей этой всенародной скорбью повисла тяжелая тревога.
– Что же с нами теперь будет?.. Что же с нами будет?.. – истерично причитала какая-то пожилая дама из завкома.
Завод не работал. Скорбь была искренней и повсеместной (я имею в виду жителей Автозавода), кроме, пожалуй, нашей квартиры. Мы, конечно, радовались весьма сдержанно, однако не горевали, хотя Альберт Львович и опасался, что уж теперь-то Берия наверняка зажмет нас в кулаке.
Но все как-то затихло, что ли. Газеты, разумеется, печатали материалы, посвященные Сталину, многочисленные соболезнования и письма трудящихся. Завод кое-как работал, в магазинах по-прежнему ничего не было.
Потом настали похороны, на которые ехали не только со всей страны, но и со всего мира. Полагалось ехать на похороны делегациями, но из Горького многие отправились на свой страх и риск. Был ли кто-то из них задавлен в этой второй Ходынке, не знаю. Во всяком случае, с Автозавода вроде бы никто не пострадал.
– Теперь что-то должно измениться, – говорил Федор Федорович. – Ну не может не измениться, не может!
Однако через полмесяца все встало на свои места настолько, что меня вызвали в райком. Естественно, через парторганизацию, естественно, я шел не один, а с майором Турчиным, поскольку был всего лишь «обвиняемым по “делу…”».
В райкоме нас попросили подождать в коридоре, пока не вызовут. И мы сели в этом обычном для советских людей месте вечного ожидания и молчали, как удавленники. Я вообще с Турчиным не разговаривал, а лишь односложно отвечал на вопросы, как старшему по званию. Он был довольно общительным, за словом в карман не лез, но со смертью Сталина что-то если не скончалось, то померкло в его душе. Он притих, стал задумчивым и молчаливым.
Теперь-то я понимаю, почему он так с потрясением переживал смерть великого вождя. Это был Вождь его племени, глашатай его идей или, по крайности, его лозунгов, это был его Гарант правильности выбранного пути. И вдруг его не стало. И выяснилось, что умер не только и, может быть, даже не столько Сталин, сколько приказало долго жить Его Время. Страшное, сочиненное им черное время России начало отступать за горизонт, и Турчин скорбел по нему, такому понятному, родному и удобному своему Личному Времени.
Конечно, я не думал об этом в коридоре райкомовского ожидания. Это все пришло позже, когда улеглась муть. А тогда я просто хотел, чтобы меня поскорее вызвали, чтобы Турчин поскорее доложил и чтобы я поскорее пошел домой.
Наконец-то вызвали. Турчин подхватил свою папочку и шустро нырнул в кабинет. А я прошел следом.
Вошли в кабинет, где за столом сидели какие-то партийные деятели. Сесть нас не пригласили, мы остались стоять у дверей, Турчин развязал свою папочку, а секретарша сказала:
– Восемнадцатый пункт повестки дня. Персональное дело коммуниста Васильева…
– Что-то слышал, – сказал сидевший в центре стола и протянул руку. – Дайте-ка сюда вашу папочку.
Турчин с готовностью передал ему папку. Центральный – обозначим его так – мельком пролистал ее, сказал ворчливо:
– Чуть что не по нас – сразу на вылет. Дурная практика избавляться от молодых коммунистов при первой же их ошибке. В данном случае было бы хуже, если бы он сделал этот доклад. Однако, товарищ… мм… – он заглянул в папку, – Васильев, выполнять партийные поручения следует беспрекословно. Делаем вам замечание без занесения в личное дело, и можете быть свободны.
Мы молча вышли в коридор, столкнувшись плечами в дверях, и Турчин, обмякнув, вдруг опустился на стул. Он был подавлен, растерян, огорчен настолько, что ему стало по-настоящему плохо.
Каюсь, я не помог ему. Я сказал вахтеру, что гражданину требуется помощь, и вышел из райкома в одиночестве.
* * *
После похорон Сталина провокация с врачами-убийцами в обществе стала таять, как мартовский снег. Все разговоры об этом как-то сами собой начали приобретать характер почти неприличный, и даже на Автозаводе, в среде малоинтеллигентной, а потому склонной к антисемитизму, об этом уже и не упоминали. Альберт Львович спокойно ходил в поликлинику, и очередь в его кабинет была существенно больше, нежели к иным врачам. Все приходило в норму.
В начале апреля я закончил первую в своей жизни реальную пьесу, читал ее друзьям, и она нравилась. В конце концов, я и сам поверил, что пьеса у меня получилась, назвал ее «Танкисты» и отправил по почте в Центральный театр Советской армии. Так сказать, по принадлежности.
А 15 апреля, когда я утром пришел на работу, мне позвонили из Конструкторско-экспериментального отдела (КЭО), где в основном трудились выпускники Бауманского института, с которыми мы дружили, и торжествующим воплем заорали:
– К нам! Немедленно!..
Я тотчас же прибежал: благо, было недалеко.
Едва я вошел, как ко мне бросились с криком «Ура!». Бросились все и чуть ли не начали качать меня на руках. Я с трудом высвободился:
– В чем дело, ребята?
– Дело врачей-убийц – провокация! В «Правде» – передовая!
С этой газетой я пошел в приемку. Шел и думал, как я отхлестаю ею Турчина по щекам. Вошел, Турчин был один, но… Но это был совсем не прежний Турчин. Он был смят, перепуган и жалок куда в большей степени, нежели по выходе из райкомовского кабинета. Я молча швырнул газету на стол перед его носом и вышел.
Так закончился самый, пожалуй, трудный период в нашей с Зоренькой жизни. И где бы мы с нею были, если бы Сталин так вовремя не помер…
Литература и кино
В конце апреля 1953-го я получил телеграмму из ЦТСА: «ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО СЕГЕДИ».
Я не знал, что такое «Сегеди» (потом выяснилось, что такова фамилия завлита ЦТСА), но очень обрадовался. В апреле просить разрешения на поездку в Москву было бесполезно: завод гнал план, и мы работали по две смены. Однако перед майскими праздниками горячка резко схлынула, и я рискнул написать полковнику Лисину рапорт с просьбой разрешить мне поездку в Москву на четыре дня: с 1-го по 4-е включительно. В качестве аргумента я продемонстрировал полковнику телеграмму и получил разрешение.
3 мая театр не работал, получив выходной за праздничные дни. У меня оставалось еще 4-е, щедро пожертвованное мне полковником Лисиным, но я очень, помнится, тревожился, удастся ли мне повидаться с завлитом. Он мог оказаться в отгуле, и тогда вся моя командировка была бессмысленной. С трепетом в душе я к двенадцати отправился в ЦТСА. Сегеди, естественно, не было, но литературная часть работала. Я получил пропуск и предстал перед вторым завлитом Оскаром Пильдоном. Он обрадовался моему появлению, сказал, что у театра самые серьезные намерения относительно моей пьесы, выяснил, что я вечером должен уехать, и тут же созвонился с руководителем ЦТСА Алексеем Дмитриевичем Поповым. И он распорядился, чтобы меня доставили к нему.
И Оскар повел меня в кабинет Алексея Дмитриевича по совершенно пустому театру. Впрочем, где-то слышались голоса.
Значительно позднее я писал об этой встрече и для музея ЦТСА, и для Бахрушинского музея одно и то же. А оно заключалось в том, что я практически ничего не запомнил, потому что был как бы малость не в себе от такой встречи. Мне, испытателю боевых машин, и во сне не могло присниться, что я буду когда-нибудь разговаривать с великим режиссером и еще более великим актером. И то, что я написал для музеев, было правдой.
Я отчетливо помню, как Алексей Дмитриевич бегал по своему на редкость тесному кабинетику и горячо, неистово, что ли, рассказывал мне, что я написал. Он играл все роли, что-то мне втолковывал, но я ничего не помню. Помню одну фразу, все мне объяснившую:
– Ты написал пьесу, сидя в зрительном зале. А пьесы пишут, стоя на сцене.
А в конце он велел Оскару выписать мне постоянный пропуск, чтобы я ходил в театр каждый день. На спектакли, прогоны, репетиции и просто так, чтобы понять, что такое театр, как он организован, как работает и каковы роли режиссеров и актеров в этой работе.
Тут мне пришлось сказать, что я работаю на Горьковском автозаводе, а потому вынужден отказаться от пропуска. Алексей Дмитриевич развел руками:
– А вот в этом тебе самому придется разбираться. И чем скорее, тем лучше. Потому что ты написал пьесу, не соображая, как это делается. И она не сделанная, а – написанная.
Я вернулся в Горький, по утрам ходил принимать детали в подведомственном мне цехе, а вечерами переделывал пьесу по тем замечаниям, которые получил от Оскара Пильдона. Подумывал о демобилизации, но поскольку я закончил Бронетанковую академию, мне полагалось служить двадцать пять лет, как тому гипотетическому николаевскому солдату, о котором так любят рассказывать на школьных уроках истории.
Так бы я, наверно, и служил, если бы Хрущев не пообещал в ООН сократить 80 тысяч советских офицеров. Об этом было широко объявлено как о важнейшем шаге навстречу окончанию «холодной войны», и я решился написать рапорт, в котором сослался на свое жгучее желание «заняться литературным трудом», плохо представляя себе, что это такое, и – на слова Хрущева.
В приемке, прямо скажем, обрадовались моему желанию добровольно уйти из армии. И я их понимаю: иметь перед глазами объект собственного подлого поведения, по меньшей мере, неприятно. А тут «объект» добровольно намеревается исчезнуть с глаз долой, а следовательно, и из сердца – вон.
Лисин без разговоров подписал мой рапорт, приложил к нему нелестную для меня характеристику и отправил «дело» по инстанциям. Вскоре воспоследствовал мой вызов в Москву, где и начались мои хождения по генеральским кабинетам.
* * *
В очень неприятной беготне по генеральским кабинетам, где хозяева изощрялись в сержантской матерщине, существовала одна, единственная и доселе мною не изведанная светлая сторона. Поскольку генералы занимались не только мною, но и еще какими-то там делами, то бегал я к ним не каждый день, а только в назначенные. И промежуток между этими назначенными свиданиями с матерящимися золотопогонниками оказался моей, личной, никогда не виданной мною свободой.
В перерывах между посещениями высокого начальства я полностью располагал собою и делал что хочу. Хотел – ехал в ЦТСА, где уже подружился с завлитом Антоном Дмитриевичем Сегеди. Хотел – писал, читал, ходил в кино или просто болтался по улицам. Я был свободным человеком и боялся только, что военное ведомство сделает все, чтобы вновь отобрать у меня мою личную свободу.
Оно и пыталось сделать все. От сердечных уговоров до топанья сапогами и прямых угроз. А я талдычил одно и то же: хочу заниматься литературным трудом. В конце концов, в последнем кабинете опять потопали сапогами, опять поорали всласть, и я наконец-таки получил полную возможность «заниматься литературным трудом».
И первым делом доработал пьесу по замечаниям Алексея Дмитриевича. Заодно пришлось изменить и название, поскольку театр уже играл пьесу Аграновича и Листова «Летчики». Иметь вдобавок к «Летчикам» еще и «Танкистов» было чересчур, и по согласованию с театром я изменил название на «Офицер». А вскоре состоялась читка пьесы – первая в моей жизни! – и спектакль по ней попал в план.
Надо сказать, что театр работал над спектаклем «Офицер» с большим удовольствием и старанием. Спектакль ставил режиссер Ворошилов, заняв в нем много ведущих актеров.
Актерский состав привожу по памяти:
Полковник Волков – Колофидин
Его жена – Солдатова
Капитан Громов – Сошальский
Его жена – Пастухова
Степанов – Ситко
Стройнов – Зельдин
Тер-Тевосян – Иванов
Его жена – Богданова
Польщиков – Плужник
Его жена – Санько
Туровский – Ракитин
Микешин – Сомов
Его жена – Сазонова
Зина – Белобородова
Храмцов – Полев
26 декабря 1956 года была назначена генеральная репетиция «для пап и мам». Из Горького приехала Зоренька. За два часа до начала спектакля я встречал ее на Курском, и мы сразу же поехали в ЦТСА.
Боже мой, как же мы были счастливы! Какие планы мы строили, о чем нам мечталось, и как же мы гордились друг другом!
Вечером Зоренька уезжала в Горький: был конец года, закрывался план. Тогда мы уже знали, что прогон, прошедший с редким успехом, будет повторен на следующий день то ли по просьбе творческих союзов, то ли по просьбе ГлавПУРа. Нас это не беспокоило: вчера мы впервые почувствовали удачу, и нам море было по колено.
А на следующем прогоне, то есть на следующий день, спектакль «Офицер» был запрещен Политуправлением CA без объяснения причин. «Не рекомендован к показу». И все.
А может быть, это-то и хорошо, что запретили без всякого объяснения? Если бы надавали замечаний, я бы растратил уйму времени, пьесу все равно бы угробили (в этом ведомстве своих мнений не меняют), а я был привык доделывать да переделывать по указаниям, слухам, мнениям… Знаю множество драматургов, кинодраматургов, даже прозаиков, которые готовы вывернуть наизнанку собственный замысел, только бы увидеть хотя бы тень его на сцене, экране, в журнале или в книге. И мне всегда почему-то жаль их.
Признаться, я не знал, что мне делать, но не унывал. У меня не только не было какого бы то ни было гуманитарного образования, у меня и представлений-то не было, как что-то писать, исключая первый опыт пьесы.
Трудно сказать, как бы сложилась моя судьба, если бы не два обстоятельства.
Вероятно, в моей первой пьесе все же что-то содержалось обещающее, потому что Н. П. Акимов намеревался ставить ее в Ленинграде, а Н. Ф. Погодин – печатать в журнале «Театр», где он был тогда главным редактором. Относительно Акимова ничего сказать не могу, поскольку никаких известий я от него не получал. А от Погодина получил открытку по почте с приглашением зайти в редакцию этого журнала на Кузнецком. И отправился туда на следующий день после того, как получил приглашение. Там я был сразу же принят Николаем Федоровичем. Приятным, ироничным, хорошо откормленным, но – с трясущейся головой. Позднее он рассказал, что в свое время пил неумеренно, и предупреждал, чтобы никто не пошел бы по его стезе. Он вообще любил давать молодым советы, и кое-какие из них я опубликовал в биографической повести, сделав из них некое подобие афоризмов. Но это – к слову.
Погодин сказал, что ему приказали рассыпать уже набранную в журнале пьесу «Офицер», и предложил мне поступить к нему в Сценарную мастерскую при Главкино. Условия: написать заявку на сценарий, а затем в течение года написать сам сценарий под руководством кого-либо из мастеров. Там платят вполне приличные стипендии, и он убежден, что я сценарий сделаю. Я тут же дал согласие, он показал мне в качестве образцов несколько заявок и велел через неделю принести нечто подобное. Я принес через три дня заявку, которую назвал «Очередной рейс» – о том, как два враждующих меж собой шофера внезапно оказываются вместе в поездке. Погодин принял заявку, я поступил в Сценарную мастерскую и за полгода сделал первый в своей жизни киносценарий под тем же названием. Его поставил на Свердловской студии режиссер Рафаил Гольдин, роли враждующих шоферов играли Георгий Юматов и Станислав Чекан, а главную женскую роль – очень популярная в то время Изольда Извицкая.
Так я стал сценаристом и в 60-м году был принят в только что образованный Союз кинематографистов. В кино я работал с огромным удовольствием не только потому, что с детства любил его, но и понимая, что это – моя единственная литературная школа, в которой я приобрету навыки литературной работы.
* * *
Я начал писать пьесы просто потому, что ничего иного не умел, а как на сценариста на меня поглядывали весьма снисходительно. И я понимал, что это правильно, поскольку при всей моей любви к кино сценарии у меня получались скверно. Я жаждал самостоятельности, а в театре на драматурга смотрят совсем по-иному, нежели в кино. Там он традиционно уважаемый человек, тогда как в кино он всегда лишь черновик для режиссера.
Я очень быстро написал несколько пьес – «Стучите – и откроется», «Веселый тракт», «Начало», «Отчизна моя, Россия», что-то еще. Договоров со мной не заключали, но разрешения («ЛИТ») давали, и пьесы эти кое-где шли, но мало, а потому и заработок наш был весьма скромным. А мы с Зорей снимали комнаты, где только могли, что требовало затрат. Мы нахально записались в жилкооператив, но квадратные метры стоили дорого, и нам обоим пришлось долго и старательно заниматься литературной поденкой.
И тут нам повезло. Наша добрая знакомая Оттилия Болеславовна Рейзман, известный фронтовой оператор, порекомендовала нас на ЦСДФ (Центральная студия документальных фильмов). Там выходили еженедельные и ежемесячные киножурналы – «Новости дня», «Ровесник», «Пионерия», «Иностранная хроника», «Советский Союз» и другие. Текст в них был закадровым, вот нам и предложили его писать после просмотра немого варианта.
Мы быстро освоили эту профессию, потеснив многих авторов. Дело было не очень простым, поскольку в зависимости от снятого материала требовалось уложить определенное количество слов информации в определенное время. Однако у нас был не только большой словарный запас, но и знание, где что искать. Текстами, как правило, занималась Зоренька, а я – писал. Писал от зари до зари в буквальном смысле слова, потому что учился писать так, чтобы меня читали. Я начинал и бросал романы и повести, потому что умел только кое-как строить сюжет, а мне хотелось научиться писать человеческие судьбы и человеческие характеры.
Сначала я записывал сюжеты, сценки, реплики и удачные фразы на каких-то обрывках, тетрадках, блокнотах, терял их или забывал, что, как и где именно записано. И тогда я решил вести дневник – хотя бы для того, чтобы не перерывать ворох бумажек.
Вот этот дневник, побуждающий к организованной записи, и стал для меня, вчерашнего испытателя боевых машин, конспектом первых литературных размышлений. Поэтому позволю себе привести некоторые выдержки из него, чтобы стало ясно, как мне удалось в конце концов объездить прозу.
* * *
Из Дневника
«Когда костюм хорош, каждый норовит подогнать его по своей фигуре».
«– Вы не представляете себе, какие мы разные. Ведь то, что для вас уже восток, для нас еще запад…»
«УРОЧИЩЕ
Выпускница биофака МГУ – умненькая, некрасивая, а потому и робкая девушка – получает направление в глухой заповедник. Егерь – красавец, нахал, сильный и нагловатый. Она влюбляется в него, как в красивое животное. Он приручает эту девицу. И она – счастлива, а у него этакая местная Аксинья…
– Знаете, для меня слово “урочище” вроде огромного урока…
Это и будет урок. Жестокий урок. Урок – урочище…»
«ДОЛГ
Некто получил телеграмму о смерти фронтового друга. Друг этот не был расписан со своею второй женой – фронтовой подругой, которую хорошо знают его друзья. И сейчас законная жена выгоняет подругу из дома. Согласна уступить ей комнатку за 5 тыс. рублей. И герой начинает собирать для нее – израненной инвалидки – эти деньги. И начинает объезжать друзей. А они – разные, уже забывшие фронтовое братство. А он – не забыл. Для него помощь – это святой долг».
«Почему мы понимаем друг друга только в беде? Всерьез стоит подумать над:
“Моторный завод”
“Урочище”
“Сик транзит…”
“Долг”
“Орден”
“Варганов”
“Великий заговор”
“Семь звонков”
Что-то еще…»
Я уже позабыл, о чем намеревался поведать в каждом из перечисленных гипотетических произведений. Но ведь дорога в литературу всегда вымощена томами ненаписанных романов…
«Некоторые пионерлагеря покупали на сезон лисят и медвежат для своих зооуголков во исполнение инструкции о воспитании у детей любви к родной природе. Когда дети разъезжались, оставшиеся вожатые убивали медвежат на шашлык».
«Сказка о Золотой антилопе, льве-вегетарианце, слоне на пенсии и носороге-алкоголике: он все время пьет какие-то вонючие болота на троих».
«Все тратят молодость. Одни на то, чтобы не остаться дураками, другие – чтобы не остаться в дураках. И последних – куда больше».
«“Истинствовать” – совершенно забытый нами глагол».
«Мост через поток жизни когда-то в России именовали нравственностью, опирающейся на моральные устои. О морали мы говорим часто, а вот о нравственности – никогда. Почему? Не потому ли, что нравственность воспитывается только семьей и более никем? А в семье на одну зарплату не проживешь, мать вынуждена работать тоже – тем паче что это весьма престижно – и детей воспитывает улица».
«Унижал душу пьянством и огорчал сердце табаком…»
«В моем детстве хлеб был едой, а вода – питьем. А одежды, которые носили мы, не рискнет сегодня надеть ни одна хипповая девчонка. А ведь о хлебе задумываются только тогда, когда его нет».
Час бокала, час булата,
Час любви и час труда,
(кредо русской интеллигенции)
«ДОМ
Деревянный дом в Москве. Всех кругом сносят, а дом не трогают. Здесь живет одинокая женщина, ее взрослые сыновья проживают отдельно, а она – с самой непутевой и неудачливой дочерью.
Здесь же – еще одна семья. М.б, они дальние родственники.
Ночью, когда непутевая дочь не явилась ночевать, сосед поджигает дом, старательно и обдуманно устраивая короткое замыкание. Он так поглощен технической стороной (надо, чтобы все выглядело абсолютно естественно, для чего он заранее пишет заявления о плохой проводке).
Он – муж дочери соседей, современный и активный технарь: надо получить жилье. Он – деловой человек, лишенный сантиментов и комплексов. Он гордится уменьем все рассчитать и все предугадать. Он точно рассчитывает неповоротливость бюрократического аппарата и спокойно пишет свои заявления, заранее зная, что по ним не успеют принять никакого решения. Он с упоением решает техническую задачу, как устроить короткое замыкание и при этом не попасться.
И только одного он не учитывает: того, что дочь сбежит на свидание и старуха останется одна, потому что всех своих он накануне отправит на дачу…»
«Ровесницы века
Первую мировую встретили девочками 14 лет
Революцию – в 17
Гражданскую – 18, 19, 20
Бандитизм, разруху, голод – 21, 22, 23
Нэп – 24, 25, 26
Коллективизацию – 30
Индустриализацию – 30 – 35
Великий террор – 36, 37, 38
Вел. Отеч. войну – 41, 42, 43, 44, 45
Вот и вся их женская жизнь…»
«Можно представить пьесу, действие которой происходит в аду. Там встречаются Гитлер, Сталин, Муссолини, Молотов, Черчилль, Гиммлер и др. Здесь идет анализ истории, споры, столкновения. Сюда время от времени заглядывает дежурный Черт, вызывая того или иного “на процедуры”. Вызванный возвращается, потирая соответствующее место, и вновь включается в спор.
Такая безусловная условность возможна только в театре, и в этом могущество театра».
* * *
Неизвестно, как бы сложились наши дела, если бы мы не подружились с Гошей Беленьким.
Он был года на три старше меня. В 37-м потерял родителей: отца расстреляли, мать отправили в лагеря. Но Гошу почему-то не тронули. Он закончил четыре курса Мединститута, ушел на фронт, а по окончании войны закончил институт. И вот тогда-то его и арестовали, а отпустили уже во времена Хрущева, и нам повезло с ним познакомиться. Мы тогда болтались по Москве без прописки в поисках квартиры, оказались на жительстве в огромной коммуналке в Карманицком переулке. А Беленький жил на Арбате через квартал от нас. Мы стали встречаться, подружились, и как-то он явился с газетой и молча сунул ее мне под нос.
В газете сообщалось, что Белорусская ССР готовится отметить свой сорокалетний юбилей.
– Им сорок лет, нам – сорок тысяч, – пояснил Гоша. – Пора браться за перо.
Я очень быстро оценил как огромную работоспособность моего нового друга, так и его волевой напор, сдержать который я и не пытался. И еще – веселый, озорной темперамент, который он унаследовал от еврея-отца и грузинки-матери. Воистину, это был вулкан.
За свою очень короткую жизнь Георгий Беленький защитил докторскую диссертацию, написал монографию о генетике, три повести и три киносценария, по которым были поставлены фильмы, и стал членом Союза писателей и Союза кинематографистов.
Но самое главное чудо он сотворил со мной, не словами, а примером доказав, что поднимают нас над бытом не крылья вдохновения, а стремление к цели, упорство и работа. Ежедневная, ежечасная, постоянная ровно настолько, насколько постоянна выбранная тобою цель.
Таково было первое и, прямо скажем, радостное открытие. Писать так, чтобы по твоим сценариям снимали фильмы, по пьесам ставили спектакли, а книжки брали нарасхват. Я буду загребать кучу денег, мы купим хорошую квартиру, мы…
Что – мы?.. Ведь я уже мечтал стать писателем, а не поставщиком сентиментального чтива для дам, детективов для ленивых и киноиллюстраций для обывателя. Это никак не совмещалось с литературными авантюрами моего друга, хотя какой-то приз на конкурсе мы заработали. И Зоренька меня поддержала.
– Ты станешь писателем. Работай спокойно, только попробуй писать то, что тебе очень понравилось.
Я стал соображать, что же такое мне очень понравилось, но тут вошел в моду КВН (Клуб веселых и находчивых). Мы тоже увлеклись этой игрой, а так как Зоря работала в Молодежной редакции телевидения, то есть именно там, где и была придумана эта игра, то стали увлеченно писать сценарии КВН. Я сделал их довольно много, и какое-то профсоюзное издание выпустило их в свет для периферийных клубов.
Вот так я и оказался напечатанным, еще не став писателем. И эта книжка мне особенно дорога.
А тут еще вдруг запустили в производство фильм по моему сценарию «Длинный день». И мы наконец-то избавились от удручающей бедности, когда приходилось жить на одну Зоренькину зарплату. В кино сценаристам платили щедро, мы сумели внести решающий взнос за комиссионную двухкомнатную квартиру, но мне все чаще становилось как-то не по себе. Я ощущал себя не самостоятельным творческим работником, замысел которого претворяется в жизнь на экране, а неким подсобным рабочим, поставляющим идею и сюжет для творчества режиссера, черновиком, как я уже однажды сказал. Конечно, я прекрасно понимал, что кино – искусство режиссера, но меня это мало утешало. Я уже испытывал нечто сродни творческой почесухе: очень хотел писать прозу, но не знал, о чем будет повествовать эта самая проза.
Это – запоздалые сожаления, и если бы не мое знакомство с директором фильма «Длинный день», еще неизвестно, как сложилась бы моя судьба. Этот человек сыграл в моей жизни особую роль, а потому я обязан представить его.
* * *
Итак – НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ СЛИОЗБЕРГ.
Николай Миронович Слиозберг был натуральным мамонтом, дожившим до нашего времени. Он являлся настоящим русским миллионером, владевшим предприятиями металлообрабатывающей промышленности, и я имел удовольствие пить чай из самовара с надписью «Слиозберг и сын». Эта фирма (Николай Миронович был «сыном») поставляла на Алтай и в прилегающие районы металлоизделия, скобяной товар и самовары, имея в обороте свыше 18 миллионов золотом, и по праву входила в первую двадцатку русских промышленных предприятий. Он учился в Париже и Лейпциге, успел (в отличие от сестры) вернуться в Россию до начала Первой мировой и возглавил миллионное предприятие.
– Я работал по шестнадцать часов в сутки, – рассказывал он. – Я на опыте познал аксиому, что у миллионеров не бывает выходных. И встретил революцию с восторгом. Она принесла мне истинное раскрепощение, и я настолько был ей благодарен, что в восемнадцатом году почти добровольно отдал все свои предприятия и капиталы советской власти.
Несмотря на заграничное образование и свободное владение двумя языками (не считая, разумеется, русского), Николай Миронович оставался типичным старым москвичом, который слово «вода» произносил через два «а», равно как и мое имя:
– Барис Львович…
Кроме этой старомосковской привычки, у него был и свой отсчет времени:
– Пазвольте, кагда же я купил жеребца? Жеребца и американку. Прелестная была американка, легкая: поставишь ноги на оглобли, проденешь кисти в петли вожжей – и полетел! Только ветер да пыль в лицо из-под копыт… – Он задумчиво улыбается. – Да, так я купил это чудо за два года до Катастрофы.
Вы должны были отнять два от семнадцати и таким путем вычислить дату приобретения жеребца. При этом Катастрофой именовалась не столько революция, сколько этап летоисчисления, порог истории, о который споткнулась Россия, а потому и отсчет от нее шел в обе стороны.
– Весь европейский мир считает время от рождения Христа, а мы – от появления Антихриста, – пояснил он мне, когда я выразил ему свое удивление.
Порог именовался Катастрофой, и Николай Миронович никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой аудитории не изменял этой формулировке. Возможно, что ранее он был более осмотрителен, но на моей памяти таковой осмотрительности уже не проявлял.
Слиозберг был лучшим директором фильмов, какого я только знал. Да и не только я – старые режиссеры вспоминают его до сей поры. Он работал точно, аккуратно, спокойно и, что самое главное, без надсадного энтузиазма, столь свойственного не только нашему кинематографу. Его любили рабочие – осветители, шоферы, плотники и прочие, – потому что он непременнейшим образом изыскивал способы оплаты их сверхнормативного труда. Его любили режиссеры и операторы, потому что он не только вовремя выполнял любое их желание (а оно, как известно, зачастую появляется у этой категории творцов за час до съемки), но был высокообразован, интеллигентен в лучшем смысле слова, обладал отменным вкусом и никогда не отказывал в советах, если у него их спрашивали. Его не любили ассистенты и администраторы – вся не очень грамотная околокиношная публика, – потому что он требовал неукоснительной точности, исполнительности и порядка. И его обожали актеры, потому что Николай Миронович открыто исповедовал принцип, что кинематограф – искусство актера, и всеми силами помогал этой неорганизованной, легкомысленной, шумной и талантливой братии. Помню, как после съемок фильма «Очередной рейс» (на котором он тоже был директором) он при мне вызвал для последних расчетов исполнителя главной роли Георгия Юматова.
Это случилось в Свердловске, в гостинице «Большой Урал». Жена Жорки Муза Крепкогорская уже уехала в Москву, Жорка пропил все деньги, был голоден, зол и не мог опохмелиться. А тут – занудный разговор:
– Георгий Александрович, скажите, пожалуйста, вы снимались в своих ботинках?
– А что, в ваших, что ли? – рычит Жорка.
– Прекрасно. И в своих брюках?
– А в чьих же еще?
– И рубашка… нет, три рубашки тоже ваши?
– Да вы что, издеваетесь?
– И носки ваши?
От возмущения Жорка способен только выразительно смотреть на меня: мол, видал дурака? А Николай Миронович тем временем что-то подсчитывает, записывает и затем буднично объявляет:
– За амортизацию личных носильных вещей вам, Георгий Александрович, причитается сто семнадцать рублей четырнадцать копеек. Будьте так любезны расписаться в этой ведомости.
Впрочем, Николай Миронович никогда не экономил не только на актерах, но и на прочих работниках группы, если у него появлялась хотя бы малейшая возможность заплатить им дополнительно. «Труд должен вознаграждаться», – говорил он и старался – в пределах закона, естественно, – претворять это правило в жизнь. В экспедиции он носил на груди белый мешочек с кальсонной пуговицей и тоже, кажется, сшитый из старых кальсон. Мешочек крепился тесемками вокруг шеи и вокруг груди и покоился на голом теле под нижней рубашкой. В нем Николай Миронович хранил общественную казну, предназначенную для текущих расчетов. Об этом, естественно, знала вся группа и до очередной получки поочередно посещала директора.
– Николай Миронович, мне бы пятерочку…
Слиозберг никогда никому не отказывал и никогда не спрашивал, на какие нужды пойдет выпрошенная сумма (он считал это неприличным). Молча выслушав, расстегивал все рубашки, добирался до «сейфа», расстегивал кальсонную пуговицу, запускал в мешочек пальцы и на ощупь доставал просимую сумму. Он никогда ничего не записывал, но не было случая, чтобы кто-либо не возвратил ему долг при первой же возможности и с глубокой благодарностью.
– Неужели вас ни разу не обманули?
– Что вы, Барис Львович, меня обманывали на трех картинах, но всегда с некоторым доходом. Два раза у меня оказывался лишний рубль, а однажды даже целых три.
Я очень любил слушать его воспоминания, на которые он был неистощим. Мне кажется сейчас, что у Николая Мироновича были три страсти: французская классика, которую он читал только в оригинале; преферанс, в который он никогда не проигрывал; и воспоминания, всегда куда более рассчитанные на нас, слушателей, чем на себя – в утешение. Для того чтобы перейти к некоторым его рассказам, я – просто для характеристики – приведу врезавшиеся в память слова Слиозберга по поводу первых двух страстей.
– Французская литература всегда точно знает, чего она хочет. А потому это знают и ее герои. Герой-француз имеет ясную цель, будь то горсть золота или ночь с женщиной, шаг в карьере или весь Париж у ног – дело не в масштабе задачи, дело в ней самой. А герои нашей классики никогда не знают, какого рожна им надо. Они ищут не что-то конкретное, а нечто абстрактное, непонятное и им самим. Цель заменяется рассуждениями о ней, а я – человек действия, и мне любая конкретная задача куда интереснее абстрактных размышлений о возможных задачах.
Таково – в сжатом виде – было его суждение о двух великих литературах. По натуре Николай Миронович был игроком, цель всегда интересовала его куда больше, нежели средства ее достижения; в Москве свою игроцкую страсть он утолял еженедельными (субботними) встречами с тремя чудом уцелевшими единомышленниками, с которыми и проводил часы за вистом, а в командировках – за преферансом.
– Вист относится к преферансу, как шахматы к шашкам. И там, и там игра идет на одинаковом поле, но вариантность игр столь велика, что висту научиться нельзя, даже досконально изучив правила. Прежде чем обучить меня этой игре, отец заставлял часами стоять за его спиной. Это позволило мне осознать, физически ощутить первый этап игры – стратегическую борьбу противников. И только после этого отец начал постепенно приучать меня к самой игре. К сожалению, все чудовищно упростилось после Катастрофы, и люди потеряли вкус к процессу получения удовольствий, торопясь постичь сами удовольствия. Они получают бифштекс без гарнира, а это все равно, что заменить мелодию одной гаммой…
Воспоминания Николая Мироновича всегда были закончены по мысли и непременно сюжетны. В этом сказывалась не столько его работа в кино, сколько уровень интеллигентности и нестареющее чувство самоиронии. Естественно, я не мог запомнить всех его рассказов, а потому не буду стремиться к плавности собственных воспоминаний.
– До чего же нелепо устроена экономика кино. Мне выдают на съемки фильма огромные деньги, но упаси меня бог сэкономить хотя бы тысячу рублей, потому что у идущих следом непременно срежут со сметы сэкономленную мною тысячу. Тут уж лучше перерасходовать: я отделаюсь выговором, группа не получит премии, но зато Свердловской студии в следующей картине легче будет пробить завышенную смету. И так – во всей сфере экономики. Перерасход выгоднее сбереженных денег. Нонсенс!..
– Кстати, Барис Львович, вы поняли, что никогда не добьетесь серьезных успехов на сценарном поприще? Не только потому, что ваши сценарии литературны, а потому, что литературны ваши герои. Кино не требует типизации, оно требует актерского амплуа. Мой совет: займитесь-ка вы литературой…
– А вы знаете, что я два месяца сидел в Московской Чрезвычайке? Да, да, но сначала, прошу прощения, краткая семейная история. Дело в том, что мой отец умер скоропостижно, и я столь же скоропостижно стал хозяином огромного дела. А по существующим тогда представлениям предприниматель такого масштаба непременнейшим образом должен быть женат или, по крайности, вдов. И меня спешно женили на каких-то осиротевших капиталах. Габариты невесты были пропорциональны ее финансовому обороту, но это было еще полбеды. Беда заключалась в трех особенностях жен-евреек. Они бесконечно преданны, бесконечно властны и бесконечно ревнивы. И я получил весь этот букет умноженным на ее миллионы, в то время когда обожал женщин хрупких, послушных и свободных от еврейского консерватизма. Я два года терпел ее властность и ее размеры, столь не соответствующие моим идеалам, изнемог во всех смыслах и в конце концов решился на интрижку.
Мне удалось познакомиться с молоденькой хористкой, идеально хрупкой, идеально послушной и идеально женственной. Ни Гражданская война, ни голод, ни военное положение, введенное в Москве в восемнадцатом году, не могли помешать нашему взаимному тяготению. Помешать могла только моя супруга, следившая за каждым моим шагом.
Ничего не оставалось делать, как разработать операцию. Я подготовил ее письмами, которыми якобы вызывался на срочное заседание такого-то числа от… и до… Как число, так и время были согласованы с предметом моей страсти. Продуманность замысла успокоила мою супругу, и я с бьющимся сердцем поспешил на первую в своей жизни супружескую измену. Хористочка проживала в Столешниковом; путая следы, я шел к ней через Пассаж, где в то время процветала толкучка, и уже на выходе попал в частую в те времена облаву. Бежать было некуда, меня отконвоировали в ближайший участок, но я ничего не боялся, поскольку документы мои были в полном порядке. Я лишь нервозно вел счет потерянным минутам и все время требовал, чтобы меня вызвали для удостоверения личности. И добился своего:
– А кто может подтвердить, что вы – это вы?
Подтвердить могла моя законная супруга, но, согласно легенде, я никак не мог попасть в облаву в Пассаже, так как именно в это время должен был находиться совсем в ином месте. «Чепуха!» – скажете вы, и я сейчас готов с вами согласиться. Но тогда! Тогда я до ужаса боялся собственной жены и начал плести такую ахинею, что сразу все насторожились. А насторожившись, передали меня в ведение Чека, как элемента неблагонадежного. А Чека работало с перегрузкой и до всяких выяснений сунуло меня в общую камеру Бутырок.
Через неделю, что ли, меня начали вызывать на допросы, а я отпирался от самого себя, и эта канитель кончилась только через два месяца. И знаете, почему кончилась? Потому что моя законная супруга, потеряв голову от моего исчезновения, подняла на ноги всех знакомых. В те времена у нас их еще было много, они начали исчезать позже, а тогда жена с их помощью вышла на Чека. Я был опознан и отпущен, но с той поры зарекся изменять столь замысловатыми способами…
Николай Миронович был нашей ходячей энциклопедией по вопросам, связанным с кинематографом, в который он перешел работать из «Главцинка» в 30-х годах. Но не только это спасло его в те беспощадные времена: Слиозберг был одним из первых русских предпринимателей, безвозмездно передавших свои миллионы, предприятия и прочее молодой советской власти.
– Я пришел к этому решению в камере Московской Чрезвычайки, – с улыбкой объяснял он. – Знаете, ничто так не убеждает в бессмысленности капитализма, как тюремная камера, облавы, заложники и расстрелы ровнехонько по десять человек еженощно.
Вот тогда-то он и поторопился избавиться от собственного «дела» и пошел работать в «Главцинк». А в начале 30-х перешел в кинематограф, работал с Петровым, Столпером, Юткевичем, Райзманом и другими столпами «Мосфильма». Так продолжалось до начала «борьбы с космополитизмом», когда его перевели на захудалую Свердловскую студию документальных фильмов, где именно он и начал выпуск художественных фильмов. Сначала – в порядке эксперимента – одного, потом двух-трех. Ныне эта студия стала студией художественных фильмов, напрочь позабыв о человеке, чья неугомонная энергия и породила ее. Благодарная память не является нашей национальной чертой.
В середине 60-х – уже после съемок фильма «Длинный день», на котором мы с Зорей особенно сдружились с Николаем Мироновичем, Слиозберг вышел на пенсию и вернулся в Москву. Он жил на Кропоткинской, д. 9, на самом верху огромного доходного дома, в большущей, чуть ли не на два десятка семей коммунальной квартире. У него со второй женой, бывшей балериной, была длинная полутемная комната в самом конце бесконечного коридора. По иронии судьбы весь этот дом когда-то принадлежал его отцу: он сдавал в нем квартиры, а сам занимал весь верхний этаж. И в той комнате, в которой доживал жизнь его сын, жила когда-то одна из их горничных…
Мы снимали тогда комнату в Каретном, у солистки ГАБТ Сусанны Звягиной. Николай Миронович изредка звонил, но однажды приехал в большом волнении. Неожиданно нашлась его сестра, которую он в 1914 году оставил в Париже студенткой искусствоведческого факультета Сорбонны. Потом, естественно, связь их оборвалась, и только в начале 60-х сестра сумела разыскать Николая Мироновича и прислала письмо.
– Она зовет меня в Париж!
Париж для всех русских звучит особо заманчиво, но для Николая Мироновича эта заманчивость умножалась на три коэффициента. На парижскую юность, на свойственную ему галломанию и на возможность повидать сестру – единственного родного человека, который у него остался. И по ее приглашению Николай Миронович уехал на целых сорок пять дней, а когда вернулся, почти сразу же появился у нас. С коньяком для меня и шубкой из искусственного каракуля – для Зори. Мы пили французский коньяк, и Николай Миронович рассказывал:
– Моя сестра осталась абсолютно без средств, но умудрилась не только закончить Сорбонну, но и кое-что отложить на завтрашний день. Как это ни парадоксально звучит, но ей помогла стать на ноги наша Катастрофа. Во Францию хлынули тысячи эмигрантов, считавших, что они умеют говорить по-французски. Но говорили они в подавляющем большинстве по-нижегородски, и моя сестра быстренько приладилась переводить их на цивилизованный язык. Кроме того, потребовалось множество бумаг – все беглецы мечтали иметь «вид на жительство» – и сестра вскоре стала незаменимой, постигнув бюрократическое делопроизводство. А поскольку с нею куда чаще расплачивались сувенирами вместо франков, то она умудрилась на базе этих сувениров, знакомств, протекций и скоропалительного обнищания русской аристократии открыть антикварную лавку. Представляете, какие там были возможности, если моя дура-сестра сумела сколотить небольшой капиталец, выйти замуж, родить дочь, дать ей хорошее образование, а позднее и сосватать не за кого-нибудь, а за сына совладельца заводов «Рено». Я бы на таких дрожжах наверняка вырос бы в мультимиллионера!
Николай Миронович улыбался той улыбкой, по которой трудно было судить, шутит он или говорит правду: была у него такая загадочная улыбка. А потом он вдруг спрятал ее и сказал очень серьезно и очень горько:
– Знаете, что я понял за этот парижский сорокаднев? Я понял, что не смог бы там жить. Не смог… Они ведь каждый сантим считают!..
И столько нескрываемого презрения было в этой фразе, что ею я вправе закончить свои заметки о последнем русском миллионере. Все его словечки, вся его хронология (от Катастрофы), вся его ирония в адрес советской власти были всего лишь привычным прикрытием. Маскарадным костюмом на чужом для него балу. А суть заключалась в этой его фразе о сантимах. Русский интеллигент и жил другими масштабами, и считал в иной валюте, и имел все основания презирать буржуазную меркантильность с недосягаемой высоты русского духовного величия…
Но нам пока было не до литературы, потому что надо было отдавать долги, в которые мы влезли. А на «Мосфильме» тогда существовал принцип доработки непрофессионально написанных сценариев, которые редактура отбирала из общего потока графомании, если вдруг обнаруживалась стоящая идея. Тогда приглашали профессионалов, хорошо им платили, но в титры имя их не попадало, даже если сценарий и запускался в производство. Редактор «Мосфильма» Ада Репина предложила мне доработать сценарий «Ее лицо» о девушке-партизанке. Этим сырым сценарием заинтересовался Владимир Михайлович Петров, знаменитый режиссер, поставивший такие фильмы, как «Гроза», «Петр Первый», «Сталинградская битва» и другие.
Так судьба свела меня с человеком, сыгравшим большую роль в моей жизни. И несколько слов – о нем.
* * *
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ПЕТРОВ.
Пожалуй, ни о ком не ходило столько легенд в нашем кинематографе, сколько о народном артисте СССР режиссере Петрове. Кто-то считал его белым офицером, участником знаменитого «Ледового похода» генерала Корнилова, попавшим в плен на Кубани, но выпущенным из лагерей для военнопленных по личной просьбе Станиславского и Немировича-Данченко (а он и вправду играл во МХАТе). Кто-то – начальником контрразведки Деникина, добровольно перешедшим на сторону большевиков, когда Деникин был уже под Тулой. Кто-то – нашим разведчиком в армии Мамонтова. Кто-то – английским шпионом, сдавшим нам их агентуру, за что и получил помилование (последняя легенда опиралась на безукоризненное знание Владимиром Михайловичем английского языка).
Владимир Михайлович был неулыбчив, казался мне весьма строгим и не очень-то приветливым, и я поначалу чувствовал себя скованным. И, боясь жестокой отповеди, вносил весьма обтекаемые предложения по переделке сценария. Петров никогда с ходу не отвергал ни одного, даже самого примитивного. Записывал на аккуратно заготовленных четвертушках плотной бумаги и прятал в карман, обещая обдумать. И следующую встречу начинал с неторопливого разбора этого предложения, не разгромом, а логикой добиваясь того, что я сам отказывался от него. Все его карманы были набиты этими четвертушками с моими предложениями, а когда он почувствовал, что я дозрел до дерзости, сказал:
– Кинематограф, да и вообще все искусство – порядком истоптанное поле, в котором надо искать не легкий путь, а путь неожиданный. Ну, например, почему художник берется создать портрет девушки, которую он никогда не видел? Должна же быть какая-то причина, кроме поклона погибшей героине? Его личная причина.
– Должна, – пролепетал я.
– Пожалуйста, подумайте над этим, но… – он поднял палец, – помните, что поле ваших размышлений истоптано.
Я не очень представлял себе истоптанное поле, почему и заменил его полем заминированным. Мне случалось на них попадать, и я всем существом соображал, куда же мне поставить ногу. Ситуация сразу показалась мне аналогичной, я исписал гору бумаги и… Нашел!
– Он – абстракционист! – заорал я, едва увидев Владимира Михайловича на «Мосфильме». – У него другое видение натуры, другое! Она ему не очень-то и нужна…
На сей раз Владимир Михайлович ничего не стал записывать на своих четвертушках. Он помолчал, странно посмотрел на меня и неожиданно сказал:
– Завтра – выходной. Пожертвуйте им и приезжайте ко мне домой. Там и поработаем.
Так я впервые попал к Владимиру Михайловичу домой. Он жил на улице Воровского, напротив ресторана ЦДЛ. Я сразу же был представлен его супруге Кетеван Георгиевне, урожденной княжне Дадиани. Она была по-грузински приветлива и хлебосольна, но кроме кабинета и столовой я ничего то ли не видел, то ли не запомнил. Все затмил кабинет.
Он был весь в книгах от пола до потолка, но меня больше всего привлекла вращающаяся трехполочная этажерка рядом с письменным столом. На нее так удобно было ставить те книги, которые могут понадобиться для какой-то конкретной работы. А потом – заменить на другие для другой конкретной…
Только никакой конкретной работы у меня пока не было. Она существовала в мечтах, а тогда я просто зарабатывал на жизнь, переделывая сценарий под конкретного режиссера.
Было и еще одно удивление. Я знал, что Владимир Михайлович курит безостановочно, чуть ли не прикуривая сигарету от сигареты, но не ожидал, что в его кабинете-библиотеке повсюду будут лежать открытые пачки сигарет – хорошо знакомые мне пачки «Родопи», «Опала», «Пирина» и других марок – тогда вся Москва курила болгарские сигареты. И Петров, бродя по кабинету, брал сигареты из разных пачек. Я спросил:
– Почему вы все время меняете марки сигарет?
– Я пью вино, а его следует менять, чтобы отточить вкус и букет. И сигареты тоже. Кстати, это касается и литературы.
Сравнение с литературой было туманным, но я его понял. Не разумом, а всем существом. То есть как необходимость делать героя разносторонним, удивляя порою читателя, но создавая у него интерес к этому герою. Может быть, я толкую это замечание моего кумира в ином понимании, но тогда я все время учился.
Мы сделали сценарий «Ее лицо», который очень нравился Владимиру Михайловичу. Однако в это время началась борьба с абстракционизмом, от Петрова потребовали переделки сценария в соответствии с требованиями очередной «охоты на ведьм», он отказался и предложил мне написать что-нибудь для него.
Я написал сценарий «Сегодня, в 16.10», в котором рассказывалась подлинная история, как из-за пьянства диспетчера чуть не потерпел крушение скорый поезд и беду предотвратило только мужество двух путевых рабочих. Мы довели сценарий до кондиции, получили «добро» в редакции «Мосфильма», Владимир Михайлович запустился в производство, успел подобрать актеров, но тут началась новая кампания, на сей раз по борьбе с пьянством, и Владимира Михайловича вынудили прекратить съемки. А у меня в это время наконец-то запустили на «Ленфильме» «На пути в Берлин», я уехал в Ленинград, и больше мы с Владимиром Михайловичем так и не увиделись.
Он запустился с какой-то вполне проходимой картиной, на пробах актеров вышел из павильона покурить, сел в кресло и… и остановилось сердце. И сигарета долго дымилась в уже холодеющей руке…
* * *
А я по-прежнему не знал, о чем мне писать. Очень хотел, очень старался, но ничего, кроме голых сюжетов, в голову не приходило.
Помог случай. Племянники Веры Ивановны жили в Юрьевце, в его нижней, прибрежной части. Когда построили Горьковскую плотину, образовавшую Горьковское водохранилище, нижнюю часть Юрьевца затопило, и его жителей перевезли на реку Унжу, где и соорудили для них поселок с ласковым названием Дорогиня. Там располагались затон для зимнего отстоя речных судов и судоремонтный завод. И там теперь жила родня Веры Ивановны.
И мы поехали в Дорогиню.
Поселок был построен на старом русле реки, то есть на абсолютно чистом, мелком, веками промытом речном песке, на котором росла только тощая лоза. Землю для огородов завозили баржами, ею дорожили (не отсюда ли возникло название?), ее засаживали до последнего сантиметра, а по песчаным улицам бродили унылые голые куры. Им из леса приносили веники, и надо было видеть, с какой жадностью они их пожирали.
Муж одной из племянниц Веры Ивановны Сергей оказался капитаном буксирного катера. Было лето, самый разгар речной работы, людей не хватало, и мы с удовольствием пошли работать к Сергею на катер. Меня он определил помощником капитана, а Зорю – матросом.
Это была честная работа и глубокий, усталый сон. Мы спали на рундуках в маленькой тесной каюте, я слушал, как плещется вода за бортом, и мне было на редкость хорошо. И густой, провальный, без сновидений сон, и удивительное чувство, что ты делаешь важную не тебе, а всем, всем работу, которое омывает твою душу так, как не может омыть тело никакой самый совершенный душ.
Катер предназначался для проведения плотов по Унже до стоянки буксирных теплоходов, так как на место сплотки они не допускались. В то время как плотовщики сплачивали плот из огромных связок бревен, наш катер использовался как посыльный. Отвезти сплоточную проволоку, доставить ремонтников, обед на плот, документы на отправку буксирам.
Диспетчер частенько будил нас затемно, чтобы не задерживать проводку плотов. Он орал на весь затон, но это никого не волновало. Здесь царствовал труд, и я это вскоре почувствовал душою. Мы поднимались в утреннем сумраке, Сергей заводил мотор, я отдавал чалку, и Зоренька кормила нас по очереди. При малом движении на реке Сергей вручал мне управление, и я, порыскав полдня по фарватеру, научился держать нос катера в указанном мне направлении. Зоря кормила нас, мы с ней дружно драили палубу, а еще на мне лежала обязанность ловить рыбу для ухи и жаренки. Я ловил достаточно, но Зореньку вскоре начало мутить от рыбного запаха. А в магазинах ничего не было, кроме хлеба, водки и почему-то турецкого чая. Зоренька мучилась молча, но Сергей заметил, зашел в Дорогиню и привез яиц и картошки.
Я не помню, когда именно у меня появилось – нет, не желание, а невероятная жажда писать. До сей поры существовала некая весьма неопределенная мечта написать что-нибудь этакое. Но этакое не есть творческий импульс: писать надо не тогда, когда хочется, а когда невозможно не писать. И дозрев, так сказать, до кондиции, я под предлогом покупки сигарет забежал в магазинчик, пока мы стояли в простое, и приобрел толстую тетрадь. И, таясь от всех, дрожащим карандашом вывел:
«По утрам в поселковой больничке тихо…»
Первая написанная строчка не всегда оказывается первой напечатанной. Я закончил повесть, названную мною «Бунт на Ивановом катере», запечатал в конверт и послал в журнал «Волга». Так сказать, по принадлежности. А через полмесяца получил ответ, что моя повесть – сплошное очернительство славных тружеников речного флота.
Я разозлился куда больше, нежели растерялся. Ведь я сам, на собственной шкуре испытал, что такое работать, когда в магазинах ничего нет, кроме хлеба, водки да турецкого чая. Когда колхозы не косят на трудных покосах, но и не дают косить никому вообще. Когда все население питается рыбой, а ее не позволяет ловить рыбоохрана, и приходится обманывать ее всеми способами. Я запечатал повесть в новый конверт, написал адрес подвернувшегося под руку толстого журнала (им оказалось «Знамя») и отнес конверт на почту.
* * *
К тому времени я уже был членом Союза кинематографистов, но никого не знал из писателей. И потому, что как образование, так и работа после получения оного были далеки от улицы Воровского, и потому, что не любил ходить на разного рода посиделки. И очень удивился, когда дней через десять, что ли, мне позвонил Александр Рекемчук.
– Вы написали добротную повесть, но сладкой жизни не ждите.
Вскоре мне сообщили, что повесть будет обсуждаться редакцией журнала «Знамя». Я воспрял духом, мгновенно забыв о предупреждении Рекемчука, а тут еще позвонил ответственный секретарь «Знамени» Катинов:
– Мы берем вашу повесть. Я даю читать всем членам редколлегии, привезите как можно больше экземпляров.
Мы с Зоренькой взяли все экземпляры и помчались в редакцию. Катинов еще раз подтвердил, что журнал берет мою работу, и я, счастливый до идиотизма, вывалился из редакции на бульвар, где меня ждала Зоря. Мы пешком шли до Белорусского вокзала и все говорили и говорили. О том, что еще необходимо сделать в этой повести, что предстоит написать в будущем и что теперь наконец-то пришла пора покончить с литературной поденкой и работать, работать, работать!
Через неделю позвонил Катинов. На сей раз его голос не гремел оптимизмом. Он был тихим и, как мне показалось, смущенным. Сказал, когда состоится редколлегия, но предупредил, чтобы я не строил радужных планов, поскольку повесть вызвала весьма серьезные возражения.
На редколлегию мы прибыли плечом к плечу с Рекемчуком. Вид, вероятно, у меня был неважный, потому что Александр Евсеевич все время наставлял:
– Будут брать за горло – покажи характер.
Повесть на редколлегии представлял Катинов, а я настолько обалдел, что ничего не соображал. И куда делись все поздравления и комплименты? Он скупо отметил в качестве положительной стороны тематику («о рабочем классе», как выяснилось) и долго говорил об общей пессимистической тональности, с которой автору предстоит серьезная борьба. И тут встал Рекемчук и в пылу спора вознес повесть на недосягаемую высоту. И тогда все дружно накинулись на меня, будто я был пособником закоренелых врагов советской власти. В чем только меня не обвиняли – именно меня, а не мою повесть! – и в очернительстве, и в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах. Но до выводов дело не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами от литературы, велел мне «показать характер». Я показал, и мы хлопнули дверью в буквальном смысле слова.
Рекемчук сказал, чтобы я отнес повесть в «Новый мир». Я отнес, не ожидая, что ее там прочтут. Однако недели через две меня вызвали. Я приехал, поднялся на второй этаж и был введен в кабинет Александра Трифоновича Твардовского. Он куда-то торопился, разговаривал стоя и одеваясь, а потому коротко.
– Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор – Анна Самойловна Берзер. Слушайтесь ее.
Кажется, я тогда ничего не успел сказать. Вскоре Александр Трифонович умер, моя работа с Анной Самойловной отложилась, но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мною говорил сам Твардовский…
* * *
11 мая 1968 года в Подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год, и я поступил, как герой горьковского рассказа. Пришел на могилу и доложил:
– Отец – сделано!
Тогда ничего еще не было сделано, но я уже знал, что сделано будет. Это не самоуверенность, а диалектический скачок, переход количества в качество: я дозрел. И зрелость выразилась не в том, что я стал лучше писать, а в том, что я понял, о чем должен писать.
Странное дело, это понимание не поддается логическому объяснению. До момента прозрения было куда проще: я знал, что собираюсь написать, и мог рассказать сюжет или заведомо туманно изложить нечто в заявке. Теперь эта легкость испарилась, я вдруг разучился рассказывать. Да и что рассказывать-то? Сюжет? Но разве в сюжете дело? Разве «Зори» исчерпываются историей, как пять девушек и старшина с наганом не пропустили фашистских диверсантов? Разве «В списках не значился» – это о том, как юный лейтенант сражался в Брестской крепости? А «Не стреляйте белых лебедей» – роман в защиту окружающей среды? А «Были и небыли» – о Русско-турецкой войне? Конечно же нет, они – больше сюжета, шире просто рассказанных событий, и это как раз и есть мое постижение литературы. Мое, личное: у других, естественно, все складывалось по-иному.
Кажется, в июне 1968 года я начал повесть о войне. Писал неторопливо, часто отвлекаясь, иногда несколько строчек в день. Тогда на «Ленфильме» режиссер Михаил Ершов снимал фильм по нашему с Кириллом Рапопортом сценарию «На пути в Берлин». Я часто бывал на съемках, даже снялся в одном из эпизодов, а писать не спешил. У меня не было никаких обязательств, а было тревожное чувство обязанности. До сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя уже давно зарабатывал пером на жизнь. Но одно – «зарабатывать на жизнь», а другое – «быть обязанным». Я закончил эту повесть в апреле 69-го, назвал ее чудовищно («Весною, которой не было», это же придумать надо!), запечатал в конверт и послал в журнал «Юность». Дней через десять телефонный звонок поднял меня в шесть часов утра.
– Вы – автор повести? Никому не давайте, мы ждем вас сегодня в редакции.
Я приехал, познакомился с Изидором Григорьевичем Винокуровым – это он звонил мне утром, – с Марией Лазаревной Озеровой и Борисом Николаевичем Полевым. От него я получил три замечания:
Заменить шмайссеры на автоматы.
Не еловое корневище, а еловый выворотень.
И, ради бога, другое название!
Два замечания были пустяком, но с названием мы помучились.
– Не отпущу, пока название не придумаете, – сказал Полевой. – Повесть в печать надо отправлять, если хотим в августе ее выпустить.
От такого известия я вообще отключился. В августе!..
Что-то я жалобно вякал, Озерова писала все названия, приходящие в голову либо ей, либо Винокурову, поскольку я, повторяю, прочно выпал в осадок.
Часа через два полного изнеможения возникла длинная пауза. Потом Изидор Григорьевич пробормотал:
– Зори. Зори здесь тихие… Нет, «А зори здесь тихие…»!
– Молодцы, – сказал Полевой, когда мы ввалились к нему с этим названием. – За все в совокупности можно и коньячку выпить.
Так я стал автором самого популярного тогда журнала. Через год «Юность» опубликовала повесть «Самый последний день», а еще через год – роман «В списках не значился» с великолепными иллюстрациями Бродского. Затем роман «Не стреляйте белых лебедей», с которым произошел некоторый казус.
Дело в том, что я не вычитал гранки, уж не помню, по какой причине. И в названии корректор не вычеркнул предлог «в». А поскольку издательства печатали на основании того текста, который получали из «Юности», то это «в» присутствует почти в каждом переиздании.
* * *
Писал я тогда много и быстро, и «Юность» ежегодно выходила с моей очередной работой. Но однажды произошел довольно ощутимый сбой.
Борис Николаевич к тому времени уже умер, журналом руководил Андрей Дементьев, продолжая, в общем, его политику. А я написал «Завтра была война».
Я работал по десять часов в день, писал быстро, и повесть стекала с кончика пера почти без помарок. Я знал, что она получилась, потому что проверил ее на моих друзьях. И редакция «Юности» ревела взахлеб, и всех все устраивало, и… И ее набрали, но в свет она так и не вышла. Ее не пропустил Идеологический отдел ЦК, и журнал вышел с опозданием на месяц без этой повести. Рыдавший над нею Дементьев не имел ни авторитета, ни твердости Бориса Николаевича, а потому и не мог ее защитить.
Повесть «Завтра была война» пролежала в столе до горбачевских времен. Тогда и была напечатана. Без купюр.
Интересна ее кинематографическая судьба. Многие режиссеры пытались ее пробить через Главкино, но эта организация традиционно была самой консервативной и осторожной. Никому, даже самым известным режиссерам, не удалось получить разрешения на ее экранизацию. А она тем не менее не только вышла на экран, но и получила два престижных приза и идет до сей поры.
Как-то утром мне позвонил выпускник ВГИКа Юрий Кара с просьбой посмотреть его дипломную работу. Ко мне часто обращались выпускники с подобными просьбами, но в тот день мне ехать не хотелось.
– Извините, Юра. На улице дождь, а у меня нет машины.
– Передаю трубку директору студии Горького.
С директором студии Григорием Рималисом мы были друзьями, познакомившись еще на съемках фильма «А зори здесь тихие…». И поэтому я честно сказал, что ради четырехчастного дипломного фильма приезжать…
– Высылаю машину, – перебил он, не дослушав.
Меня привезли на студию имени Горького. Встречал Рималис. Он вел меня по длинному коридору, где находился большой просмотровый зал, и я обратил внимание на суету. К залу бежали люди со стульями в руках.
– Чего это все бегут?
– Увидишь, – загадочно сказал Рималис.
И я увидел фильм по повести «Завтра была война», постановку которого упрямо запрещала цензура. Однако ее запреты не распространялись на дипломные работы, почему Юрий Кара и сделал эту картину. На диплом полагалась цветная пленка из расчета четырех частей, но Юра снял в цвете только сцены с Викой Люберецкой. Все остальное он снимал черно-белым, но фильм по всем международным стандартам считался цветным.
К тому времени и «Новый мир» рискнул напечатать «Иванов катер». У меня образовалось две повести – «Зори», «Самый последний день» и роман «Иванов катер», которые я по совету друзей из «Юности» и решил предложить издательству «Советский писатель» как сборник.
Читали там долго. А потом пришел отказ, мотивированный двумя пунктами. Во-первых, автор очернил безоблачную счастливую жизнь советских людей в романе «Иванов катер», и, во-вторых, он ее попросту не знает. И поди докажи, что я сезон отработал помощником капитана, поскольку никакой справки об этом я и не брал.
Трудно проходили и два моих романа – «Вам привет от бабы Леры» и «И был вечер, и было утро». Они пролежали в столе десять лет и были разрешены к печати только в начале 90-х годов. Я никогда ничего не исправлял в своих работах по указанию цензуры. Не потому, что я уж такой диссидент – вот чего нет во мне, того нет – а потому, что в то время я, заканчивая одну работу, уже думал о другой и не хотел терять время попусту.
Через прозу я вновь вернулся в кинематограф и театр. «А зори здесь тихие…» была экранизирована Станиславом Ростоцким, по ней был создан великолепный спектакль в Театре на Таганке Юрием Любимовым, а Кирилл Молчанов написал оперу, поставленную Большим театром. «Иванов катер» увидел как экран, так и сцену, то же самое надо сказать и о повести «Не стреляйте белых лебедей», но самое неожиданное счастье улыбнулось Театру Маяковского, в котором Андрей Гончаров поставил прекрасный спектакль по роману «Завтра была война» силами выпускников собственной театральной мастерской.
Вся Москва валом валила в этот театр. Зрители, имевшие право на пропуска, вынуждены были сидеть в проходах на ступеньках и – сидели.
* * *
Как раз в это время в Москву приехала знаменитая английская актриса Ванесса Редгрейв. Она увидела «Завтра была война» и… и стала ходить на каждый спектакль. Я познакомился с нею, сидел рядом в зале и видел, как она что-то быстро записывает, слушая перевод через наушники. Мы подружились с Ванессой, она бывала у нас на даче, где и сказала, что добьется, чтобы этот спектакль увидели в Лондоне.
И великая актриса добилась своего. Театр получил официальное приглашение на двухнедельные гастроли в Лондон с показом десяти спектаклей «Завтра была война». Билеты приглашающей стороной были куплены на поезд, и мы совершили прекрасное путешествие через всю Европу до Антверпена, а далее на пароме до Лондона.
Это были незабываемые гастроли с одним спектаклем в репертуаре. «Завтра была война» игралась в огромном Национальном театре за мостом Ватерлоо при полных аншлагах, но на первом спектакле Ванессе переводить не пришлось; в зале была русская публика. И не только из советского посольства, но и эмигранты первой и второй волн.
На следующих спектаклях переводила Ванесса, с которой Андрей Гончаров и я выходили вместе на комплимент. И это тоже стало незабываемым.
В конце гастролей Ванесса устроила прием в своем доме. Пока наши девочки помогали накрывать на стол, а парни развлекали публику, меня сунули в комнату дяди Ванессы, заядлого троцкиста, который хорошо читал на русском языке и кое-как говорил. Он обрушил на меня целый доклад о борьбе Сталина и Троцкого, я кое-как поддерживал разговор, но тут вошла мать Ванессы леди Редгрейв и, что-то сказав, протянула своему брату газету. Это была «Гардиен», посвятившая Ванессе целый разворот с шапкой, набранной большими буквами: «ПРЕДСКАЗАНИЕ СБЫЛОСЬ». Неисправимый троцкист-дядя кое-как перевел мне этот разворот.
В том году Ванессе исполнилось пятьдесят лет, и «Гардиен» припомнила историю, которая произошла ровно полвека тому назад в Шекспировском театре. Там шел «Гамлет» с Лоуренсом Оливье, и первый антракт что-то слишком затянулся. Публика уже начала ворчать, когда, откинув занавес, на просцениуме появился принц Датский.
– Леди и джентльмены, надеюсь, что вы простите нас, когда узнаете, что у нашего Лаэрта час назад родилась дочь. Будущая великая актриса Англии!
Публика зааплодировала, а предсказание сбылось.
* * *
В конце прошлого, XX века… как-то страшновато это писать… я в какой-то мере осуществил свою детскую мечту, начав писать исторические романы. Написал тетралогию о своих предках по материнской линии Алексеевых (в романах – Олексины), имевших счастье внести свой вклад в культуру России, и два романа о первых правителях Древней Руси – «Вещий Олег» и «Ольга, королева русов». И продолжаю работать, хотя, естественно, не с той интенсивностью, как бы мне хотелось.
Впрочем, это понятно. Я еду с ярмарки.
Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем самым вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться в траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя, и еще ничего не болит, кроме сердца.
И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вослед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне.
Чувства притупляются, как боевые клинки: об них уже не обрежешься, не вздрогнешь вдруг от запаха первого снега, от цвета свежей смолы, от стука вальков на реке. Уже не слышно тишины и не видно тьмы, уже позади все, что случалось впервые, и порою уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Уже знаешь, что ждет тебя за поворотом, потому что потерял им счет, но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди, и ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать. Но ничего не вернешь, и неразгаданные мысли, ненаписанные романы и невстреченные встречи, что призрачным роем еще вьются вокруг, – уже для других.
Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя и что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее. Многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством.
Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы.
Я еду с ярмарки. Помашите мне вслед…



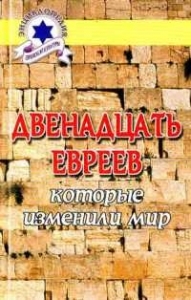

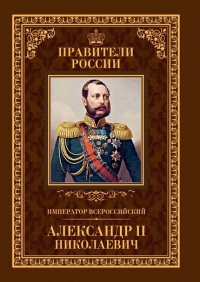
Комментарии к книге «В окружении. Страшное лето 1941-го», Борис Львович Васильев
Всего 0 комментариев