СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ — ДЕТСТВО
В начале 80-х годов мне довелось быть в Польше, куда меня пригласил мой знакомый, известный журналист Рышард Бодовский. Он вел на польском телевидении передачу "Клуб шести континентов", во многом схожую с нашим "Клубом кинопутешествий". В Кракове и местные журналисты, и студенты Ягеллонского университета, где мы выступали, неизменно интересовались, имею ли я какое-нибудь отношение к знаменитому писателю Генрику Сенкевичу.
На встрече со студентами я сказал: "Меня постоянно спрашивают о возможных родственных связях по линии отца и деда с вашим писателем и нашим однофамильцем. Но никто не интересуется моими корнями со стороны матери. Так вот, вас, наверное, удивит, что фамилия отца моей мамы Мачульский". В зале началось оживление, потом по нему прошел веселый шум… Дело в том, что тогда общественная ситуация в Польше была неспокойной, в стране активно действовало оппозиционное правительству движение "Солидарность" во главе с Лехом Валенсой, и среди других противников тогдашнего социалистического строя был известный публицист и правозащитник Лешек Мочульский.
Мой дед Куприян Алексеевич Мачульский был выходцем откуда-то из-под Вильно (теперешнего Вильнюса). Могу предполагать, что, судя по его происхождению, он, вероятно, звался не русским именем Куприян, а был литовским Кипрасом. У нас в семье до сих пор хранятся часы, в свое время подаренные деду, и в надписи на часах он назван не Куприяном, а Киприаном.
Дед и его семья по роду занятий были связаны со знаменитой Военно-медицинской академией, учрежденной в Петербурге еще в конце XVIII века. Сам дед многие годы работал в академии ассистентом у известного фармаколога Николая Павловича Кравкова, одного из отцов советской фармакологии и основателя целой научной школы. Квартира, где жил дед со своей семьей, находилась в главном здании Военно-медицинской академии. Моя мама, Анна Куприяновна, тоже работала в академии — у замечательного хирурга Владимира Андреевича Оппеля, известного ученого, одного из создателей отечественной школы хирургической эндокринологии. Мама была у него любимой операционной сестрой.
Мои родители встретились тоже в академии — отец там учился и окончил ее в 1932 году. Сначала он получил назначение в Забайкалье и вместе с женой и первенцем, сыном Володей, уехал в Читу. Оттуда отца направили в Монголию, имевшую тогда союзный договор с СССР в связи с постоянной угрозой со стороны японских милитаристов, как говорили в те годы. Отец служил врачом в авиационной части. Там же, в Монголии, в городе Баинтумен, который теперь называется Чойбалсан, я и родился в 1937 году.
Через два года после моего рождения мы вчетвером вернулись в Ленинград, куда отца перевели работать. И тут, в Ленинграде, в нашей семье произошло несчастье: мой брат Володя, которому тогда было уже 7 лет, умер от заражения крови. Играя, он ударился ногой о какую-то железную дверь, поранился, и у него начался острый остеомиелит… Я был еще очень маленьким и не помню того, что произошло. Только со слов родных я знаю, что смерть старшего сына подействовала на отца страшно. Он даже порывался ехать к известному тогда детскому врачу, профессору Туру, который, по его мнению, загубил сына, и застрелить его.
Отец долго не мог оправиться от этого удара. Он постоянно носил траурную ленточку на своей гимнастерке, подшивал себе черные подворотнички вместо положенных по уставу белых. И даже имел из-за этого неприятности по службе. Он продал свой мотоцикл с коляской, который привез из Монголии, вещь по тем временам редкую и дорогую, чтобы поставить на могиле Володи памятник из мрамора. У меня в памяти сохранилось, как отец постоянно водил меня на кладбище. Оно было неподалеку от Военной академии связи, где отец к тому времени работал начальником медицинской службы и на территории которой мы получили квартиру. Он забирал меня из детского сада, сажал на раму велосипеда и ехал со мной на могилу старшего сына. (Теперь на этом Богословском кладбище похоронены и мой отец, и моя бабушка Пелагея Ивановна Мачульская.)
Первое, что я точно запомнил от тех лет, это как меня крестили. Видимо, мама и бабушка, потрясенные смертью Володи, решили меня охранить от возможных напастей и повели крестить в трехлетнем возрасте. Помню, как меня держал в руках какой-то человек, у которого было колючее не то пальто, не то еще какое-то одеяние. Возможно, это был священник в своем парчовом облачении. Не могу утверждать. Запомнил отчетливо, как что-то кололо мою попку. И это было одно из самых первых моих ясных детских впечатлений — не зрительных, а на уровне ощущений. Ни церковь, ни купель я не запомнил, помню только, что мне было колко…
В 1941 году началась война и огромная всеобщая беда поглотила горе нашей семьи. Мне исполнилось уже четыре года, и я помню, хоть и смутно, первые месяцы ленинградской блокады. Я запомнил каких-то людей, крутивших ручку сирены, когда объявляли воздушную тревогу. И до сих пор мне становится неприятно, когда я слышу пронзительные звуки сирены. Помню бомбоубежище, в которое мы спускались с мамой во время налетов. И еще мне помнится, что все время было холодно и хотелось есть.
Отец был на фронте, а мы с мамой, оставив квартиру на проспекте Науки (бывшем проспекте Бенуа) и сдав кое-какие вещи, велосипед и чемоданы на хранение на склад Академии связи, перебрались к деду Куприяну Алексеевичу, в его квартиру в главном здании Военно-медицинской академии. Бабушка вместе с дочерью Евгенией и внуком Леней к этому времени эвакуировалась из Ленинграда, а дед категорически отказался уезжать, поскольку считал, что война скоро закончится. В их квартире было несколько комнат, но мы все разместились в просторной кухне. Здание не отапливалось, а на кухне была большая старинная плита. Не помню, как удавалось поддерживать относительное тепло в кухне в ту страшную блокадную зиму, помню только, что дед на ночь укладывался спать на этой огромной плите…
Отец, командир медсанбата, находился тогда недалеко от Ленинграда — на знаменитом ораниенбаумском "пятачке", в 40 километрах от города. "Пятачок" этот был небольшим участком земли на южном берегу Финского залива, где удалось закрепиться нашим войскам. Вражеская артиллерия простреливала его вдоль и поперек, но солдаты держались там 28 месяцев — с сентября 1941 года до января 1944 года, до времени прорыва блокады. Условия, в которых приходилось держать оборону, были невыносимые, и о том, как тяжело приходилось нашим бойцам, я узнал много позже — из рассказов отца и его сослуживцев по медсанбату.
Тяжелораненых бойцов с ораниенбаумского "пятачка" необходимо было переправлять в ленинградские госпитали. Единственной возможностью сделать это был путь по льду через Финский залив и только длинной зимней ночью, чтобы гитлеровцы, находившиеся по берегам залива, не смогли заметить тех, кто в темноте пробирался в блокированный город. Они знали, что этот опасный путь был единственной ниточкой, связывавшей плацдарм с Ленинградом, и постоянно простреливали возможную трассу. Поэтому лед в заливе был искорежен многочисленными взрывами.
И вот в одну из таких поездок отцу пришлось сопровождать раненых. Он шел впереди грузовика в темноте, чтобы указывать водителю дорогу, держа в руках специальный карманный фонарик, свет от которого пробивался через маленькую щелочку. Только так можно было хоть как-то ориентироваться на расстоянии нескольких десятков метров, оставаясь при этом необнаруженными. Но немцы все равно обстреливали залив. Услышав свист летящего в их сторону снаряда, отец упал на лед. Раздался взрыв, отца волной отбросило в сторону. Когда он встал и пошел искать грузовик, то добрался по своим следам… до полыньи, образовавшейся в результате взрыва… Машина ушла под лед вместе с водителем и ранеными. Они не доехали до города совсем немного…
Поскольку это произошло уже недалеко от Ленинграда, то отец решил, что не успеет за оставшееся время вернуться обратно на плацдарм, и стал пробираться в город, чтобы заодно узнать что-нибудь и о своих родных. Когда отец, замерзший, опухший от голода, вдруг появился в квартире деда и увидел, в каком положении оказалась его семья, он пошел в гарнизонный госпиталь, чтобы попытаться переправить нас с мамой из Ленинграда на Большую землю, как тогда говорили.
Ему удалось договориться, и на машине, перевозившей раненых, нас в феврале 1942 года вывезли из города через Ладогу. Моя детская память сохранила отрывочно какой-то грузовик, где было много людей, помню, что постоянно слышался какой-то свист, — это был свист бомб и снарядов, которыми гитлеровцы засыпали Дорогу жизни, проложенную к Ленинграду по льду Ладожского озера… Потом я вижу себя в какой-то теплушке, где были нары и на них люди… Много людей…
Так мы с мамой добрались наконец до Вологодской области, где к тому времени уже жили бабушка, тетя Женя и мой двоюродный брат Леня. Их приютили родственники мужа маминой сестры. Как я помню, мы все вместе жили в какой-то избе и половину ее занимала русская печь. Эту жизнь я вспоминаю более осознанно — мне было уже пять лет. Особенно запомнился мне какой-то конфликт между взрослыми. Мама и тетя Женя о чем-то сильно повздорили. Это было летом, потому что и мама и тетя Женя были одеты, скажем так, по-пляжному. Когда я, совсем еще маленький мальчишка, увидел, что мама и тетя весьма эмоционально выясняют отношения, то подкрался к тете сзади и маленькими ножницами стал разрезать ей на спине застежку от лифчика. Видимо, таким способом я попытался прекратить слишком громкий разговор. Много позже, уже в Ленинграде, мама и тетя Женя подтвердили, что такой факт действительно был.
Не знаю точно, почему произошел тот инцидент, только вскоре мы с мамой уехали жить в другое место — в Кировскую область, в совхоз "Боровской". Там мама поначалу устроилась работать медсестрой в лагерь для политзаключенных, находившийся неподалеку от совхоза. Но проработала там недолго: через месяц ее "благополучно" уволили. А причиной стало то, что она принесла в лагерь для кого-то из больных луковицу, чтобы поддержать витаминами истощенный организм. Заключенные в том лагере, как она потом мне рассказывала, находились в жутком состоянии. Как было принято в те "веселые" времена, на маму кто-то настучал. Ее тут же вызвал к себе начальник лагеря и предупредил: "Твое счастье, что муж у тебя в действующей армии. Лучше тебе уйти отсюда, работать здесь ты не сможешь — слишком сердобольная. Может так статься, что и сама здесь окажешься за это".
Конечно, маме пришлось уйти из этого страшного места, и она устроилась работать медсестрой в совхозный детский сад. Видимо, исполняла она не только свои прямые обязанности, так как очень часто ей приходилось по делам детского сада уезжать то в Котлас, то в Великий Устюг. Причем ездила она на телеге, запряженной… коровой, так как в совхозе не было лишних лошадей. Конечно, с такой "тягой" скорости ждать не приходилось, а путь был неблизкий, поэтому мама отсутствовала обычно по нескольку дней. Я оставался один и был предоставлен самому себе. Правда, к тому времени я был уже вполне самостоятельным ребенком и мог обслуживать себя сам.
Наверное, мама просила соседок во время ее отсутствия по возможности присматривать за мной, но мне они не досаждали своей опекой, и я делал все, что хотел. Если это было летом, то я не шел в детский сад, а с самого утра отправлялся на речку. Я умел уже плавать, управлять лодкой. Очень быстро научился ловить рыбу, а потом жарить ее на костре. С тех пор я и люблю плотвичку: лучше ее, жареной, на мой вкус, ничего нет.
Основное воспоминание тех дней — не проходящее чувство голода: мне все время хотелось есть. И я предпринимал все усилия, чтобы найти что-нибудь съедобное. У меня выработался даже своеобразный ритуал осмотра тех мест, где могло быть то, что годилось в пищу.
Сначала я шел обследовать фургон, в котором из пекарни в совхоз привозили хлеб. Я забирался внутрь и собирал хлебные крошки, которые с удовольствием отправлял в рот. До сих пор помню тот удивительно вкусный запах свежеиспеченного ржаного хлеба. Потом шел на машинный двор осматривать сеялки. В них после окончания сева оставались зерна ржи, которые, собрав и перетерев в ладошках, я мог долго жевать.
Мне очень нравилось ходить в лес, и я не боялся там ни зверей, ни густых зарослей — видимо, как большинству детей, страх мне был пока неизвестен. Однажды, увидев в лесу зайца, я бросился бежать за ним, наивно полагая догнать и сделать своей добычей. Конечно, из этого ничего не получилось. Когда я пришел домой и рассказал маме о своей неудачной охоте, она сказала: "Эх, жаль, что у тебя не было с собой соли!" — "А зачем соль?" — "Ну как же! Если зайцу на хвост насыпать соли, тогда его можно легко поймать…"
И потом я долго верил, что именно так и ловят зайцев, пока наконец не понял, что мама тогда надо мной подшутила. Ни одного зайца я, конечно, не поймал, хотя соль с тех пор носил с собой постоянно. Зато она не раз приходилась кстати во время моих походов по окрестностям, особенно когда я на лодке переправлялся с ребятами на другой берег речки, где были заливные луга. Иногда в лугах мы находили птичьи гнезда и съедали сырыми яйца. Но главной нашей добычей были овощи. За рекой располагались огороды, где мы выкапывали репу, рвали лук. У нас так и называли это: "зарешная репка", "зарешный лук".
Было еще одно место, куда я похаживал в поисках чего-нибудь съедобного. Это бывшее картофельное поле, где, покопавшись, можно было найти перезимовавшие в земле картофелины… Что и говорить, несытное тогда было время…
Из-за своего малого возраста я не слишком четко представлял себе, что такое война, на которой находился мой отец. Но зато хорошо запомнил, как мама и другие женщины из нашего деревянного двухэтажного дома постоянно ждали писем, часто молились. Помню даже, как однажды к нам пришел какой-то старик, взял миску, налил в нее воды, накапал воску, бросил туда же крестик, нагнулся над миской и стал что-то шептать. Для меня все его действия были совершенно непонятны, необычны и потому очень интересны… Так я впервые увидел гадание.
Посидев над миской, пошептав, старик успокоил маму, сказав, что отец жив. А беспокоилась она от неизвестности — ведь письма от отца приходили очень редко: сообщение с Ленинградом, а тем более с ораниенбаумским плацдармом было весьма затруднено.
Но вот в начале 1944 года пришло наконец известие, что блокада прорвана. Мы стали думать о возвращении домой. И тут возникли трудности: чтобы получить разрешение на въезд в Ленинград, маме надо было иметь документ о том, что она работает на одном из ленинградских предприятий. И тогда мама завербовалась на нефтехимический завод, получив таким образом возможность вернуться в родной город.
Из воспоминаний, связанных с возвращением в Ленинград, у меня в памяти осталось жуткое впечатление от страшной разрухи, которую мы видели из вагона поезда: разбитые здания, кладбища паровозов, различная искореженная техника, валявшаяся по сторонам от железной дороги. И до сих пор, когда вспоминаю свои тогдашние детские впечатления, у меня в памяти словно прокручиваются кадры какой-то старой кинохроники…
Мы приехали в Ленинград, где узнали, что во время блокады умер мой дед Куприян Алексеевич. Умер и брат отца, тоже остававшийся в городе. Бабушка и тетя Женя еще не вернулись из эвакуации, поэтому мы не могли поселиться в квартире деда, откуда уехали в феврале 1942 года. Пришлось возвращаться в квартиру, где мы жили до войны, на территории Академии связи. Однако к моменту нашего приезда эта квартира не только была разграблена, но в ней уже жили совершенно незнакомые нам люди. Не поселить нас не имели права мы были там прописаны, но нам в нашей бывшей квартире смогли выделить лишь маленькую 11-метровую комнатку. В ней мы с мамой стали жить в ожидании отца. От наших вещей, которые мы сдали в начале войны на склад академии, почти ничего не осталось: замки в наших чемоданах были не просто взломаны, а вырваны с мясом, зато чудом сохранился велосипед.
Город сильно пострадал во время блокады, его хозяйство было разрушено, во многих квартирах еще долго не работало отопление, были перебои с водой. Это рождало немало бытовых проблем, в том числе и проблему гигиены. Поскольку из мужчин-родственников у нас тогда в городе никого не было, маме приходилось брать меня с собой, чтобы мыть в бане. Я помню эти бани круглое здание на Спасской улице, куда мы ездили на трамвае. От посещений женского отделения у меня осталось какое-то чувство неловкости: все эти неприятные мне голые тетки, казавшиеся почему-то толстыми (видимо, из-за особенностей женской фигуры), их постоянные вопросы, почему такой большой мальчик (мне было уже семь лет) моется вместе с ними… А куда было деваться маме? Ведь ребенка надо было где-то мыть, тем более что в те годы буквально свирепствовал педикулез, попросту говоря, вшивость. Из-за этого детей тогда стригли наголо.
Со временем, правда, маме удалось решить "банную" проблему: она отправляла меня "в поход за чистотой" с моим школьным приятелем и его отцом, жившими с нами на одной лестничной клетке. С этим мальчиком мы стали учиться в ближайшей школе — № 117, куда я пошел в первый класс в сентябре 1944 года.
Из детских воспоминаний на "гигиеническую" тему у меня от тех лет сохранилась в памяти и другая малоприятная особенность нашей жизни огромное количество клопов и тараканов. Этих тварей было так много, что страшно вспомнить. За время войны всю нашу мебель сожгли — она пошла на дрова в суровые блокадные зимы. Когда мы приехали, то стали как-то обустраиваться в нашей маленькой комнатке. Маме удалось где-то достать плетеный круглый стол, за которым мы обедали и за которым я делал уроки. Так вот его приспособили для себя и другие существа. Помню, как мама, в борениях с ними, поливала этот стол кипятком из чайника, а я потом брал его, легкий, приподнимал и ударял им по полу, чтобы вытряхнуть засевших там мелких тварей…
Мы уже заканчивали первый класс, когда пришла весть о победе. Война закончилась, у моих друзей по двору и по школе стали возвращаться отцы, а моего все не было и не было. Я уже мог писать ему письма, в которых спрашивал, когда же он приедет. Помню, как я страдал от какой-то неполноценности — как же так, у других мальчишек отцы есть, а у меня нет. Но отца не отпускали из Германии, где тогда находились наши войска и где он работал хирургом в госпитале. Он смог вернуться только в конце 1946 года…
Мама работала, я учился и все свободное время проводил с ребятами во дворе. Одним из наших увлечений были коньки. Я прикреплял свои "снегурки" проволокой к валенкам и вместе с другими мальчишками катался сначала во дворе, а потом мы стали выезжать и на улицу, за территорию Академии связи. Город тогда еще не убирали как следует, лед был и на тротуарах, и на проезжей части. Да и уличное движение в опустевшем за годы войны Ленинграде было слабое: машины встречались не слишком часто. Мы все же умудрялись использовать их для своих забав. Дожидались, когда приезжавшие во двор академии машины притормозят у ворот проходной перед тем, как выехать на улицу, цеплялись сзади припасенными для такого случая крюками и лихо катили на коньках по улице.
Любил я кататься и на лыжах. Мне очень нравилось спускаться с какой-нибудь горки в окрестностях. Вскоре я понял, что для того, чтобы лихо съехать с горы зигзагом, нужны короткие лыжи. И очень просто вышел из положения — укоротил свои обычные, длинные лыжи и потом вытворял на них, что хотел.
Еще одной (и довольно небезопасной) мальчишеской забавой тех лет был порох. Мы "добывали" его из патронов, которые находили неподалеку — на месте бывшего склада боеприпасов в районе Гражданского проспекта, или, как говорили все вокруг, на Гражданке. Хотя склад и был взорван во время войны, но в земле еще оставалось немало весьма опасных "игрушек". Помню, как я, чтобы извлечь из гильзы порох, засовывал патрон в замочную скважину и, используя ее как упор, извлекал пулю. Мама очень сердилась: из-за моих манипуляций скважина была так деформирована, что в нее стало трудно вставлять ключ.
Естественно, нам очень хотелось проверить добытый порох в действии. И мы вскоре нашли ему применение. На "задворках" академии, на пустыре, регулярно жгли какие-то бумаги. Приставленный к этому делу солдат складывал, видимо, уже ненужные документы в круглое кольцо, обломок бетонной трубы, и поджигал. И вот мы не нашли ничего лучшего, как насыпать на дно этого кольца пороху, причем довольно много. Ничего не подозревающий солдат, в очередной раз пришедший с кипой бумаг, уложил их как обычно, поджег и стал ждать, когда они прогорят…
Эффект от нашей забавы был ужасающий. Еще слава Богу, что солдату не выбило глаз. Конечно, он все понял — ведь мы постоянно шныряли на пустыре. Несчастный парень бросился за нами, но догнать, естественно, не смог: мы знали в округе все лазейки в заборах.
Но не все найденные патроны мы использовали для добывания пороха. Часть их мы оставляли нетронутыми, чтобы подкладывать на трамвайные рельсы. Мы стояли и ждали, когда появится трамвай, а потом с восторгом слушали, как из-под колес раздавались почти пулеметные очереди.
Хорошо еще, что никто из нас не пострадал от подобных игр с боеприпасами. К сожалению, тогда нередки были случаи, когда не в меру любознательные мальчишки подрывались на гранатах, минах, которые они искали и находили в земле: после войны она была всем этим буквально напичкана.
Конечно, играли мы и в другие, не столь опасные игры, в тех же "казаков-разбойников", или искали таинственные клады, обследуя все ближайшие окрестности. Кладов мы, естественно, никаких не находили, зато находили всяческие железки, которыми набивали свои карманы. Как и положено у мальчишек, у нас были свои группировки, противостоявшие друг другу. Ребята из соперничавших компаний подкарауливали "противников" у лазеек в оградах, которыми все мы пользовались, колотили и отнимали у них мальчишеские "сокровища": гильзы, какие-то железяки, точилки для карандашей…
Как-то в один из вечеров, когда я заканчивал делать уроки и собирался ложиться спать, открылась дверь нашей комнаты и мама буквально втащила на себе какую-то женщину, мне совершенно незнакомую. Оказалось, что, возвращаясь с работы, она наткнулась на нее на улице. Женщина, вероятно, потеряла сознание от голода и наверняка бы замерзла, если бы не мама. Не знаю, как удалось провести эту женщину через проходную, поскольку на территорию академии попасть можно было по пропускам, но только так у нас появилась Лидия Владимировна Бойко, сыгравшая в моей жизни немалую роль.
Когда мама немного подкормила нашу гостью и она через несколько дней окрепла, то не захотела даром есть чужой хлеб и принялась за мое воспитание. И начала с того, что стала обучать меня английскому языку. Оказалось, что Лидия Владимировна до революции училась в знаменитом Смольном институте и прекрасно владела несколькими языками. Она много рассказывала нам о своей прежней жизни, о том, как жила с мужем, каким-то ответственным советским работником, об их путешествии по Волге. Из ее рассказов мне почему-то особенно запомнилась история о том, как в этом путешествии у нее в воду упало жемчужное ожерелье. Что стало с ее мужем, я не запомнил, а может быть, она и не рассказывала нам об этом… Чтобы как-то прожить, Лидия Владимировна продавала остатки своих драгоценностей, а когда продавать стало нечего, ей удавалось подрабатывать преподаванием языков: кроме английского, она знала французский, итальянский… Почему в день нашего знакомства она упала без сознания на улице, я не знаю. Возможно, она голодала оттого, что у нее украли хлебные карточки, а может быть, их у нее просто и не было…
Лидия Владимировна прожила у нас около двух месяцев и все это время разговаривала со мной по-английски. Поначалу я ничего не понимал, но потом дело пошло на лад. Когда она переехала к себе, наши тесные отношения продолжались и я ездил к ней заниматься английским.
Она не только обучала меня языку. Благодаря Лидии Владимировне я полюбил оперный театр. Именно она впервые отвела меня в Мариинский театр (тогда он назывался Театром оперы и балета имени Кирова) на "Щелкунчика", а потом стала водить и на оперные спектакли. Помню, как меня сначала поразил своей красотой макет зрительного зала в кассовом вестибюле театра, а потом я был восхищен и самим залом в серебристо-голубых тонах.
Драматические театры Лидия Владимировна почему-то не любила — туда я стал ходить потом с классом. В основном мы посещали Театр юного зрителя, который в те годы находился на Моховой улице.
Как и все тогдашние мальчишки, я очень любил ходить в кино. Мы с ребятами по многу раз смотрели "Чапаева", "Парня из нашего города", другие фильмы, но выбор их тогда был невелик. И почему-то мы всегда усаживались непременно в первый ряд. Лидия Владимировна со своим изысканным вкусом не признавала кино за искусство, хотя и подрабатывала иногда в массовках на киностудии. Именно от нее я узнал, что человека можно так загримировать, что его не узнаешь на экране. Помню, как меня это удивило.
ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ МИРА
Отец вернулся в Ленинград в конце 1946 года и вскоре стал работать в Военно-медицинской академии на кафедре ортопедии и травматологии. Его пригласил туда начальник кафедры, его друг, с которым они вместе учились. К сожалению, отец еще в Германии попал в автомобильную аварию и ему повредило локтевой сустав правой руки. Хотя он потом и лечил руку, ездил в Крым, в Саки, для лечения грязями, но некоторое время рука не сгибалась полностью и отцу было трудно оперировать. Поэтому он был вынужден уйти с кафедры. Его назначили начальником курса в академии — там было шесть курсов (по числу лет обучения) и на каждом был свой начальник. Мы получили в одном из домов академии квартиру и переехали наконец из нашей 11-метровой комнатки, по сути дела с тогдашней окраины, почти в центр города, к Финляндскому вокзалу. Получилось, что мама вернулась туда, где она родилась и выросла, — на территорию Военно-медицинской академии.
Дом, в который мы переехали, был трехэтажный, старинный, построенный еще до революции. Центрального отопления в нем тогда не было, а в комнатах, в углу, стояли высокие круглые печки, и у всех жильцов во дворе были сараи для дров. В нашем доме был заведен порядок — раз в сутки надо было обязательно топить печки. Я помогал маме и тоже ходил в сарай за дровами, вязанки которых таскал не в руках, а за спиной. Для этого я брал с собой веревку, перевязывал поленья и старался взять их побольше. До дома было довольно далеко, и от тяжести я шатался, но терпел, чтобы не идти за очередной вязанкой еще раз…
Помню, что тогда очень многие ленинградские дома отапливались именно так. На старинных зданиях и до сих пор сохранились трубы от прежних печек. Когда в такие дома провели паровое отопление, а потом и газ, это была целая революция в быту. И сразу стало заметно, как изменился цвет снега в городе. Когда ленинградские дома "дымили", снег от этого за зиму становился черным, когда же провели газ, он стал намного чище. Мы видели это в нашем большом парке при академии, где бегали, играли, катались на лыжах. После того как в городе и жилые дома, и промышленные предприятия постепенно переходили на газ, снег становился светлее. По-настоящему белым он стать, естественно, не мог, поскольку Ленинград — город промышленный.
И в нашем, и в соседних домах тоже жили работники Военно-медицинской академии, и среди них было немало выдающихся людей. Нашими соседями были знаменитый отоларинголог В.И.Волчек, академики Е.Н.Павловский, крупный паразитолог, и физиолог Леон Абгарович Орбели, брат знаменитого ученого, директора Эрмитажа, академика Иосифа Абгаровича Орбели…
Мы жили открытым домом, и в нашей квартире постоянно собирались многочисленные друзья отца. С одними он воевал, с другими в свое время учился в академии, и эти однокашники на всю жизнь сохранили студенческую дружбу. Среди гостей нашего дома был генерал Теребин, одно время работавший в Китае медицинским советником. Приходил к нам и Ювеналий Михайлович Волынкин, который впоследствии много помогал мне, когда я уже закончил академию…
Гости собирались у нас часто, время проводили весело, разговоры были самые разнообразные. Помню, как на этих вечерах отец очень хорошо пел. Все любили отмечать у нас праздники: собирались и на Новый год, и на 7 ноября… Этому всегда предшествовало приятное предпраздничное оживление. Заранее обсуждали, кто что купит к столу, какую часть забот каждый возьмет на себя.
Среди друзей отца, который был заядлым охотником, имелось немало людей, разделявших это его увлечение. Он и меня хотел приобщить к охоте, даже купил маленькое ружье, но охотника из меня так и не вышло. Зато я страстно любил собак. Помню, как у меня появилась моя первая собака.
Отец тогда только-только вернулся из Германии в Ленинград и сразу же решил посетить могилу Володи. Я тоже пошел с ним на Богословское кладбище. Возвращались мы через существовавшее тогда огромное поле, выходившее к Гражданскому проспекту, и увидели каких-то ребят, которые вели с собой собаку. Я только взглянул на нее, как сразу же попросил отца купить ее у них. Видимо, в моем голосе было что-то такое, что отец посмотрел на меня внимательно и сказал: "Ну что ж, давай попробуем". Обратившись к самому взрослому из ребят, он спросил: "Как зовут твою собаку?" — "Альма". "Может, не Альма, а Мушка?" — "Нет, Альма…" Отец еще о чем-то поговорил с парнем, и я оказался владельцем именно Мушки.
Хотя мы привели собаку в нашу маленькую комнатку, мама спокойно отреагировала на такой сюрприз. Я же приобрел среди ребят во дворе невероятный авторитет — как же, собственная собака, сторожевой пес (хотя Мушка была еще совсем молодая, ей не было, наверное, и года).
Папа стал показывать мне, как надо дрессировать собаку, учить ее выполнять разные команды, и я с большим удовольствием занимался этим. Не помню, при каких обстоятельствах моя Мушка исчезла, возможно, убежала гулять и не вернулась. Но вскоре у нас появились другие собаки, настоящие, охотничьи. В основном это были пойнтеры. Отец дружил с профессором Витольдом Марцельевичем Новодворским, тоже страстным охотником. Профессор держал у себя пойнтеров и подарил отцу двух из них. Первый пойнтер куда-то потом исчез, и осталась только Фада. Эта собака прожила у нас много лет до конца своих дней. Фада была хорошего экстерьера, и мама даже повезла ее на какую-то выставку в Москву. Там Фада заразилась чумкой, ее парализовало. Мы выносили ее погулять во двор на руках. Вылечить собаку не удалось, и когда ее пришлось усыпить, я горевал очень сильно, хотя уже заканчивал академию, был взрослым человеком…
Когда мы переехали к Финляндскому вокзалу, я перешел учиться в другую школу. Наша 107-я школа до революции была 10-й мужской гимназией. Кстати, и наша школа была мужской. В 1944 году у нас в стране было введено раздельное обучение: появились женские и мужские школы (по крайней мере, в больших городах). И потом все десять лет я учился только с мальчишками. Эксперимент по раздельному обучению закончился именно на нас — в 1954 году школы снова стали смешанными.
В свое время в 10-й мужской гимназии, находившейся рядом с Военно-медицинской академией, учился мой дядя Петя, брат мамы. Мама же училась в женской гимназии, неподалеку от Финляндского вокзала. И это соседство имело отношение к интересному факту из маминой жизни. Она рассказывала мне, как вместе со своим учителем в апреле 1917 года они ходили на вокзал встречать Ленина, приехавшего тогда в Петроград из эмиграции. Мама вспоминала, как они прятались под большими чугунными скамейками, стоявшими в нишах на Литейном мосту, поскольку казаки разгоняли толпу, собравшуюся на площади. Дедушка ругал маму за то, что она пошла к вокзалу, на что благовоспитанная и послушная гимназистка отвечала: "Но ведь учитель сказал нам, что мы должны идти встречать Ленина". Так что получается, что мама была среди тех, кто видел Ленина. (Одно время таких людей приводили на пионерские сборы, чтобы рассказывать юным ленинцам о том, что они помнили. А может, и не помнили…)
Школа наша была удивительная. В ней еще сохранялись некоторые приметы былой гимназической жизни. Но главное, в школе был великолепный актовый зал, и директор часто приглашал к нам известных людей. Помню, как у нас выступал композитор В.И.Соловьев-Седой. Приглашен был к нам и мальчик исполнитель главной роли нахимовца Сережи Столицына в очень популярном тогда, особенно среди ребят, кинофильме "Счастливого плаванья". Именно в этом фильме пели очень хорошую песню: "Солнышко светит ясное. Здравствуй, страна прекрасная! Юные нахимовцы тебе шлют привет…" Она тогда часто звучала по радио, и ее распевали по всей стране.
Мы, собравшиеся в зале, сидели и ждали, когда же наш гость начнет петь полюбившуюся всем песню, тем более что в фильме он пел ее очень хорошо, звонким голосом. Но нам не сказали, что там песню пел совсем другой мальчик. Правда, каким-то образом мы об этом узнали сами и были очень разочарованы. Наш идеал рухнул. Тем более не понравилось нам, что мальчик-артист оказался весьма упитанным, совсем непохожим на того сироту-нахимовца, которому мы сочувствовали и которым восхищались в фильме.
Вспоминая сейчас свой класс, могу сказать, что были мы форменными разбойниками, особенно когда учились в 5-6-м классах. В те послевоенные годы в школу вернулись учиться мальчишки-переростки, чью учебу прервала война. Были такие взрослые ребята и у нас в классе. Конечно, они были заводилами, и мы вытворяли такое, что сейчас и вспомнить стыдно, хулиганили отчаянно. И при этом учились.
Должен сказать, что с учителями нам повезло. Особенно с преподавателем литературы. Ее у нас вела мать будущих писателей — Александра Ивановна Стругацкая, замечательная женщина, настоящая русская красавица с косой. Младший из ее сыновей, Борис, учился в нашей школе, класса на три старше нас. Я помню его еще мальчишкой.
Именно Александра Ивановна привила нам любовь к своему предмету. Раньше, до ее появления, я заведомо не хотел читать того, что было положено по школьной программе. Но с ее приходом у меня появился интерес к литературе. Я стал много и увлеченно читать. Естественно, среди любимых мною книг был Жюль Верн — сначала я прочитал "Таинственный остров", а потом все, что мог найти из других его произведений. Конечно, прочел я и "Робинзона Крузо" Даниеля Дефо. Но особенно потряс меня Дюма — его "Трех мушкетеров" я люблю до сих пор.
Однажды у кого-то в руках я случайно увидел "Графа Монте-Кристо" и, пока хозяин книги то ли отвлекся, то ли вышел, начал читать. С первых же страниц я так был захвачен сюжетом, что потом стал судорожно искать, у кого бы найти эту книгу, взять домой и прочитать. Ни у кого из наших знакомых ее не оказалось, но кто-то посоветовал мне пойти в читальный зал. Я тогда даже и не подозревал, что есть такое учреждение. Библиотека с читальным залом находилась на Кондратьевском проспекте, около кинотеатра "Гигант". И вот я не ленился ездить туда, записывался в очередь, приходил в читальный зал и терпеливо дожидался, когда предыдущий читатель освободит книгу, которую выдавали каждому на час-два.
Моему увлечению чтением способствовали мама и отец, которые сами любили читать. Они не раз дарили мне книги на день рождения. Задолго до этого дня я сгорал от любопытства и постоянно спрашивал: "Папа, а что ты мне подаришь?" — "Я подарю тебе нечто зеленое, каменное…" Я изводился, теряясь в догадках: что же это такое? Представлял себе что-то из малахита, каменное, зеленое. Потом придумывал еще что-нибудь… Кончилось тем, что отец подарил мне трехтомник "Каменный пояс" — известную книгу Евгения Федорова про Урал, про Демидовых.
Хотя родители и ругали меня постоянно, что я читаю, лежа в постели (папа говорил, что у меня сместятся зрительные оси), но я уже не мог отвыкнуть от этого. И по сей день у меня сохранилась привычка читать перед сном. Я очень полюбил книги Паустовского, особенно мне нравились его повести о художниках. Прочитав о жизни Гогена, я потом увидел его картины в Эрмитаже, когда уже во времена хрущевской "оттепели" произведения импрессионистов впервые после долгих лет были там выставлены. Помню, как они потрясли меня, и я стал мечтать о том, как было бы хорошо попасть на Таити. (Я все-таки попал туда год тому назад.)
Потом я открыл для себя Александра Грина, а когда во времена "оттепели" стало издаваться все больше настоящей литературы, появилась возможность читать Есенина, Бунина…
Во многом способствовала моему увлечению книгами и жена моего дяди Пети, Любовь Федоровна, которую в семье все почему-то звали Люсей. Тетю Люсю я запомнил всегда читающей. Мне казалось, что она знает о литературе все. Видимо, это у нее было наследственное: ее отец когда-то был владельцем букинистического магазина. На меня ее знания о книгах производили большое впечатление: о чем бы я ее ни спрашивал, какую бы книгу ни называл, оказывалось, что она ее или прочитала, или знает о ней. Конечно, я брал у нее много книг. При этом она строго следила за тем, что я выбираю в ее домашней библиотеке. Иногда тетя Люся говорила назидательно: "Нет, это тебе еще рано читать. Возьми лучше эту книгу".
Ее мужа, дядю Петю, я очень любил. Дядя был очень одаренный человек. Как и его отец и сестра, он был связан с медициной — работал в Военно-медицинской академии. Хотя он стал врачом, но был мастером на все руки: мог починить обувь, смастерить какие-то приспособления для рыбалки казалось, что он может сделать все. В их квартире большая ванная комната была превращена в настоящую мастерскую.
Дядя Петя с семьей жил рядом с нами, в одном дворе. Здесь же жила и мамина сестра Женя, красивая, очень похожая на знаменитую немецкую кинозвезду Марику Рокк. После войны тетя Женя с мужем долго жила в Германии и, видимо, усвоила там стиль этой кинозвезды. Удивительно, но все это — и одежда, и прическа, — было у тети Жени естественно и гармонично сочеталось с ее яркой внешностью. Так же со вкусом она одевала и своего сына, моего двоюродного брата Леню. Светловолосый, с вьющимися локонами, в красном беретике, он был похож на ангелочка. Я тоже был светловолосый, но с прямыми вихрами, и чувствовал, что бабушка Леньку любит больше, чем меня. Хотя и меня она, бесспорно, любила тоже. Но бабушка Пелагея Ивановна, которую мы почему-то звали Бутя, жила вместе с тетей Женей и привыкла к Леньке больше, чем ко мне. Кроме того, он был моложе меня на два года.
А я на правах старшего иногда позволял себе показывать бабушкиному любимчику, кто из нас главнее. Поскольку вся наша большая семья жила на территории академии, то, когда взрослые уходили куда-нибудь, в гости или в театр, Леньку оставляли со мной, чтобы я за ним присматривал. Когда нам надо было ложиться спать, он просил меня не гасить свет, так как боялся темноты. А мне это казалось странным: как это так? спать при свете? Разговор между нами заканчивался просто — я давал Леньке подзатыльник, чтобы он не ныл: "Боюсь!" Сам я при свете спать не любил…
Постепенно наша жизнь нормализовывалась, явственно чувствовалось, что дело идет к лучшему. Отец работал в академии, мама стала работать медсестрой в детском саду, и, когда на лето детский сад выезжал на дачу, в Юкки, я тоже уезжал из города вместе с ними, хотя уже учился в школе. Потом меня, как и других ребят, стали отправлять отдыхать в пионерские лагеря.
Ездил я и в другие, "взрослые" лагеря. В те годы слушатели Военно-медицинской академии проводили летние месяцы под Ленинградом, в Красном Селе. Здесь еще со времен Александра I было отведено место для летних военных лагерей, где проходили полевые учения. В них принимали участие разные рода войск, в том числе и военные медики.
В наше время там стояли деревянные домики, где размещалось начальство, а слушатели академии жили в палатках. Это был настоящий военный лагерь, где в полевых условиях продолжалась учеба. Слушатели на практике усваивали все сложности военно-полевой медицины, учились медицинскому обеспечению войск.
Отец брал меня с собой в эти лагеря. Я присутствовал (конечно, как зритель) на всех торжественных построениях, но зато был "участником" военных учений: бегал со слушателями кроссы. Ходил с ними в столовую. Знал все их песни, с которыми они маршировали: "Взвейтесь, соколы, орлами" или "Несокрушимая и легендарная"… Помню, как повсюду на территории лагеря висели плакаты и призывы в духе тех лет: "Не болтай у телефона: болтун находка для шпиона" или "Враг силен, в нем звериная злоба. Смотри в оба!"
Отец был занят с утра до вечера, поэтому я весь день проводил со слушателями, которые меня хорошо знали: я часто бывал у отца на работе. Потом, когда я сам стал учиться в академии, некоторые из них помогали мне и в занятиях наукой, и просто в жизни.
Около Красного Села находились знаменитые Дудергофские высоты с их Вороньей горой, с которой во время блокады гитлеровцы обстреливали Ленинград. Я не раз забирался на эту гору, представлял себе, как все это было: ведь времени со дня окончания войны прошло не слишком много. Запомнил я и еще одну достопримечательность тех мест: на территории лагеря находился (и сохранился до сих пор) огромный камень.
На нем было выбито: "Прохожий, остановись! Береги сад". Не помню точно, но кажется, там были также начертаны слова, что здесь стоял Его Императорского Величества лейб-гвардии гусарский полк… Это было свидетельство того, что за полтора века до нас здесь располагались лагерем солдаты времен Александра I… Так что традиции сохранялись…
Со временем мы стали выезжать на отдых все дальше от Ленинграда. Два года подряд мы ездили с отцом и мамой в Псковскую область. Там, в Гдовском районе, совсем рядом с Чудским озером, в деревеньке Какол мы останавливались в доме у одной женщины. Ее звали Кристина, я называл ее тетя Кристя.
Изба тети Кристи была обычной русской рубленой избой. Рядом с ней стоял хлев с домашними животными. Естественно, что от такого соседства были и соответствующие запахи. Но мне запомнился другой — запах свежеиспеченного хлеба, который тетя Кристя сажала в печь и выпекала. В избе мы только обедали или ужинали, а ночевали на сеновале, на мягком душистом сене.
Отец неспроста выбрал для отдыха именно эти места: здесь была прекрасная охота. Я ходил с ним в окрестные леса, но в основном проводил время с деревенскими ребятами. Мы купались в речке, которая протекала около деревни. Вода в ней была с каким-то буроватым оттенком — видимо, из-за торфяников, среди которых она текла. Особенно мне нравилось ловить раков. Как и местные мальчишки, я приспособил для этого маленькую сеточку, в которую помещал лягушку и опускал в воду. Раки "нацеливались" на эту лягушку и сразу же попадали в наши руки.
После весеннего половодья около речки оставались маленькие озерца. Я сооружал небольшой плот, брал с собой собаку и плавал по этим озерцам и даже по речке. Деревенская жизнь для меня, городского мальчишки, была очень интересной. Я ходил с пастухами пасти местное стадо, научился щелкать большим пастушеским кнутом. Мало того — научился плести его из волокон конопли. Помню, что даже привез в Ленинград один такой кнут.
Учился я ездить и на лошадях — без седла, конечно. И очень быстро сообразил, что лучше всего скакать на лошади галопом, а не идти рысью: так легче удержаться, поскольку нет тряски. Бывал я и на сенокосе, на жатве. Я впервые увидел, как женщины жали рожь серпами, вязали снопы, свозили их для просушки в специальный сарай — ригу.
Бегая с ребятами по деревне и ее окрестностям, я мог наблюдать и обычную жизнь людей, видел, как они устраивали небольшие праздники "посиделки", на которые собирались жители соседних деревень. Играл местный гармонист, женщины пели частушки или выходили танцевать кадриль. Мы, мальчишки, устраивались на завалинке и смотрели на эти забавы взрослых.
Конечно, жизнь этих людей, как я теперь понимаю, была очень убогой, очень бедной. В Каколе был небольшой колхоз, но хозяйство было почти натуральным. Об электричестве не имели представления. Денег колхозникам не платили, а расплачивались за их труд "палочками", трудоднями, на которые выдавали "натуру" — кое-какие сельские продукты. Потом только я узнал, что у жителей деревни на руках не было тогда даже паспортов и лишь при Хрущеве их стали выдавать колхозникам, чтобы они могли свободно покидать свои нищие деревни. Так что те небольшие деньги, которые отец платил тете Кристе за то, что она нас приютила, были для нее подмогой.
Много позже, когда я стал читать Некрасова, то почти зрительно представлял себе ту крестьянскую жизнь, которую он описывал, — ведь я видел ее в натуральном виде в Каколе. Жизнь там и в 40-50-х годах нашего столетия оставалась такой же, как при Некрасове. Время как будто не коснулось этой деревни, да и многих других. Одежда жителей Какола была словно из времен крепостного права. Рубахи были из домотканого полотна. На ногах летом носили лапти, онучи и странную (на мой тогдашний взгляд) обувь — "поршни", как называли ее сами колхозники. Это были самодельные, сделанные из куска домашней кожи даже не сапоги, не тапки, а что-то напоминающее индейские мокасины.
Я видел, как жители этой псковской деревеньки ели. Они всей семьей садились за стол вокруг огромного горшка или миски и хлебали из нее деревянными ложками. Никаких тебе индивидуальных плошек. То ли это было следование многовековым традициям трапезы, то ли просто безысходная бедность, ставшая еще более страшной вследствие войны, когда было разрушено даже то немногое, что имелось у крестьян.
Но тогда я, подросток 11–12 лет, не понимал причин такой жизни и вряд ли задумывался над тем, какова она. Мне было все интересно и даже нравилось жить в Каколе. Их пища, особенно приготовленная в русской печке, казалась мне удивительно вкусной. Я до сих пор люблю нормальную, натуральную еду. Я, например, знаю, что такое овсяный кисель, который готовили жители Какола. А вот моя внучка даже не представляет, что это такое.
Помню, как в деревне в очень маленькой и бедной избенке жил какой-то дед. И у него были ульи, причем не привычные нам домики из досок, а самые натуральные колоды, изготовленные по технологии чуть ли не времен Киевской Руси. Я запомнил, как он окуривал своих пчел, как потом собирал мед и угощал меня им. И мне очень нравилось его угощение.
Естественно, что там, в Каколе, я набирался не только свежего воздуха, но и "свежего" деревенского словесного фольклора. И не только его — за лето я привыкал к особому, псковскому выговору и, возвращаясь в Ленинград, должен был чуть ли не переучиваться говорить на нормальном русском языке, отвыкая от "чоканья": крыльчо, чапля, пальчами…
Конечно, воспоминания тех лет окрашены у меня в розовые тона. Это совершенно естественно, ведь это воспоминания детства. Я не мог понимать в полной мере трудностей тогдашней жизни, а был счастлив: родители со мной, друзей много… Что еще нужно ребенку для этого ощущения?
Когда мне было уже лет тринадцать, я впервые увидел свою другую бабушку, Анну Ивановну Сенкевич, познакомился со своими тетками, сестрами отца. Мы с мамой поехали на лето в Одессу, где все они жили, и остановились у родственников в какой-то огромной коммунальной квартире на улице Красной Армии (Пантелеймоновской). Бабушка жила на Пушкинской, в самом центре Одессы, и мы ходили к ней в гости. Мой двоюродный брат Володя показал мне море, и я впервые увидел эту необыкновенную красоту, эту огромную бирюзовую чашу. Мы ходили купаться на пляж в Отрадном, и я никак не хотел вылезать из воды. Мне запомнилось огромное количество маленьких лодочек, небольших парусников, я увидел знаменитые шаланды. За всеми этими необыкновенными для меня впечатлениями я не мог знать о той драматической ситуации, которая была в семье бабушки и которую от меня скрывали.
И здесь надо рассказать о трагической странице в биографии моего отца, о том, в чем он так и не решился признаться мне до самой своей смерти. Однажды я увидел, как отец заполняет какую-то анкету, и мне захотелось прочитать, что же в ней написано. В графе "Отец" стояло примерно следующее: "Осип Георгиевич Сенкевич, из рабочих, скончался от хронического алкоголизма в таком-то году…"
На самом же деле прочитанная мною запись в анкете не имела к моему деду никакого отношения, а была вынужденной мерой, поскольку происхождение от люмпена или пропойцы считалось самым благонадежным в эпоху диктатуры пролетариата.
Мой дед Осип Георгиевич вовсе не умер в каком-то там году, никогда не был алкоголиком, а был очень состоятельным человеком и до революции имел на Украине свое поместье и большой собственный дом в Киеве, на Подоле. Шестеро его детей учились в гимназии. Когда после революции 1917 года началась "экспроприация экспроприаторов", дед лишился своего состояния и, чтобы содержать семью, в которой были еще не вставшие на ноги дети, стал преподавать в одной из киевских школ французский язык и музыку. Но в те неспокойные, смутные времена французским языком и музыкой прокормиться было нельзя, и вскоре стало ясно, что семья долго так не протянет.
И тогда родственники со стороны бабушки Анны Ивановны, происходившей из семьи священнослужителей Дыбенко, посоветовали деду: "Иди в священники. Ты человек хорошо образованный…" Он так и сделал. Конечно, ему составили протекцию, просто так ему бы это не удалось. Дед с семьей уехал в Измаил, где получил приход. Потом уже семья перебралась в Одессу.
У деда было два сына и четыре дочери. Сыновья — мой отец и мой дядя уехали в Ленинград, где отец поступил на рабфак, а потом в Военно-медицинскую академию. Но чтобы иметь право учиться на рабочем факультете, надо было иметь соответствующее происхождение. И тогда муж старшей сестры отца, юрист, посоветовал ему писать в анкетах то, что потом, через много лет, я прочитал в одной из них. Не последуй отец совету своего родственника, вряд ли ему, сыну помещика, да еще ставшего священником, удалось бы получить образование, а потом и работу по специальности. Так отцу, принимая во внимание обстановку в стране в те годы, приходилось скрывать, что его отец жив. Скрывали это и от меня.
Но связи с родными отец не порывал. Он ездил в Одессу, встречался с родителями, сестрами, посылал деньги. И моя мама знала, что надо регулярно отослать в Одессу какую-то сумму. Но со мной отец никогда не заговаривал о деде. Я даже не знал, как он выглядит. Однажды мне попалась в руки фотография, на которой были бабушка, отец и какой-то представительного вида бородатый мужчина. Я спросил: "А кто этот бородатый дед?" — "Да так, один знакомый…"
Хотя отец и скрывал от всех свое происхождение, но иногда это обнаруживалось в самых неожиданных случаях. Помню, что когда мы гуляли с ним по Ленинграду и заходили в Исаакиевский собор, то меня поражало, как подробно и интересно рассказывает он о сюжетах росписей на библейские темы. Я спросил его однажды, откуда он все это знает. Отец ответил: "Этому нас учили в школе. Давно…"
Много позже, уже после смерти отца, когда ко мне приехал в гости двоюродный брат Володя, я узнал от него в подробностях трагическую ситуацию с дедом и отцом, который так и не решился рассказать мне обо всем, хотя времена были уже совсем другие и ему ничто не грозило. Может, он оберегал мою судьбу, а может, это был страх, въевшийся в души тех, кто пережил страшные годы репрессий? Не знаю… Не мне судить…
Мы с Володей сидели у нас на даче, разговаривали, и я спросил брата:
— А ведь у нас с тобой общий дед. Кем он был?
И тут Володя поведал мне многое о том, что пришлось пережить деду Осипу.
— Он был потрясающий мужик! И знаешь как он тебя любил!
— Как же он мог меня любить, если давно умер?
— Нет, он тебя видел. Когда вы приезжали в Одессу, он подглядывал за тобой в щелочку. Ему нельзя было к тебе подойти. А ведь ты единственный из внуков продолжатель его фамилии…
Могу себе представить, что приходилось переживать деду Осипу в те дни, когда он не мог даже приласкать внука, находившегося от него в нескольких шагах, в соседней комнате! Внука, носившего его фамилию: у брата отца были только девочки, а внуки от дочерей носили другие фамилии.
Кстати, одна из моих одесских тетушек носила по мужу фамилию Сырых, я же в шутку называл ее Вареных. Я очень любил, когда тетя Лена приезжала к нам: сразу брал ее в плен и заставлял рассказывать разные истории про Одессу и тамошнюю жизнь. У тети Лены было удивительное чувство юмора, а говорила она, как все одесситы. Меня это страшно забавляло. Ее особый выговор очень колоритно выделялся на фоне рафинированного русского языка ленинградцев, точнее сказать, языка старых петербуржцев. С подачи тети Лены Одесса для меня была почти загадочным, непонятным миром, где происходит бог знает что: какие-то бандиты с Молдаванки, биндюжники, Привоз, Пересыпь… Мы тогда еще не могли читать "Одесские рассказы" Бабеля, поскольку произведения репрессированного писателя были под запретом, и я узнал об особенностях одесской жизни именно от тети Лены. Потом ее дочь Нина, которая была старше меня, приехала учиться в Ленинград и часто брала меня с собой в театры.
В те годы люди словно старались наверстать упущенное после тяжелых лет войны и лишений. Помню, как много работало разных кружков, поощрялась художественная самодеятельность. И в нашей школе стал работать драматический кружок: мы инсценировали рассказы Чехова "Хирургия" и "Хамелеон", выступали с ними на школьных вечерах. И подражали при этом настоящим актерам, особенно знаменитому Алексею Грибову. Я до сих пор помню фразы из своей роли: "Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас, как жарко!" или "Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит…"
Особенно распространены были тогда кружки бальных танцев. Помню, как мы ходили туда и страшно стеснялись, когда надо было подавать девочке в паре руку. Школа у нас была мужская, с девочками мы почти не общались, а интерес к ним уже стал появляться. В старших классах мы организовывали школьные вечера, на которые приглашали девочек из ближайших женских школ, а они приглашали нас на свои вечера. Конечно, все мы начинали влюбляться, изо всех сил изображали из себя взрослых, вели "мужские" разговоры.
В школе было интересно. Помимо вечеров, кружков, учителя старались расширять наш кругозор тем, что водили нас по прекрасным ленинградским музеям. Мы посещали Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамеру. Но особенно нравилось мне ходить в Центральный Военно-морской музей в здании бывшей Биржи, на Стрелке Васильевского острова. Я до сих пор люблю и помню увиденные там модели кораблей.
Не могу сказать, что я был отличником, но учился хорошо, легко усваивал предметы. Хотя иногда бывали сложности с точными науками алгеброй, тригонометрией. И, как это ни покажется странным, у меня были проблемы с английской грамматикой. Поскольку в результате занятий с Лидией Владимировной я шел по английскому языку как бы с опережением школьной программы — легко писал, читал, говорил, то я на этом "выезжал". А учительница никак не могла понять — как же это так, грамматики не знает, а говорит свободно. Больше того, я ее иногда еще и поправлял, что уж никак ей не нравилось и создавало для меня дополнительные сложности. Тогда обучение иностранному языку в школах сводилось в основном к изучению грамматики, а разговорному нас по-настоящему и не учили. Мы проходили всякие герундии, а объясняться свободно не могли. Я же спокойно говорил на языке, не подозревая, что пользуюсь при этом каким-то там герундием. Совсем как известный персонаж из мольеровского "Мещанина во дворянстве", который не подозревал, что всю жизнь говорит прозой.
Кроме грамматики, школьная учительница придиралась к моему произношению, что вызывало возмущение Лидии Владимировны, у которой был классический английский язык. Она обвиняла школьных учителей молодого поколения в "американизмах", говорила, что у них не английский, а бог знает что. Как бы то ни было, но для своего возраста и развития я говорил на языке свободно и у меня в общении с Лидией Владимировной не было никаких проблем. Она вообще перестала говорить со мной по-русски, и мне это даже стало нравиться: никто вокруг не понимал, о чем мы с ней разговариваем.
Через какое-то время Лидия Владимировна перестала учить меня английскому и попыталась обучить французскому. Но мне почему-то не понравилось грассировать, не понравилось говорить в нос, вообще не нравилась мелодика языка. Хотя французский язык очень красивый, очень мелодичный, занятия у нас не заладились. Видимо, я стал старше, не хотел делать что-то для себя неестественное. Сыграло роль и то, что у меня тогда появились уже совсем другие интересы, другие увлечения.
В нашей 107-й школе от прежней гимназии сохранился не только великолепный актовый зал, но и потрясающая библиотека, где оставались даже подшивки старых журналов, в их числе и знаменитой "Нивы". Я стал все чаще пропадать в библиотеке, читать, а потом, заинтересовавшись техникой, стал выискивать в подшивках журнала "Знание — сила" статьи об автомобилях, мотоциклах, самолетах-амфибиях…
Интерес к технике привел меня в Дом пионера и школьника — ДПШ, что мы расшифровывали по-своему: Дом подрастающей шпаны. Там я записался в кружок, где можно было что-то вырезать, выпиливать, слесарить. Мне очень понравилось делать ножи из железного полотна пилы-ножовки. Потом я записался в авиамодельный кружок — тогда это было увлечением многих мальчишек. Мы делали из бамбуковых планочек модели самолетов, оклеивали их тонкой папиросной бумагой.
Но стоило мне что-то освоить, как сразу становилось неинтересно. Сделал несколько ножей — и пропал интерес к этому делу. Сделал модель самолета, которая у меня еще и не полетела, и ушел из кружка.
Как-то, проходя по коридору ДПШ, я услышал за одной из дверей звуки музыки. Заглянул. Смотрю — ребята играют на балалайках и домрах. Среди них была и девочка, которая играла на крошечной домре. Меня это так заинтересовало, что я тут же решил: буду заниматься музыкой. К моей просьбе купить инструмент отец отнесся внимательно, и мы пошли покупать мне домру. В магазине были инструменты разного размера, но я выбрал себе, конечно же, самую маленькую.
Я стал заниматься в музыкальном кружке, ходил с постоянно сломанными ногтями, хотя и пользовался при игре медиатором. Но, научившись немного играть, я вскоре охладел и к музыке, забросил свою домру… Точнее было бы сказать, что я потерял интерес не к самой музыке, а к собственному исполнению ее. Хорошую музыку я любил еще со времен наших посещений оперных спектаклей в Мариинке, куда меня водила Лидия Владимировна. Кроме того, музыкой серьезно увлекался один из моих друзей, Слава Пожлаков.
Я дружил со многими ребятами, но самыми близкими моими друзьями были двое — Слава и Володя Федорович. Со Славой мы были соседями, жили рядом, поскольку его мама работала в академии — она была специалистом по физиотерапии. С Володей Федоровичем мы сидели за одной партой, предпочитая "Камчатку". Слава обычно сидел за соседней. Для того чтобы выручать друг друга во время ответов у доски, у нас была разработана целая система подсказок, язык жестов. Помню, если меня вызывали, Володя Федорович, сидя на нашей последней парте, брал в руки учебник и начинал беззвучно его читать, отчетливо артикулируя губами. Понять то, что он читал, мне было нетрудно. И я отвечал — правильно, но замедленно. Учителей это удивляло: "Сенкевич, почему ты говоришь медленно? Материал знаешь, но отвечаешь как-то неуверенно…"
Володя был замечательный парень, хорошо рисовал, мечтал стать архитектором (и потом стал им). Он всерьез интересовался зодчеством, знал знаменитые здания Ленинграда, носил нам книги по искусству. Мы часто гуляли с ним по городу, и он рассказывал нам: "Этот дворец построил Росси, Мраморный дворец построил Ринальди. А этот собор построил Воронихин…" Знал он много, и наш прекрасный город был для него зримой книгой по истории архитектуры.
Как и Володя, я стал читать книги по искусству, стал ходить в Эрмитаж не только с классом, но по собственной инициативе. Я уже хорошо ориентировался там, знал, что такое Малый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр…
А под влиянием Славы Пожлакова у меня расширялось представление о самых разных жанрах музыки. Слава был необыкновенно одарен, ходил в музыкальную школу, прекрасно играл на аккордеоне. Потом стал играть на саксофоне — редком тогда у нас в стране инструменте, почему-то считавшемся атрибутом "западной буржуазной культуры". Он играл в небольших джазовых ансамблях, но это было уже после смерти Сталина, когда в нашей жизни начались некоторые изменения.
Помню, что творилось, когда умер Сталин. Мы учились тогда в 9-м классе. И вот вполне взрослые ребята сидели за партами и все до одного плакали. Учителей в классе с нами не было, но никто никуда не выходил. Потом наиболее отчаянные из ребят решили поехать в Москву, чтобы попасть в Колонный зал, где был установлен гроб с телом Сталина. Они добирались до Москвы с какими-то приключениями, ехали в тамбурах, и когда возвращались обратно, тоже без трудностей не обошлось.
Вернувшись, ребята рассказывали страшные истории о том, что творилось в те дни в центре Москвы, как в невероятной давке, в многокилометровых очередях гибли люди. Ребята рассказали, как сами они пробирались к Колонному залу по крышам близлежащих домов, как чудом не свалились с большой высоты…
В те дни почти всем в стране казалось, что мир рухнул, жизнь остановилась, и неизвестно, как жить дальше. Если так думали большинство взрослых, то что говорить о нас, подростках. Мне трудно сейчас судить, горевали ли мы осознанно или подражали взрослым, чувствуя окружавшую нас атмосферу всеобщей подавленности и растерянности. Но то, что все мы были под прессом многолетней и целенаправленной пропаганды, несомненно. Даже у нас в доме висел портрет Сталина, хотя не знаю, зачем он был нужен отцу. Может быть, для самосохранения? Не мне судить об этом… Ясно одно психологический прессинг, создание культа вождя сделали свое дело.
Помню, как в 1949 году, когда отмечалось 70-летие Сталина, одного из учеников нашей школы, отличника из отличников, по фамилии Кудрявцев, выбрали, чтобы он в группе детей из Ленинграда преподнес вождю всех народов и лучшему другу советских детей цветы и поздравление. Потом, когда он вернулся из Москвы и рассказывал в нашем зале всей школе о том, как он видел Сталина, как они подошли к столу президиума, за которым сидели члены правительства, как преподнесли цветы, как Сталин погладил кого-то из ребят по голове, мы, слушавшие это с умилением, завидовали суперотличнику и суперсчастливчику со страшной силой…
В школьные годы я не был крупным ребенком и долго выглядел моложе своих лет. И только после 8-го класса вдруг стал расти и вымахал за лето сантиметров на десять. И вот однажды моя "моложавость", слишком детское лицо подвели меня. Слава Пожлаков очень любил ходить в Театр музыкальной комедии. Знал чуть ли не всех его актеров, у него даже было расписание спектаклей на каждую неделю. Помню, как он отмечал: "Сегодня идет "Свадьба в Малиновке". Ее я видел. А завтра идет "Дьявольский наездник". Пойдешь со мной?"
Мы пошли с ним на вечерний спектакль. Внешне Слава выглядел старше своих лет, был выше меня ростом. А я… И вот при входе в театр его пропускают, а меня нет: "Куда ты, мальчик? Дети до шестнадцати лет на вечерние спектакли не допускаются". Что делать? Мне действительно не было еще шестнадцати. Пошли со Славой к администратору театра. Тот выслушал нас и спросил:
— И все же сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— Ну вот, если бы ты мне не врал, я бы разрешил тебя пропустить. А поскольку врешь… Выписываю тебе контрамарку на утренний спектакль в воскресенье вместо твоего сегодняшнего билета. Приходи.
— А как же сегодня? Ведь мой друг…
— Врать не надо!
Этот урок я запомнил на всю жизнь, хотя обиделся тогда страшно и, раздосадованный, побрел домой. Правда, с компенсацией в виде контрамарки. Слава, конечно, потом долго надо мной подтрунивал: "Ты, малолетка…"
ШЕСТЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛЕТ
Школу я окончил в 1954 году, и вопроса о выборе профессии для меня не возникло: я знал, что буду поступать в Военно-медицинскую академию. К этому я был подготовлен всей предыдущей жизнью, потому что вырос среди медиков, с детства вращался в кругу сотрудников и слушателей академии. Отец водил меня еще мальчишкой в анатомичку, и, хотя поначалу мне было страшновато видеть трупы, потом я привык к этому — ведь у детей страх перед смертью не столь осознан, как у взрослых.
Теперь-то я понимаю, что отец заранее готовил меня к будущей профессии. Он не только рассказывал мне о великих хирургах XIX века И.В.Буяльском и Н.И.Пирогове, но и водил в прекрасный музей при академии. Там сохранялись всевозможные экспонаты — и учебные, и имевшие отношение к выдающимся медикам… Меня особенно поразила огромная модель височной кости. На самом деле эта кость в нашем черепе маленькая, а в музее находилась модель величиной почти в рост человека. И сделана она была так, что с помощью специальных петель могла раскрываться. То есть на этом огромном экспонате можно было видеть, как устроена височная кость, как через нее проходят сосуды, важнейшие нервы, лицевой, слуховой… Эту модель из цельного куска дерева вырезал знаменитый скульптор барон П.К.Клодт, автор не менее знаменитых конных групп на Аничковом мосту… Что и говорить, в старину обучение в академии было поставлено на серьезную ногу.
Трудностей с поступлением у меня не было. И не только потому, что меня все знали, — я был хорошо подготовлен по общеобразовательным предметам и без каких-либо сложностей сдал вступительные экзамены. На нашем курсе оказалось несколько ребят и из нашей 107-й школы, правда, из параллельных классов. Но все равно мы знали друг друга и потом стали держаться дружной группкой. Таких нас, "академических" парней, выросших на территории академии, было четверо — Володя Шилов, Рудик Яковлев, Виктор Миловский и я. У Володи отец был профессором, преподавал на факультете усовершенствования. Отец Рудика, как и мой когда-то, был начальником курса, отец Виктора преподавал, кажется, на кафедре медзащиты. А мой отец в то время уже был начальником медицинской службы академии.
С одной стороны, наша "принадлежность" к академии облегчала нам жизнь, но с другой — осложняла. Поскольку мы выросли на территории академии, то со многими были знакомы или знали в лицо, но и нас многие знали. И сложность была именно в последнем: мы всегда находились как бы под недремлющим оком, под контролем множества людей. Поэтому, сделай мы что-нибудь не так, родители тут же бы и узнали — особенно не забалуешь. Это нас, безусловно, внутренне дисциплинировало.
Наш курс состоял как бы из двух частей. Одна часть поступивших вчерашние школьники, совсем еще мальчишки, а другая — пришедшие из армии офицеры. Были среди них лейтенанты, старшие лейтенанты, кажется, и капитаны, то есть люди с жизненным опытом. Некоторые уже имели семьи. Эти наши сокурсники казались нам почти стариками. Конечно, поступали они, а потом и учились с большими трудностями, в отличие от нас, у которых еще свежи были знания, полученные в школе. И еще одно существенное отличие: пришедшие в академию из армии в основном учились когда-то в провинции, где школы при всем желании не могли дать своим выпускникам таких знаний, как школы Ленинграда, — ведь здесь еще оставались старые, гимназические преподаватели, прежние традиции. Да и учились-то эти офицеры давно и уже успели порядком подзабыть общеобразовательные предметы. Зато им была привычна армейская дисциплина, а нам еще предстояло с ней познакомиться в полной мере. Такая неоднородность состава нашего курса сохранялась почти до окончания академии, когда грань между нами и "офицерами" начала постепенно стираться. Правда, не до конца.
Как только мы были зачислены на первый курс, нас сразу же отправили в летние лагеря в Красное Село. И тут для меня началась новая жизнь, подчинявшаяся армейским законам. Мы ведь были не просто студентами обычного медицинского вуза — мы были слушателями военной академии. Нас облачили в б/у (бывшее в употреблении) обмундирование, выдали тяжелые кирзовые сапоги, которые было принято называть "гэдэ", то есть говнодавы.
Весь август мы проходили "курс молодого бойца". И хотя я в детстве бывал с отцом в этих летних лагерях, но одно дело видеть эту жизнь со стороны, и совсем другое — быть ее непосредственным участником, испытывать на себе все ее "прелести". А было нам непросто. В течение месяца у нас шли строевые занятия, были марш-броски, мы учились копать окопы, бегать в атаки, разбирать и собирать оружие и еще многому другому, что входило в "курс молодого бойца".
Нас разбили на взводы, а командовали нами курсанты Ленинградского пехотного училища, которым предстояло выпускаться. Именно в лагере они проходили свою предвыпускную стажировку и отыгрывались на нас, как хотели. В те годы "дедовщины" не было, тем не менее эти пехотинцы самоутверждались и солдафонили от души. Мне запомнился командир нашего взвода старший сержант Яков Хейфец. И запомнился не только потому, что муштровал нас безжалостно, а потому, что для всех было загадкой, почему человек с такой фамилией попал в пехоту. Возможно, Яше нравилось быть именно пехотинцем… Не знаю, как сложилась его дальнейшая служба в армии, но до сих пор с улыбкой вспоминаю наше тогдашнее недоумение. Надо отдать должное Яше исполнял он свои обязанности очень хорошо. Помню, как он муштровал нас, чтобы мы научились одеваться за 40 секунд. Для нас было нереально встать в строй в полной форме перед палаткой за столь короткое после подъема время. Поэтому я нашел выход — старался по большей части спать не раздеваясь. После сигнала мне оставалось только быстро надеть сапоги. Благо я ходил в носках, поскольку совершенно не выносил портянок.
Первые три года учебы в академии были особенно трудными. Усвоить, запомнить надо было очень много новых для нас предметов. Биохимия, коллоидная химия, анатомия, латынь… Учиться было непросто даже людям хорошо подготовленным. Что уж говорить о слушателях-"офицерах". Но спуску не было никому — ни нам, ленинградским ребятам, недавно окончившим хорошую школу, ни зрелым мужам-"офицерам". В изучении латыни мне помогало знание английского языка. Да и сам древний язык нравился мне своей хорошо организованной, чеканной красотой. А по анатомии меня "гонял" наш сосед по дому генерал Б.А.Долго-Сабуров, заведовавший кафедрой.
Интересно, что, хотя мы жили с ним на одном этаже, его сыну Валерию, моему сверстнику, в детстве не особенно разрешали дружить с сыном обычного хирурга Сенкевича. И сын генерала от медицины держал дистанцию, тем более что я дружил с другим соседом по лестничной площадке, Сашей Феклистовым, чей отец был всего лишь работником кафедры спецфизиологии, кажется, слесарем, зато мастером "золотые руки".
На первых курсах было очень строго с дисциплиной и распорядком дня. С утра мы ходили на лекции, потом строем шли на самоподготовку, в анатомичку или еще куда-нибудь. Строем же нас водили в столовую. Первый год мы все питались в академической столовой, и только потом, на втором курсе, стало полегче: нам разрешили выбор — кто хочет, пусть питается здесь, а остальные пусть устраиваются по своему усмотрению. Я, конечно, выбрал второй вариант — ходил после лекций обедать домой.
Первые два года мы находились на казарменном положении. Нам не разрешалось выходить за территорию академии без разрешения. Не разрешалось также носить штатскую одежду. Мы должны были приходить ночевать в казарму. Она находилась напротив здания Нахимовского училища, на правом берегу Большой Невки, там, где сейчас стоит гостиница "Ленинград", построенная в 1970 году. Это было дивной красоты двухэтажное старинное здание, где на первом этаже в нескольких комнатах размещался музей Н.И.Пирогова. Потом музей почему-то расформировали, и его экспонаты разошлись по разным точкам: на кафедру анатомии, на кафедру оперативной хирургии… Это здание и было превращено в казарму, где жили слушатели академии.
Потом здание снесли, и очень жаль, потому что это был памятник архитектуры. Так случилось, что через много лет я познакомился с одним парнем, который как раз участвовал в сносе. Конечно, винить в этом его нельзя — он тогда был то ли простым рабочим, то ли прорабом и выполнял то, что было приказано большим городским начальством. Интересно другое — он сохранил табличку "Музей имени Н.И. Пирогова" и потом прибил ее у себя на даче к двери. Но какой-то такой же любитель табличек у него впоследствии украл ее… Кажется, там было написано еще что-то вроде "Памятник архитектуры. Охраняется государством". Сохранили… И здание, и табличку…
Зато на разных зданиях Военно-медицинской академии до сих пор висит немало мемориальных досок, напоминающих о славе этого заведения. В академии в разные годы работали такие выдающиеся ученые, как Н.И.Пирогов, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, С.П.Боткин и многие другие. Мемориальная доска напоминает, что здесь, на кафедре химии, работал и композитор А.П.Бородин, у которого собирались члены знаменитой "Могучей кучки"… Да и главное здание, построенное на рубеже XVIII–XIX веков в стиле классицизма, вызывало у слушателей невольное уважение к месту их учебы. Старинная мебель, сохранявшаяся еще с дореволюционных времен. Великолепный парк, куда в наше время был перенесен памятник барону Виллье, лейб-медику Александра I. Прежде памятник стоял перед главным зданием академии… Славная история… Особая атмосфера… Мы понимали, где мы учимся, и серьезность, солидность всего, что нас окружало, сама обстановка, традиции обязывали соответствовать.
Впрочем, мы были молоды и жизнь требовала своего. Отдыхать удавалось только по воскресеньям, и то если нам давали увольнительные. Но поскольку их давали не каждое воскресенье, то иногда, как водится, я бегал в самоволку. Мне было проще других слушателей: я шел домой и переодевался в штатскую одежду. Главной проблемой для меня было не попасться на глаза никому из знакомых. На первых курсах я так и привык ходить озираясь вдруг, не дай Бог, кто-нибудь увидит меня в штатском, пробирающимся к выходу с территории. А возможность нежелательных встреч была весьма реальной: я был знаком чуть ли не каждому второму.
В то время я уже встречался с одной девушкой. Она училась в Художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной, которое помещалось в бывшем дворце барона Штиглица. Там был потрясающий по красоте зал. Мы часто бывали на студенческих вечерах в этом училище. Обстановка здесь была более свободная, чем в нашей академии, где мы были ограничены и в передвижениях и в развлечениях рамками армейской дисциплины. Этим мы отличались от студентов обычных вузов, и их жизнь по сравнению с нашей казалась мне очень привлекательной.
На вечерах в училище и в других ленинградских вузах иногда появлялся и Слава Пожлаков. Интересно, что в отличие от Володи Федоровича, который после школы, следуя своему призванию, сразу поступил в Архитектурный институт, Слава, необыкновенно одаренный музыкально, почему-то пошел учиться в Институт инженеров железнодорожного транспорта. Конечно, это была не его стезя, и он очень быстро ушел оттуда.
В те годы он еще не писал музыку, а выступал в основном как исполнитель, но уже понемногу начал заниматься аранжировками. Он вращался в своей музыкальной среде, был в курсе последних веяний, у него были друзья, которые могли достать самые модные тогда записи "неофициальной" эстрадной музыки. Это были самодельные пластинки, и назывались они "ребрами", так как делались на рентгеновских снимках. Слава был раскованнее меня, и я старался не отставать от него.
Тогда как раз стали появляться "стиляги", ребята, которые своим видом, поведением, музыкальными вкусами как бы пытались выделиться из общей массы молодежи, все еще жившей в жестких рамках установленных официальных ограничений, предписаний того, что можно, а что нельзя. Одевались мы в то время донельзя убого — это была реальность нашей небогатой послевоенной жизни. Поэтому кое-кто из молодежи и старался вырваться из этой серой обыденности. И основным проявлением нежелания походить на других стал внешний вид "стиляг" — длинные пиджаки с широкими плечами, зауженные брюки-"дудочки", особые прически…
Желая по возможности тоже не отставать от времени, я приходил на студенческие вечера просто неотразимым: взбивал надо лбом "кок", надевал модные ботинки на толстенной подошве — "корочки". И эти "корочки" были не какими-нибудь, а сделанными сапожником из самой Мариинки. "Устроила" их мне моя тетя Женя, сказав, что знакомый сапожник из театра продает их за 800 (тогдашних) рублей. На первых курсах мы получали стипендию в размере 750 рублей. Но так как я питался дома, а родители у меня не забирали мою стипендию, то я мог позволить себе "шикануть".
Не знаю, падали ли девушки от моего неотразимого вида, но я чувствовал себя на высоте. На вечерах мы танцевали новомодным "стилем", а не какие-то там падекатры или падеграсы, потом уже появились "буги-вуги"… Моим "шикарным" ботинкам не было сносу — ведь подошва у них была толстенная, в 4 сантиметра, да еще из чистого каучука. Когда мода на них прошла, папа надевал их, отправляясь выгуливать собаку…
Но такие развлечения, посещение студенческих вечеров были не слишком частыми, по крайней мере, на первых курсах. Основное время я проводил в академии, где нас муштровали в профессиональном смысле всерьез. Принцип учения был жесткий: "Не умеешь — научим, не хочешь — заставим, не годишься — выгоним". Может быть, это звучит несколько безжалостно, но зато выпускники академии были подготовлены к своей профессии прекрасно. Все шесть лет нашим начальником курса был Алексей Алексеевич Петров, которого мы между собой называли Папой. И все шесть лет он повторял: "Конкурс продолжается", — чтобы мы и на старших курсах не вздумали расслабляться. Хотя он нас часто журил, но мы знали, что он нас любит, и не обижались, когда получали от него "нагоняи".
Все слушатели, как и положено в армии, были разбиты на подразделения, во главе которых назначались главные. Обычно их выбирали из более опытных слушателей — "офицеров". Субординация при этом соблюдалась строго. Наши старшие по возрасту сокурсники "гоняли" нас в полном соответствии с армейскими традициями. Конечно, мы, более молодые, подшучивали над ними, поскольку эти наши командиры не всегда учились лучше своих сокурсников-подчиненных. К окончанию академии между нами постепенно стали налаживаться нормальные отношения, без субординации, хотя у части "офицеров" по отношению к нам, ленинградским парням, сохранялась какая-то то ли неприязнь, то ли зависть. С этим я потом столкнулся, когда уже работал военным врачом.
На первых курсах слушателей нередко придавали в помощь взводу охраны академии и мы ходили в караул. Территория была большая, и солдат не хватало, чтобы охранять все объекты. Ладно еще, если охраняли что-либо значительное, а то под "объектом" подразумевали какую-нибудь трубу или котельную. Во время несения караула мы оказывались как бы в подчинении у солдат срочной службы из взвода охраны.
Если это было зимой, то нам выдавали тулуп, валенки, и мы с винтовкой уходили в караул на два часа. Потом приходила смена, ты шел спать в караулку на четыре часа, затем снова уходил на пост. Но даже в эти четыре часа нам не удавалось отдохнуть, потому что в помещение приходил начальник караула, включал свет и орал во весь голос: "Подъем!" Приказ касался тех, чья смена начиналась, но просыпались от его крика и те, кто только сменился и едва успел заснуть. Конечно, можно было тихо поднять тех, кому надо идти на свой пост, и не беспокоить уже отдежуривших свои два часа, но солдаты намеренно вели себя так. Потом мне как-то удалось приноровиться и я уже не просыпался, а только сквозь дрему слышал "Подъем!", понимая, что это относится к другой смене. Но все равно впечатление от этой преднамеренной демонстрации неуважения к тем, кто находится у тебя в подчинении, пусть даже и в течение нескольких часов, от этого "самоутверждения" с помощью хамства у меня до сих пор сохранилось самое отвратительное. Надо ли говорить, как мы не любили ходить в эти караулы. Но приходилось…
Стоишь возле какой-нибудь котельной или около анатомички в тулупе, с "ружжом" и ждешь, когда же пройдут эти два часа. Чтобы убить время, развлекал себя тем, что вспоминал стихи и читал их самому себе. Хорошо еще, что на этом посту можно было двигаться. Больше всего я не любил, когда надо было стоять часовым у знамени академии, хотя это и был самый почетный пост. Стоишь истукан истуканом, почти по стойке "смирно", не шевелясь, что особенно утомительно. Да еще должен каждый раз вытягиваться и замирать, когда мимо проходит старший по званию — офицер или генерал. А днем через вестибюль главного здания академии их проходило немало, и не один раз…
Мы тогда страшно не любили эти малоприятные для нас отвлечения от процесса учебы. Но со временем я понял, что во всем этом был смысл, это было необходимо, так как воспитывало в нас выносливость, приспособленность ко всякого рода непростым жизненным ситуациям. Я даже потом вспоминал Яшу Хейфеца со всей его муштрой и пятикилометровыми марш-бросками в полной форме, потому что когда в академии весной или осенью нам приходилось бегать кроссы (правда, в спортивной форме), они казались нам сущим пустяком. Помню, как я пробежал необходимые три километра и даже не заметил, когда они закончились, — так Яша натренировал нас в лагере. Не могу сказать, что в академии я увлекался спортом. Просто с удовольствием бегал на лыжах и коньках, немного занимался борьбой, немного гимнастикой: делал стойку на брусьях, "держал угол" на турнике…
Кроме использования нас в качестве караульных, слушателей академии готовили и к парадам и демонстрациям, которые проходили на Дворцовой площади 1 мая и 7 ноября. В самих парадах участия мы не принимали, так как еще со времен Петра I считалось, что военных медиков не следует выпускать на строевой плац, "дабы они видом своим не позорили славное русское воинство". Мы бы и рады были не позорить, но нас все равно по ночам отправляли на репетиции на Дворцовую. Площадь была размечена во всю свою длину, и мы должны были во время шествий стоять на этих разделительных линиях: один смотрел в сторону одной колонны демонстрантов, другой — в сторону другой. Получалось, что мы были живыми шпалерами. Нас приводили и уводили из академии на Дворцовую площадь через Литейный мост, и, как только мы вступали на него, раздавалась команда шагать не в ногу, чтобы не возникало явление резонанса. Было известно, что еще в старом Петербурге один из мостов на Фонтанке рухнул, как считали, от резонанса, возникшего оттого, что то ли солдаты, то ли кавалеристы шли через мост в одном строевом ритме и раскачали его.
К третьему курсу строгостей в нашей академической жизни стало меньше. От нас уже не требовали обязательно приходить ночевать в общежитие, куда мы перешли жить из казармы и где были комнаты на несколько человек. Все ждали окончания третьего курса, потому что в прежние годы слушателям академии к четвертому курсу присваивали офицерские звания со всеми вытекающими отсюда преимуществами перед жизнью слушателя-солдата. Но нам пришлось пережить горькое разочарование: именно на нас эту практику прекратили и мы должны были получить офицерские погоны только при выпуске из академии. Хотя нам и выдали удостоверения, что мы являемся не просто рядовыми, а слушателями Военно-медицинской академии, но все шесть лет мы проходили в солдатской форме.
Зато после третьего курса нас распустили "по домам", то есть дали свободу выбора места жительства. Мне это было на руку, так как я стал жить дома, а вот слушатели-неленинградцы должны были устраиваться каждый по своим возможностям: кто у родственников, кто снимал комнату, а кто остался в общежитии…
Летом мы продолжали выезжать в лагеря в Красное Село, но один месяц нам предоставляли для отдыха. Свой летний отпуск после первого курса я провел в Сочи, куда мы поехали вместе с мамой: она отдыхала в санатории, а я снял рядом с ним комнату. Потом уже я стал ездить на юг — в Сочи или Ялту — вместе с друзьями. По уставу мы были обязаны везде, куда бы ни приехали, отметиться в военной комендатуре. И являться туда должны были в форме. Но нам не хотелось ехать на отдых, на юг в солдатском обмундировании — не ходить же в нем на пляж или по городу. И чтобы не тащить каждому из нас свой комплект, мы выходили из положения так: самый крупный и рослый брал свою форму, я, как самый крупноголовый, брал свою фуражку, а тот, у кого был самый большой размер обуви, брал свои сапоги…
Прибыв на место, мы начинали настоящий маскарад. К комендатуре мы подъезжали на такси, причем брали самую большую машину — кажется, тогда были еще "ЗИСы". Договаривались с водителем о том, что стоять он будет долго, и по очереди прямо в машине начинали переодеваться. Сначала в комендатуру шел первый из нас. Предъявив необходимые документы, отметив свое прибытие, он возвращался к машине. Сбросив в ней обмундирование, он передавал его следующему…
В комендатуре не могли понять, почему слушатели-медики из Ленинграда приходят отмечаться по очереди. Разве нельзя явиться всем сразу? Ведь ясно же, что они приехали вместе, поскольку из одной академии. И почему у них какой-то странный вид, словно форма с чужого плеча? А вид у нас действительно был комичный. Но у местной комендатуры хватало своих забот, чтобы еще разбираться с приехавшими ленинградцами. Как приехали, так и уедут…
Надо сказать, что Крым я любил больше и из-за более мягкого и не такого влажного, как в Сочи, климата, и потому, что там оставались свидетельства прежней культуры — дворцы в Ливадии, в Алупке… Я был под впечатлением от пушкинских стихов о Крыме, любил его "Бахчисарайский фонтан", кроме того, в Ялте есть Дом-музей Чехова, а в Феодосии музей художника Айвазовского… И еще я любил смотреть на Ай-Петри…
Но эта любовь к Крыму однажды меня подвела. Мы поехали с друзьями в Ялту. Сняли комнату недалеко от пляжа. Времяпрепровождение было обычное: с утра шли на весь день на море, питались в каком-нибудь кафе-"стоячке" или городской столовой. Цены тогда там были "ну очень смешные", правда, выбор и качество блюд соответствовали ценам. Но приходилось экономить, поскольку особых средств у нас не было, одна стипендия (зато дорогу к месту отдыха и обратно нам оплачивала академия). В свое временное жилище мы приходили только ночевать.
У нашей хозяйки снимали комнаты и другие отдыхающие. И в их числе какие-то девицы, которых мы не знали и с которыми не общались, так как уходили из дома на весь день. Вот из-за этих-то незнакомых нам девиц у нас с хозяйкой произошел неприятный инцидент: она подстроила нам настоящую подлость. В день отъезда мы пошли в последний раз выкупаться, предварительно расплатившись с ней. Когда мы вернулись с пляжа, то увидели в нашей комнате странную картину — все было разбросано, часы, висевшие на стене, оказались в другом месте, мебель перевернута… Было такое впечатление, что тут какие-то хулиганы устроили дебош.
Как потом оказалось, девицы, снимавшие одну из комнат, уехали, не расплатившись (так сказала хозяйка), и тогда она решила отыграться на других своих жильцах. Хотя мы не имели ко всему этому никакого отношения, она не нашла ничего лучшего, как вместе со своим сынком, уркаганистого вида парнем, учинить именно в нашей комнате разгром (точнее, его видимость) и свалить все на нас, выставив хулиганами. А обвинив нас в дебоширстве, можно было потребовать компенсацию за якобы нанесенный ущерб и таким образом получить те деньги, которые не заплатили внезапно уехавшие квартирантки.
Видимо, такие спектакли хозяйка и ее сын устраивали уже не впервые, так как чувствовалось, что у них эта методика хорошо отлажена. Не успели мы вернуться с пляжа, как со странной оперативностью вдруг появился милиционер, словно ждавший сигнала, чтобы выступить на сцену. Этот местный блюститель порядка оказался знакомым нашей хозяйки, а может быть, и одним из небескорыстных соавторов "стратегического плана" по вымогательству денег с таких, как мы, отдыхающих. Учитывая, что наша хозяйка работала в соседнем гастрономе, можно предположить, что в "дружбе" с ней было заинтересовано полгорода. В те времена постоянного, как говорил Аркадий Райкин, "дифисита" хороших продуктов наша хозяйка была не только "нужным", но и "уважаемым" (опять по определению Райкина) человеком, так что этот милиционер за кусок какой-нибудь копченой колбасы был к ее услугам.
Он только и ждал, что мы начнем возмущаться, поскольку не были ни в чем виноваты. Так и произошло: я, как всегда, самый активный, вступился за справедливость. Моя реакция была милиционеру на руку — как же, оскорбление представителя власти. Разговор, естественно, шел на повышенных тонах. Теперь можно было на полном основании вызвать патруль из комендатуры, которая находилась неподалеку. И хозяйка, и милиционер прекрасно знали, что мы слушатели военной академии, что дисциплина у нас строгая и, чтобы в академии не стало известно об этом инциденте, пусть и спровоцированном, мы станем "откупаться", лишь бы погасить скандал. Расчет был на это. Если бы у нас были деньги, может быть, так бы и вышло. Но у нас оставалось всего несколько рублей, чтобы только доехать на такси от Ялты до Симферополя, откуда мы поездом должны были выехать в Ленинград.
Патруль, тоже из местных "друзей" хозяйки, пришел, нас отвели в комендатуру. Никакие наши объяснения не были приняты во внимание, стали составлять протокол о случившемся. Потом нас отпустили, так как мы должны были еще успеть на поезд. Но история эта не закончилась, поскольку хозяйка денег с нас так и не получила и оставить это просто так она, конечно, не могла. В чем я и убедился, вернувшись в Ленинград.
Дома я ничего не стал рассказывать родителям — зачем им было знать о неприятном. Начались занятия, происшедшее с нами в Ялте стало понемногу забываться.
Но вот на имя начальника академии пришло письмо, в котором сообщалось, что слушатель Сенкевич натворил то-то и то-то, что его задержала милиция, по адресу которой он позволил себе всякие такие слова, что в комендатуре по поводу случившегося составлен протокол, что хулиган должен понести наказание…
Вызвали моего отца отвечать за недостойное поведение недостойного сына. Начальник академии возмущался: "Безобразие! Распустили тут сынков! Гнать его надо из академии!" Я действительно висел на волоске…
В это время один из друзей отца собирался ехать отдыхать в Ялту, где тоже должен был по приезде отметиться в комендатуре. Отец попросил его выяснить на месте, что же все-таки произошло в действительности. Вскоре тот прислал письмо, где сообщал, что я в этом деле ни при чем, что это хозяйка квартиры, у которой есть "свои" люди и в милиции, и в комендатуре, просто практикуется таким способом в вымогательстве денег… Когда друг отца разговаривал с работником комендатуры и спросил, зачем они направили в Ленинград письмо, если слушатель Сенкевич не виноват, тот ответил, что был составлен протокол, а на этот документ они обязаны отреагировать. И при этом добавил, что лучше было бы ребятам сразу отдать хозяйке деньги, которые она с них требовала за якобы причиненный ущерб, и тогда бы все кончилось миром… Этой последней фразой работник комендатуры выдал себя: они были в курсе того, какое "хобби" имеется у этой женщины, у которой мы имели неосторожность снять комнату.
Все же наш знакомый привез из Ялты другой документ, где комендатура подтвердила мою невиновность. Документ передали начальнику академии, все разъяснилось. Тем не менее генерал приказал: "Сенкевич все равно должен быть наказан! Десять суток на гауптвахте во время каникул!"
Конечно, я огорчился — потерять десять дней из двенадцати каникулярных! Отец тоже понимал, что мне приходится отвечать неизвестно за что, но что же делать: я — человек военный, а приказ надо исполнять без возражений. И все-таки друзья отца решили мне помочь. У кого-то из них оказался знакомый дежурный офицер на гарнизонной гауптвахте.
Эта гауптвахта — место в Ленинграде знаменитое. Она существует едва ли не со времен Александра I и располагается на Садовой улице, рядом с Инженерной и площадью Искусств. В этом старинном здании в свое время под арестом сидел Лермонтов, а уже в нашем веке здесь "отсиживался" знаменитый летчик Валерий Чкалов, наказанный за свой смелый до дерзости пролет под аркой моста над Невой. И все, кто сюда попадал, почему-то считали, что их поместили именно в ту камеру, где сидел Лермонтов.
Мы с офицером, которому поручили доставить меня на гауптвахту, прибыли на Садовую. А нам отвечают: "Мест нет". Пришлось возвращаться обратно в академию, домой. На следующий день мама опять собрала мне пакет с домашней едой, положила в портфель необходимые вещи. Поехали. И снова: "Мест нет". Я, изображая из себя очень расстроенного, возмутился: "Ну вот, завтра опять приезжать!" Офицер тоже был недоволен — ему бы отдохнуть, а тут опять вези назавтра какого-то Сенкевича…
По уставу мне оставался всего один день, когда еще действовал приказ о направлении на гауптвахту. Меня должны были "определить" туда в течение месяца со дня приказа, ждали лишь начала каникул. Если же срок истекал, то я освобождался от "губы", хотя наказание оставалось: оно могло быть уже другим. И вот в этот последний день, пообещав маме, что скоро приеду обратно, и не взяв с собой никакой еды, веселый, я отправился с сопровождавшим меня офицером на Садовую. Но на этот раз все обернулось по-другому — меня приняли. Оказалось, что дежурный офицер, который был предупрежден кем-то из друзей отца и который устроил всю эту игру с отсутствием "посадочных" мест, сменился, забыв предупредить следующего дежурного, что привезут Сенкевича, для которого мест нет… На самом деле мест было сколько угодно.
Привели меня в большую камеру, где уже сидели собранные со всего Ленинграда проштрафившиеся курсанты — пехотинцы, моряки, был даже один курсант-пожарник. Я оказался единственным среди них медиком и сразу получил кличку Доктор. Но сначала предстояло пройти через положенные для новичка испытания: мне устроили "суд" — я должен был отвечать на всякие дурацкие вопросы. Потом ребятки забавлялись тем, что голенищами кирзовых сапог хлестали меня по musculus gluteus, то есть по ягодицам. Следующим испытанием был "самолетик" — стоя на коленях и держа руки за спиной, надо было губами доставать положенный перед тобой карандаш. Никто этого сделать не может, поскольку равновесие нарушается, ты плюхаешься на пол и ударяешься носом… Зрители при этом, как водится, дружно хохочут. Я прошел через все это, традиция была соблюдена, и я был принят в компанию. Меня даже назначили "адвокатом" для "суда" над следующим новичком. Так началась моя "камерная" жизнь.
Распорядок был четкий. Утром ранний подъем, туалет. Правда, бриться там было невозможно, так что все десять дней я ходил небритый и потом в заросшем виде возвращался домой. Да еще и в мятой шинели, потому что приходилось использовать ее в качестве подушки. На улице и в трамвае мне казалось, что все от меня шарахаются, — слишком уж я был "живописен"… Перед тем как идти в столовую, нас выводили на внутреннюю галерею, которая по периметру двора шла вдоль всего здания. Мы строились в колонну по шесть человек и потом вваливались в столовую, быстро расхватывали миски и ложки (ножей и вилок не полагалось).
На внутреннем дворе здания гауптвахты нас гоняли по строевой подготовке. Кроме того, посылали на различные "неквалифицированные" работы: очищать от снега окрестные улицы, скалывать лед с тротуаров. Я старался, как мог, избавиться от этой работы, так как боялся столкнуться на улице с кем-нибудь из знакомых, поэтому вызывался ехать на какой угодно склад что-то разгружать. И все-таки я попал в неловкую для себя ситуацию. Нас заставили скалывать лед на углу Садовой улицы и Невского проспекта. Был я, конечно, в военной форме. Вдруг смотрю, идут знакомые девушки и видят меня за столь неожиданным (для них) занятием. Они страшно удивились: "Юра! Это ты?.. Почему ты в форме?.." Они никогда не видели меня ни в шинели, ни в гимнастерке, потому что по городу я всегда старался ходить в обычной одежде. Надо ли говорить, как я был раздосадован этой нежелательной в тот момент встречей. Тем не менее я "поставил задачу" и попросил их купить что-нибудь вкусненькое в ближайшем магазине, потому что каша, селедка и ржаной хлеб мне уже порядком надоели.
Иногда, когда на работы нас куда-нибудь вывозили, мне удавалось позвонить домой, и тогда мама приезжала к месту нашей "дислокации" и привозила вкусную домашнюю еду, настоящий чай в термосе. Ребята с удовольствием набрасывались на нормальную пищу, в том числе и наш караульный, который тоже питался в солдатской столовой и наверняка забыл, что такое домашние пирожки или котлеты…
Из работников гарнизонной гауптвахты самым главным над нами был поставлен старшина по кличке Карабас. Это прозвище передавалось среди его "клиентов" по мере замены одних обитателей гауптвахты другими. Его заместителем был сверхсрочник с соответствующим прозвищем Бармалей. Их помощниками были два сержанта. У них тоже имелись клички, но в отличие от их начальников этих ребят окрестили не литературно-сказочными именами, а в соответствии с их физическими особенностями: долговязого прозвали Вертолетом, а щуплого сержанта и вовсе назвали Сопляком. Мне запомнилось, что у него было очень много фурункулов.
Узнав, что среди его подопечных есть слушатель Военно-медицинской академии, Сопляк обратился ко мне:
— Ты доктор?
— Вроде бы еще нет. Только учусь на него. А в чем дело?
— Да вот видишь, мне делали автогенную терапию, но ничего не помогает. — Так сержантик называл аутогемотерапию, когда у человека для борьбы с фурункулезом берут кровь из вены и вкалывают в ягодичную мышцу.
— Тебе нужно принимать витамины, пить пивные дрожжи, обрабатывать фурункулы салициловым спиртом… — Я назвал все, что требовалось при его заболевании. Сопляк меня сразу зауважал.
Но уважение уважением, а относился он к нам все равно плохо: как все люди с чувством какой-то своей ущербности, он самоутверждался, унижая тех, кто в тот момент зависел от него. Причем даже издевался как-то по-мелкому. Входя в столовую, когда мы уже сидели и обсуждали очередное "изысканное" меню, не стесняясь при этом в выражениях, он начинал командовать: "Тишина! И вот чтобы сквозь эту тишину я слышал только лязг челюстей!" Потом поворачивался и, довольный своим остроумием, уходил…
Мы тоже не оставались в долгу и издевались над этим своим "начальством" как могли. Помню, как над Сопляком подшутили ребята из Военно-морского училища. Они были на выпускном курсе, через полгода им должны были присвоить офицерские звания, но они решили до срока "погулять" в ресторане, где и попались на глаза патрулю. На гауптвахте они, конечно, не могли терпеть, что ими, почти уже офицерами, помыкает сухопутный сержантик.
Как-то утром во время построения на внутренней галерее они все шестеро на приказ Сопляка: "На первый-шаштой рашшитайсь!" начали валять дурака: "Первый-шаштой! Первый-шаштой!.." И так шесть раз. Сержантик взвился: "Отставить! На первый-шаштой…" И снова ребята стали дурачиться…
В нашей камере вдоль стен было устроено что-то вроде лавок, которые откидывались только на ночь, а днем их поднимали и прикрепляли к стене, наподобие верхних полок в вагонах. Сидеть на них днем нам не разрешалось, приходилось устраиваться на полу. За всем этим в глазок следили караульные, прохаживавшиеся по галерее, куда выходили двери камер и окна. На улицу Садовую окон, естественно, не было. Даже в туалет нас водили под караулом. Такого сопровождающего солдата называли выводным. И вот мы развлекались тем, что надо и не надо вызывали его: "Выводной! Поссать, родной!" Открывалась дверь, и он спрашивал, кому приспичило, используя при этом более "натуральную" лексику.
Под конец своего пребывания на гауптвахте я тоже решил подшутить над местным "начальством", но из шутки получился чуть ли не "бунт на корабле". Собираясь вечером после "трудового фронта" в камере, мы начинали устраивать себе подобие кроватей. Нам были выданы лежаки, вроде тех, что бывают на пляжах. "Головой" мы устанавливали их на откинутые лавки, а в ногах под них подставляли специальные козлы. Так — головами к стенам, ногами к центру камеры — укладывалось человек двадцать. Днем такая скученность была не слишком заметна — нас выводили на работы. А вот ночью, когда собирались все вместе, дышать вскоре становилось нечем. Кроме того, устанавливалось специфическое казарменное "амбре".
Я стал открывать на ночь форточку, которая выходила на внутреннюю галерею, где всегда прогуливался караульный. Но вот один из них, видимо новый часовой, увидев, что форточка в окошке камеры открыта, приказал: "Закрыть! Не положено!" Никакие разумные доводы не подействовали. Тогда я решил: "Ну ладно! Я тебе покажу!" И предложил ребятам следующее: я подсчитаю кубатуру нашей камеры, объем воздуха в ней, количество выдыхаемого каждым из нас углекислого газа, умножу на число людей, находящихся в камере… Мне это было сделать нетрудно, так как в то время я уже занимался в академии физиологией и прекрасно знал все параметры.
Проведя необходимые расчеты, я объявил:
— Жить нормально в этой камере нам осталось два часа. Потом мы начнем задыхаться от углекислого газа. Тем более сейчас, зимой.
В камере началось такое волнение, что я сам удивился. Ведь я предложил это шутки ради, а ребята восприняли все всерьез. Больше всех возбуждены были моряки-подводники: их-то такая проблема затрагивала особенно, из-за специфики их будущей профессии. Они стали стучать в дверь, требовать выводного. Тот пришел. Моряки сунули ему в нос мои расчеты:
— Вот, смотри, Доктор все подсчитал…
Он тупо уставился, а я с важным видом принялся объяснять:
— Объем… Кубатура… Кислород, углекислый газ… Удушье… Через два часа мы все помрем, а отвечать будешь ты…
Явно струхнув, парень бросился звонить дежурному: "Доктор тут подсчитал… Они в камере могут задохнуться…" Дежурный в ответ рявкнул: "Какого Черта! Вы что, не можете форточку открыть?!!" Что и требовалось доказать. Все вернулось на круги своя…
Выводной примчался и приказал нам:
— Открыть и не закрывать!
Победа осталась за нами…
В конце пребывания на гауптвахте мне все-таки довелось встретиться с тем офицером, который два дня не пускал меня в это "веселое местечко", а потом забыл предупредить своего сменщика. В камеру пришел Вертолет и спросил: "Кто тут у вас художник?" Ребята решили над ним подшутить и назвали меня. Оказалось, что требуется человек, который может красиво написать ярлычки для образцов новой формы, которая тогда вводилась. Когда Вертолет приказал мне явиться к нему, чтобы писать ярлычки, я очень удивился, потому что почерк у меня неважный. Но поскольку он сказал: "Назавтра освобождаю тебя на весь день от работ", я решил не отказываться и заодно подыграть ребятам.
Нетрудно представить, что я там написал. Вертолет, увидев мои каракули, затрясся от ярости: "Ты что натворил? Да я тебя!.. Клистирная трубка!.. Захотел еще на десять суток?!!" И помчался докладывать дежурному офицеру. Тот вскоре пришел, стал разбираться, но, услышав мою фамилию, очень удивился: "Как? А почему ты здесь?" Пришлось рассказать, как для меня нашлось все-таки место… Что произошло, то произошло, и ему ничего не оставалось, как сказать: "Ты уж извини, что так вышло".
Примерно со второго курса отец стал внушать мне: "Юра, надо начинать заниматься наукой". Но мне в то время больше нравилась хирургия, которая у меня тогда, как говорится, пошла. Я даже ассистировал одному из наших профессоров, Колесникову, и он после операции хвалил меня. (До сих пор иногда возникает мысль — а может, зря я не стал хирургом?)
Отец видел мое увлечение, понимал его, поскольку сам был хирургом, но все же не отказывался от своего намерения. И даже привлек к этому одного из выпускников своего курса — молодого ученого Александра Еремеевича Карпенко, чтобы тот убедил меня заняться наукой. Кафедры в академии, помимо учебного процесса, занимались и разработкой различных научных проблем, имевших прикладное военно-медицинское значение. Александр Еремеевич работал на кафедре физиологии и писал диссертацию. Ему удалось уговорить меня, а я уговорил своих друзей, Олега Насонкина и Игоря Лапотникова, и мы стали ходить в его научный кружок.
Нам поначалу поручали различные несложные работы, но вскоре мы уже принимали участие в исследованиях по той теме, которой занимался наш руководитель, — реактивности желудочно-кишечного тракта во время лучевой болезни. Брали желудочный сок у облученных собачек, проверяли его биологическую активность… Я занимался исследованием поджелудочной железы на лягушках, Олег и Игорь — своими темами. В комплексе мы получали результаты, писали в соавторстве статьи. Наша первая научная работа была опубликована в одном из журналов. Когда А.Е.Карпенко защищал свою диссертацию, он даже цитировал нас, хотя мы были еще только слушателями академии.
Впоследствии мы стали выступать со своими докладами на сессиях научного слушательского общества, даже выезжали в другие города. Помню, что я ездил в Курск и получил там грамоту (она сохранилась) за лучшую научную работу, представленную в Курском медицинском институте.
Постепенно я увлекся физиологией, занятие ею показалось мне очень интересным делом. Еще интересней стало, когда я продолжил заниматься наукой на кафедре патологической физиологии, куда меня "переманил" другой выпускник отца, Николай Иванович Кочетыгов. Начальником кафедры был генерал Иоаким Романович Петров, известный физиолог, ученик Виктора Васильевича Пашутина, основоположника русской школы патофизиологов. Генерал Петров занимался тогда изучением влияния чистого кислорода под давлением на организм человека. Н.И.Кочетыгов был у него адъюнктом, писал диссертацию, а я проводил часть исследований по его теме. Моя задача заключалась в том, чтобы изучить, как кислород под давлением влияет на функции организма, если зажимаются сонные артерии. Я оперировал белых мышей, помещал их в камеру, куда под давлением подавался кислород…
В результате усилий моих научных руководителей у меня проснулось любопытство исследователя, даже азарт: я пропадал на кафедре, порой оставался там ночевать, чтобы понаблюдать за своими мышками. Мне очень хотелось посмотреть, чем закончится начатый эксперимент.
С Н.И.Кочетыговым мы оценивали результаты опытов, обсуждали успехи и неудачи, намечали новые пути исследований… Естественно, что я стал много читать по интересующей меня тематике — и не только на русском, но и на английском языке. И постепенно становился специалистом, пусть пока и в определенной области физиологии. Мне было интересно и хотелось продолжать эту работу. К окончанию академии у меня было уже три научных публикации.
Хотя на кафедре приходилось работать много и не меньше усилий тратить на учебу, на моем внешнем виде эти нагрузки никак не отражались сказывалась молодость и то, что я занимался своим делом с увлечением. Проблема была только в нехватке времени на все, что предлагала тогдашняя жизнь. А она в Ленинграде в те годы становилась все интереснее. Мои друзья, более свободные в своем времени, удивлялись: "Что ты пропадаешь на своей кафедре? Какая еще там наука? Зачем тебе это?" Они считали, что я занимаюсь какой-то ерундой. Что может быть интересного в занятиях с лягушками, мышками, собачками? Жизнь проходит, надо ловить минуты радости…
Друзья по-своему были правы, хотя не во всем. Я ни в коей мере не лишал себя развлечений. А их в большом городе было достаточно. Приятелей у меня было много — и с самыми разными интересами. Мы ходили с ними на вечера в институты, еще в старших классах по вечерам начали ходить на Невский проспект. Эти прогулки по главной улице были в нашем городе традиционны еще с прежних времен. Об этом писали и Пушкин в своем "Евгении Онегине", и Гоголь в "Невском проспекте". Правда, в XIX веке петербургская публика выходила или выезжала гулять по Невскому днем. "Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе…" Бульвар — это и есть Невский, который до 1820 года был посередине засажен аллеей лип.
Не отступая от этой традиции, ленинградцы тоже любили прогуляться по Невскому в свободное время. Старшеклассниками мы просто гуляли, став взрослыми, уже могли позволить себе и другие развлечения — заходили в какое-нибудь кафе, в подвальчик… Особенно привлекали нас магазинчики, которые мы называли "США", то есть те, где можно было выпить бокал "Советского шампанского" или коктейль — чаще всего "Полярное сияние", с коньяком. Один такой магазинчик был около Литейного проспекта, другой — в районе Садовой улицы, третий — ближе к Мойке, неподалеку от магазина, который ленинградцы называли между собой "Смерть мужьям". Посещали мы и кафе-мороженое, заходили в "Норд" (позднее переименованный в "Север"), но это привлекало нас меньше — из-за "детского" меню… Пройдешь так по Невскому туда и обратно раза два — и к концу прогулки становишься вполне хорош…
В те годы, первые годы хрущевской "оттепели", в жизни стало меньше ограничений, и молодежь с увлечением бросилась в такую "свободную", как тогда всем нам казалось, жизнь. А она действительно была активная — и не только в смысле уличных развлечений. Еще со школьных лет я посещал театры. В годы учебы в академии это увлечение только возросло. А театры в Ленинграде всегда были великолепными. Мы ходили в Александринку (Ленинградский Академический театр драмы имени А.С.Пушкина), где восхищались Николаем Черкасовым, Василием Меркурьевым. Василий Васильевич был красивый, вальяжный, импозантный — ну просто обаятельный барин… Мне потом довелось познакомиться с ним и его семьей. Он был женат на Ирине Всеволодовне, дочери знаменитого Мейерхольда. Я бывал у них в гостях, дружил с их дочерью Аней, которая однажды привела меня в "Асторию" на встречу старого Нового года. Помню, как в самом шикарном ресторане города собрались ленинградские знаменитости, но почему-то больше всех чествовали известного на весь город закройщика Володю Алексеева. Потом пили в честь не менее известных скорняков, шляпниц — весьма нужных ленинградской богеме людей. А об артистах, народных, заслуженных, вспоминали уже во вторую очередь…
Ходили мы и в Мариинский театр, где блистал красавец Аскольд Макаров. Я не считал себя специалистом в области балета, но мне казалось, что это танцует бог.
Не могу не вспомнить и великолепный Ленинградский цирк. До сих пор так и вижу неотразимого шпрехшталмейстера во фраке, кажется, его звали Роберт Иванович. Мы ходили любоваться не только искусством Бориса Вяткина или Карандаша, но и этим красивым, седым человеком. Эффектен он был невозможно…
В тогдашней ленинградской театральной жизни было много интересного. Я часто ходил в Дом актера, во Дворец искусств. Помню знаменитые "капустники", в которых начинал участвовать молодой, очень артистичный Сергей Юрский. Потом пришло увлечение Татьяной Дорониной. Как она была красива! А прекрасная половина ленинградской публики была тогда влюблена в молодого красавца Владимира Сошальского…
Из воспоминаний тех лет у меня сохранилось еще одно, имеющее отношение к красоте, на этот раз к красоте материальной: до сих пор не могу забыть удивительные антикварные магазины на Невском проспекте. Я очень любил заходить в них и рассматривать выставленные там замечательные вещи, которых еще немало оставалось в бывшей императорской столице…
НА ПОЛПУТИ МЕЖДУ ЛЕНИНГРАДОМ И МОСКВОЙ
Учеба в академии близилась к концу, и я уже начал задумываться о том, что ждет меня в будущем, где и кем я буду работать. Тем более что причины для таких размышлений были. К тому времени я познакомился с одной красивой девушкой, которая была москвичкой. И не просто познакомился, а влюбился всерьез. Звали ее Галя Петрова, и была она артисткой знаменитого ансамбля "Березка". Мы встретились с ней в Сочи, где я отдыхал, а они выступали. Потом были встречи в Ленинграде, когда "Березка" приезжала на гастроли, и в Москве, куда я стал ездить все чаще. Было очень удобно: садишься в полночь на "Красную стрелу" — и утром уже на месте.
Время шло, и Галя была вправе ждать, что я сделаю ей предложение. Я же никак не мог решиться на такой серьезный шаг. Это не было для меня простым увлечением — я чувствовал, что несу перед Галей ответственность. А что я мог тогда предложить ей, много гастролировавшей, танцевавшей в таком знаменитом коллективе? Ведь я не знал, куда получу назначение и как мою будущую службу можно будет совместить с ее работой… Такая неопределенность вынуждала меня не торопиться с принятием очень важного для нас обоих решения. Кончилось тем, что мы расстались…
И как-то так получилось, что меня "взяла в полон" другая артистка ансамбля "Березка", более энергичная Ирма Помчалова. Пока развивался наш роман, я к окончанию шестого курса уже получил офицерское звание, а вскоре начала работать и комиссия по распределению выпускников.
На ней меня, как водится, спросили, кем бы я хотел работать. Я отвечал, что во время учебы начал заниматься наукой, увлекся этим и хотел бы служить там, где бы имел возможность продолжить свои занятия. Мне указали, что надо еще поработать врачом в воинской части, что решено направить меня начальником полкового медицинского пункта. Я отвечал, что предпочел бы более скромную должность младшего врача полка.
Помню, как мое возражение удивило членов комиссии: "Как это так? Вы не хотите работать начальником ПМП?" Им показалось странным, что молодой врач отказывается от столь почетной должности, где есть хорошая перспектива продвижения по службе, получения в будущем очередных воинских званий… Действительно, странный какой-то выпускник. Другие его сокурсники наоборот стремятся получить более заметные должности, чем младший врач полка.
Но в моей позиции не было ничего странного: меня не привлекала карьера только военного врача, не интересовали ни должности, ни воинские звания. В то время я основательно погрузился в науку и мысленно уже выстроил свою будущую жизнь. Я полагал поработать пару лет обычным врачом в воинской части, а потом подать заявление на академическую кафедру, где меня знали по моим прежним работам, сдать экзамены в адъюнктуру, пробыть там три года, начать готовить диссертацию… Таким образом я мог бы продолжать жить в родном городе. Мои планы были такими еще и потому, что мне хотелось, чтобы моя семья (мы с Ирмой уже решили пожениться) обосновалась в Ленинграде. Не мог же я жене-балерине предложить жизнь в отдаленном гарнизоне, где у нее не будет возможностей работать по профессии.
Поэтому на распределительной комиссии я попросил еще и о том, чтобы место моей службы было не слишком удалено от Ленинграда. За что один из членов комиссии достаточно грубо напустился на меня: "Оказывается, вас интересует не должность, а место, где вы будете служить!" Оказывается…
Учился я в академии прилично, диплом у меня был хороший, поэтому после того, как я высказал свои пожелания о будущем трудоустройстве, представитель академии в комиссии (нас распределяло Главное медицинское управление Министерства обороны) стал что-то говорить обо мне ее членам. Видимо, его разъяснения подействовали, и мои пожелания были учтены — меня направили в район Бологого, в воинскую часть на должность младшего врача.
Теперь я знал, где буду служить, что меня ждет в ближайшее время, и мог уже устраивать свою семейную жизнь. Ирма тоже теперь знала, где я буду работать, — на полпути из Ленинграда в Москву, где жила она. Мой последний отпуск перед началом службы мы решили провести на юге. Вернувшись, я объявил родителям, что женюсь. Мама, конечно же, ударилась в слезы — для нее мой выбор был почти неожиданностью. Она уже привыкла к мысли, что женюсь я на Гале, которая ей нравилась. Появление в моей жизни Ирмы, с которой мы встречались всего полгода, оказалось для мамы своего рода сюрпризом.
Свадьбу мы устроили в Москве. Я вернулся в Ленинград, оформил все документы и вместе с отцом, который тогда уже вышел в отставку, на его "Москвиче" выехал к месту службы.
Был 1960 год. В стране полным ходом шло создание ракетных войск стратегического назначения. И одна из таких баз должна была разместиться около Бологого, в Выползове, на месте расформированной к тому времени авиационной части. От летчиков оставалось кое-какое хозяйство, но инфраструктуры, соответствовавшей ракетной базе, еще не существовало. Все было на стадии становления, потому был и кадровый коктейль из различных специалистов, собранных со всей армии. Кого только не было в Выползове, когда я туда приехал: и летчики, и техники, даже морские офицеры специалисты по ракетам. Тогда шла модернизация и сокращение флота, устаревшие суда отправляли "на разрезку", а хорошо подготовленных инженеров-моряков переводили во вновь создаваемые ракетные войска. Так что в Выползове некоторое время была определенная кадровая чехарда. И это я ощутил на себе.
Началось с того, что мне заявили: никаким младшим врачом я работать не буду (у них на этой должности был другой человек), а буду все-таки начальником полкового медицинского пункта, то есть как раз тем, кем мне так не хотелось быть и от чего я отказывался при распределении. Приехав в Выползово, я встретил здесь немало наших выпускников. Моим старшим врачом оказался один из тех, кого мы в академии называли между собой "офицерами". Начальником гарнизонного лазарета тоже был мой сокурсник — старший учебной группы, в которой я учился…
Но как показала жизнь, служба с однокашниками не всегда является преимуществом. Дело в том, что некоторые мои сокурсники из "офицеров" все шесть лет мне завидовали и недолюбливали. Ведь я ходил в "сынках", поскольку мой отец работал тогда в академии и меня там знали как сына полковника Сенкевича. Я был коренной ленинградец, что тоже ставилось мне "в вину" выходцами из отдаленных гарнизонов. Среди слушателей нашего курса я держался независимо, не был "зажат", не страдал, в отличие от "офицеров", комплексом провинциальности и мог, когда надо, поставить каждого на место… Так что причин для зависти было достаточно. И вот, приехав в Выползово, я оказался по армейской субординации зависимым именно от некоторых из бывших соучеников. У них теперь появилась возможность "отыграться", и они ею не преминули воспользоваться. Правда, не все были такими.
Но службу свою я знал хорошо, быстро организовал медицинский пункт, подобрал санинструкторов, и вскоре мы уже могли в нашем лазарете принимать больных.
Из-за первоначальной необустроенности возникли неудобства с жильем. Нам дали места в офицерской гостинице, которую назвать так можно было с большим преувеличением. Я прожил в ней несколько дней и понял, что больше не могу там находиться: меня тяготила необходимость делить комнату с посторонними людьми, да еще в условиях убогого быта.
Пришлось идти в ближайшую деревню, где удалось найти более приемлемые условия: местные дед с бабкой сдавали половину своей просторной избы. Я снял у них комнату, а в двух соседних поселились тоже офицеры — выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского из Москвы. Подружиться нам было нетрудно: мы почувствовали какое-то родство душ, у нас оказались схожие интересы и — более того — нашлись даже общие знакомые. Я стал для них очень выгодным соседом — ведь под моим началом был медицинский пункт со всеми вытекающими отсюда возможностями… лечить продрогших.
У меня в подчинении оказались два хороших парня-санинструктора. Один был Яша Коршун из Белоруссии. До призыва в армию он успел окончить художественное училище, хорошо рисовал. Второй, Валерий Родионов, по специальности был столяр-краснодеревщик. Он загорелся идеей сделать мебель для моей комнаты. Мы решили, что будет она не просто из березы, а из тонких стволов дерева, из "кругляшков". Набрали в лесу необходимый материал, я набросал эскизы того, что хотелось бы иметь, и Валерий сделал мне березовый стол, кресло и маленький журнальный столик. Все получилось очень стильно и вписывалось в интерьер деревенской избы.
А Яша решил написать для меня портрет Хемингуэя. В то время у нас было повальное увлечение этим писателем: издавались книги, ставились спектакли по его произведениям, мы собирали фотографии Хемингуэя из различных журналов, его портреты (копии с копий, снятые-переснятые) были непременным атрибутом квартир читающей публики. Я тоже был увлечен Хемингуэем, перечитал все, что тогда было доступно. И много рассказывал о нем Яше. В 1961 году еще свежо было впечатление от неожиданного самоубийства писателя. Портрет, сделанный Яшей с имевшейся у меня фотографии "папы Хема", получился очень неплохим.
Потом Яша вознамерился увековечить и мой образ и изобразил меня в каком-то красном одеянии. (Сейчас меня никто не узнает на этом портрете, потому что тогда на моей голове была хорошая шевелюра.) На этом художник не успокоился и написал второй портрет своего начальника — я был изображен уже врачом, в белом халате, на фоне какой-то белой горы… Чем не "Этюд в белых тонах"…
Все это увидел еще один мой подчиненный, младший врач. Звали его Русланбек. И вот в один из дней, придя на медпункт, вижу, что мой кабинет закрыт. Я удивился и пошел искать дежурного. Удивился же я потому, что не понял, кому и зачем надо было закрываться в моем кабинете. Вернулся кабинет открыт. Что за странные дела происходят на нашем медпункте?
Стал расспрашивать своих санинструкторов. Вижу, ребята как-то мнутся. У меня с ними были хорошие человеческие отношения, хотя они и являлись моими подчиненными. Да и сами они были тактичными, умели соблюдать нужную дистанцию, называли меня Юрием Александровичем. И Яша, и Валерий знали, что врать мне не следует — я их к этому приучил, потому что сам не люблю вранья. Мне удалось узнать правду.
Оказалось, что за закрытыми дверями моего кабинета младший врач Русланбек давал сеанс художнику. Я попросил Яшу показать его творение. Он достал из-за шкафа спрятанный там портрет, и перед нами предстало дивное зрелище: мой младший врач был запечатлен сидящим подчеркнуто важно, заложив ногу за ногу, вальяжно облокотившись… Ни дать ни взять — мэтр, академик медицины. И при этом… в погонах капитана, хотя ходил в лейтенантах. Повысил себя сам… Похохотали мы над этим портретом, хотели было прибить над входом в медпункт, но потом я решил — Бог с ним, с лейтенантом, пусть тешит свою манию величия…
Гораздо больше меня беспокоило в этом враче другое — его профессиональный уровень и страсть к сомнительным медицинским экспериментам. Узнав, что я в академии занимался наукой и думаю продолжить заниматься ею и в будущем, этот самозваный капитан решил разыгрывать из себя не просто армейского врача, а ищущего экспериментатора.
А началось все с того, что как-то приходит ко мне офицер, снимавший жилье в одной избе со мной, и спрашивает:
— Объясни, пожалуйста, что это у вас за новый метод — прослушивать легкие через гимнастерку?
— Это кто же тебя так слушал?
— Да твой Русланбек.
Это был первый сигнал, настороживший меня. Я решил во всем разобраться, вызвал своего младшего врача.
— Руслан, как ты прослушиваешь людей?
— Ухом!
— Через гимнастерку? — Ухом можно прослушать человека, но непосредственно, прислонясь к обнаженному телу. Этот метод известен издавна.
— У меня настолько чуткое ухо, что я все слышу.
— Но ведь на человеке не только гимнастерка, но и майка или нижняя рубаха… Ты что себе позволяешь?
Мне не хотелось идти на него жаловаться, не хотелось дрязг. Для начала я просто его предупредил и запретил странные "нововведения" в пропедевтику. Но для себя решил внимательнее присмотреться к профессиональной подготовке этого выпускника мединститута, кажется, в тогдашнем Орджоникидзе. И потом он не раз настораживал меня своей медицинской неграмотностью. Я, вымуштрованный профессионально в нашей академии, задавался вопросами — как же он получил свой диплом? чему он там учился?
Один из научных "поисков" этого дипломированного невежды переполнил чашу моего терпения. Учитывая условия быта и гигиены в казармах, грибковые заболевания всегда были среди наиболее распространенных солдатских болезней. Как врач я каждый день делал обход больных и обратил внимание на то, что среди них очень уж много солдат с диагнозом эпидермофития. Удивил не сам диагноз, а то, как долго ребят не могли вылечить. Привлек мое внимание и интенсивный запах рыбьего жира, который шел от забинтованных ног больных. Стал выяснять у Руслана, как он лечит солдат, какие меры принимает для их выздоровления. На все мои расспросы он отвечал, что у него свой собственный метод лечения эпидермофитии: "Могу же я экспериментировать!" "Нет! Ты должен пользоваться предписанными в таких случаях препаратами!"
С большим трудом выяснил, что этот "экспериментатор" брал стрептомицин и пенициллин, смешивал их с рыбьим жиром и накладывал больным повязки на пораженные участки ног Когда я узнал об этом, то схватился за голову! Получалось, что Руслан грибковое заболевание лечил препаратом, полученным из грибковой же среды. Этот "метод" не только не излечивал болезнь, а загонял ее внутрь. Одного парня мы даже отправили из-за этого в госпиталь, где его так и не удалось вылечить и пришлось потом комиссовать.
Я был вынужден вызвать новоявленного Эскулапа и пообещать сделать в личном деле запись о его "неполном служебном соответствии", категорически запретив проводить какие-либо "эксперименты".
Полковая жизнь, которая стала уже тяготить меня, продолжалась. Как только появлялась возможность, я ездил в Москву, используя любую оказию: и на попутных машинах, и на междугородних автобусах, следовавших по шоссе, на котором стояло наше Выползово. До Москвы можно было доехать и на поездах, которые останавливались в Бологом, но от нас до станции добираться было неудобно — хороших дорог еще не было, а те, что существовали, оставались чуть ли не со времен Екатерины II и Александра I. И за время, потраченное на поездку в Бологое, можно было добраться до Москвы по шоссе на любой машине.
Ирма тоже приезжала ко мне в Выползово, что, оказывается, раздражало некоторых моих сослуживцев, — ну никак она не была похожа на наших гарнизонных дам… Вскоре выяснилось, что у нас будет ребенок. Даша родилась в 1962 году. Перед ее рождением Ирма переехала в Ленинград, к моим родителям. Напротив нашего дома как раз находилась академическая кафедра акушерства и гинекологии, где дочка и появилась на свет.
Родители склонялись к тому, чтобы Ирма осталась жить в Ленинграде, но тогда бы возникли проблемы с ее работой. Через несколько месяцев после рождения дочки Ирму вызвала к себе руководитель "Березки" Надежда Сергеевна Надеждина. Вопрос был поставлен вполне определенно: "Ты продолжаешь работать в ансамбле или остаешься дома?"
Мы стали размышлять, что же делать. Ирма не хотела бросать своей интересной работы. "Березка" тогда пользовалась необыкновенным успехом, они много гастролировали по всему миру, прилично зарабатывали. К тому же мы уже вступили в кооператив, так как у Ирмы была только комната в общей квартире. На это нужны были немалые деньги. И мы решили, что Даша останется у бабушки с дедушкой в Ленинграде, а Ирма начнет работать.
Теперь мне стало совсем невмоготу — приходилось разрываться на три части: Москва, где жила жена, Ленинград, где находилась Даша, и служба, хоть и не привлекавшая меня, но где я должен был соответствовать… Конечно, долго так продолжаться не могло. И я стал делать попытки нормализовать свою жизнь, а также вернуться к занятиям наукой. И не просто физиологией, а космической медициной.
Дело в том, что после полета в апреле 1961 года Юрия Гагарина у нас в стране с еще большим энтузиазмом относились ко всему, что было связано с космосом. Я тоже все чаще стал задумываться о том, как интересно было бы заниматься такой новой областью науки, как космическая медицина. Я знал, что уже работает целый институт, занимающийся этой проблемой, потому что в него после окончания Военно-медицинской академии попали на работу три человека из нашего выпуска. А руководил этим Институтом авиационной и космической медицины Ювеналий Михайлович Волынкин, который дружил с отцом и не раз бывал у нас дома.
Я поделился своей мечтой с отцом. Он позвонил в Москву Волынкину, чтобы поговорить о возможностях моего перехода к нему. Ювеналий Михайлович знал, что я еще в академии занимался наукой, а когда отец рассказал ему о моем интересе к той тематике, которая разрабатывалась в институте, согласился на то, чтобы я работал у них.
Но на деле все оказалось не так просто: институт, который возглавлял Ю.М.Волынкин, находился в системе военно-воздушных сил, а моя воинская часть принадлежала другому ведомству — ракетным войскам. Это было первое препятствие на пути к осуществлению мечты. Преодолеть его мне помог Ювеналий Михайлович, который обещал поговорить о моем переводе с тогдашним первым заместителем главнокомандующего ракетными войсками генералом В.Ф. Толубко. Потом он ознакомился с моими научными работами, сделанными еще в академии, и сообщил отцу, что я подхожу по их профилю, так как занимался физиологией.
В нашем военно-воздушном ведомстве была запрошена моя характеристика и отправлена официальная бумага с просьбой откомандировать врача Сенкевича в Институт авиационной и космической медицины. В то время руководству института был предоставлен "карт-бланш" в деле подбора кадров, так как все, что касалось космоса, тогда было вне конкуренции. Поэтому можно было надеяться, что у меня все сложится удачно.
Но я не учел, точнее, не мог предположить, что договориться с очень высоким начальством будет легче, чем с моим непосредственным. Среди новых друзей-офицеров, с которыми я познакомился в Выползове, было немало таких, которые сочувствовали моим планам или по крайней мере понимали, почему я стремлюсь уехать оттуда. Старшим врачом нашего полка был мой сокурсник Леонид Зыльков, не чинивший мне препятствий, хотя и был из "офицеров". Леня сам понимал, что в Выползове я не задержусь, рано или поздно все равно уеду, и говорил со мной об этом вполне откровенно. Удар пришелся с другой стороны.
Неожиданно отцу позвонил Ю.М.Волынкин и сказал: "Саша, не могу ничего понять. Кажется, у Юры не все ладно по службе. В ответ на наш запрос пришла бумага, где говорится, что он недостоин, чтобы его взяли в научный институт, так как ничем не проявил себя, что у них есть более достойные кандидатуры. Съезди к нему в часть, узнай, в чем дело…"
Отец, обеспокоенный тем, что у меня какие-то неприятности по службе, которые я от него скрываю, собрался приехать в Выползово и встретиться с командиром полка. Он никак не мог понять, почему к Волынкину ушло сообщение о моей "недостойности". Что же такое я натворил?
Хотя отец был уже в отставке, он надел свою полковничью форму, приехал в мою часть и был сразу принят командиром полка. Разговор у них состоялся вполне благожелательный. Выяснилось, что со стороны командира никаких препятствий тому, чтобы молодой врач, желающий расти в профессиональном смысле, перешел работать в такой серьезный институт, не существует. И если придут официальные бумаги из института, он не будет возражать, но пока к нему не поступало запроса о переводе старшего лейтенанта Сенкевича.
Отец уехал, а я остался в недоумении — никак не мог понять, что же происходит. Я тогда не знал, что кто-то мне противодействует. И не на уровне высокого начальства, а из моего окружения. Начал пытать Леню, не он ли причастен к этому. Он сам очень удивился случившемуся. Тогда мы уже вдвоем стали думать и гадать, и подозрение пало на одного из наших сокурсников: "А не Колькиных ли рук это дело?" Этот Колька, которого мы в академии звали не по имени, а по кличке Пашка, был старшим в моей учебной группе, поскольку был из "офицеров", и у нас с ним не раз возникали трения. Теперь у него появилась возможность отыграться, так как он считался вторым человеком в дивизии по медицине — руководил дивизионным лазаретом и был моим начальником.
Как бы то ни было, но дело о моем переводе в институт застопорилось. Причин этого выяснить было не у кого: командир полка уехал в отпуск, а его заместитель был не в курсе того, о чем они говорили с моим отцом. Настроение было хуже некуда…
Но вот в один из дней ко мне прибегает знакомый офицер, полностью разделявший мои стремления уехать из Выползова, так как хотел сделать то же самое, и сообщает, что в часть приехал генерал Толубко, что разместился он в офицерской гостинице и немного приболел. А поскольку мне на следующий день предстоит дежурить по лазарету, надо это использовать…
Действительно, на следующий день раздался звонок: просили дежурного врача зайти в номер к генералу Толубко. Я уже готовился ответить: "Слушаюсь! Сейчас прибуду!", как параллельную трубку снял другой врач, хирург, тоже мой однокашник из "офицеров", старше меня по должности. По субординации к самому генералу должен был отправиться он. Я бросился к нему: "Тебе ведь все равно, а мне нужно поговорить с ним… Судьба решается". Тот ни в какую…
Расстроенный, я сменился с дежурства и пошел домой. Но снова встретил того офицера, который накануне сообщил о приезде генерала. Узнав, что мне не удалось попасть к нему, этот энергичный парень стал меня успокаивать: "Еще не все потеряно! Пойдем в столовую!" — "Зачем?" Он объяснил свой очередной план: "Столовая рядом с гостиницей. Узнаем у официантки, которая носит генералу еду, один он сейчас в номере или у него кто-то есть".
Так и сделали. Попросили официантку отнести Толубко минеральной воды: "Узнай, что он делает. И один или нет". Она вернулась: "Ничего не делает. Просто сидит и читает". Тогда приятель говорит: "Иди, не будь дураком! Ну выгонит он тебя, не умрешь же ты от этого!.."
И я решился. Но идти мне, старшему лейтенанту, к генерал-полковнику без вызова, да еще через голову непосредственного начальства?.. В армии с этим строго. Вхожу, спросив, как положено, разрешения. "Что у тебя?" — "Да вот, я врач…" — "Вижу, что врач. Как твоя фамилия?" — "Сенкевич". И тут я сразу почувствовал, что у него в глазах что-то промелькнуло — он словно начал вспоминать…
В общем, я все рассказал Владимиру Федоровичу: про семейное положение — жена в Москве, дочь в Ленинграде, я здесь; про занятия наукой, про запрос из Института авиационной и космической медицины. Когда я назвал фамилию директора института Волынкина, генерал окончательно все вспомнил: "Если институт в тебе заинтересован, я тебя здесь задерживать не буду. Приезжай ко мне… Все решим". Помню, что я уточнил: "Как, можно приехать прямо к вам?"
Я решил ковать железо, пока горячо. Пошел за разрешением к командиру полка, но тот еще был в отпуске, его заместитель не знал, что командир говорил с моим отцом о возможном моем переводе. Тогда я бросился к своему старшему врачу Леониду Зылькову: "Отпусти меня в Москву!" — "Какая Москва! Ты нужен здесь — видишь, идет ремонт медпункта!" — "Леня! О чем ты говоришь? Тут судьба решается…" Леня отправил меня к вышестоящему начальнику. Того тоже не было на месте. Пришлось идти к его заместителю, который не был в курсе моих дел. Начал ему объяснять: "Генерал Толубко приказал мне…" Такого вопроса сам он не мог решить и отправил меня к командиру дивизии… Казалось, конца этой лестнице наверх не будет.
Но делать нечего — пошел. Конечно, и командира дивизии генерала Уварова на месте не оказалось — он объезжал ракетные площадки. Невезение просто преследовало меня, но я решил стоять до конца и дождаться генерала около штаба. Через какое-то время он подъехал. Обращаюсь по форме:
— Товарищ генерал, старший лейтенант Сенкевич…
— Время! Вы пришли не в приемное время!
— Я был у генерал-полковника Толубко… Генерал-полковник приказал приехать… — И тут генерал Уваров "выдал":
— Что, клизму ему ставил?
— Да нет, я был по личному вопросу… Он приказал приехать…
— Это он тебе приказал, а меня может и наказать… Ладно, пойдем разберемся.
Иду за ним, смотрю, генерал хромает — подвернул ногу, когда осматривал площадки, где строили шахты для ракет. Ворчит:
— Вот вы, врачи! Ничего не можете сделать с ногой!
— Как ничего не можем? Вам нужен покой и тепло для ноги. А сейчас нужно бы заморозить, наложить тугую повязку.
— Вот, видишь, ты-то знаешь, а эти черти не знают… Прикажу позвонить, чтобы привезли из лазарета все необходимое…
Я понял, что теперь он сам меня не отпустит. Потом пришлось рассказать ему все, о чем я уже рассказывал генералу Толубко, только с тем дополнением, что запрос на меня приходил, но из нашей части почему-то сообщили, что я недостоин работать в Институте авиационной и космической медицины, хотя командир полка этого запроса в глаза не видел, а в разговоре с моим отцом характеризовал меня с положительной стороны…
Генерал Уваров прервал меня:
— А ну-ка подожди! Начальника отдела кадров ко мне!
Тот быстро явился.
— К тебе запрос на старшего лейтенанта Сенкевича приходил?
Кадровик замялся, стал бормотать что-то невразумительное.
— Так приходил или нет?
— Так точно, приходил.
— И что ты ответил?
— Да вот я… это самое… передал медикам…
— А что они ответили?
— Да я не знаю…
— Чего ты не знаешь? Вон отсюда! Кругом! — Потом обратился ко мне. Ладно, старший лейтенант, даю тебе неделю. Поезжай, хотя сам знаешь, какое сейчас время. Никаких отпусков не положено. Но тебе по тяжелым семейным обстоятельствам даю…
А время тогда было действительно сложное — шел октябрь 1962 года, назревал Карибский кризис в отношениях с США из-за Кубы и все ракетные войска были приведены в состояние готовности № 1.
Я помчался на свой медпункт, чтобы предупредить Леонида, потом бросился домой, скорехонько собрал вещички (чтобы начальство не передумало) и рванул в Москву. Приехал и сразу же стал дозваниваться до Ленинграда, рассказал все отцу. Потом позвонил в институт Ювеналию Михайловичу. Он пригласил меня на следующий день к себе, сказал, что все документы, необходимые для моего перевода, подготовлены, и направил меня в Перхушково, где находился командный пункт Толубко. Поехал. Генерал-полковника на месте не оказалось — он был в отъезде, и когда должен был вернуться, мне никто не мог сказать.
Я ездил со своими документами в Перхушково, как на работу: Белорусский вокзал, электричка, проходная командного пункта, потому что дальше меня не пропускали. Но я решил ждать приезда Толубко около проходной сколько потребуется. И дождался его на четвертый день. Владимир Федорович принял меня, написал на запросе из института свою резолюцию, потом вызвал какого-то офицера: "Оформляйте перевод старшего лейтенанта в институт генерала Волынкина".
Окрыленный, я вернулся в Выползово, чтобы сдать дела своему младшему врачу Русланбеку. Вот уж кто наверняка радовался моему отъезду так же, как и я: больше некому было ловить его на непрофессионализме… Осенью 1962 года для меня началась другая жизнь…
"ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…"
"…Значит — это кому-нибудь нужно?.."
В самом конце 1962 года я обосновался в Москве, в районе Грузинских улиц, где у Ирмы имелась своя комната в коммунальной квартире. Нашими соседями была еще одна семья, так что жить было можно. Тем более что мы должны были вскоре переехать в отдельную квартиру: строительство нашего кооперативного дома на Бережковской набережной уже шло.
Я рвался приступить к работе в институте — так меня влекло интересное дело. Но когда я явился туда, то до приказа о моем зачислении был посажен в отдел кадров заполнять какие-то документы: шла аттестация сотрудников института. На этой же неквалифицированной для врача работе оказался и мой сокурсник Слава Богдашевский, которого тоже перевели в Институт авиационной и космической медицины, правда, с гораздо меньшими трудностями, чем меня. Ростислав после окончания нашей академии попал в десантные войска, работал в своей части хирургом и стал заниматься парашютными прыжками. Его там приметили и пригласили в институт.
Но вот в Москве у Ростислава начались трудности. Хотя он был москвич, здесь жили его родители, его не прописывали вновь в их квартиру, так как до этого он с женой жил в Ленинграде. Вот такие тогда были порядки: москвич, уехавший учиться в Ленинград и женившийся там на ленинградке, терял свое право на прежнюю жилплощадь. У меня с пропиской проблем не было: я приехал жить к жене, требовалось только время на канцелярскую волокиту.
Именно из-за задержки с оформлением нашей прописки задерживался и приказ о зачислении нас в институт. Но то время, которое мы со Славой провели за оформлением аттестационных документов в отделе кадров, нельзя было назвать потраченным без смысла — мы получили общее представление о том, куда попали, о многих из будущих своих возможных коллег, их профессиональном уровне. Из-за сложностей с пропиской в Москве Ростислав Богдашевский через некоторое время ушел работать в Центр подготовки космонавтов в подмосковной Чкаловской, и я остался один.
Вскоре меня вызвал к себе начальник отдела кадров и, выяснив, что я хотел бы заниматься физиологией, сказал, что предложит мою кандидатуру некоторым руководителям лабораторий: "Кому вы подойдете, туда вас и направим". Через какое-то время мне сказали, что надо явиться в такой-то корпус, в такую-то комнату к подполковнику Какурину. Пришел, спросил о подполковнике Какурине.
— Сейчас его нет, но скоро должен прийти.
В этот момент открывается дверь и в комнату стремительно влетает молодой, высокий, широкоплечий, красивый мужчина в свитере (все мы были в военной форме):
— Здравствуйте! Сенкевич? А я Какурин Леонид Иванович. — Он рассказал, что занимается физиологией труда космонавтов и предложил: — Если хочешь, можешь работать в нашей лаборатории. Думаю, что тебе будет интересно.
Конечно, я согласился. И не только из-за тематики своей будущей работы — я был буквально очарован Леонидом Ивановичем. Мне понравилось, что он был одет не в форму, что вел себя свободно, естественно, без чинов. Он тогда не сказал, что уже знал обо мне. Как и я, Какурин был выпускником нашей академии, а его тесть когда-то учился вместе с моим отцом. Мир оказался тесен…
Я проработал с ним несколько лет. Он был прекрасным научным руководителем и таким же прекрасным человеком — добрым, порядочным. К сожалению, Леонид Иванович умер достаточно рано — ему было чуть больше шестидесяти лет.
А тогда он был увлечен идеей моделирования невесомости. Ученые знали, что в невесомости в организме человека могут происходить какие-то изменения, знали, как он реагирует на краткое пребывание в этом состоянии, так как в то время полеты в космос были непродолжительными. Но было неясно, как поведет себя организм при длительной невесомости.
Чтобы изучить эту проблему, американцы первыми стали проводить эксперименты по методу "bed rest" — отдых в постели. У нас это называлось гипокинезией, и изучали мы ее в нашей лаборатории под руководством Юрия Николаевича Токарева. Смысл наших исследований сводился к следующему. Человека укладывали в постель и заставляли лежать почти неподвижно достаточно продолжительное время. Поначалу мы установили срок в одну неделю, потом увеличили до двух — и так по нарастающей, в основном до месяца. В условиях длительного постельного режима в организме происходят различные изменения из-за детренированности мышц, детренированности сердечно-сосудистой системы… Нарушалась ортостатическая устойчивость, потом мы обнаружили изменения плотности костной ткани — из нее вымывался калий… То есть последствия продолжительного пребывания в неподвижном состоянии были близки к тем, что возникают при длительной невесомости. Это и подтвердилось, когда начались многосуточные полеты, а пока мы только моделировали те условия, в которых предстояло оказаться космонавтам, и наблюдали.
При проведении ортостатической пробы мы привязывали испытателей, пролежавших неподвижно в горизонтальном положении длительное время, к специальным поворотным столам. Когда стол начинали переводить в вертикальное положение, то есть нормальное для человека, здоровые, молодые ребята-испытатели иногда теряли сознание — настолько детренированной становилась их сосудистая система…
Надо сказать, что со многим нам тогда приходилось сталкиваться впервые. И не только в медицинском смысле. Возникли и правовые проблемы, связанные с испытателями-добровольцами. Тогда их статус не был четко определен в трудовом законодательстве. Хотя в штате нашего института имелось несколько таких людей, но их оформляли на работу не как испытателей, а механиками, лаборантами, еще кем-нибудь. За эту "работу", точнее сказать, штатную должность, они получали сущую ерунду, а основной их работой было добровольное участие в трудных экспериментах. Из-за того, что такие работы не были четко предусмотрены в законах о труде, не были отработаны условия страховки таких добровольцев, не был определен их статус, у нас постоянно возникали проблемы с бухгалтерией, когда приходилось платить надбавки (достаточно приличные) этим нашим "механикам" и "лаборантам".
У нас в институте был клинический отдел, но маломощный, скорее, одно название. Поэтому мы проводили свои исследования в Институте кардиологии, где была хорошая экспериментальная база и где шли свои опыты и наблюдения по собственным методикам. Организация совместного эксперимента была сложной — предстояло наблюдать сразу за группой из восьми испытателей. Нам помогали и сам директор института Александр Леонидович Мясников, и его сотрудники, врачи-кардиологи Раймон Михайлович Ахрем-Ахремович, Юрий Тимофеевич Пушкарь, Евгений Иванович Чазов… Среди них был и замечательный молодой ученый Юрий Мухамедович Мухарлямов, с которым мы быстро подружились. К сожалению, он очень рано умер.
Хотя основные эксперименты по длительному пребыванию человека в неподвижности вели мы, но кардиологи нам много помогали. Мы ведь не были клиницистами, поэтому постоянно обсуждали с ними получаемые результаты наблюдений, пользовались их лабораториями… По сути дела, они были не просто помощниками, а нашими соавторами. И первые статьи, которые появились после этого эксперимента, были совместными.
Работа шла успешно, и я с удовольствием погружался в свою науку. Мы получали интересные результаты, материалов наблюдений становилось все больше, и я уже начал готовить диссертацию по итогам эксперимента. В то время в Америке вышла книга Рааба и Крауза "Гипокинетическая болезнь". Леонид Иванович Какурин, зная, что я владею английским, предложил мне перевести эту книгу. Я переводил ее по ночам, сидя на кухне, потому что днем был занят в институтах — нашем и у Мясникова. Свободного времени почти не было, поэтому Даша в основном жила у бабушки в Ленинграде. Иногда, когда жена возвращалась с гастролей, мама привозила дочку к нам, а когда Ирма уезжала, забирала опять…
Наступил 1964 год. Освоение космоса шло по нарастающей, но в полеты отправлялись лишь военные летчики. Сергея Павловича Королева это уже не удовлетворяло, поскольку он понимал, что в космосе нужны теперь исследователи-специалисты — инженеры, физики, врачи… А для проведения широким фронтом исследований по физиологии космонавтов, всесторонней подготовки их к полетам, становившимся все более длительными и сложными, нужен был специальный институт. Тогда и встал вопрос о создании гражданского института космической медицины, чтобы он не зависел от военно-воздушных сил.
Дело в том, что существовавший Институт авиационной и космической медицины был военным, его бОльшая часть работала на авиацию, то есть у него была совершенно определенная специализация. И только очень малое число сотрудников совсем недавно начали работать на космос. Этой частью института, занимавшейся космическими медицинскими исследованиями, руководил Владимир Иванович Яздовский. Среди его сотрудников было несколько серьезных ученых, в том числе и будущий академик О.Г.Газенко.
К созданию нового института С.П.Королев привлек известного физиолога А.В.Лебединского, ученика Л.А.Орбели. В Ленинграде Андрей Владимирович был нашим соседом по дому, потом уехал в Москву, руководил Институтом биофизики, который занимался проблемами жизнеобеспечения, проблемами радиации… Когда встал вопрос об организации нового научного центра, то А.В.Лебединскому предложили его возглавить. Вместе с ним туда должны были перейти и многие специалисты, работавшие с ним прежде. Второй группой должны были стать ученые из военного института, где я тогда работал.
В первые месяцы 1964 года мы находились в тревожном и неопределенном состоянии — никто пока не знал, что нам предложат: переходить или остаться. Насильно никого не удерживали, но у сотрудников старшего поколения, имевших определенное положение и в силу возраста уже начинавших задумываться о будущей пенсии, были вполне понятные сомнения. Дело в том, что выходить на пенсию из военного учреждения было несомненно надежнее: "военные" и "гражданские" пенсии значительно отличались. Тогдашние "военные" пенсии были порой намного выше зарплат в гражданских учреждениях.
В один прекрасный день нас собрал наш руководитель Леонид Иванович Какурин и задал вопрос: "Что будем делать? Если останемся здесь, то исследования по гипокинезии придется прекратить — это не по профилю института. Перейдя в новый институт, мы можем там сохранить это направление нашей работы. Но тогда, возможно, придется снять погоны, а следовательно, и забыть о "военной" пенсии в будущем. Понимаю, что кое для кого этот вопрос непростой. Думайте и решайте сами. Но я должен знать, кто уходит со мной, а кто остается".
Конечно, я был среди тех, кто решил переходить вместе с Какуриным в новый, гражданский институт. Но через какое-то время ко мне подошел Леонид Иванович и сказал: "Юра, а тебя из института не отпускают. Сходи сам к Волынкину". Ничего не понимая, пошел на прием к Ювеналию Михайловичу. А он, видимо, расценив мой приход как следствие беспокойства за свою судьбу, стал меня успокаивать: "Ты не волнуйся, мы тебя оставляем". Это было как раз обратное тому, что я уже решил для себя. Тогда я заявил, что хочу перейти в новый институт. "Как?!" — Волынкин был даже как бы разочарован таким поворотом дела. Я стал объяснять Ювеналию Михайловичу, что очень увлечен своей научной работой, хочу не просто ее продолжить, а расширить, что мне все это очень нравится. "Решай сам, как знаешь. Насильно я тебя, конечно, задерживать не буду…"
Так, всей лабораторией, мы перешли на новое место работы, которое впоследствии стало называться Институтом медико-биологических проблем. Институт возглавил А.В.Лебединский, а В.И.Яздовский стал его заместителем. Организационный период для нас прошел без особых сложностей: мы продолжали свои эксперименты на базе Института кардиологии, то есть ничего менять в своей работе особенно не пришлось.
Той же весной было решено послать в космический полет врача-исследователя. Среди нескольких кандидатов был и Борис Егоров, работавший в соседней лаборатории и так же, как и я, перешедший в новый институт. Он интенсивно стал готовиться к полету, который состоялся в октябре 1964 года. Борис входил в состав экипажа многоместного космического корабля "Восход" вместе с командиром Владимиром Комаровым и инженером-исследователем Константином Феоктистовым. Они взлетели "при Хрущеве", а приземлились уже "при Брежневе" — за те несколько дней, что космонавты провели в полете, Никиту Сергеевича "по собственному желанию" отправили на пенсию по решению Политбюро ЦК КПСС…
Как и Борис, я работал младшим научным сотрудником, мы с ним даже оказались соседями по дому на Бережковской набережной. В нем построили квартиры артисты из "Березки", из ансамбля Игоря Моисеева, из консерватории, филармонии… С Борисом Егоровым мы не только были соседями, но и дружили. Оказалось, что даже наши дети — моя дочь и его сын — родились в один день и в один год.
Наши отношения не изменились и после полета Бориса в космос, хотя он сразу пошел в гору. В институте Борис получил повышение — возглавил отдел, потом сектор… У него возникла идея послать в космический полет не просто врача-исследователя, но одновременно и лабораторных животных. Этой идеей он увлек и меня, но я работал не в его отделе. Предстояло поговорить с Леонидом Ивановичем Какуриным о своем интересе к новой идее и о неизбежном поэтому переходе в отдел Егорова. Какурин очень удивился неожиданному для него моему решению: "Как же так? Ты хочешь забросить свою почти готовую диссертацию?" Но я убедил его…
В отдел к Борису уже перешли мои однокашники по академии Евгений Ильин и Слава Корольков. Вскоре к ним присоединился и я. Мы начали готовить эксперимент с собачками Ветерком и Угольком, которым предстояло полететь в космос. Мы были молоды, энтузиазма у нас было хоть отбавляй, настроение у всех было приподнятое, потому что тогда у нас в основном все получалось.
Мы готовили собак специально для полета — вживляли электроды, чтобы записывать миограммы; в область аорты вживляли специальные катетеры, чтобы регистрировать кровяное давление… Было решено кормить собак в космосе искусственным образом — через фистулу в желудке. Пришлось разрабатывать для них гомогенизированную пищу, чтобы она попадала в желудок порциями… Мало того что собак приходилось оперировать, вживлять необходимые датчики, им нужно было сделать соответствующие костюмы, а потом и контейнер, в котором они должны были находиться в космическом корабле… Надо было даже отрезать у собачек хвосты, потому что специалисты по жизнеобеспечению сказали, что принудительной вентиляции и очистке контейнера хвосты мешают. Эту неприятную операцию на взрослых собаках Борис поручил провести мне…
Съём информации должен был проходить в автоматическом режиме, так же автоматически должны были работать системы промывки зонда и поступления пищи. И все это надо было "проиграть" на земле, и не раз. Мы таскали своих собачек по институтам-смежникам, нас изматывали бесчисленные комиссии по приемке тех или иных направлений эксперимента…
Работали мы без отдыха и подготовили сложнейший эксперимент менее чем за год. Ветерок и Уголек полетели в космос в 1965 году — сначала автономно, без человека, так как надо было проверить, как они выдержат все это в космосе. Летали они 22 дня, и, несмотря на тщательную подготовку, пришлось собачкам несладко. В результате длительной работы по подготовке эксперимента у меня опять скопилось немало интересного научного материала уже для другой диссертации (первая так и оставалась лежать втуне).
Пока шла подготовка эксперимента, в моей личной жизни произошли изменения." Начались нелады с женой, которые стали настолько тягостными, что я собрал вещички и ушел из дома на Бережковской набережной в никуда. Мама вынуждена была увезти Дашу в Ленинград, а я "кочевал" — жил то у одного приятеля, то у другого. Пожил немного и у Володи Ухина, знаменитого тогда ведущего популярной и по сей день телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Жена Володи тоже работала в "Березке". Ухины жили в том же доме на Бережковской набережной, в одном подъезде со мной, только этажом выше.
Такая бытовая неустроенность становилась уже утомительной, и в той трудной для меня ситуации Борис Егоров пришел мне на помощь. Он не только стал ездить со мной по каким-то конторам, ведавшим кооперативным строительством, чтобы узнать, где есть готовые к заселению жилые дома, но и помог мне своей известностью "влезть" в один из них: знаменитому космонавту тогда не могли отказать в просьбе за друга. Мне предложили квартиру на первом этаже готового кооперативного дома на улице Мишина. Обычно квартиры на первом этаже при жеребьевке все боялись "вытянуть", поэтому в некоторых кооперативах их даже не разыгрывали, а оставляли для "пожарных" случаев. Моя ситуация как раз подходила под такой случай. Мне же было все равно — лишь бы иметь свою квартиру.
Борис дал мне взаймы приличную сумму, чтобы я мог оплатить первый взнос, и вскоре я уже зажил независимо: купил раскладушку, минимум вещей и наконец-то почувствовал себя человеком. Домой я приходил только ночевать, так как с головой погрузился в работу.
Пока мы готовили к полету своих собачек, начался отбор врачей для будущего космического полета. Выбрали нас троих — Евгения Ильина, Александра Киселева и меня. Нами руководил замечательный психолог Федор Дмитриевич Горбов. Человек удивительно одаренный, невероятной эрудиции, он занимался психологическим отбором кандидатов для полетов в космос.
Пройти отборочную медицинскую комиссию было очень трудно, потому что человека проверяли, как говорится, "по всем косточкам". Он должен был быть не только здоров, но еще и определенным образом устойчив к различным воздействиям, например, вестибулярным. На этом чаще всего и "сыпались" многие вполне здоровые ребята: не каждый мог переносить бесконечные вращения с наклонами головы и другие испытания. Я прошел через все это благополучно.
Очень тяжелым было испытание на центрифуге, когда человека проверяли на устойчивость к перегрузкам. Нас вращали в ней до двенадцатикратных перегрузок, то есть наш вес увеличивался в двенадцать раз. Это очень серьезное воздействие на организм. Дышать при этом очень трудно, это целая наука. Уже при шестикратной нагрузке дышать грудью не физиологично, потому что кислород тратится на обеспечение мускулатуры межреберных мышц. А при восьмикратной перегрузке ты вообще уже не можешь вздохнуть, так как на тебя наваливается невероятная тяжесть. Поэтому надо было научиться "дышать" животом. Находясь в центрифуге, человек держится руками за тангетку, которая находится перед ним, между ног. Если он теряет сознание, то руки разжимаются и центрифуга автоматически останавливается… Испытание это очень трудное, очень серьезное, но зато можно было установить, насколько кандидат в космонавты устойчив к такого рода воздействиям…
Помимо этого были специальная подготовка, парашютные прыжки… Полный набор того, через что должен пройти человек, готовящийся к космическому полету. И при этом мы продолжали работать в институте. Только молодость, запас жизненной прочности и желание участвовать в новых экспериментах позволили нам это выдержать.
Все вроде бы у нас шло так, как мы и задумали: Уголек с Ветерком пролетали свои двадцать с лишним дней, побив все тогдашние рекорды по пребыванию живого существа в космосе (пока американцы на своем "Скайлебе" не пробыли там тридцать суток), мы тренировались, проходили бесконечные обследования… И вдруг нас троих вызывает к себе Борис Егоров. К тому времени наш первый директор, Андрей Владимирович Лебединский, умер и институтом стал руководить Василий Васильевич Парин. Он тогда, как говорится, носился с идеей найти такое место на Земле, которое по своим экстремальным условиям для проживания человека было бы похоже на условия пребывания его в космическом пространстве. В результате для проведения эксперимента выбрали антарктическую станцию "Восток", находящуюся на высоте около 4000 метров над уровнем моря, да еще и на полюсе холода Земли.
В разговоре с нами Борис Егоров рассказал, что кому-то из нашей хорошо подготовленной к полету троицы вместо космоса надо на год поехать в Антарктиду, поселиться там на станции "Восток", где люди длительное время живут в условиях ограниченного пространства, в изоляции от большого мира, на высокогорье, в условиях сверхнизких температур… Там надо будет организовать лабораторию и провести исследования широким фронтом. Предлагая нам самим сделать выбор, Борис старался при этом смотреть на меня.
Я пришел домой и стал обдумывать услышанное, взвешивать все "за" и "против". Если скажу "да", то сразу вылетаю из числа тех, кто намечен к полету. Вдруг утвердят меня, а я уже решил ехать в Антарктиду? Мотивация для отказа Борису была достаточно веская. Но, с другой стороны, у двоих из нашей тройки есть жены, дети, а я живу один… И потом, пока еще подойдет время полета, а я за этот год узнаю много нового, да и смогу подзаработать за зимовку — надо же отдавать долги за квартиру… Пока я так судил-рядил, у меня оформилась главная мысль: в космос-то я еще успею попасть, но зато в кои-то веки попаду в Антарктиду… К вечеру я принял окончательное решение и сразу позвонил Борису, не дожидаясь встречи назавтра в институте. "Я так и знал, что ты согласишься". — "Как ты мог знать, если я решил только что?" — "А когда я еще с вами разговаривал, то видел, что в твоих глазах что-то загорелось…"
ТРИСТА ДНЕЙ НА ЛЕДЯНОМ КУПОЛЕ
Дизель-электроход "Обь", тогдашний флагман нашего антарктического флота, должен был отправиться с участниками очередной, 12-й полярной экспедиции из Ленинграда в сентябре 1966 года. Для подготовки у меня оставалось немногим меньше полугода. За это время с другим сотрудником нашего института, Александром Завадовским, тоже выезжавшим со мной на станцию "Восток", мы стали укомплектовывать свою будущую лабораторию. Мы брали с собой велоэргометр, газоанализатор, биохимическую и кардиологическую аппаратуру, массу других приборов…
Работа в Антарктиде предстояла масштабная — исследования должны были проводиться широким фронтом по многим направлениям. На мою долю выпали наблюдения за физической работоспособностью, ортостатической устойчивостью сердечно-сосудистой системы, газоанализ, а Саша должен был заниматься биохимическими исследованиями, проводить психологические тесты, другие опыты. Кроме того, нам выдали комплекты специального бактерицидного белья, которое берут с собой в полет космонавты, — для исследований бактериальной загрязненности кожи в условиях Антарктиды.
Но мы не пошли на "Оби", а в силу разных причин с большой группой полярников, отправлявшихся на зимовку позже основной части экспедиции, вылетели в Антарктиду в январе 1967 года на большом "ИЛ-18" с множеством промежуточных посадок. Вылетали мы из Ленинграда, где находится Институт Арктики и Антарктики. Я смог перед вылетом встретиться с родителями, с Дашей, которая на время моего отсутствия, по договоренности с моей бывшей женой, оставалась у бабушки.
Так вышло, что перед отправлением в Антарктиду у меня появилась еще одна обязанность, не совсем обычная для врача. И появилась она не без содействия тоже врача. Борис Егоров познакомил меня с выпускником медицинского института Аркадием Аркановым, который тогда только начинал свою литературную карьеру. Через него я познакомился с заместителем главного редактора журнала "Дружба народов" Александром Николаевым. Узнав, что мне предстоит почти год провести в Антарктиде, да еще на самом полюсе холода Земли, Николаев не мог упустить такого случая и "вцепился" в меня, предложив стать их специальным корреспондентом. Так впервые я приобщился к труду журналиста, начав уже в самолете записывать свои путевые впечатления.
С нами вылетел и третий врач, которому предстояло зимовать на "Востоке". Это был Владимир Медведков, хирург, прежде мне незнакомый. Но мы быстро подружились и потом во время посадок самолета старались держаться вместе, гуляя и осматривая те города, в которых оказывались, пока наш "ИЛ-18" "отдыхал".
Первую промежуточную посадку мы сделали в Ташкенте, потом приземлились в Карачи, а дальше нас ждал сказочный остров Цейлон, аэропорт в Коломбо… Никогда не забуду своих тогдашних впечатлений — они были первые и потому очень яркие. Самолет подлетал к острову, и мы из иллюминаторов видели океан невероятного бирюзового цвета, белые волны прибоя и полосу золотого песка… Краски поражали. Стали спускаться и увидели море пальм с колышущимися на ветру зелеными "крыльями". Вышли из самолета и… В Ленинграде, когда мы вылетали, стояла сырая январская стужа — было около 30 градусов мороза. А тут тоже было 30 градусов, но уже совсем других…
Поселили нас в старой, добротной гостинице "Маунт Лавиния" времен английского колониального господства. Она стояла на самом берегу океана. Едва забросив свои вещички в номера, мы сразу бросились на берег. Рядом среди пальм увидели какую-то деревеньку. Я вспомнил, как однажды Борис Егоров во время одного из бесчисленных интервью отшутился, отвечая на вопрос, какое его самое любимое кушанье: "Кокосовый орех, правда, я его никогда не ел". И вот кокосы висят прямо над нами. Как их достать? Пошли в деревеньку, где я попросил какого-то парнишку достать для нас кокос. Малый тут же вскарабкался на пальму, скинул оттуда несколько орехов, снял внешнюю оболочку и ножом — бах! — вскрыл ядро. Я впервые в жизни попробовал кокосовое молоко и был разочарован — белесая жидкость напоминала наш березовый сок.
Мы прожили в этом райском уголке несколько дней: экипаж у нас был один, поэтому летчикам требовался отдых, да и самолету нужен был профилактический осмотр перед броском на юг. А мы в эти дни вообще старались не спать — было жалко тратить время на сон, когда вокруг такая экзотика: слоны, аборигены-веды в набедренных повязках, живописные уличные торговцы, запахи кушаний, которые готовились прямо на ваших глазах… Конечно, был и другой Коломбо: в центре еще сохранялся респектабельный английский стиль, солидные здания, ухоженные парки… И мы бродили по этому сказочному городу, в основном вечерами и ночами, а днем был океан, солнце, на котором мы тут же обгорели…
Следующая посадка была в Индонезии, в Джакарте. И опять мы очутились в сказке. Прожив в ней три дня, полетели дальше — в Австралию. Приземлились в Перте, городе-порте на берегу Индийского океана. Здесь нам предстояло дожидаться прихода "Оби", которая должна была прибыть сюда из Антарктиды с группой отзимовавших полярников, забрать нас и вернуться в Мирный. А зимовщиков ждал наш "отдохнувший" "ИЛ-18", чтобы доставить их на родину.
Хотя в Австралии не было той бьющей в глаза экзотики, которую мы видели всего несколько дней тому назад, но и здесь было нечто такое, что поражало нас. Мы были сражены ухоженностью этой страны, живущей размеренной жизнью без наших европейских потрясений. Страна была не просто ухожена она была вылизана. И это особенно потрясало после привычной для нас неопрятности наших улиц, замызганности домов и подъездов, покосившихся заборов, вечно немытых машин и автобусов…
Конечно, мы не могли не побывать в местном зоопарке, увидели кенгуру, страусов, мишек-коала… Но были встречи и незапланированные. Как-то зашли в магазинчик и вдруг услышали здесь, на другом конце планеты, русскую речь. Так мы познакомились с семейной парой — жена оказалась из Харькова, а муж родился в Югославии. Во время войны, когда гитлеровцы сгоняли в Германию дармовую рабочую силу, наши австралийские знакомые встретились там и полюбили друг друга. После войны, напуганные тем, что их по возвращении ждут лагеря, решили уехать подальше от Европы, в Австралию. Потом они не пожалели об этом, хотя и скучали по родному языку…
В ожидании "Оби" мы прожили в Перте около недели. Получилось так, что нам устроили почти санаторный отдых перед трудной зимовкой. С приходом дизель-электрохода наша прекрасная жизнь кончилась: из комфортабельной гостиницы мы перебрались в твиндек, на двухъярусные койки. И никаких тебе ухоженных газонов, кенгуру, коала. Пища — соответственная: корабельная, хотя и сытная.
Из Перта в Мирный мы шли около недели По мере приближения к Антарктиде стало ощутимо холодать. Вскоре появились и ее визитные карточки — айсберги. Первое впечатление было неожиданное: никакие они не белые, точнее, белые только сверху. Внизу же они как бы вбирали в себя цвет океана переливавшуюся смесь ультрамарина и изумруда.
"Обь" медленно вошла в залив Правды, потом вплотную подошла к высокой ледяной стенке, уткнулась в нее носом. Большую часть года материк окружает припайный лед, замерзшие прибрежные воды. Летом он начинает подтаивать, и резко обрывающийся в океан антарктический панцирь затрудняет разгрузку, так как ледяной берег становится выше палубы судна. Приходится спускать мотоботы, на которых к причалу Мирного перевозят грузы.
Пока "Обь" швартовалась в районе сопки Моренной, небольшого скалистого выступа, было время оглядеться. Среди прозрачной голубой воды залива Правды, словно барашки, лежат несколько желтоватых, стесанных льдом островков. Кое-где плавают льдины, на них пингвины, морские леопарды, летают поморники. Воздух прозрачный. Тишина первозданная. И ослепительное солнце бесконечного полярного дня. Без защитных очков выходить нельзя, равно как и без масок на лицах — обгореть можно моментально: снег и лед отражают солнечный свет и усиливают его влияние на кожу человека.
По импровизированному трапу выбрались на берег, где встречать нас собралось много народу. На вездеходе поехали к поселку, который находится в километре от места швартовки. По дороге разглядывал местность, где расположилась "столица" наших зимовщиков в Антарктиде. Вокруг сопки побольше и поменьше. На скалистой сопке Радио и вокруг нее все затянуто паутиной антенн, у подножия — два домика. Это передающая радиостанция Мирного. На небольшом пригорке — яркий полосатый столб, на нем стрелка с надписью: "Южный полярный круг".
Вторая радиостанция Мирного, приемная, а рядом с ней почтовое отделение и радиоузел расположились около сопки Комсомольской, одной стороной круто обрывающейся в океан. Между этими двумя возвышенностями, Радио и Комсомольской, и находится Мирный со всеми своими многочисленными службами. Но самого поселка, его домов почти не видно — они под снегом. Произошло это из-за стоковых ветров, дующих из глубины материка и приносящих массу снега. Возле любого препятствия сразу возникают сугробы. Бороться со снежными завалами бесполезно, поэтому пришлось пойти по другому пути. Из домов сделали подснежные выходы, то есть прорыли тоннели вверх и устроили лестницы. Над ними установили обтекаемой формы будочки с дверью своеобразные указатели того, что здесь вход в дом.
С сопки Комсомольской открывается вид и на залив Правды с его островками и плавающими в нем айсбергами, и на купол Антарктиды — круто поднимающееся позади Мирного снежное плато. Именно на нем расположилась станция "Восток", куда мне вскоре предстояло вылететь. Основная часть "восточников" уже находилась на станции, в Мирном задержались лишь пятеро: мы, трое врачей, механик Геннадий Мартынов и повар Олег Швецов. И еще добрая половина нашей медицинской аппаратуры, перевозкой которой никто не занимался, так как у всех были свои задачи по отправке на "Восток" собственного оборудования.
Между Мирным и станцией регулярно летали два самолета: перевозили необходимые грузы и оставшуюся смену полярников. Мы ждали прибытия с "Востока" очередного "ИЛ-14", на котором должен был прилететь и врач Геннадий Давыдов, сотрудник нашего института, зимовавший на станции. Он был как бы "разведчиком", тоже имел научное задание, но его не снабдили необходимой аппаратурой для масштабных исследований. Теперь это предстояло сделать нам с Сашей Завадовским.
Геннадий прилетел, с ним еще два зимовщика, все бородатые, но весьма бледные. Удивляться тут нечего: эти люди практически год не были на солнце. "Восточников" от "мирян" очень легко отличить. В Мирном, на побережье, яркое летнее солнце и ветер способствуют быстрому загару, а на "Востоке", где очень низкие температуры даже летом, люди вынуждены постоянно находиться на воздухе в защитных подшлемниках, оставляющих открытыми только глаза.
Встреча с "восточниками" продлилась за полночь в помещении медпункта, где нас поселили. Ребята подробно рассказали о станции, о зимовке, о своей работе. Мне все это было интересно услышать, и я горел желанием скорее очутиться на "Востоке". Но реальность, как всегда, оказалась более прозаичной. По решению начальника экспедиции Владислава Иосифовича Гербовича один из нас должен был остаться в Мирном на несколько дней, чтобы помочь отправить на станцию последние грузы. Естественно, этим остающимся оказался я. У меня же не было желания задерживаться в Мирном еще и потому, что в наших исследованиях намечался из-за этого солидный пробел отсутствие данных по первичной акклиматизации, а нам нужно было оценивать состояние людей, их функциональные возможности в динамике.
Тем не менее ребята улетели с частью нашего оборудования, а я остался помогать загружать в улетавшие и прилетавшие снова самолеты то, что надо было переправить на "Восток". Научился бесконечной борьбе с летчиками, требовавшими, чтобы груза было меньше, так как у них в самолете были дополнительные баки с горючим для обратного пути.
За эти дни прошли торжественные проводы зимовщиков предыдущей экспедиции. Провожать "Обь" вышел весь поселок. На берегу слышались шутки, смех, пожелания счастливого плавания, а с корабля нам желали удачной зимовки. Швартовы отданы, и "Обь" — частичка родной земли — стала медленно выходить из залива Правды… И сразу мы почувствовали себя словно осиротевшими. На обратном пути в поселок уже не было слышно смеха, шуток, на лицах стали заметны задумчивость и грусть. Вероятно, каждому в тот момент приходили мысли о доме, близких.
Через два-три дня работы грузчиком и учетчиком того, что отправлялось на "Восток", мне все это надоело, тем более что было ясно — здесь управились бы и без меня. За это время на станции я уже мог бы начать наши исследования. Да тут еще летчики напугали меня сообщением о том, что в своем очередном рейсе они увидели признаки ухудшения погоды. А она в Антарктиде очень капризна. Бывает так, что среди безветрия и яркого солнца вдруг неожиданно начинает разыгрываться пурга. Тогда полеты самолетов, естественно, невозможны. Для "Востока" это было особенно нежелательно. Лето кончалось, морозы на станции приближались к минус 60 градусам, и она в любой момент могла полностью закрыться для авиации, даже если в Мирном погода будет летной. Дело в том, что при минус 60 градусах снег кристаллизуется, становится похожим на наждак. Самолет на лыжах не может скользить по такому снегу, это все равно что ходить на них по песку.
Однако опасения синоптиков, считавших, что прогнозирование погоды в Антарктиде похоже на гадание на кофейной гуще, не оправдались, и утром 15 января я наконец вылетел на "Восток".
Расстояние от Мирного до станции полторы тысячи километров. Сообщение между ними возможно только в летние месяцы — с декабря по февраль. Когда на "Востоке" становится по местным понятиям тепло, то есть температура поднимается аж до минус 30 градусов, из Мирного выходит санно-тракторный поезд. Это несколько тягачей, к которым прицеплены огромные железные сани. На них везут на "Восток" горючее, технику, продукты, не боящиеся морозов. Весь путь поезд покрывает за 30–35 дней.
Одновременно действует и воздушный "мост" — летают самолеты полярной авиации. Обычно их два. За летний сезон они успевают сделать до тридцати рейсов, перевозя людей, кое-какие продукты и оборудование. Работа летчиков в Антарктиде очень тяжелая, так как летать приходится много и в крайне трудных, а порой и опасных условиях. Полет проходит над ледяным куполом Антарктиды, который через сто километров от берега начинает резко "ползти" вверх — 1000, 2000, 3000 метров над уровнем моря. Самолет значительную часть пятичасового перелета идет на высоте 3000–3500 метров, но реальная высота над снежной поверхностью составляет около 200 метров. В те годы у наших полярных "илов"-трудяг "потолок" был около 3600–3700 метров. Это в нормальных условиях средних широт. А над куполом Антарктиды, да еще с приличным грузом самолетам приходилось идти на пределе.
Полеты усложнялись еще и потому, что рядом расположен геомагнитный полюс, и это сказывается на прохождении радиоволн. Компас здесь почти не действует. Хотя у летчиков были современные навигационные приборы, станцию найти нелегко. Зримых ориентиров нет никаких — сплошная белая пустыня. Единственная зацепка для глаз — след санно-тракторного поезда, но со временем и его заносит снегом. В общем, как я уже говорил, условия для авиации тяжелейшие. Тем не менее летчики, по крайней мере, те, с которыми мне довелось лететь, оказались ребятами жизнерадостными, доброжелательными.
Нам повезло с погодой. Самолет сделал круг над спящим еще Мирным и стал подниматься над куполом. Через два часа все явственнее начала ощущаться высота — появилась одышка, стала побаливать голова. Из-за того, что атмосфера Земли у полюсов как бы сплющена, концентрация кислорода в воздухе над антарктическим панцирем соответствует более значительной высоте где-нибудь в средних широтах. Мы же шли в пределах "потолка" нашего самолета, и 3500 метров здесь весьма отличаются по степени присутствия кислорода от такой же высоты, например, в горах Кавказа: в Антарктиде воздух на этой высоте более разрежен.
Вскоре мы увидели внизу след санного поезда, летчики оживились, особенно штурман: он мог теперь оторваться от своих приборов и заняться приготовлением обеда. Но сосредоточиться на еде нам не пришлось — вдали показалась едва заметная на белом пространстве плато черная точка. "Восток"!
Встречать самолет вышли все пятнадцать человек во главе с начальником станции Борисом Беляевым. Рассмотреть тех, с кем мне предстояло прожить почти год, было невозможно, так как все были одеты в "каэшки", а лица были закрыты шерстяными подшлемниками. "Каэшка" — костюм антарктический, экспедиционный, сокращенно КАЭ, — хорошо приспособлен к здешнему суровому климату. Он представляет собой стеганые, на верблюжьей шерсти брюки и куртку с капюшоном, теплые, легкие, не твердеющие даже при очень больших морозах и не стесняющие движений. Под "каэшку" носят свитера, шерстяное белье, шарфы и дополняют все это варежками разных видов, меховыми унтами… Как я уже упоминал, совершенно необходимой на "Востоке" частью облачения зимовщиков является подшлемник, поскольку при дыхании открытым ртом на морозе существует вполне реальная опасность обморожения дыхательных путей и легких. Такое здесь случалось неоднократно, и последствия этого были плачевными.
Прилетевший самолет стали очень быстро разгружать, чтобы не задерживать. Дело в том, что из-за сильных морозов двигатели не останавливали — иначе их невозможно было бы вновь запустить. Меня к этим работам не допустили, а сразу отправили в помещение станции, показали место, где я буду спать, и уложили в постель. Такой необычный на первый взгляд ритуал встречи новичка вызван необходимостью акклиматизации организм должен приспособиться к гипоксии, недостатку кислорода.
К концу третьих суток у меня исчезли головные боли, одышка, нормализовался сон. Постепенно я стал входить в новую жизнь, осматривать станцию, оборудовать наш медпункт, налаживать привезенную аппаратуру. До нас здесь не было специального помещения для медпункта, только крохотная комнатушка размером 1x2 метра, где к тому же врач и спал. Нам повезло: в эту экспедицию на "Восток" американцы не прислали своего зимовщика, который имеет здесь отдельный павильон — сферическую многослойную палатку с деревянными пристройками по краям и со всеми возможными удобствами для жизни и проведения наблюдений. В этот "американский" павильон переселились три наших физика, освободив для нас свой балок, достаточно просторную по местным меркам комнату.
Балки — это домики на санях размером 3x4 метра, обычно используемые для жилья на полярных станциях. На "Востоке" десять таких балков, составленных вместе, образовали главное помещение станции, покрытое плоской крышей с высокой антенной. Рядом с основным нашим "домом" в балках же разместились аэрологический пункт, ионосферная станция, разного рода вспомогательные сооружения хозяйственного и научного назначения.
Главной частью основного помещения станции была наша кают-компания, самая просторная комната, правда, без окон. Она образовалась от составленных в каре балков. В этот своеобразный внутренний дворик выходили двери из двух жилых комнат, где в одной жили три механика и повар, а в другой, маленькой каморке, поместился начальник станции. Из кают-компании был также выход на кухню и в примыкающие к ней небольшие складские помещения. Отходивший от кают-компании небольшой коридорчик связывал ее с другими жилыми помещениями, а также с баней и теплым холлом, где мы устроили курилку. Из холла был выход в холодные сени. Вот и вся станция "Восток".
В кают-компании стоял большой стол, где могли разместиться все 16 человек. Здесь мы ели, отмечали праздники, здесь смотрели кинофильмы, здесь же находилась и небольшая библиотека. Электроэнергией станцию обеспечивали дизельные генераторы, бесперебойная работа которых была жизненно необходима, потому что помимо выработки электроэнергии они выполняли и вторую важную функцию — отопление. Для него использовалась вода, которой охлаждали двигатели. Нагретая до 70–80 градусов, она по резиновым трубам поступала в радиаторы, размещенные во всех комнатах станции. Даже в восьмидесятиградусные морозы у нас было тепло — температура не опускалась ниже плюс 18 градусов.
Но в такой системе отопления было уязвимое место. Если, не приведи Господь, дизель выйдет из строя и подача теплой воды прекратится, система может замерзнуть менее чем за час, и тогда ее уже не восстановишь. Чтобы такого не случилось, на станции был резервный запас двигателей (помимо аварийного). Для бесперебойного снабжения теплом и энергией дизели регулярно проходили профилактический осмотр: пока работали одни, "отдыхали" и ремонтировались другие, потом их запускали, останавливая для профилактики первые… Чтобы "сердце" станции не давало сбоев, наши механики, а их было трое, несли круглосуточное дежурство. Кроме этой работы они, как и другие, участвовали в подготовке взлетно-посадочной полосы, в текущем ремонте станции, в заготовке снега…
Об этом следует рассказать чуть подробнее. Как это ни покажется странным, но одной из жизненных проблем на "Востоке" была вода. И это несмотря на наличие вокруг льда и снега. Да, их было в избытке, но это была еще не вода. Ее надо было заготавливать. А делали мы это так. Где-нибудь вблизи станции отыскивали место с нетронутым снежным покровом. Здесь начинали пилами разрезать снег на квадратные блоки, складывали их в ряд, а потом доставляли на станцию, на крышу главного здания рядом со специальным бункером. Затем ежедневно снег забрасывали в этот бункер, откуда он попадал в специальную бочку со змеевиком, где циркулировала горячая вода.
Работа сама по себе несложная, но при недостатке кислорода и сильных морозах требует больших физических затрат. Выпилив десять-двенадцать кусков, начинаешь чувствовать сильную одышку, воздух кажется пустым, его глотаешь, как рыба, выброшенная на берег. Рука тянется сорвать подшлемник, чтобы подышать открытым ртом, а это при семидесятиградусном морозе означает не просто пневмонию, а почти верную смерть. После нескольких минут отдыха лежа на снегу, это состояние проходит, и ты снова готов к работе.
Доставка снежных блоков на станцию тоже дело в тех условиях нелегкое. Летом, весной или осенью, когда температура не превышает минус 60 градусов, можно использовать тягач, но когда ртутный столбик ползет все ниже и ниже, приближаясь к минус 80 градусам, приходится таскать снег вручную, на носилках, потому что завести двигатели тягача невозможно.
Работали мы на заготовке снега обычно попарно, по очереди пилили, а потом переносили. Хотя в день приходилось работать два-три часа, мы так уставали, что от разбитости потом отлеживались в постели. Мы старались до наступления самых сильных холодов заготовить снега побольше. Но при этом были ограничены размерами крыши, и кроме того, запасать снег на всю зиму не имело смысла: пролежав около двух месяцев, он превращался в монолит, и его снова надо было пилить.
Воду приходилось экономить. Талая вода очень мягкая, смывает грязь с посуды плохо, поэтому мы добавляли туда горчичный порошок. Для стирки, особенно для полоскания, мы добавляли в воду уксус, чтобы сделать ее более жесткой. Была на "Востоке" и баня, конечно без парилки. Просто помещение со скамейкой для тазов и душ со шлангом. Но по сравнению с тем, что было на "Востоке" прежде, наша баня считалась почти сказкой. Все относительно…
Чтобы закончить тему гигиены, надо рассказать о местной канализации. Тема не совсем привлекательная, весьма прозаичная, но жизнедеятельность человека влечет за собой и проблему ликвидации продуктов этой его жизнедеятельности. Использованную воду и разного рода отходы необходимо куда-нибудь отводить. Для бани и туалета на "Востоке" делали традиционную сточную яму. Традиционную по идее, но не по способу "изготовления". Бралось специальное устройство, своего рода металлическая "тарелка", в кожухе которой были помещены "тэны" — спиральные электрические нагревательные элементы. Рядом со зданием станции выбиралось место, "тарелка" устанавливалась на снег, включалось электричество.
Нагреваясь, устройство начинало постепенно опускаться все ниже и ниже, протаивая в снегу, а потом и во льду вертикальную шахту на глубину 30–40 метров. Такая шахта устраивалась непосредственно под туалетом, который действовал по принципу туалетов в вагонах поездов. Вода и отходы, стекая в такую шахту, при очень сильных морозах замерзали, образуя как бы колонну. По мере заполнения "резервуара" баню и туалет переносили в другое место. За десять лет существования станции таких "колонн" под ней образовалось около десяти. Если бы из-под главного помещения станции был внезапно удален весь снег, то изумленному взору предстало бы странное сооружение, покоящееся на многочисленных колоннах из весьма экзотического строительного материала…
После трех дней, положенных на акклиматизацию, я включился в работу по оборудованию выделенного нам помещения, где мы должны были устроить медпункт, лабораторию и жить сами. Конечно, места для аппаратуры было явно недостаточно, поэтому приходилось изворачиваться. Прежде в нашем балке жили четыре человека, спали они на двухъярусных кроватях, которые были устроены вдоль стен, как полки в купе вагона. Одну из нижних кроватей мы превратили в своего рода стеллаж для своих приборов, три другие использовали по назначению. Мне досталась нижняя, надо мной устроился Саша Завадовский… Хотя мы еще почти месяц что-то переставляли, передвигали в поисках рационального размещения аппаратуры, теснота причиняла нам неудобства в течение всей зимовки.
Наши медицинские исследования тем не менее начались. Пятнадцать дней в месяц мы обследовали зимовщиков (напоминаю, что нас на станции было 16 человек), остальные пятнадцать дней обрабатывали, анализировали полученные результаты. Люди крутили по нашей просьбе велоэргометр, мы по своим методикам изучали потребление кислорода, выделение углекислоты… С помощью других приборов исследовали функционирование различных систем организма…
В первые недели у нас с зимовщиками не было видимых проблем: они делали то, что мы их просили, одни с удовольствием, другие без удовольствия, понимая, что так нужно. Но потом некоторые стали отказываться. Дело в том, что на велоэргометре мы делали две пробы щадящую, когда человек просто крутил наш "велосипед" несколько минут, а потом шла ступенчатая проба с нагрузкой. Человек должен был первую минуту крутить велоэргометр с нагрузкой, допустим, в 100 кг/м, потом мы увеличивали ее на 50 килограммов и так далее. Каждую минуту мы прибавляли определенный вес и постепенно доходили до того предела, когда человек уже был не в состоянии двинуть педали. Так мы определяли объем выполненной этим человеком работы во времени, возможности его организма.
Но одно дело крутить велоэргометр в нормальных условиях, и совсем другое — делать это на высоте "Востока", где низкое содержание кислорода в воздухе. Кроме того, на станции все быстро поняли, что участие в наших исследованиях дело сугубо добровольное, за это не полагается никаких надбавок. То есть здесь я столкнулся с тем же, с чем мы сталкивались в Москве у себя в институте, когда дело касалось статуса добровольцев-испытателей.
Приходилось прибегать к беспроигрышной мотивации, чтобы заставить людей участвовать в наших исследованиях. У нас, врачей, была самая главная "валюта" — медицинский спирт. Наученные горьким опытом еще в Москве, мы предвидели такого рода проблемы с нашими "клиентами" и привезли с собой четыре весьма внушительных бидона. Хранились они у меня под кроватью, и я, почти как сказочный дракон, охранял свои сокровища: доступ к ним был, как говорится, "только через мой труп". Начальник станции хотел было "наложить лапу" на наше достояние, но у него почти ничего не вышло: я выделил ему совсем немного.
Самое неприятное последствие проб на велоэргометре, да еще со ступенчатой нагрузкой, — страшные боли, особенно в мышцах бедер. Я испытал это сам, поскольку для получения наиболее объективных данных нам приходилось проводить исследования на себе. У остальных зимовщиков мы могли проверить и проанализировать показания пульса, давления, изменения в кардиограмме только на первых минутах работы на велоэргометре, а дальше у нас не всегда была уверенность, что человек "крутит" до предела, "выкладывается" полностью.
Когда я, проведя необходимые пробы, соскакивал с "велосипеда" и садился в специальное кресло, два других врача, Саша и Володя, сразу начинали делать мне активный массаж. Дело в том, что в бедренных мышцах накапливалась молочная кислота, вызывавшая страшную мышечную боль, которую надо было быстро снять, разогнав недоокисленные продукты.
Из-за экстремальных условий "Востока" возникли проблемы и с нашими приборами. Привезенный нами газоанализатор был рассчитан на нормальное барометрическое давление в 760 миллиметров ртутного столба, а у нас на станции оно было намного ниже — 450 миллиметров. Пришлось в наших показателях делать определенные поправки. Другой сложностью оказались помехи. Проверенные способы борьбы с ними — экранировка и заземление — на "Востоке" не действовали по той причине, что земля здесь отсутствовала: материк находится глубоко, под трехкилометровым ледяным панцирем. Но мы потом нашли другие способы, как избавиться от досадных помех…
По мере приближения полярной ночи морозы начали усиливаться температура ниже минус 60 градусов стала обычной. Правда, их было можно переносить из-за сухости воздуха и еще потому, что на "Востоке" ветры хотя и постоянные, но очень слабые: воздух как бы стекает с купола к побережью. Природа мудро устроила именно так, потому что, если бы при тех температурах здесь еще и дули ветры, жить на станции люди не смогли бы.
Пока была возможность лишний раз выйти на воздух, я ею пользовался. Помню, как в один из первых дней своего пребывания на "Востоке" я вышел один и решил пройтись по ближайшим окрестностям. Вокруг бескрайняя снежная равнина — настоящее белое безмолвие, почти по Джеку Лондону. Тишина вокруг неправдоподобная. Единственный звук — слабое тарахтение нашего дизеля. Снег хоть и плотный, но следы на нем остаются. Пошел вперед и вдруг вижу: вверх по снегу поднимаются какие-то следы… Ничего не понимаю — ведь только что передо мной была плоская снежная равнина. Оглядываюсь в недоумении — минуту назад горизонт был виден, а сейчас его нет, лишь мои следы идут вверх. Стою как в белой чаше, по стенкам которой, сзади и спереди, какие-то следы. Вроде бы только мои и могут тут быть… Был момент, когда я и звука дизеля не услышал, а он — единственный ориентир в этом затерянном мире. Испугался, чего уж тут греха таить. Что же такое происходит?.. Состояние не самое приятное… И вдруг все пропало! Вижу — вон там станция, дизель молотит свое "тук-тук-тук"… Мираж…
Началом нашей зимовки стал момент, когда станцию покинул последний самолет. Последняя ниточка, связывавшая нас с Мирным, с "большой землей" если не оборвалась совсем, то стала очень тонкой. И ниточкой этой была радиосвязь, поэтому наш радист Володя Терехин был почти королем. Первое время зимовки мы не особенно ощущали свою удаленность от остального мира. Все были заняты делами, обживали станцию, привыкали друг к другу. Постепенно стал налаживаться быт, вырабатывался привычный ритм жизни.
День начинался в половине восьмого утра, хотя, что такое утро или вечер в условиях полярной ночи, — условность и только. Тем не менее к завтраку собирались точно. Лишь аэрологи, метеоролог и повар вставали раньше всех часа на полтора. Приходили и трое сотрудников, живших в "американском" павильоне. Отсыпался только ночной дежурный механик. Дежурный по станции накрывал на стол, повар Олег разносил еду. У нас был даже своеобразный сигнал, заменявший гонг и приглашавший к столу. Сигнал издавала падающая лавка, которая была прикреплена к стене, чтобы не стеснять проход, и откидывающаяся, как скамейка в кузове грузовика.
Завтраки обычно проходили оживленно. Потом мы собирались в холле, где курящие курили, а некурящие при сем присутствовали. Затем все расходились по своим местам, павильонам, лабораториям. То же самое было и после обеда и ужина, только вечерами мы никуда не торопились, а оставались в кают-компании, чтобы смотреть кино. Смотрели его ежедневно.
За время существования станции (с декабря 1957 года) здесь скопилось более 180 фильмов, и до середины июля мы могли смотреть картины, не повторяясь. Потом пришлось крутить их по второму разу. При этом если первый круг шел в алфавитном порядке, то во втором мы уже выбирали наиболее интересные, так как в репертуаре нашего "кинотеатра" были и заведомо скучные, и документальные, и детские, и просто плохие, непонятно почему привезенные сюда. Кто их отбирал, сказать трудно, но явно не тот, кто представлял себе жизнь на станции "Восток", где кино в те годы было основным культурным мероприятием, от которого зависело не просто настроение зимовщиков, но и психологический климат на станции.
Далее начался третий круг просмотра кинофильмов. И здесь соблюдалась полная демократия, то есть картину отбирал по своему вкусу очередной дежурный. Его выбор не всегда одобряли другие члены нашей экспедиции, и иногда дежурный смотрел свой любимый фильм в полном одиночестве. Остальные уходили к себе и занимались каждый своим делом. На улицу выходить без особой надобности не хотелось: морозы начались страшные. При нас три дня было минус 85 градусов. Но и это еще не было для "Востока" удивительным: до нас, в августе 1960 года, здесь была зарегистрирована температура минус 88,3 градуса, а уже после нас — минус 89 градусов с какими-то десятыми. Прямо-таки потусторонние холода…
Ионосферистом у нас работал Алик Колесников, которому мы немного завидовали, потому что у него была отдельная каморка, в которой он мог уединиться. Для своих радиозондов он должен был получать газ, используя огромные баллоны, в которые засыпал какие-то реагенты. Шла химическая реакция, выделялся газ, Алик наполнял им свои зонды. Но у него была другая проблема — эти тяжелые баллоны надо было очищать от того, что оставалось там после окончания реакции: реагенты то ли спекались, то ли застывали, не помню точно. Помню только, что работа эта была трудная и один Алик физически не мог справиться с ней. Поэтому начальник станции поставил перед нами задачу: "Ребята, вы должны помогать Колесникову". Конечно, радости нам это не доставило, но если надо, то надо. Тогда авторитет начальника станции еще был весом и дисциплина была сама собою разумеющейся.
И вот мы ставили эти чертовы баллоны на поворотные "козлы" и огромным металлическим "шомполом" начинали чистить их, как пушку, разбивая спекшуюся внутри массу, переворачивая и высыпая содержимое. Потом возвращали баллоны в прежнее положение, снова били, снова переворачивали… Работа была противная донельзя. Кто-то поначалу помогал Алику, потом стал отлынивать. Алик взывал к милосердию. Звал он и нас, говоря: "Если вы не придете ко мне, я не приду к вам на обследование…" У каждого были свои меры воздействия на несознательных.
Но самым несчастным человеком на станции был наш повар Олег — у него не было подмены, а кормить ему приходилось пятнадцать мужиков. Это был совсем еще молодой парень, но мы звали его Ардальоныч, по отчеству. На "Восток" он попал случайно — заменил заболевшего повара, оставшегося в Мирном. Олег хотя и окончил кулинарный техникум, но опыта не имел никакого, поэтому у нас с ним сразу же начались проблемы. Первые две недели мы терпели его не очень вкусную еду, правда, при этом не стеснялись в выражениях: "Жри свою стряпню сам!" И это было еще очень вежливо. Потом сообща составили меню, в котором блюда повторялись не чаще, чем раз в неделю, и заставили Ардальоныча заглядывать в книги по кулинарии. Постепенно дело пошло на лад. Но жизнь повара не стала легче.
Приготовление пищи на станции имело свои особенности. На высоте 3500 метров (что соответствовало по кислороду всем 4000 в средних широтах) вода закипала при плюс 80 градусах, и для того, чтобы сварить картошку, нужно было часа три. Так что нашему повару приходилось тратить больше времени на приготовление еды, а для того, чтобы накормить нас завтраком, ему надо было вставать намного раньше. Но все-таки к середине зимовки Ардальоныч уже успешно справлялся со своими обязанностями и по воскресеньям или в праздники баловал нас пирогами и даже жареной индейкой.
С продуктами на станции было все нормально: мяса, масла, муки, круп, картофеля, привезенных из Ленинграда, было в достатке, а фрукты, овощи и соки доставили из более близких мест — из Австралии. В отличие от наших предшественников, у которых картошка и лук закончились к октябрю, а фрукты через два месяца, у нас до конца зимовки были картофель, капуста, даже квашеная, а фрукты, которые могут долго храниться, мы "растянули" до мая. Зеленый лук мы выращивали сами из "проклюнувшихся" луковиц.
Праздничные застолья у нас были нередки: мы отмечали и общие для всех "красные дни" календаря — 23 февраля, 1 мая, 9 мая, и дни рождения каждого из нас, если они пришлись на время зимовки. Именно на "Востоке" я отметил свое тридцатилетие, а наш механик Геннадий Мартынов, небольшого роста крепыш, в прошлом моряк и боксер, отметил сорокалетие.
Ритуал наших "посиделок" в кают-компании выработался очень скоро. Но началось с небольшого происшествия. Когда мы уселись за праздничным столом, где была и вареная картошечка, и квашеная капустка, и зеленый лучок, и многое другое, для чего по русскому обычаю требуется то, чего на станции не было (в распоряжении начальника были только коньяк и вина), я расщедрился и осчастливил своих товарищей содержимым заветных бидонов, которые держал у себя под кроватью. Естественно, что за столом мы засиделись настолько долго, что поутру повар был не в состоянии встать вовремя и накормить всех завтраком. Тогда начальник станции принял волевое решение — повар вместе со всеми садится за праздничный стол, принимает только три "стопочки" и отправляется спать, чтобы к утру быть в форме… Бедный наш Ардальоныч! Лишили парня такого счастья! Мало того, отправляя его спать, мы давали ему наказ: "Чтоб завтра с утра были кислые щи!" Понятно, почему кислые…
А перед началом наших торжественных застолий повар входил в кают-компанию с графином спирта и спрашивал: "Как будем разводить?" "Сегодня разводи по широте". Дело в том, что "Восток" находится на 79-м градусе южной широты. Ардальоныч шел на свою кухню, разводил до нужной крепости, потом на несколько минут выставлял графин на мороз (а он был под 80 градусов). При такой низкой температуре содержимое графина густело, становилось почти ликером. Потом эта благословенная жидкость разливалась в металлические стопочки, изготовленные нашими рукодельными механиками. Почему-то предпочитали пользоваться именно этими рюмками собственного производства, хотя на станции было вдоволь нормальной посуды. После застолья мы смотрели кино, а кто не хотел или не мог из-за режима работы оставаться, уходил к себе.
Во время той зимовки мы отметили и десятилетие существования станции "Восток". К этому юбилею я заранее стал готовить подарки для всех своих товарищей — значки в виде карты Антарктиды. Поначалу я нарисовал шаблончик — контур материка с характерным вытянутым "носиком" Антарктического полуострова. Потом из латуни наши механики вырезали мне по этому шаблону шестнадцать заготовок, на которых я с помощью имевшихся на станции зубного бора и бормашины сделал рельеф Антарктиды. Отполировав, я на некоторые значки даже вставил маленькие рубинчики, обозначавшие место нашей станции на карте материка. Рубинчики я нашел в старых, сломанных часах, оставшихся от прежних зимовщиков. На обратной стороне значков были выгравированы номера — от первого до шестнадцатого. Себе я взял № 13. Потом все те же наши "рукастые" механики припаяли с обратной стороны значков маленькие иголочки типа крючочка, чтобы их можно было прикреплять к пиджаку или свитеру.
Такие отвлечения на праздничные "посиделки", на вручение подарков по случаю юбилеев, на поздравления, даже на выпуск праздничной стенгазеты были необходимой разрядкой в условиях монотонного существования людей в ограниченном пространстве, в условиях страшных морозов, давящей темноты полярной ночи. На психику давило и сознание полной изолированности от внешнего мира, пусть и временной, пусть и при возможности связи по радио. Но мы все понимали, что, если, не дай Бог, что-нибудь случится, отсюда нас никто не вывезет, никто не поможет: в страшные морозы ни самолеты, ни тягачи с санями не действуют. Техника в таких условиях не работает, а людям приходилось.
Конечно, психика начинала уставать, и по мере протекания зимовки напряженность на станции нарастала.
По-человечески все можно было понять: и срывы, и усталость друг от друга, и раздражительность, когда долго не было вестей с "большой земли", от родных. Бывали случаи, когда здоровые, крепкие мужики, долго не получавшие из дома радиограмм, начинали сдавать, обвиняя жен в невнимании, грозясь "на расстоянии" подать на развод… Но стоило на следующий день прийти долгожданной весточке из дома, как сразу всё, словно по мановению волшебной палочки, нормализовывалось.
В связи с этим наш радист Володя Терехин был, конечно, на станции благодетелем человечества. Через некоторое время для нас стали устраивать сеансы радиосвязи с родными. Мне удалось раза два-три поговорить с отцом, мамой, Дашей. К такому прямому контакту надо было приноровиться, потому что слышимость была плохая, да и говорить приходилось по очереди: сначала говоришь ты — тебя слушают, потом неизменное слово "прием" — и говорят из Ленинграда, а ты пытаешься разобрать среди треска в эфире то, о чем тебя спрашивают: "Как ты там?" — "Прием". — "Хорошо. Почти как на курорте…" "Прием". Отец даже умудрился записать эти наши переговоры из рубки Института Арктики и Антарктики. Эти сеансы были для нас праздником и имели большое психологическое значение: потом мы еще несколько дней ходили в приподнятом настроении.
Конечно, добавляло нагрузку на психику и отсутствие женщин. Многие переносили это с трудом. Подавляли накопившееся напряжение тем, что развешивали в своих комнатах изображения красоток из невиданного тогда у нас в стране журнала "Плейбой", номеров которого было довольно много в "американском" павильоне. Правда, в общественных помещениях откровенно обнаженных девиц на стенах не было: в кают-компании висел календарь с портретами наших актрис-красавиц, который мне перед моим отлетом из Москвы подарила Наташа Фатеева. И вот мы стали делать из его листов подарки тому, кто в тот или иной месяц отмечал свой день рождения.
Безусловно, зимовка накладывала свой отпечаток на человека, на его поведение. Неизбежность в течение длительного времени находиться в одном и том же помещении, в одном и том же коллективе, невозможность уединиться делали свое дело. Небольшие, кратковременные выходы на воздух не решали проблемы. Люди раскрывались здесь полностью. Притворяться хорошим, добродетельным невозможно — просто надо быть нормальным человеком. Мы же были на виду друг у друга, знали слабые и сильные стороны каждого, все проблемы с женами, с детьми, с любимыми… Ведь весточки из дома мы получали через радиостанцию Мирного, оттуда они поступали к нашему радисту, так что секретов не было никаких.
Постепенно, по мере накопления психической усталости, начинал раздражать один человек, его привычки, потом другой… И это зависело вовсе не от характера, а порой от посторонних на первый взгляд причин: от погоды, от того, получил ли ты радиограмму от родных или нет… Возникало желание не видеть никого или видеть только тех, кто тебе ближе по духу. Коллектив так или иначе в таких условиях начинает разбиваться на группки, хочется посидеть втроем, вчетвером, посплетничать о ком-то другом, "погрызть его косточки"… Такова природа человеческой психики, такова реальная жизнь, и никуда от этой данности не уйти.
Из-за монотонности жизни, из-за того, что уже все узнал о своих товарищах по зимовке, мне месяца через три больше не хотелось делать записи в своем дневнике, и я его забросил. Да и что интересного я мог там писать каждый день? Все оговорено, все рассказано — неинтересно. Хотелось других впечатлений…
Первое время нас еще объединяли разговоры, рассказы о зимовках некоторые из наших товарищей побывали там неоднократно. Старший механик Федор Львов, по облику настоящий русский богатырь, уже зимовал за два года до этого на "Востоке". Его помощники были тоже не новички в Антарктиде: Евгений Помехов, житель Архангельска, развлекавший нас своими рассказами о родном городе, о знаменитой Соломбале, где Петр I строил первые морские суда, был на "Востоке", когда отмечалось шестилетие станции. Другой механик, Геннадий Мартынов, в Антарктиде третий раз: зимовал в Мирном, водил санно-тракторный поезд на станцию "Новолзаревская"…
Немало тех, кто приезжал в Антарктиду, поработали до этого в Арктике. Правда, зимовки на Севере отличаются от зимовок на ледяном континенте. Арктика более обжита, там работала (по крайней мере, в те годы) целая сеть метеостанций, на льдинах дрейфовали станции "СП" ("Северный полюс"), что небезопасно, так как огромные льдины постоянно грозили расколоться (и раскалывались).
Зимовки на прибрежных станциях в Арктике отличались еще и тем, что там состав сотрудников был смешанным, то есть нередко специалисты-полярники приезжали с женами, которые работали метеорологами, радистками — в зависимости от своей профессии. И хотя это на первый взгляд было неплохо, но и там возникало немало сложных коллизий на личной почве, так как среди сотрудников станций преобладали мужчины-одиночки. Нередко случалось, что семьи распадались, то есть находилась замена мужу.
Но уж совсем необычную историю рассказал нам наш радист Володя Терехин, проработавший какое-то время на одной из арктических станций. А начало этой истории случилось… в бане. Поскольку баня на станции, как правило, одна, то устанавливается очередность мытья — "мужской" день, "женский" день. Молодой, весьма шустрый радист, проявлявший вполне объяснимый интерес к особам противоположного пола, решил узнать, о чем же говорят женщины в перерывах между намыливанием и обливанием из тазиков. И тогда наш не в меру любознательный Володя применил на деле свои обширные познания в радиотехнике: установил в бане незаметный для глаз микрофон и записал то, о чем судачили женщины.
Когда он в своей радиорубке прослушал записанное, то волосы у него встали дыбом: он узнал о друзьях-приятелях такое, что лучше и не знать. Видимо, мужья так в чем-то не угодили своим женам-полярницам, что они между собой не стеснялись в выражениях. Оказалось, что в применении, говоря по-научному, инвективной лексики женщины во многом превзошли мужчин. А Володя стал обладателем жуткой тайны. И его начал грызть внутри какой-то червь — так ему хотелось поделиться ею с кем-нибудь. Случай вскоре представился. Один из его друзей-полярников, видимо от тоски, решил посидеть в тишине с радистом и принес для "затравки" разговора тайком от строгой жены то, что полагается в мужской компании. Приняв соответствующее количество согревающего напитка, Володя расхвастался и дал послушать мужу "банную" пленку…
На следующий день, когда радист находился в рубке, раздался стук в дверь. Не ожидая ничего плохого, он открыл ее. И что же он увидел? Перед ним стояли несколько женщин… с карабином: "Вот что, Терехин, давай одевайся и выходи! Сейчас будем отправлять тебя в рай!" Это не было шуткой: рассерженные дамы пришли расправиться с радистом всерьез. А карабин на полярных станциях в Арктике всегда имелся — для защиты от белых медведей.
Оказалось, что разъяренный муж, да еще в подпитии, после всего услышанного пришел домой и так "поговорил" с женой, что на ее лице остались следы их крупного "разговора". Пострадавшая, выяснив, откуда идет информация о "банных" откровениях, собрала своих подружек, взяла карабин и привела всех к радиорубке. Как нам рассказывал Володя, с ним от страха почти приключилось то, что называется "медвежьей болезнью", так как в глазах женщин он увидел — они сделают, что обещали. Прямо-таки шекспировские страсти за Полярным кругом.
Бросившись на колени, он стал умолять, обещал отдать пленку, чтобы они сами ее уничтожили. Сколько он так стоял и умолял, Володя не помнил, но одну из полярных дам он разжалобил. Обошлось… Что Володя сгустил в этом рассказе, судить не могу, но можно представить, в какой атмосфере прошла зимовка на той станции. Володя же признался, что это была для него наука на всю жизнь.
Сложные, порой драматические коллизии возникали не только на небольших станциях и в смешанных коллективах. Когда мы приехали в Антарктиду, нам рассказали историю, ставшую широко известной среди здешних зимовщиков и происшедшую незадолго перед тем в Мирном. Ее героями были два врача. Поскольку в Мирном зимовало много народа, то там всегда имелись один терапевт и один хирург, он же и стоматолог. Медпункт располагался в отдельном домике, где кроме основного входа был и запасной. Так было устроено во всех домиках поселка на случай пожара, чтобы выбраться из-под снега. (Речь идет о старом Мирном. Теперь поселок совсем другой.)
Приехавшие на зимовку два врача поначалу работали нормально, даже подружились. Но потом между ними что-то произошло — они рассорились в пух и прах, почти до ненависти. Перегородили домик, и каждый входил в медпункт через свой вход. Даже в столовую ходили в разное время, чтобы не встречаться. Но так случилось, что у терапевта заболел зуб. Обращаться к коллеге он, естественно, не хотел. Терпел, терпел боль, потом понял, что зуб надо удалять. Но как это сделать? Ведь с соседом он не разговаривал. И решил провести операцию сам. Прочитал в медицинском справочнике необходимый раздел, соорудил систему зеркал, чтобы можно было видеть полость собственного рта. Сделал все, что полагается, — обезболил, взял щипцы и удалил… соседний с больным совершенно здоровый зуб. Видимо, он ошибся из-за зеркальности изображения… Кончилось тем, что терапевт все-таки был вынужден пойти к соседу-хирургу. Они помирились…
История эта, конечно, стала известна в Мирном. Она лишний раз подтвердила, что зимовка — очень трудное испытание для человека, что в непростых условиях возникают проблемы в межличностных отношениях из-за степени психологической несовместимости. Тем не менее, несмотря на то, что жизнь на полярных станциях, прямо скажем, не сахар, некоторые проводили на них если не большую, то лучшую часть жизни. Хотя многие и говорили после возвращения домой: "Всё! Больше никаких Антарктик, никаких "Востоков"!", но через какое-то время снова возвращались. И не раз.
Что двигало этими людьми? Мнения на этот счет были самые разные. Одни считали, что на зимовки едут люди с особым складом души, с особым характером — бродяги-фанатики, одержимые жаждой скитаний, романтики, "заболевшие" Арктикой и Антарктикой. В те времена труд полярников еще был окружен определенным почетом, считался настоящим мужским занятием.
Другими двигали совершенно реальные, земные цели — возможность заработать, пусть и тяжким трудом, приличные деньги, так как существовала целая система полярных надбавок. Это был своего рода отхожий промысел крепких мужиков. Для ученых, занятых науками о Земле, особенно для молодых, честолюбивых, прозябавших в своих институтах на более чем скромную зарплату младших научных сотрудников, поездка в Арктику или Антарктику, в длительную экспедицию давала возможность на месте получить хороший научный материал для диссертации… Но все эти возможные мотивации весьма условны и на деле намного сложнее, как сложен сам человек, его внутренний мир. Тем более что человек, оказавшийся в необычных для себя условиях, менялся: уезжая на зимовку одним, он возвращался уже другим, приобретя опыт, которого не мог получить в своем городе или поселке.
В результате, узнав на деле, что такое жизнь полярников, кое-кто как бы привыкал к ней, привыкал к трудным условиям, и работа на полярных станциях становилась уже профессией. Среди полярников в те годы был совершенно уникальный человек — он шесть раз плавал на дрейфующих станциях в Арктике и пять раз зимовал в Антарктиде… Это стало его жизнью.
По мере протекания нашей зимовки, с наступлением полярной ночи, когда морозы стали доходить до минус 80 градусов, усиливался и дискомфорт. И не только от сознания того, что на улице стоит прямо-таки потусторонний холод, — психологически к этому привыкнуть можно, физически же, конечно, нет. Дискомфорт мы испытывали оттого, что основное время проводили в закрытом помещении, от невозможности побыть одному со своими мыслями. Я уже знал наперед, что скажет тот или иной из моих товарищей, какие у него интересы и вкусы. Относительно легче было тем, у кого имелось "персональное" жилье, — Алику Колесникову в его ионосферной каморке, нашим "американцам".
Эти трое физиков жили в павильоне, стоявшем отдельно от основного помещения станции, метрах в ста, и проводили там исследования на американской аппаратуре и по американским методикам. Такая была договоренность, поскольку американцы присылали своего зимовщика на "Восток" не каждый год, а только прилетали для инспекции, когда наступали летние месяцы. У ребят из "американского" павильона была хорошая печка, работавшая на солярке, имелся небольшой запас самых необходимых продуктов, хотя питаться они приходили к нам в кают-компанию. Мы подружились с физиками и старались почаще ходить к ним "на чай", иногда принося с собой не только кондитерские гостинцы, благо у ребят всегда было чем закусить.
Идти до павильона близко, можно было немного прогуляться, поскольку наша утепленная одежда позволяла пробыть на воздухе минут двадцать-тридцать, — потом уже холод начинал давать о себе знать. Выйдешь в полярную ночь — небо над тобой огромное, фиолетовое, звезды яркие, сверкают, как алмазы. Высоко над головой стоит Южный Крест, а по горизонту никогда не пропадающая полоска — как бы спрессованный спектр: "Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан". И вот этот "Фазан" покрывает фиолетовым цветом все небо над тобой, и только узкой полоской сжимаются к горизонту все остальные — там, где в этот момент находится невидимое пока нам солнце: синий (Сидит), голубой (Где), зеленый (Знать)… В самом низу красный цвет. Необычная красота…
В павильоне у физиков после американцев оставалось много журналов, в том числе и "Плейбой". Рассматривая журнал, читая его, я поддерживал в форме свой английский. Как-то в одном из номеров я увидел фотографии африканских масок и в том числе изображение богини Зулубубу. Она заинтересовала меня еще и потому, что в журнале я увидел карикатуру: на фоне гостиной, украшенной охотничьими трофеями — рогами, чучелами, — были изображены старикан-божий одуванчик и рядом молодая девица. Мисс тянулась рукой к какой-то африканской фигурке. Подпись под карикатурой гласила: "Мисс, ради Бога, не дотрагивайтесь до этой богини". Я не понял, что значит эта сцена, и тем более — зачем эта подпись. Но решил сделать маску богини и другие, увиденные в журнале.
В качестве материала я использовал имевшийся в павильоне упаковочный пенополиуретан. В свое время, еще в школе, я увлекался выпиливанием, резьбой, когда ходил в кружок в ДПШ, поэтому у меня остались прошлые навыки. Скальпелем я резал легкий, пористый американский материал, склеивал, раскрашивал красками — маски получились неплохие. Я их раздарил, а себе оставил только богиню Зулубубу. Потом уже в каком-то каталоге я случайно опять увидел фотографию богини Зулубубу и под ней стоимость этой бронзовой фигурки. Каталог сообщал, что статуэтку могут выслать по заказу, что изображает она африканскую богиню плодовитости и, по преданию, женщина, прикоснувшаяся к ней, должна забеременеть. Только тогда до меня дошел смысл карикатуры, увиденной в "Плейбое", и юмор, заключенный в подписи: старикашка был совсем дряхлый, а мисс очень молода.
Приходилось использовать любую возможность хоть как-то уединиться. И одной из таких возможностей было окончание дежурства. На станции был четкий порядок — раз в две недели каждый из нас дежурил: убирал со стола, мыл посуду, подметал пол, наводил порядок в туалете… Отдежурив, человек шел в баню, мылся, стирал там свое белье. Нам троим в этом плане было проще: у нас с собой были комплекты бактерицидного белья, которые мы должны были вернуть в Москве для исследований. Поначалу мы хотели раздать белье всем сразу, но потом решили, что оставим его себе: какая разница, кто его носит. В общем, использовали свое "служебное положение".
После дежурства и бани я уединялся на кухне и устраивал себе маленький праздник. Еще в самом начале зимовки начальник станции выдал каждому из нас по нескольку ящиков томатного сока, закупленного в Австралии. Кто-то выпил свою долю в первые же недели, а я растянул это удовольствие надолго. Поэтому, отдежурив, я садился на кухне, брал луковицу, делал из мороженого мяса строганину, солил, наливал стакан соку и позволял себе расслабиться в тишине и одиночестве…
В свое время, в детстве, я читал Джека Лондона, но, только приехав на "Восток", смог воочию убедиться в том, что такое белое безмолвие. Я снова перечитал все, что из его книг оказалось в нашей библиотечке, и решил проверить то, о чем он писал. Джек Лондон утверждал, что в сильный мороз плевок замерзает на лету и падает на землю со звоном. Антарктические морозы не чета североамериканским, и я был уверен, что такой "эксперимент" получится и у меня. Но, к моему разочарованию, никакого звона я не услышал ни при минус 60 градусах, ни при минус 70…
Тогда я решил усовершенствовать свои "изыскания", довести их до самой откровенной "натуральности". И предложил Саше Завадовскому: "Саня, давай проверим! Я сейчас заберусь на крышу, пописаю оттуда, а ты стой внизу и смотри, как будут падать ледяные капельки". Мороз в это время был под восемьдесят… Саша воодушевился: "Это интересно, полезай!" Я взобрался на крышу нашего "дома", приготовился: "Саня! Смотри!" — "Давай! Давай!"
Конечно, я попал на него — и не льдинками, а самыми натуральными каплями. Все замерзло, но не на лету, а на Саниной куртке. "Тра-та-та-та!!!" — возмущался мой "ассистент". Действительно, картина была достойна кисти великого художника… Пришли к себе огорченные и озадаченные неудачей "эксперимента". Сели и стали думать. Потом позвали физика Славу Громова, рассказали про вычитанное у Джека Лондона, про свои "исследования". Вдруг слышим в ответ: "Ну и дураки вы оба! Надо было со мной сначала посоветоваться. Ведь у нас воздух разрежен, соответствует четырем тысячам метров по концентрации кислорода, поэтому его молекул в полтора раза меньше, теплоотдача идет медленнее… Эх вы! Экспериментаторы…"
Постепенно спектральный слой на горизонте стал увеличиваться, небо из фиолетового превращалось в голубоватое. Потом понемногу начал показываться краешек солнца, наконец оно появилось. Сначала солнце всходило и заходило, а потом стало просто "кататься" по небу. Все понимали, что дело идет к окончанию зимовки. Настроение у нас поднималось, хотя общая психологическая усталость сказывалась: всё уже смертельно надоело. Говорить было почти не о чем — и так обо всем переговорили, развлечения, те, что были, надоели до чертиков. Конечно, мы с особой жадностью ждали новостей с "большой земли". Ждали и первых гостей.
В конце зимовки должны были появиться с инспекцией американцы, в чьем павильоне всю зиму работали наши физики. Мы начали готовить взлетно-посадочную полосу для самолета. Американцы в Антарктиде использовали специально оборудованный для здешних условий тяжелый "Геркулес". Он был больше наших "илов", имел локаторы, да и потолок его был до 10000 метров.
Кроме "аэродрома" мы готовили для встречи с гостями различные сувениры, в том числе и собственного изготовления. Что можно было сделать в тех условиях? Конечно, в основном ножи из напильников, которых на станции у наших запасливых механиков было много. Я еще в детстве научился в кружке слесарить, работать на токарном станке, поэтому тоже подключился к изготовлению ножей. Ручки для отполированных до блеска лезвий мы делали из эбонита. В общем, творили с полной отдачей. Эти сувениры предназначались для традиционного во время визита американцев "чейнджа": они, а также меховые шапки, рукавицы, русская икра, которая имелась в запасе у нашего начальника, шли в обмен на зажигалки, еще на что-то. Но наиболее ходовым товаром был журнал "Плейбой", негласно запрещенный для распространения у нас в стране. Вот именно этот "запретный плод" и был наиболее интересен для отвыкших от женщин здоровых мужиков, с удовольствием рассматривавших на его страницах оголенных красоток.
Потом уже я прочитал в журнале заметку корреспондента, побывавшего с американцами у нас на станции, что если бы он привез на "Восток" побольше пачек "Плейбоя", то в обмен мог бы вывезти со станции все, что хотел. По крайней мере, ему так показалось, когда он увидел, какой оживленный "чейндж" шел во время их визита.
Встречать огромный "Геркулес" на лыжах, естественно, вышли все зимовщики, кроме повара: Ардальонычу предстояло приготовить такой обед, чтобы накормить целую ораву, — вместе с нами было человек тридцать. И он не ударил в грязь лицом: наш стол в кают-компании поразил гостей. Особенно налегали они на черную икру и спирт, которые мы выставили для такого случая. Обед длился часа два, и все это время двигатели "Геркулеса" работали, а летчики приходили обедать по очереди, потому что один из них обязательно должен был сидеть в кабине.
За столом было очень весело, и не только из-за разнообразного меню. Американцы зимовали целый год у себя на станции "Амундсен-Скотт" на Южном полюсе, и им, как и нам, порядком надоела изолированность от большого мира, они хотели общества новых людей. У американцев обеспечение антарктических станций идет за счет военных — и продовольствие, и специальная одежда, и обслуживающий персонал… Начальник над всеми станциями у них тоже военный человек. В тот год это был, кажется, адмирал Эбот, зимовавший на станции "Мак-Мердо". Это высокое начальство, кстати, весьма небольшого роста, и прилетело к нам с визитом.
За столом адмирал оказался рядом с нашим богатырем-механиком Федей Львовым, к которому сразу расположился, — видимо, по контрасту их комплекций. Федя, как гостеприимный хозяин, постоянно что-то подкладывал в тарелку адмирала, но главное — следил, чтобы рюмка гостя не оставалась пустой. Он так опекал изящного соседа, что тот ел чуть ли не из рук "русского медведя".
Но самая трогательная сцена была во время расставания. Гости так хорошо пообедали, что, когда мы вели их к самолету, некоторых приходилось поддерживать А Федя и вовсе взял своего подопечного адмирала на руки, как ребенка, и понес к самолету. Зрелище было незабываемое русско-американская дружба в концентрированном виде. И вот идут эти два друга "не разлей вода", точнее, идет-то один огромный русский механик, несет адмирала, а у того из карманов то и дело падают баночки с черной икрой, которой его одарили гостеприимные хозяева. Баночки подбирают, снова засовывают в карманы адмирала, а они падают и падают снова…
Американцы улетели, а нас все больше стало охватывать нетерпение скорей бы! когда же? Когда же к Мирному подойдет "Обь" со сменой полярников? Когда же на "Восток" начнут летать наши самолеты?
Наконец из Мирного сообщили, что "Обь" со сменой подошла, и мы стали собираться: паковать в ящики аппаратуру, складывать в мешки личные вещи. Начальник станции Борис Беляев составлял расписание — кто и когда будет улетать. Снимать нас с купола должны были два самолета в несколько рейсов. С первым самолетом обычно прилетает новый начальник "Востока". И этим же первым рейсом на двух самолетах должны были улететь все наши вещи, потому что если вывезти сначала всех людей, то нашим багажом некому потом заниматься: у вновь прибывших зимовщиков будет полно своих проблем и им некогда возиться с чужими ящиками и мешками.
А груз у нас собрался довольно солидный. И среди приборов, одежды и других вещей оказались совсем необычные для той ситуации предметы. Хотя предметом то, что мы хотели взять с собой в Мирный, назвать нельзя. Антарктической весной, когда наступал полярный день и круглые сутки было светло, мы стали приводить в порядок территорию станции, очищать от накопившегося снега некоторые участки возле наших балков. И наткнулись на всеми забытый продовольственный склад, оставшийся от одной из предыдущих экспедиций. Открыли его — и что же там увидели? Огромных, двухметровых осетров! Притащили одного на станцию, а потом стали думать: что с ними делать? Их там такое количество! Не пропадать же такому деликатесу! Но как их использовать? И можно ли? Подняли старые документы, по которым выяснили, что осетры были завезены на "Восток" чуть ли не шесть лет тому назад.
Хотя рыбины хранились при очень низких температурах, но пролежали столько лет. Срок немалый. Все же решили рискнуть — сварили и стали пробовать. Оказалось, что осетрина даже с таким стажем была очень вкусной, и с нами ничего не случилось. И мы принялись баловать себя напоследок от души, — не оставлять же осетров здесь. Мало того, мы решили взять с собой в дорогу шесть рыбин и передать их на судне коку, чтобы во время плавания нас кормили за это как следует. Жизнь показала, что мы сделали правильно…
Сложив наш багаж в две большие кучи на взлетно-посадочной полосе, мы стали ждать оба самолета, уже вылетевшие из Мирного. Борис Беляев с частью груза должен был улететь на первом, а я с другой частью — на втором. Саше Завадовскому предстояло ждать второго рейса, Володя Медведков пока задерживался на станции, чтобы не оставлять людей без врача.
Наш радист Володя Терехин сообщил, что самолеты в воздухе, но что первым приземлится второй "борт". Беляев сказал мне: "Ты лети на нем, как и договорились, а я полечу на следующем". Вскоре мы увидели, как один самолет стал заходить на посадку. Приземлился. Двигатели, как и положено, не выключались, хотя по "восточным" меркам было тепло — только минус 40 градусов. Быстро погрузили одну кучу багажа, дозаправили самолет, взлетели. А другого самолета, вылетевшего из Мирного раньше нашего, все еще нет.
Мы были в воздухе примерно минут десять, когда увидели тот самолет, который должен был прилететь на "Восток" первым. С него сообщили, что они не могли найти станцию, кружили в ее районе, но не обнаружили. Летчик передал: "У меня горючее на пределе, я не могу лететь на "Восток", потому что не смогу потом вернуться. Я возвращаюсь в Мирный". Он развернулся и полетел вслед за нами, хотя и не в пределах видимости, ведя переговоры по радио.
До Мирного оставалось примерно километров 150, как вдруг самолет, следовавший за нами, не вышел на связь. Что случилось? Куда исчезла машина? Подлетаем к Мирному, снижаемся, видим — внизу огромная толпа встречающих. Помню, подумал про себя: "Ничего себе! Вот как встречают героев-"восточников"!" Но выйдя из самолета, я понял, что все эти люди собрались вовсе не для того, чтобы приветствовать меня, хотя те, кто перезимовал на "Востоке", действительно заслуженно пользуются уважением среди полярников.
Меня же вместо приветствий чуть ли не вытолкали из "ила", быстро повыбрасывали наш груз, самолет заправили, заполнили горючим дополнительные баки, и он взлетел. Ничего не понимая, я остался при своем грузе и стал думать: что же происходит? куда мне идти? Одно утешение, что здесь тепло только минус 2 градуса. Тогда почему самолет не заглушал двигатели, а сразу улетел?
Оказалось, что, пока первый самолет искал "Восток", он израсходовал столько горючего, что его не хватило даже на обратный путь. До Мирного летчик не дотянул и был вынужден посадить самолет километрах в ста от него. Хорошо еще, что они уже пролетели над районом гигантских трещин в антарктическом куполе. Место это очень опасное, и там погибло в свое время немало людей. Поэтому-то в Мирном и торопились отправить, не теряя ни минуты, второй "ИЛ" на помощь первому. Счастье, что у того обошлось при вынужденной посадке без поломок. Вскоре оба самолета вернулись, но о полете на "Восток" в этот день не могло быть и речи.
Я оказался в Мирном один, никого толком не знаю. Куда идти? Естественно, пошел к братьям-врачам, в медпункт, где уже жил перед отлетом на станцию почти год назад. Тогда я и познакомился с теперешним старшим врачом экспедиции Игорем Рябининым. Надо сказать, что медицина в Мирном была на очень достойном уровне. В отдельном домике (который тоже был под снегом) имелись отличная операционная, перевязочная, процедурная, были зубоврачебный и рентгеновский кабинеты. Потом я спал на рентгеновском аппарате и все время сползал с его скользкой поверхности. Другого места не оказалось, так как кроме нас, троих врачей с "Востока", медпункт принял и новую смену врачей. Было тесновато. Впрочем, так было во всем Мирном, потому что все оказались вместе — прежние участники экспедиции еще не уехали, а новая смена уже прибыла. Антарктическое столпотворение.
Придя в медпункт, я встретился с Игорем Рябининым, он помог мне устроиться на новом месте. А потом начались разговоры о том, как у каждого из нас прошла зимовка. Игорь поведал мне, как он решил вывести птенцов императорских пингвинов. Пингвины, как известно, выводят своих птенцов в самые лютые морозы. И делает это пингвин-отец — у него на животе есть специальная складка, где он и вынашивает (сказать "высиживает" будет неправильно) яйцо. Игорю стало жалко птенчиков, которые вынуждены появляться на свет в середине зимы. И он решил вывести их в тепле.
Он собрал штук шесть пингвиньих яиц и поместил их в термостат, который был в медпункте для проведения биохимических исследований. Установив необходимую температуру в этом инкубаторе, Игорь стал ждать двадцать первого дня — именно такой срок нужен для появления цыплят. Но, в отличие от куриного, яйцо пингвина очень твердое, и когда приходит срок проклюнуться птенцам, пингвин-папа сам разбивает клювом скорлупу, поскольку пингвиненок еще слишком слаб, чтобы сделать это самостоятельно. Игорь тогда не знал ни такой особенности пингвинов, ни срока появления их птенцов на свет. И вот прошел 21 день — ничего, прошел еще день — опять никаких признаков… На тридцатый день картина не изменилась… И вдруг однажды ночью раздался взрыв в термостате. Стенки его разлетелись, а вместе с ними по всему медпункту разлетелись и ошметки уже разложившихся в яйцах птенцов. Запах был соответствующий и весьма стойкий. Игорь был так огорчен, так переживал случившееся, что долго ходил расстроенным. Окружающие же над ним потешались…
В первый же день, когда я прилетел с "Востока", меня встретил начальник нашей 12-й САЭ (Советской антарктической экспедиции) В.И.Гербович: "Юра, пойдем ко мне. Там сейчас будет Трешников, и ты нам все расскажешь. Ты же первый, кто пока прилетел с "Востока"". Пошли вместе в кают-компанию Мирного, сидим, разговариваем. Вдруг у входа послышались веселые голоса, женский смех: несколько человек спускались вниз по лестнице. В комнату вошел большой, шумный, красивый человек и с ним какие-то женщины. И вот я, вместо того чтобы обратить внимание на знаменитого полярника А.Ф.Трешникова, воскликнул: "Ой, смотрите! Женщины!" Моя реакция была понятна всем — человек с "Востока", год не видел женщин живьем…
Я ответил на все вопросы Алексея Федоровича. Конечно, меня он до этого не знал, и я увидел его впервые, хотя много был наслышан об этом удивительном, мужественном человеке. А.Ф.Трешников был личностью незаурядной: не раз возглавлял полярные экспедиции в Арктике, руководил второй экспедицией в Антарктиде, был директором института, участвовал в составлении атласа Антарктики… В Мирном он находился в связи с тем, что должен был возглавить очередную, 13-ю САЭ. Много позже, когда я уже вел на телевидении "Клуб кинопутешествий", мы познакомились с ним поближе, и Алексей Федорович был на нашей передаче…
Тогда же в Мирном я познакомился с еще одним замечательным человеком Евгением Константиновичем Федоровым. Академик, полярник, участник знаменитой папанинской зимовки на "СП-1", он курировал в Академии наук СССР все работы, связанные с Арктикой и Антарктикой.
В то время, когда мы прилетели с "Востока" в Мирный, весь залив Правды был покрыт припайным льдом, и "Обь" остановилась далеко от собственно берега. С нее уже почти все перебрались на материк: и зимовщики, и те, кто прибыл для сезонных работ во время летних месяцев, — геологи, биологи… Я часто смотрел с берега на стоявшую километрах в десяти от Мирного "Обь" и думал: "Там совсем другая жизнь, другие люди". И мне очень хотелось побывать там, встретиться с новыми людьми.
И вот в один из вечеров (солнечных, так как было полярное лето) после ужина мы вышли с Володей Медведковым из кают-компании (она же столовая) и пошли к берегу. Я мечтательно начал:
— Хорошо бы махнуть на "Обь"…
— А как туда махнешь? Вот если бы был хоть какой-нибудь вездеходик… — Только Володя это сказал, как вдруг неподалеку от нас появляется вездеход — просто по заказу.
Выходит из кабины парень:
— Чего вы тут стоите?
— Да вот думаем, а не махнуть ли на "Обь".
— Да вы что!
Лед в заливе был хоть и припайный, но ездить по нему небезопасно. Бывали случаи, когда техника и люди проваливались и погибали. В Мирном неподалеку от причала, где обычно швартуются мотоботы, стоит громадный камень с бронзовой дощечкой — памятник трактористу Ивану Хмаре, погибшему со своей машиной у берега Антарктиды. У парня вездеход был хоть и небольшой, со снятыми дверцами (на случай, если на льду возникнет опасность и надо будет выпрыгнуть), но на гусеничном ходу. Мы же так поверили в возможность побывать на "Оби", что стали уговаривать водителя:
— Поехали, а? Ну чего тебе стоит?
— Чего поехали-то? Выпить-то нечего, с чем приедем?
— Как это нечего? — У нас еще сохранились два бидона со спиртом, который мы экономно использовали на "Востоке". В медпункте Мирного я тоже охранял их, держал чуть ли не под подушкой. Принесли один бидон — не являться же непрошеными гостями на судно, да еще и без подарка.
— Только вы никому не говорите, что я вас отвез, — попросил водитель вездехода. Да мы и сами были заинтересованы в том, чтобы наше отсутствие осталось незамеченным. Хотя с берега весь залив просматривается, мы все же доехали до "Оби" без осложнений.
Прибыли на судно бородатые, с бидоном спирта. Конечно, приняли нас хорошо — как же, "восточники" заявились. Нас встретило много людей из команды, в том числе и какие-то девчата, от вида которых мы уже отвыкли. К нашему "гостинцу" нашлась и приличная закуска. Устроились в твиндеке, посидели хорошо.
Но перед этим я расстался со своей шикарной бородой, которую отрастил на "Востоке": сначала я имел бороду шотландскую, потом подстригал ее под эспаньолку… Корабельная парикмахерша, предложившая нас подстричь (на станции мы стриглись сами и потому выглядели соответственно), была поначалу огорчена, когда я сказал ей: "Подстриги и побрей!" — "А не жалко такой бороды? Смотри, какая она у тебя хорошая. Будет чем похвастать дома". "Нет! Сбрей все!" И когда она меня побрила, я вдруг почувствовал такое облегчение — ничего не чешется, крошки не застревают, — что решил для себя: "Все! Больше бороду носить не буду. Никогда!"
Наш праздник в твиндеке затянулся надолго. Спирт быстро "оприходовали", так как народу оказалось много. По времени уже наступила ночь, хотя вокруг было светлым-светло, и команда разошлась отдыхать. Уснули и мы. Проспал я недолго. Встал и подумал: "Мать честная! Как же мы засиделись в гостях! Пора и честь знать". Стал будить Володю и водителя: "Ребята, давайте возвращаться, пока нас не хватились в Мирном".
Итак, мы встали, посмотрели — команда отдыхает, никого не видно. Оно и понятно — ночь. Спустились на лед, завели наш вездеход и уехали. Вернулись в Мирный, пошли в свой медпункт, а водитель сказал: "Сейчас спрячу где-нибудь вездеход. Не дай Бог, начальство узнает". На том и расстались.
В медпункте я устроился досыпать на своем рентгеновском аппарате, Володя тоже заснул рядом. Спали крепко, но вдруг сквозь сон слышу какие-то тревожные звуки и по радио объявляют: "Пропали два врача и водитель вездехода". Дело нешуточное для Мирного, происшествие серьезное!
Что же оказалось? Когда на "Оби" матросы проснулись и решили поутру "освежиться", стали искать бидон. Не нашли. Не оказалось на судне и врачей с водителем. Вездеход тоже исчез. Связались по радио с Мирным, спросили про людей и вездеход. Но когда там стали искать машину, то нигде не нашли водитель очень хорошо спрятал ее от глаз своего начальства. Тогда стали разыскивать врачей, позвонили в медпункт. Игорь Рябинин зашел в одну комнату, в другую — нас нет. До рентгеновского кабинета, где мы спали с Володей, он не дошел. Всё! Врачей нигде нет! Пропали ребята! Не дай Бог, провалились с вездеходом под лед! Паника началась серьезная. Завели другой вездеход, чтобы обследовать лед в заливе — нет ли полыньи.
В это время мы проснулись от всего этого шума, вышли наружу… И здесь Игорь, интеллигентный человек, так нас "припечатал" на родном нашем языке, что…
— Вы что же такое устроили?
— Ничего особенного. Просто съездили на "Обь". А в чем, собственно, дело-то?..
— Кто вас туда отвез?
— Ну какая тебе разница? Не помню…
Конечно, мы поступили нехорошо, и Игорь был прав, делая нам "разнос". Мы были просто обязаны предупредить команду "Оби", что покидаем судно, если хотели сохранить в тайне от нашего начальства свою поездку. И нам еще просто повезло, что в суматохе пересменки, передачи дел одной экспедиции другой, все случившееся "спустили на тормозах", иначе последствия для нас могли бы быть не самые приятные. Действительно, это происшествие было не таким уж безобидным: исчезновение трех людей — дело не просто серьезное, а чрезвычайное…
Шел декабрь, первый месяц антарктического лета. Постепенно ледовая обстановка начала улучшаться, и "Обь" приблизилась к берегу. А когда припайный лед освободил залив, смог подойти и "Профессор Зубов", недавно построенное научно-исследовательское судно со многими лабораториями и хорошими условиями для работы. Корабль был назван в честь выдающегося океанолога и полярного исследователя Н.Н.Зубова. На этом судне мы должны были идти в Ленинград. Вместе с нами возвращался и Е.К.Федоров, а "Оби" предстояло еще совершить плавание вокруг Антарктиды: А.Ф.Трешников "делал смотр" нашим полярным станциям, которых тогда в Антарктиде было несколько.
Мы перебрались на новое судно, где нас поселили в двухместных каютах. Потом с Сашей Завадовским пошли искать место, где бы можно было разместить наше оборудование, чтобы в пути продолжать свои исследования. Помещение для нас нашли, несмотря на то, что на "Профессоре Зубове" имелось немало других научных работников. Нас же, полярников, было около двухсот человек. По моей просьбе старший помощник капитана даже на время включал специальные успокоители качки, чтобы мы могли проводить исследования. За время плавания мы успели обследовать всех тех, кто был под нашим наблюдением в течение года.
О результатах работы в Антарктиде говорить здесь не имеет смысла — это тема для отдельной, специальной книги. Скажу только, что такие масштабные и длительные исследования состояния организма по всем параметрам, да еще в условиях, соответствовавших 4000 метров над уровнем моря, тогда практически не проводились. Потом, уже в Москве, мы могли сравнить свои наблюдения с данными двух экспериментов, когда испытатели провели целый год в замкнутом объеме, в специальной камере, и когда другие испытатели пролежали год в постели в горизонтальном положении… Конечно, те результаты, которые были получены в Антарктиде, мы использовали в своей дальнейшей работе в институте…
У такого замечательного научно-исследовательского судна, как "Профессор Зубов", был и замечательный капитан — Иван Александрович Манн, удивительный человек, моряк старой закалки, интеллигентный, подтянутый, выглядевший как английский лорд… Пока мы шли из Антарктики, он по корабельному радио читал нам настоящие лекции по истории открытия Антарктиды, об особенностях морей, окружающих ее, о тех местах, мимо которых нам предстояло пройти.
Мы вышли из Мирного в конце декабря 1967 года, так что Новый год встретили в пути, и местом этой праздничной встречи стал остров Кергелен, точнее, архипелаг из нескольких островов в южной части Индийского океана. Здесь в Порт-о-Франсе находилась французская научная станция, где проводился широкий комплекс исследований и где зимовали ученые. Архипелаг расположен относительно недалеко от Антарктиды, поэтому природа на Кергелене суровая. Хотя в то время, когда мы подошли к нему, снега там не было, так как наступило полярное лето, но все равно особенно приветливыми здешние места не выглядели — скалы, ветры, беспредельный океан. Жизнь здесь, в отдалении от материков, не назовешь веселой. Поэтому нашему приходу французские исследователи очень обрадовались: визитами гостей они были не избалованы.
Они нас уже ждали, так как еще на подходе к Кергелену мы связались с ними по радио. Наш "Профессор Зубов" не мог подойти близко к берегу и стал на рейде, а мы сообщались с островом с помощью небольших мотоботов типа понтончиков. Мы тоже обрадовались после целого года сидения среди льдов и снега возможности встретиться с новыми людьми, получить новые впечатления.
Всем желающим предложили осмотреть этот высокоширотный остров и станцию, расположенную на нем. Вместе с другими я тоже сошел на берег, и первое, что меня поразило, было лежбище морских слонов. Огромные, метров десяти, животные грелись на солнце. Они тогда линяли и видеть, как они чесали себя ластами, было очень занятно. Мы попытались приблизиться к ним и сразу услышали внушительный рык, которым слоны пытались нас отогнать. Слонами их зовут потому, что когда эти животные сердятся, у них на носу появляется нечто вроде отростка, напоминающее небольшой хобот. Двигаться быстро на суше они не могут — слишком огромные, поэтому, когда морской слон хочет приблизиться к тебе, чтобы не подпустить к лежбищу, он волнообразно как бы перекатывается внутри себя.
Конечно, мы сразу же познакомились с врачом станции, который одновременно был и химиком, проводящим соответствующие научные исследования. Он пригласил нас к себе и предложил отведать вина "за знакомство". Мы, естественно, согласились — кто же откажется от французского вина? Но мы не ожидали оригинального способа появления его в наших бокалах. Мы думали, что сейчас на столе появится бутьшка, лучше, если она будет покрыта пылью или паутиной… Все оказалось совсем не так. Химик-врач привел нас в их кают-компанию, уютную, красивую, оборудованную с соответствующим расположению станции вкусом, — всё, как и должно быть у французов. "Берите бокалы, сейчас пойдем за вином", — сказал наш новый друг. "Уж не винные ли подвалы у них здесь имеются?" — мелькнула радужная мысль. Нет, мы просто прошли в соседнее помещение, что-то вроде кухоньки, врач подошел к какому-то крану, обычному, похожему на водопроводный, открыл его, и в бокал полилось… вино.
Мы были поражены. Тем не менее выпили с большим удовольствием и потом в состоянии полного восторга побежали рассказать всем нашим, что здесь имеется необычный водопровод, из которого льется красное вино. Наша полярная братия тут же потянулась к столь невиданному нами прежде источнику удовольствия и вдохновения…
Хотя у французов была такая прекрасная "приманка", Новый год мы встречали у себя на корабле. Дело в том, что принять всех прибывших на "Профессоре Зубове" наши хозяева не могли — у них для этого просто не было подходящего помещения. Поэтому было решено, что половина гостей встретит праздник на корабле, пригласив туда французов, а другая половина сойдет на берег, присоединившись к хозяевам.
Праздник у нас получился просто замечательный. Мы были рады, что идем к родным берегам, так что настроение у всех было приподнятое еще и поэтому. А французы были счастливы, что в их одинокой жизни произошло хоть какое-то событие — прибыло столько гостей, да еще на Новый год. И потом, французы всегда славились умением радоваться жизни, а на корабле было чем их порадовать. Сколько было сказано в ту ночь тостов, судить не берусь, знаю только, что много…
На следующее утро, точнее, был уже день, по корабельному радио на двух языках стали объявлять, что "Профессор Зубов" через два часа будет готов к отплытию, и потому членов французской научной экспедиции просят покинуть корабль. Но прощание наше затянулось надолго: заночевавшие гости отнюдь не торопились сходить на берег. Самая смешная сцена произошла тогда, когда "Профессора Зубова" покидал губернатор Кергелена, — вот уж кто ну никак не хотел оставлять столь гостеприимный корабль. Видимо, наше начальство настолько хорошо, по-русски широко приняло француза, что после новогодней ночи он был в приличном градусе и в радостно-возбужденном настроении. Он кричал: "Вив ля рус! Да здравствует французско-русская дружба!" и все в таком же духе. А потом и вовсе отказался возвращаться на берег: "Я хочу плыть на вашем замечательном корабле! Вы все равно по пути зайдете в Гавр, а я хочу домой, мне до чертиков надоело торчать на этом острове!.." Понять его было можно — мы ведь тоже страшно соскучились по своей родине, по близким.
Чтобы покинуть корабль и спуститься по веревочной лестнице в мотобот, стоявший у борта, у веселого губернатора не было необходимой координации движений. Что делать? Тогда решили использовать для транспортировки гостя специальный подъемник, к которому обычно прикрепляют корабельную люльку, чтобы на ходу красить борта. Кончилось тем, что усадили губернатора в кресло, что-то вроде детских качелей, привязали, чтобы он не свалился в воды Индийского океана, и спустили вниз. При этом он продолжал что-то возбужденно говорить, жестикулировал. Но поступил как настоящий капитан покинул наш корабль последним. В общем, прощание получилось трогательным и смешным до слез…
Мы отошли от Кергелена и направились к мысу Доброй Надежды. За один день стоянки в Кейптауне осмотрели город, увидели знаменитую Столовую гору. А дальше пошли в сторону Канарских островов. Пока шли к Африке, почувствовали на себе и "неистовые" пятидесятые, и "ревущие" сороковые широты, а на подходе к Канарам погода уже стала совсем другой. Мы купались в бассейне, загорали, наша "восточная" бледность исчезла. Мы в полной мере пользовались заслуженным отдыхом после трудной зимовки.
Но нас ждали впереди еще более прекрасные впечатления. Подошли к острову Гран-Канария, остановились в порту Лас-Пальмас. И все три дня, которые провели здесь, мы без устали осматривали этот экзотический тогда для нас, благословенный уголок земли — его необычную природу, местные красоты и были просто сражены красотой местных испанок. Но в Лас-Пальмас для нас вступили в силу обычные для тогдашнего времени советские правила ходить по городу только втроем, чтобы, упаси Бог, нам не устроили какой-нибудь провокации. Кому мы были нужны? Тем более здесь, где жизнь была так непохожа на нашу своей естественной свободой, раскованностью, изобилием. Именно здесь мы уже начали думать, что надо привезти родным, близким, знакомым подарки, тем более что деньги у нас были, а разнообразие товаров и цены позволяли нам осуществить эту приятную задачу.
Потом на нашем пути был Гавр, где в один из дней стоянки для нас устроили экскурсию по городу. Дальше мы двинулись обычным путем — через проливы Ла-Манш, Па-де-Кале, Скагеррак… Но в Ленинград попали не сразу: был конец января — начало февраля и Финский залив был забит льдами. Пришлось идти в Ригу и там ждать, пока ледокол пробьет для судов путь к устью Невы.
В те годы о приходе в город корабля с членами антарктической экспедиции знал чуть ли не весь Ленинград. Да и на улицах вернувшихся полярников сразу узнавали по их необычному на фоне бледных ленинградцев загару: они же плыли долго, 35 суток, пересекали тропики, экватор и успевали загореть.
Вряд ли стоит говорить, как я был рад снова встретиться с родителями, с Дашей, которая еще жила у них. Я наслаждался жизнью в родном доме, среди привычной с детства обстановки, радовался встречам с друзьями. Только вернувшись в родной город, я по прошествии некоторого времени смог оценить всё, что пережил и перечувствовал за последний год, посмотреть на это другими глазами, как бы со стороны. Именно очутившись в нормальной, домашней обстановке, я стал по-настоящему понимать, насколько все-таки тяжел труд полярников, особенно зимующих в Антарктиде. Находясь там, занимаясь каждодневной работой, об этом особенно не задумываешься делаешь свое дело, принимаешь непростую ситуацию как данность, неизбежную в тех условиях.
Отпуск мне полагался большой, денег было приличное количество, поэтому я смог расплатиться с долгами за квартиру, помочь родителям, стал думать о покупке машины… Но полученный в Антарктиде материал требовал обработки, систематизации, и пора было возвращаться в институт. За время моего отсутствия в работе нашей лаборатории произошли некоторые изменения, связанные с тем, что в личной жизни Бориса Егорова кое-что произошло. У него начались неприятности из-за развода с женой и женитьбы на другой женщине, известной актрисе. Бориса даже вызывали в связи с этим в ЦК КПСС для серьезного разговора — как же так, герой, космонавт, знаменитость, а позволяет себе такое… Да, в то время и личная жизнь человека была чуть ли не регламентирована.
Кончилось тем, что Бориса лишили высокой должности, оставили ему только одну лабораторию. Мне же послали в Антарктиду радиограмму, чтобы выяснить, где я буду работать после возвращения. Я ответил, что остаюсь в лаборатории Егорова. Но когда я приехал и приступил к работе, наша прежняя программа, связанная с одновременным полетом в космос человека и животного, была свернута. С.П.Королев за год перед этим умер, поддерживать наш проект было некому, поскольку начались работы уже над другими программами. Готовились новые полеты в космос, и Борису поручили заниматься их медицинским сопровождением. Интересной работы для меня не было. Но пока я занялся тем, что стал обрабатывать материалы, полученные на станции "Восток", писал отчет. Ко мне не раз подходил мой прежний руководитель Леонид Иванович Какурин, предлагал вернуться к ним в лабораторию: "Мы продолжаем заниматься проблемами гипокинезии, есть интересные планы исследований. Подумай, может, вернешься?" У них действительно в это время начались эксперименты с водной иммерсией, то есть с помещением людей в бассейн. Сроки прежних наших опытов по пребыванию человека в постели, в горизонтальном положении тоже увеличивались и были доведены почти до года… Но я все не мог принять окончательного решения…
"РА" ПЛЫВЕТ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ
В различных занятиях, заботах, раздумьях незаметно пролетел 1968 год, наступил следующий… И вот в один из дней ко мне стремительно входит Борис:
— Юра! Послушай, у меня потрясающая новость! Я только что был в главке. И знаешь, я тебя продал!
— Кому?
— Не кому, а куда! Ты слышал про Хейердала?
— Конечно, читал про его плавания…
— Ну так вот! Он организует новую экспедицию на какой-то непонятной папирусной лодке и хочет, чтобы в этом плавании принял участие русский врач, но обязательно со знанием английского языка и с экспедиционным опытом. И еще с чувством юмора! Я был сейчас у Гуровского, у него лежит письмо от Хейердала, которое ему переслали…
Предыстория приглашения русского в экспедицию норвежского ученого уходит еще во времена Н.С. Хрущева. Во время своего визита в Норвегию он устроил там дипломатический прием, на который был приглашен и недипломат Тур Хейердал. На приеме Никита Сергеевич подошел к Хейердалу и со свойственной ему непосредственностью в общении спросил:
— А меня бы вы взяли в свою экспедицию?
— А что вы могли бы у меня там делать?
— Я умею приготовить вкусный борщ, поэтому могу быть поваром.
— Ну, если бы вы прихватили с собой еще и побольше икры, я бы вас взял, — отшутился Хейердал.
Окружение Хрущева приняло к сведению то, о чем он говорил со знаменитым ученым. И действительно, потом Хейердалу от имени Хрущева прислали целый бочонок черной икры.
Возможно, что об этом шутливом разговоре знал и тогдашний президент Академии наук СССР Мстислав Всеволодович Келдыш, с которым Хейердал встречался, приезжая к нам в страну. Как потом вспоминал сам Тур Хейердал (в предисловии к моей книге о плаваниях на "Ра"), когда разговор зашел о будущих экспедициях норвежского ученого, Келдыш спросил его: "А почему бы вам не взять с собой в них русского?"
Поэтому именно президенту Академии наук Хейердал и направил письмо, в котором приглашал принять участие в задуманном им плавании через Атлантику, на сей раз на лодке из папируса, русского врача, обладающего теми качествами, о которых мне и поведал Борис. Тур исходил из того, что плавание предстоит трудное, экипаж будет интернациональным, люди друг друга пока не знают, возможны разного рода непростые ситуации. А юмор, шутки, смех всегда были лучшим средством снимать напряжение.
Из Академии наук письмо переслали в Министерство здравоохранения, где оно попало на стол Н.Н.Гуровскому. Николай Николаевич курировал наш институт, работая в министерстве в так называемом 3-м управлении. Если 4-е управление было "кремлевским", то 3-е занималось медицинским обеспечением предприятий среднего и общего машиностроения, среди которых было много закрытых учреждений, в том числе относящихся к космосу, к атомной промышленности. Поскольку наш институт тоже был закрытым, то Николай Николаевич, знавший космическую медицину, был нашим начальником в Минздраве. К нему-то и зашел Борис Егоров, когда Гуровский, просмотрев утреннюю почту, сидел в задумчивости.
— Вот не было хлопот — Хейердал просит прислать врача. А где его взять — с английским и с юмором?
— А что его искать? Есть такой — Сенкевич. Только что вернулся из Антарктиды, с английским, здоровый, не укачивается…
Мне неизвестно, что Борис добавил насчет моего юмора, но его совет приняли и меня включили в список кандидатов. Я этого пока не знал, поскольку поначалу принял сообщение Бориса о том, что он предложил меня, за розыгрыш. А Борис мне объяснил:
— Все равно с тобой не все ясно — то ли ты перейдешь к Какурину, то ли останешься. Отчет ты заканчиваешь…
— Ну и что мне делать?
— Пока ничего. Жди.
Через какое-то время меня вызвал к себе Гуровский — очевидно, моя кандидатура ему подошла. В ходе разговора он спросил:
— А как у тебя с чувством юмора?
— Вроде бы нормально.
— Хорошо. Иди, готовься. Я тебя скоро вызову, и мы пойдем к Бурназяну.
Аветик Игнатьевич Бурназян был заместителем министра. Во время визита к нему я понял, что ему уже рассказали о моей работе в Антарктиде, о том, что я там делал и чем занимаюсь у себя в институте. Он предложил мне составить список необходимых медикаментов, которые потребуются в плавании, и набросать план научных исследований. Я спросил в сомнении:
— Ну что там можно будет сделать? Ведь это же лодка, тем более какая-то странная, потом постоянная качка… Какие в таких условиях могут быть исследования?
— А психологические наблюдения?
В конце разговора Бурназян поинтересовался:
— А не трусишь?
— Вроде бы нет.
— Почему вроде бы?
— Но ведь я не знаю, чего бояться! Я действительно не представлял, что меня ожидает, хотя к тому времени я уже ознакомился и со схемой лодки, и с маршрутом, по которому нам предстояло плыть через Атлантический океан от Марокко к Центральной Америке.
Двигаясь вверх по министерским инстанциям, мы попали на прием к Борису Васильевичу Петровскому, тогдашнему министру здравоохранения. Я впервые увидел известного хирурга, и он произвел на меня прекрасное впечатление крупный, красивый, значительный человек.
Еще перед визитом к министру Бурназян показал мне пачку писем, пришедших в министерство и в Академию наук от врачей из разных городов после того, как в печати появилось сообщение о приглашении Хейердала. Желающих принять участие в необычном плавании оказалось много, а выбрать требовалось одного. Решение должен был принять министр.
Когда мы вошли к Петровскому, он беседовал с каким-то человеком. Тем не менее он пригласил нас войти. Бурназян стал представлять меня — вот, мол, майор медицинской службы Сенкевич, был в Антарктиде, заканчивает кандидатскую диссертацию, продолжает подготовку к полету в космос… Весь мой послужной список на тот момент. Петровский, выслушав это, представил нам человека, с которым беседовал до нашего прихода. И сделал это специально. Этим человеком был врач, который тоже считался кандидатом для плавания на папирусной лодке. Борис Васильевич хотел, чтобы мы познакомились, потому что он принял решение:
— Давайте поступим так, как делают при подготовке космонавтов: вы, майор, будете основным, а он будет вашим дублером. На всякий случай…
Так мы познакомились с тем врачом и сразу же расстались, выйдя от министра. И больше мне не приходилось встречаться со своим дублером. Я даже не помню его фамилии.
После разговора с Б.В.Петровским прошло какое-то время. Я продолжал работу в институте, заканчивал свой отчет, проходил тренировки по программе подготовки полета в космос. Но в мыслях я уже как бы плыл на папирусной лодке, диагностировал у членов ее экипажа самые страшные заболевания и блестяще их врачевал.
А между тем с практическим врачеванием последние годы я почти не сталкивался — занимался в основном физиологией. Нужно было многое освежить в памяти, и тут мне чрезвычайно помогли мои коллеги, учителя и друзья.
Я пошел в Институт кардиологии к профессору Мухарлямову, в Институт тропических заболеваний к доктору медицины Токареву… Консультировался с руководителем нашего учреждения, много лет работавшим в Арктике, вспомнил свой собственный маленький опыт зимовки в Антарктиде. Все шло к тому, что я должен оснаститься как следует. Список требуемого рос как на дрожжах, а терапевты, хирурги, реаниматоры продолжали предлагать каждый свое, новое, оригинальное и совершенно необходимое, вроде набора инструментов из титанового сплава — надлежало по возможности проверить, как инструменты поведут себя при повышенной температуре и влажности.
Во всем этом я явно перестарался, потому что взял с собой медикаментов на все случаи жизни, от множества заболеваний, исключая разве что детские и гинекологические. Одновременно консультировался с психологами, которые порекомендовали мне использовать в плавании несколько опросников, чтобы я мог заняться исследованиями по групповой психологии. Это могло быть интересно, так как в необычных условиях — на лодке, среди океана, в интернациональном экипаже — таких наблюдений еще никто не проводил.
Время шло, а известий о том, буду ли я участником плавания, все не было. И вдруг неожиданно раздается звонок из Минздрава: "Немедленно явитесь к нам за документами. Через три дня вы должны вылететь в Каир!" Что делать? Срочно звоню своим в Ленинград, говорю об отлете. Мама, конечно, пришла в страшное волнение — кто его знает, как пройдет это плавание на связках папируса? вернусь ли я с этой странной лодки? Зато папа отреагировал по-мужски: "Давай, сынок, не подкачай!"
Собираться особенно не пришлось: медикаменты были давно упакованы, я даже взял с собой различные укладки, которые берут в полет космонавты. Своих вещей было мало. Но зато я взял пластиковую канистру с медицинским спиртом. Куда же без него врачу? Эту канистру в багаж у меня не приняли, пришлось брать ее с собой в салон самолета.
Поспешность, с какой меня чуть ли не вытолкали из Москвы в Каир, имела свою причину. Тур Хейердал, находившийся тогда в Египте (в то время государство называлось Объединенная Арабская Республика), получив принципиальное согласие советской стороны на участие русского врача, начинал уже терять терпение, поскольку из Москвы никто не прилетал. Он стал "тормошить" наше посольство в Каире, те ничего не могли ему сказать определенно. Тогда Тур поставил вопрос прямо — или вы пришлете своего врача, или я приглашу его из Чехословакии. Это заявление Хейердала подхлестнуло наших. Ведь еще были свежи неблагоприятные впечатления от ввода наших войск в Чехословакию в августе 1968 года. Конечно, в Москву из посольства ушла срочная шифровка, и меня в три дня выпихнули в Каир.
Перед отлетом мне пришлось пройти через неизбежные в те годы душещипательные и душеспасительные беседы в разных инстанциях о том, как советский человек должен вести себя за границей, чтобы, упаси Господи, не было против меня провокаций. Идиотизм тогдашней нашей жизни.
Сижу в самолете и с беспокойством думаю: что же ждет меня в Каире? Теперь, через три месяца после разговора с Бурназяном, я бы смог ответить совершенно определенно, чего боюсь. В который раз листал русско-английский словарик, снова и снова мысленно повторял приветственную речь, ужасался ее высокопарности и банальности, без конца менял варианты, совсем в них запутался и мечтал лишь о том, чтобы самолет — он и без того опаздывал летел до Каира как можно дольше.
Я боялся встречи с Туром! Боялся показаться неловким, косноязычным, предстать в невыгодном свете — ведь первое впечатление самое сильное, станет он разбираться! Попросту отошлет обратно — что ему, замены мне не найти?!
Держу свою пятилитровую "баклажку" и размышляю: как встретит меня знаменитый Хейердал? каков он окажется в общении? И что я о нем знаю? Ровно столько, сколько все мы тогда, читавшие его книги. Я знал, что в 1947 году плот, построенный из бальсовых бревен и названный по имени легендарного вождя Кон-Тики, с пятью норвежцами и одним шведом на борту проплыл за сто один день от берегов Перу до островов Туамоту в Тихом океане. Тогда об отважном ученом и путешественнике узнал весь мир. Его книга "Путешествие на "Кон-Тики"" была переведена на восемьдесят языков.
Помню, как впервые держал я эту книгу в руках: на обложке — огромная волна в виде перевернутой запятой и маленький кораблик. Думал ли я тогда, что наши с Хейердалом дороги пересекутся? Нет, конечно.
Я знал только, что есть на свете такой замечательный, неутомимый исследователь и писатель Тур Хейердал, что он выдвигает смелые гипотезы и отстаивает их не рассуждениями, а делом. Отвечая на возражения скептиков, что перуанские лодки могли-де плавать лишь вдоль побережья, иначе Галапагосский архипелаг был бы открыт и освоен инками задолго до испанцев, он организует экспедицию на Галапагосы. Ведет там археологические раскопки и неопровержимо доказывает: да, древние индейцы бывали на архипелаге неоднократно. У берегов Эквадора он строит и спускает на воду плот, оснащенный системой выдвижных килей-гуар, и его испытаниями подтверждает: да, плоты древних перуанцев были маневренны, они могли идти к ветру под более острым углом, чем старинные европейские парусники, и достигать любой точки в океане! Он отправляется на остров Пасхи, лежащий как раз посредине между Южной Америкой и Полинезией, и устанавливает, что первые поселенцы достигли этого острова, по меньшей мере, на тысячу лет раньше, чем считала наука…
Но все это существовало для меня как нечто интересное, но чрезвычайно далекое — и "Кон-Тики", и "Аку-Аку" были просто увлекательным чтением, и не более того.
И вот теперь мне предстояло встретиться с этим удивительным человеком. Для смелости, чтобы выглядеть более раскованным, в самолете пригубил несколько граммов… Приземлились. Уже в салон пахнуло прохладным ночным воздухом, пассажиры двигались к выходам, а я будто прилип к креслу. Наконец стюардесса громко спросила: "Есть в самолете русский врач? Его ждут у трапа". И я решился, сосчитав в уме до пяти…
Вышел, медленно начал спускаться. Вижу — у трапа внизу стоит стройный, моложавый, подтянутый человек в клубном пиджаке с эмблемой, изображающей бородатого Кон-Тики. Ошибиться никак нельзя — Хейердал! Поздоровались. Первое, о чем он осведомился, было:
— Что это у вас?
— Спирт.
— Очень рад. — Он прищурился понимающе и довольно ехидно, глядя на внушительную канистру. А я глядел на него, и волнения мои с каждой секундой рассеивались. Мне уже казалось, что мы знакомы давным-давно. Заготовленная приветственная речь не пригодилась.
Пошли получать мой багаж. Я внимательно следил за выражением лица Хейердала, когда бегущая дорожка транспортера выкидывала нам на руки все триста килограммов медикаментов, упакованных в пластиковые мешки. Тур раскрывал глаза шире и шире и, когда наконец появился последний мешок, облегченно хмыкнул. И я понял, что участь моя счастливо решена: человека с таким запасом юмора никто назад не отправит.
Что-то из медикаментов мы оставили потом в Каире, что-то в Сафи, но и в окончательном своем ассортименте бортовая аптечка "Ра" охватывала, в общем, все разделы медицины.
По дороге в город Тур стал меня расспрашивать, где я родился, где учился… Он поддерживал этот разговор только для того, чтобы я смог быстрее освоиться, поскольку все мои документы он получил и из них знал обо мне все, что ему требовалось. Поначалу я, обращаясь к нему, называл его "доктор Хейердал", "мистер Хейердал". В конце концов ему это надоело, и он сказал: "Ну что вы все "мистер", "мистер" — меня зовут Туром!" Так потом у нас и пошло — Тур, Юрий. Действительно, зачем усложнять жизнь — чем проще, тем лучше.
Основные разговоры Тур отложил на утро, отвез меня в отель "Пирамиды" и пожелал спокойной ночи. Однако я почти не спал в ту ночь. Слишком многое сразу навалилось — перелет, Каир, перемена климата, незнакомые запахи, легендарный Хейердал где-то близко, за стенкой… Короче говоря, я чуть свет был на ногах, и первое, что я увидел, взглянув в окно, была пирамида Хеопса. Позже я узнал, что номер с видом на пирамиды, так заботливо выбранный для меня Туром, влетел ему в копеечку.
Вышел из гостиницы, мимо загона, в котором просыпались ослы и верблюды, отправился к пирамиде. Стоял у ее подножия, трогал камень рукой и думал о том, что, конечно же, люди, соорудившие такое чудо, могли и переплыть океан, и о том, что связь времен неразрывна. И как это прекрасно и непостижимо, что мне с товарищами предстоит пройти дорогой древних и повторить их маршрут.
А вокруг, несмотря на рассветный час, шумела толпа гидов, они дергали меня за рукава и предлагали сфотографироваться верхом на дромадере… Я позорно удрал от них обратно в отель.
Тур ждал меня и удивился, что я уже успел погулять. Кажется, его порадовало, что я — такая ранняя пташка. Легкий завтрак — джем, тосты, масло, кофе, — и мы сели в джип, который повез нас к месту строительства "Ра".
Волновались мы оба чрезвычайно: я — потому что не терпелось увидеть корабль, Тур — потому что ждал, как мне понравится "Ра". И страстно желал, чтобы он мне понравился. Мы обогнули пирамиды и спустились в лощину, в овражек. Там стояло несколько белых палаток, но их я заметил уже потом, сперва я увидел Ее.
В лучах солнца, начинавшего припекать, золотым цветом сверкала, блестела и пахла свежим сеном странная и прекрасная ладья с загнутыми носом и кормой. Она была словно из сказки.
Я обежал ее вокруг, потом обошел медленно, потом, едва дождавшись приглашения, а может быть, даже и не дождавшись, скинул туфли и босиком ступил на ее упругую палубу. Она пружинила и напоминала о детстве, о сенокосе в деревне, — как сладко и страшновато было тогда стоять на верхушке свежего стога, острый медовый запах увядающей травы бил в ноздри, над головой плыли белые облака, и, если запрокинуть голову, казалось, что это не облака, что это ты сам плывешь…
Хотелось немедленно заглянуть во все закоулки, потрогать все веревочки и канаты, достроить, довязать и дозакрепить все, что нужно, скорей-скорей закончить сборы, бросить в каюту вещички и отплыть, отплыть наконец!
Тур видел, что я счастлив. Он и сам был счастлив от этого, но делал вид, что ничего особенного, корабль как корабль, вокруг и кроме него немало интересного. Он потянул меня туда, где в чане намокали папирусные кипы. Взял стебель и опустил его вертикально в бочку, нажал и отпустил резко, и стебель вылетел, как пробка. Тур сиял — вот какая плавучесть!
Он еще что-то показывал и объяснял, кого-то подзывал, кому-то меня представлял, знакомил меня с будущими моими спутниками… Незаметно я превращался из экскурсанта в полноправного участника работ, уже что-то тащил, привязывал, даже высказывал суждения, даже спорил… Но чем бы я в тот день ни занимался, с кем бы ни разговаривал, куда бы ни глядел, перед моими глазами стояла сверкающая золотом ладья. Ладья Аладдина и Синдбада-морехода, ладья из волшебной сказки о море и солнце — наш чудесный корабль, наш "Ра", на котором предстояло нам плыть…
Да, нам предстояло не совсем обычное плавание — из Северной Африки в Центральную Америку без мотора, без гирокомпаса, без локатора, на небольшом судне, сделанном из эфиопского папируса. Естественно, все это вызывало интерес и множество вопросов. Чтобы стало понятно, как, почему и для какой цели было задумано это плавание, необходимо рассказать немного подробнее о том, что предшествовало ему.
Поскольку я не этнограф, не антрополог, не археолог, то о проблемах, которых придется здесь касаться, рассказывать будет сам Хейердал. Вот что он писал в одной из своих статей:
"Споры, касающиеся контактов между Старым Светом и Новым, имевших место до походов Колумба, не прекращаются до сих пор. Со временем в науке сложились два противоположных направления — изоляционизм и диффузионизм.
Изоляционисты считают, что два основных океана, омывающие Северную и Южную Америку, абсолютно изолировали Новый Свет от контактов со Старым до 1492 года. Эта школа допускает, что первобытные охотники проникали из азиатской тундры на Аляску в зоне арктического севера — и только.
Диффузионисты, напротив, считают, что существовала единая общая колыбель всех цивилизаций. Они допускают различные варианты плаваний в древнюю Америку из Азии, Европы или Африки в доколумбову эпоху".
Такова суть полемики, возникшей еще в прошлом веке и разгоравшейся все жарче по мере того, как между древними культурами по ту и эту сторону океанов обнаруживались новые и новые черты сходства. А оно оказывалось несомненным и необычайным:
"…Пирамидальные постройки, поклонение Солнцу, браки между братьями и сестрами в царских семьях, накладные бороды у первосвященников, трепанация черепа, письменность, система календаря, употребление нуля, ирригация и террасное земледелие, возделывание хлопчатника, прядение и ткачество, гончарное дело, кладка из подгоняемых друг к другу огромных блоков, праща, птицеголовые божества, музыкальные духовые инструменты, камышовые лодки, рыболовные крючки, гробницы, настенная роспись и барельефы…"
Прерываю перечисление, чтобы не утомить вас. Но, впрочем, еще несколько фактов: здесь мумии и там мумии, здесь бумага и там бумага, здесь игрушки на колесах и там игрушки на колесах… А посредине пучина. Пучина, которую в этих широтах никто не пересекал до Колумба. Или, может, пересекал?
Изоляционисты — устами самых ярых своих представителей — отвечали безапелляционно: "Нет! Нет! Никогда! Параллели и совпадения случайны! Цивилизации развивались независимо!"
Столь же безапелляционны были и ярые диффузионисты: "Да! Да! Сколько угодно и кто угодно! Океаны — не помеха! У всех цивилизаций — общая колыбель!"
Стороны неистовствовали, упрекали друг друга в беспочвенности позиций, в отсутствии прямых доказательств. Однако полярность их взглядов лишь кажущаяся. Отправная точка у спорщиков едина, и это подмечено Туром Хейердалом весьма точно:
"И те, и другие рассматривают океаны как мертвые, неподвижные бассейны. Только экстремисты-изоляционисты считают, что эти мертвые водные пространства являются барьерами для перемещения людей в любом направлении, а экстремисты-диффузионисты рассматривают океаны как открытые глади, по которым мореходы-аборигены могли путешествовать в любом угодном им направлении".
Сам Хейердал относился к океанам иначе. Всей своей творческой жизнью, всеми гипотезами и теориями своими он, возможно, обязан тому, что однажды, в молодости, взглянул на Океан иными глазами, чем остальные:
"…Океаны не барьер для мореплавателей, напротив, они как бы пересечены гигантскими ленточными транспортерами, способными доставить из одного района в другой все, что может держаться на плаву".
Тем, кому захочется разобраться в затронутых проблемах основательней, следует взять книгу Хейердала "Приключения одной теории" и прочитать ее. А я вернусь к тому, что предшествовало нашему плаванию.
Когда в Аргентине состоялся очередной международный симпозиум, специально посвященный проблемам доколумбовых трансокеанских связей, диффузионисты и изоляционисты вновь скрестили мечи:
— А лодки, коллега?! Папирусные лодки африканцев и камышовые с озера Титикака?! Они похожи как две капли воды! Чем вы это объясните, если не проникновением африканской культуры в Америку?!
— Совершенно справедливо, коллега! Лодки почти одинаковые. Но к высокогорному озеру Титикака нет никаких морских путей, в центр Американского континента из Нила не приплывешь! Значит, это довод не в вашу пользу, а в нашу — африканская и американская цивилизации развивались параллельно!
— Хорошо, оставим лодки. А пирамиды? А религия? А календарь?..
Они опять ни о чем окончательно не договорились. Хейердал, которого пригласили руководить симпозиумом, закрыл его с чувством неудовлетворенности и огорчения. Он не примыкал ни к той, ни к другой школе. Все более он укреплялся в мысли о том, что историю человечества не втиснешь в формальные рамки. Нельзя абсолютизировать ни миграций, ни параллельного развития культур, — нужно подходить к проблеме конкретно и экспериментировать, а не перебрасываться доказательствами, которые можно толковать и так и сяк.
Кроме того, он заметил некоторые неточности в умозаключениях досточтимых коллег. Лодки, подобные титикакским и египетским, строились и в других местах. На них плавали — судя по историческим документам — и вдоль тихоокеанского побережья Америки, между Калифорнией и Чили, и по некоторым озерам Мексики. А в Старом Свете — по водоемам Эфиопии, Месопотамии, по Чаду и Нигеру, а также у берегов Марокко. А Марокко и Мексика связаны постоянным океанским течением!
Последние камышовые лодки употреблялись индейцами племени серис на берегах Калифорнийского залива еще в шестидесятых годах нашего века. До сих пор они широко распространены на озере Титикака и встречаются кое-где на северном побережье Перу.
А в Африке такие же лодки, но из папируса, с двуногой мачтой, с загнутыми носом и кормой, строились на атлантическом побережье Марокко почти вплоть до начала Второй мировой войны. И там, и здесь это были маленькие лодки, на которых плавали полунищие рыбаки.
Но старинные рельефы и росписи говорили о лодках подобного типа, однако гигантских, вместительных, двухпалубных, — не о лодках уже, а о кораблях, военным строем идущих по океану. Именно на таких судах древние мореплаватели могли пересечь с востока на запад Атлантику.
Сформулировав для себя эту мысль, капитан "Кон-Тики" уже не знал покоя. Он жаждал эксперимента, отправился на озеро Титикака, затем в Африку, на озеро Чад. Разыскал там мастеров-строителей, которые согласились изготовить корабль по древнеафриканскому образцу.
Папирусные ладьи серповидной формы, с изогнутыми вверх носом и кормой, с изображением солнечного бога Ра — частый сюжет древнеегипетских росписей и петроглифов. Папирус для нашего "Ра" пришлось заготавливать в Эфиопии, в истоках Голубого Нила, поскольку в дельте Нила он уже почти не встречается. Стебли тростника, срезанные в декабре, в связках сначала везли до Красного моря по суше, а потом доставили на площадку у подножия пирамид. Тогда Хейердал еще не знал, что плавучесть тростника зависит от времени года, когда его срезают. Лишь много лет спустя, при строительстве "Тигриса", он учел эту особенность.
Не знал он тогда и других конструктивных особенностей древнеегипетских и месопотамских лодок, поскольку мастеров этого давно забытого ремесла почти не осталось. Лодочники с озера Чад из племени будума строили небольшие тростниковые лодки — в соответствии со своими местными потребностями и возможностями. Они на них рыбачат, плавают по озеру, и, конечно, их ладьи достаточно примитивны, чтобы на них выходить в океан. Но чадским лодочникам известна была методика их строительства из папируса, что и определило выбор Хейердала…
Пока заканчивалось строительство нашей лодки, получившей название в честь древне-египетского бога Ра, мы смогли поближе познакомиться друг с другом. Тогда в Каире, кроме Тура, я встретил и других членов экипажа. Когда мы приехали на стапель у подножия пирамид, около него вскоре лихо затормозила машина, из нее выскочил черноглазый гигант с ослепительной улыбкой: "Хелло, я Жорж". Так я познакомился с Жоржем Сериалом, египтянином. По образованию инженер-химик, он увлекался подводным плаванием и стал феноменальным ныряльщиком. Кроме этого, он стал еще и чемпионом Африки по дзюдо. Жорж был замечательным человеком, хорошо образованным, говорил на шести языках. Хотя он и из Египта, но был не мусульманином, а коптом и происходил из местной аристократической семьи: его дед во времена английского владычества был губернатором Каира. Женат был Жорж на француженке.
Его ноги были в шрамах и рубцах от зубов акул. Это "сувениры" Красного моря, где снимался фильм о подводных хищниках. Ныряльщики-статисты отказались идти в воду — слишком опасно, — и тогда пошли продюсер Бруно Вайлати и Жорж. Теперь он говорил, что никогда больше не повторит подобного, — такой пришлось пережить ужас.
Когда там же делали картину о муренах, Жорж выступал в роли их дрессировщика. Мурена — трехметровый морской угорь, страшилище, острозубое и свирепое. Жоржу удалось приучить к себе трех мурен. Они привыкли к нему и выплывали навстречу из своих убежищ. Жорж кормил их из рук и даже… изо рта. В это невозможно поверить, но я сам видел кинокадры.
Именно благодаря Бруно Вайлати Жорж Сориал оказался в составе экипажа "Ра". До того он не был знаком с Туром Хейердалом, в отличие от своего приятеля Бруно. Когда началось строительство "Ра", Жорж трудился на стапеле среди многих добровольцев-помощников. Кроме того, носился на своем джипе по Каиру, доставал канаты, организовывал закупку хлеба, следил за изготовлением паруса. Он разрывался между министерством туризма, поставщиками, институтами, строительной площадкой… И делал все это совершенно бескорыстно: для него подготовка "Ра" в дорогу — уже приключение, захватывающее, из тех, какие ему по душе. И вот настал вечер после особенно хлопотного дня, а назавтра ожидался день не менее сложный. Вдруг Тур сказал Сориалу: "Шел бы ты отдохнуть. Я не хочу, чтобы участник экспедиции переутомлялся". Жорж изумленно разинул рот — и подписал контракт.
Бруно Вайлати тоже должен был плыть с нами: этот кинопродюсер был прекрасным оператором и ныряльщиком. С ним Хейердал договорился об участии в экспедиции в числе первых. Но Бруно не отпускали дела, и тогда он порекомендовал вместо себя известного журналиста, прекрасного фотографа и не менее известного альпиниста Карло Маури. Плавание на "Ра" должно было стать двадцать пятой экспедицией в его жизни. Я особенно подружился с Карло, а он сразу же стал почти опекать меня: подарил мне панаму, отдал какие-то свои рубашки, чтобы уберечь от палящего африканского солнца, под которым я тут же обгорел, едва прилетев из заснеженной еще недавно Москвы.
Вскоре после моего приезда началась череда встреч Тура и его экипажа (пока не в полном составе) с журналистами, мы бывали в посольствах, для нас устраивались всевозможные приемы… Обычная "светская" суета. Когда мы были с Туром в нашем посольстве, его осторожно спросили: "Как вам наш врач? Устраивает его кандидатура? А то у нас есть дублер для его замены". — "Нет, нет! Не надо другого!" Так я окончательно был принят в экипаж Хейердала.
Тогда же в Каире решилась судьба еще одного из моих будущих товарищей по плаванию. Еще в Чаде, когда строилась пробная папирусная лодка, Тур познакомился с Абдуллой Джибрином. Пробную лодку делали два брата, Омар и Муса, из племени будума. Братья не знали ни одного из европейских языков, и потому общаться с ними Хейердалу было затруднительно. Тут же вился их соплеменник, безработный плотник, говорящий по-французски. И когда мастерам настала пора ехать в Египет, Хейердал пригласил не двоих, а троих. Ни о каком плавании для плотника речи быть не могло: плыть с нами должен был Омар, "прораб". Но вскоре выяснилось, что Омар болен, и смышленый переводчик занял его место. Так в экипаже "Ра" появился Абдулла.
В Каире Абдулла показал себя не только смышленым, но и весьма деятельным. Хотя у него в Чаде оставалась жена, он здесь решил купить себе еще одну. И всех нас пригласил на свою свадьбу. Ее он почему-то устроил в "мертвом городе", районе Каира, где никто не жил и где просто стояли пустые дома, без электричества, без канализации, — действительно мертвый город. Почему он выбрал именно этот район Каира, не знаю, но я впервые увидел необычную свадьбу в необычном месте.
Угощение было достаточно скромное, напитки безалкогольные, поскольку ислам запрещает пить водку, виски, вино. Главным "угощением" я для себя назвал знаменитый "танец живота", который увидел впервые. Гости собрались перед полуразрушенным домом, где сначала сидели за столом, а потом их стала развлекать местная танцовщица с довольно плотными телесами. Об одежде могу сказать, что она была тоже очень скромна — коротенькая то ли юбка, то ли мини-шорты и весьма символический лифчик.
Эту танцовщицу мы должны были одаривать деньгами. Помню, что их у меня было мало, и когда она в очередной раз выманила у меня купюру, которую я положил ей (как, впрочем, и другие) в юбочку, эта дива продолжала передо мной "солировать". Тогда я вынул из кармана целую горсть нашей мелочи, остававшейся у меня, — пятачки, двушки, пятнашки… Через два-три дня на строительной площадке ко мне подошел один из местных зевак, постоянно крутившихся возле нашей лодки, показал мне мои пятаки и спросил: "А эти деньги можно в банке поменять?" Не мог же я его разочаровывать и объяснять, что наши медяки ничего не стоят, поэтому решил подшутить и ответил: "Ну коне-е-е-чно!" Иди, родимый, поменяй!..
Строительство лодки близилось к концу, и мы стали вырабатывать план действий. "Ра" должны были доставить в Марокко, откуда мы собирались стартовать, на пароходе. А пока лодка будет в пути, у нас оставалось недели две свободного времени. Распорядиться им мы могли каждый по своему усмотрению. Тур сказал мне: "Хочешь, плыви с лодкой в Танжер, а хочешь, слетай в Москву". Естественно, что я предпочел вернуться на время домой, где надо было завершить некоторые дела. Кроме того, я не успел толком попрощаться с родителями, взглянуть на Дашу, которая была еще не настолько большой, чтобы понимать, в какую замечательную авантюру ринулся ее папа. Да и визы для вылета в Марокко у меня еще не было.
Но перед этим все мы были участниками красивого праздника — "фараонова действа", устроенного Туром по случаю спуска "Ра", правда, не на воду, а со стапеля. В лощину за пирамидами приехали пятьсот студентов-спортсменов из Каирского университета. Студенты "впряглись" в канаты, и после многочисленных переговоров, споров и перестроений ударил барабан. В такт его громовым ударам канаты натянулись — и "Ра" пополз по каткам, подложенным под платформу, а катки двигались по рельсам из деревянных балок. Так передвигали тяжести при Хеопсе.
Надо сказать, что все это происходило не столь стройно и гладко, как изображено на фараонских рельефах. Неразбериха была страшная, и я тогда впервые увидел Тура злым. Организовать спортсменов оказалось чрезвычайно сложно: каждый тянул в свою сторону — словно ожила крыловская басня о лебеде, раке и щуке. За три-четыре часа лодка сдвинулась метров на пять; съемочные камеры упоенно жужжали, а именитые гости под тентом аплодировали. Потом студентов "распрягли", посадили в автобусы и отправили обратно в Каир. К лодке подошли два тягача, до того скромно дремавшие в сторонке. Тягачи без шума быстро вытащили "Ра" на шоссе и втянули на площадку автоприцепа…
Я вылетел в Москву, договорившись встретиться с Туром и другими членами экипажа в Марокко, в городке Сафи, некогда древнем порту мореплавателей-финикийцев. Было начало мая 1969 года.
Прилетев, я оказался в настоящем водовороте: начались многочисленные интервью, статьи в газетах — журналисты проявляли невероятный интерес к моей персоне после того, как стало окончательно известно, что в экипаж "Ра" включен советский врач. Редакция "Комсомольской правды" предложила мне быть ее специальным корреспондентом на борту папирусной лодки, а это предполагало, что я буду вести там подробный дневник. В Агентстве печати "Новости" (АПН) мне выдали хорошую аппаратуру, чтобы я во время плавания мог делать фотосъемку. Едва хватило времени вырваться в Ленинград, увидеться с родителями и дочкой. В Москве друзья заставили устроить традиционную "отвальную", и я налегке улетел в Марокко.
В Рабате меня стали опекать наши ребята из посольства. Я познакомился с тогдашним послом СССР в Марокко Лукой Фомичом Паламарчуком. Это был просто замечательный человек, потрясающий мужик. До этого министр иностранных дел Украинской ССР, он представлял ее на сессиях ООН, а потом, уже перед пенсией, его назначили в спокойный Рабат на не столь трудную должность. Он поручил меня нашему вице-консулу в Касабланке Вадиму Иванову и корреспонденту АПН Владимиру Катину.
Володя, огромный, веселый, жизнелюбивый парень, сразу расположил к себе, и мы с ним быстро подружились. Он стал показывать мне местные достопримечательности, возил по городу, знакомил с местной кухней. Помню, что впервые я попробовал устриц именно в Марокко. Потом они с Ивановым отвезли меня в городок Сафи — это несколько часов езды на машине от Касабланки.
Тур был уже там. С ним были его жена Ивон и один из двух сыновей Тур-младший. Экипаж тоже был здесь. Точнее говоря, с нами не было только мексиканца Сантьяго Хеновеса, встречавшего лодку в порту Танжер. Его появление в команде Хейердала тоже было неожиданным, как и появление Жоржа и Карло. Тур знал Сантьяго и раньше, но совсем немного. Плыть на "Ра" он не должен был — просто, сам того не зная, оказался дублером кинооператора, фотографа и подводника Рамона Браво, который чуть ли не накануне отплытия лег на серьезную операцию. Так испанец по рождению, эмигрировавший из франкистской Испании, в юности профессиональный футболист, учившийся в Кембридже, а к моменту старта профессор-антрополог Мексиканского университета, стал нашим товарищем. Седьмым членом экипажа был американец Норман Бейкер, в прошлом летчик, моряк. На "Ра" он станет нашим штурманом и радистом. И первым помощником Тура.
Можно сказать, что вплоть до последних дней Тур не знал, кто с ним поплывет! Ситуация, казалось бы, немыслимая в практике подготовки подобных предприятий! Но Тур нисколько этим не смущался. И не скрывал, что такой "разгул" случайностей как нельзя более совпадает с его планами.
Он поставил себе задачу исходить не из лабораторных, а житейских обстоятельств. И сознательно не желал ничего искусственно организовывать и предвосхищать. Ведь в обыкновенной, будничной жизни человек не сидит под стеклянным колпаком, не выбирает себе соседей и сослуживцев. А Хейердал стремился доказать, что именно обыкновенные, отнюдь не особенные люди могут и должны в самых сложных условиях действовать сплоченно и дружно.
Он пошел еще дальше: решил собрать на борту "Ра" представителей различных рас, приверженцев различных, очень несходных мировоззрений. И продемонстрировать таким образом, что люди, живущие на одном земном шаре, если они зададутся общей, одинаково важной для всех целью, вполне могут конструктивно договориться по любому вопросу.
Тем не менее проблема психологической совместимости существовала, никуда от нее не денешься. На практике люди знакомы с ней издавна, но предметом научного изучения совместимость стала всего десятки лет назад. И был понятен энтузиазм моих друзей-психологов, провожавших меня на "Ра": семь человек, папирусное судно и океан… Вот это эксперимент! Не было еще такого!
Словно по заказу тех же психологов обстоятельства помогли тому, чтобы эксперимент усложнился дополнительно. Не просто семеро, а семеро, оказавшихся вместе случайно.
Наши первые дни в Каире и особенно в Сафи сложились так, что каждым своим часом они, казалось, убедительно подтверждали правоту Хейердала. Все семеро освоились моментально: потаскали связки папируса, посвязывали канаты, собрались в гостинице поужинать как следует, выпили водки, закусили икрой… И вот уже нам чудилось, что мы знакомы давным-давно, что ни на одном судне за всю историю мореплавания не было такого дружного, жизнерадостного, по всем статьям превосходного экипажа.
И, конечно, мы ошибались, думая, что знакомство состоялось. Напротив, оно едва начиналось, нам еще предстояло выяснить, что же нас объединяет. А пока что нас объединяла, во-первых, радость по поводу того, что мы участвуем в увлекательнейшем путешествии, и, во-вторых, сам Тур.
Хейердал и формально был нашим общим руководителем, шефом, командиром и капитаном. Но, кроме того, от него к каждому тянулись самые разнообразные нити. Норман видел его лишь однажды на Таити, а Сантьяго — в Москве. Для Карло он был авторитетным ученым.
Абдулла на Тура чуть не молился! Сколько чудес он, Абдулла, увидит! Он поплывет по морю, которое, оказывается, все соленое, посмотрит на китов, немножко похожих на бегемотов, будет богатым, уважаемым… И все это благодаря Туру, благодаря его странной идее покататься по океану, как по озеру Чад! Тур, кстати сказать, всячески оберегал его восторженное состояние, стремился к тому, чтобы африканец чувствовал себя раскованно. И, замечая дружеское внимание к себе, Абдулла радовался еще больше.
Жорж, много слышавший о Туре от Бруно Вайлати, конечно, гордился тем, что нежданно-негаданно стал членом экипажа "Ра". Но не ронял собственного достоинства и при случае старался показать "этому норвежцу", что и египтяне не лыком шиты. Лез в огонь и воду, без устали нырял, таскал, привязывал, грузил… И косил глазом в сторону Тура, и расцветал от его похвалы…
Я тоже был очарован Туром. Мне казалось непостижимым, что работаю рядом с человеком, чей бальсовый плотик многие годы стоял в моем сознании на гребне гигантской, похожей на перевернутую запятую волны. Человек с книжных обложек, с газетных полос, синьор Кон-Тики, мистер Аку-Аку, он топал босиком по палубе полуготового "Ра", возился с ящиками, мешками и пакетами, поглядывал иронически, хмыкал, скрывался в свой сарайчик постучать на машинке… И все это происходило здесь же, в двух шагах, это было как кинофильм, зрителем и участником которого я одновременно являлся. Ощущение нереальности происходящего не покидало меня.
Общую атмосферу, царившую тогда в наших отношениях, с полным основанием можно было назвать фестивальной. Наше "ты", на которое мы сразу легко перешли, было экзальтированно подчеркнутое; мы уставали, были грязны, обливались семью потами… И все равно чувствовали себя как на празднике, где каждый старается показать себя с наилучшей стороны.
Мы в Сафи ждали лодку, которую уже доставили морем в Танжер. На огромном трейлере ее должны были переправить сюда. Но по дороге возникли сложности: "Ра" имел слишком большие размеры для проезда под мостами на шоссе, ведущем в Сафи.
Наконец лодку привезли и состоялся ее спуск на воду. В присутствии многочисленных гостей, среди которых был паша Тайеб Амара, наместник короля, приехавшие в Сафи послы разных стран, многочисленные журналисты, наш "Ра" закачался на волнах. И оказался совсем не таким большим, каким был на суше, — всего 12 метров в длину и 5 в ширину. В порту для него была найдена тихая заводь с баржей-понтоном, возле которой лодке предстояло намокать. Ошибочно считалось, что папирус, пропитавшись водой, тонет через две недели. Как покажет наше плавание, все совсем наоборот — от долгого пребывания в морской воде стебли становились крепче, и при правильной вязке папирус — прекрасный материал и для больших судов.
Древние умели строить их так, что они ходили по морю в расчете на высокую волну и не разламывались, когда она поднимала суда, а их нос и корма при этом повисали в воздухе. Гибкие папирусные корабли древних мореплавателей, благодаря тому, что делались из взаимосвязанных частей, прекрасно держались и тогда, когда оказывались на гребнях двух волн, как бы повиснув без опоры посередине. И конструкция лодок из папируса, и их оснастка были идеально продуманы для длительных плаваний по морям, но некоторых секретов древних мы пока не знали. Их еще предстояло узнать.
В самые первые свои дни пребывания в Сафи я нервничал: лодку уже везут, Ивон, Жорж, Карло понемногу свозят к барже-понтону продовольствие, а воды нет! Ни капли из полутора тонн, которые решено с собой захватить! А ответственный за них я!
Мне чудилось, что кое-кто уже поглядывает на меня с сомнением: вот так русский врач, не поторопился ли Хейердал заключить с ним контракт?
А что я мог сделать? В Сафи водопровод так называемого полузакрытого типа: вода из артезианских колодцев течет в город по террасам. Анализы вновь и вновь подтверждали, что такую воду вряд ли безопасно брать с собой в океан — храниться-то ей не меньше двух месяцев!
Я поддерживал связь с городской санэпидемстанцией, мне предлагали источник за источником. Приходилось браковать их один за другим, пока наконец на сцене не появился месье Шанель. Кто порекомендовал к нему обратиться, сейчас подзабылось, но встреча с месье Шанелем оставила в памяти весьма приятный след.
Мы приехали к нему на ферму. Он повел нас к своему роднику, достав из сейфа бумаги столетней давности с подписями всевозможных английских лордов, французских миллионеров, американских генералов… Все они когда-то имели случай испить воды из родника месье Шанеля — видимо, Шанеля-отца и Шанеля-дедушки, поскольку нынешнего еще на свете не было. И все не пожалели в адрес родника благодарственных слов.
На вкус вода была превосходна, бактериологические пробы не разочаровали, и к длинному списку клиентов месье Шанеля прибавилось имя Тура Хейердала.
Мы наливали воду в глиняные амфоры здешнего же производства — город Сафи кроме своих сардин славится и керамическими изделиями. Добавляли специальный консервант, забивали пробкой и заливали сверху гипсом. Часть воды налили в бурдюки. А около пятисот литров мы решили хранить в пластиковых канистрах в качестве неприкосновенного запаса. Припрятали их подальше от бдительного ока репортеров, дабы не скомпрометировать идею экспедиции "Ра" — "все как у древних".
Воды было много. Ее пили без нормы, в ней варили. Она просачивалась сквозь гипсовые пробки. Кстати, пробки эти надежд не оправдали — слишком они гигроскопичны. Несколько амфор мы попросту выбросили в трудные штормовые минуты. И все равно воды было много. Мы даже некоторое время не протестовали, когда Абдулла использовал пресную воду для своих ритуальных омовений, хотя это уже было излишней роскошью.
Второй этап моей деятельности наступил в предотьездные дни: всех членов экипажа нужно было тщательно обследовать. Мне очень помог в этом доктор Катович из Польши, который работал в то время в марокканском правительственном госпитале. Мы сделали всем электрокардиограммы, определили группу крови на случай, если понадобится переливание. Выяснилось, что у пятерых из нас первая группа, а у двоих — четвертая, так что никаких затруднений при переливании не встретилось бы. Это немало порадовало.
Помимо всего, пришлось гнать всех шестерых — и самому идти — к зубному врачу. Жорж Сориал и Норман Бейкер оказались на высоте, а мы с Хейердалом и Абдуллой попались, и чуть-чуть Сантьяго.
Наставал день отплытия. Я встречал его во всеоружии: не только загрузил медикаментами два ящика, отведенные в хижине на мою долю, но и отобрал один ящик у Сантьяго.
И вдруг рано-рано утром мне в номер позвонил Норман и сказал, что ему совсем нехорошо. Градусник показал тридцать девять и девять… Это было для меня как ледяной душ. Нам ведь выходить через пару часов!
Если бы обнаружилась пневмония, я бы не раздумывая наложил на старт свою докторскую лапу, поломал бы график, и тогда загорать бы нам в Сафи еще невесть сколько. Но пневмонии не было — налицо был бронхит. Я поддался на уговоры Нормана. Чуть ли не под руки мы довели его до "Ра" и уложили в хижине, откуда он хриплым голосом отдавал свои морские распоряжения, словно раненный, но не покинувший поста адмирал.
У Сантьяго объявился дерматит на интересном месте — бедняга еле-еле ковылял (а назавтра совсем слег). Сам я вдруг закашлял… Хорошенькое было начало!
После того как якорь выбран и швартовы отданы, порядочный путешественник достает записную книжку и заносит в нее для памяти что-нибудь вроде: "Итак, я в пути! Солнце светит, волны искрятся, чайки кричат, парус надувается!"
Запись, сделанная мной в тот день, гласила: "Рондомицин, анальгин, тетрациклин, делалгин, марганцовка, пипальфен, аспирин. Госпиталь "Ра"!!!" Мы и впрямь были плавучим госпиталем, на котором к тому же сразу сломались оба руля и рей, — но об этом позже. А что касается болезней, то понемногу все образовалось.
Через трое суток, выйдя впервые на связь, Норман обстоятельно доложил жене и детям, что "стараниями русского врача дело пошло на поправку". Сантьяго тоже полегчало, хотя долго еще я водил его вечерами в свой "медицинский кабинет", на корму, и там, балансируя на шаткой палубе, пользовал его ванночками и примочками. Освоился и Абдулла, который знакомился с морем крайне мучительно. Жизнь вошла в колею, и я снял свой "белый халат".
25 мая 1969 года утром загудели буксиры на рейде Сафи, вскинула руки славная, храбрая Ивон… "Ра" стартовал. Но мы не сразу пошли самостоятельно — боялись, что прибьет к берегу, и медлили расцепляться с выводившей нас в море шхуной. Все же вскоре решили, что тащиться через океан на привязи — не совсем наша задача.
Как представлялось нам в ту пору предстоящее плавание? О, во всех подробностях! Мы могли без запинки рассказывать о путешествиях древних мореплавателей, лихо обосновывали принцип действия рулевых весел, брались с точностью до суток вычислить момент перехода из течения в течение. Но попробуй нам кто-нибудь напророчить, что весла тут же сломаются, что без них мы пойдем не хуже, что ужасный мыс Юби дастся легче, чем безобидный архипелаг Зеленого Мыса, что выкинем еду и распилим спасательный плот!..
В начале плавания присловье "как у древних" было излюбленной остротой матросов "Ра". Мы употребляли его к месту и не к месту. Трунили, как бы извиняясь: вот, дескать, какая странная у нас забава — на травяном кораблике пуститься в опасный путь лишь затем, чтобы выяснить, мог ли кто-то, когда-то и где-то путешествовать именно таким способом! У Тура, мол, свои интересы — он ученый, специалист. Ну, а нас, остальных, высокие материи не занимают — нам просто выпал случай поплавать, вкусить приключений. Кто бы отказался от этого?
Тут еще, видимо, играла известную роль застенчивость, боязнь прослыть Слишком-Романтиком. Это мальчишка, у которого пробились усы, во что бы то ни стало стремится говорить басом, а взрослый дядька, пойманный за склеиванием бумажного змея, первый спешит посмеяться над собой.
Однако проходили дни, и мы с удивлением обнаруживали, что проблемы доколумбовых рейсов через Атлантику занимают наши мысли все нешуточнее. Мы вновь и вновь возвращались к ним в беседах, спорили до хрипоты, какие лопасти весел были на старинных судах — прямоугольные или овальные, и останавливались ли древние мореплаватели на Канарах, чтобы подсушить папирус, или нет.
В конце концов апелляция "к древним" стала для нас ежечасной, привычной и естественной. Мы прибегали к ней в каждой ситуации, которая требовала маломальского обсуждения, шли ли дебаты о выборе курса или о размещении амфор, о способах крепления весла или о суточном рационе.
Уже не вызывало сомнений, что успешно пересечь океан — отнюдь не только залог нашего личного благополучия, но и вопрос торжества идеи, которую мы все разделяем. Да, это уже была наша общая идея — на "Ра" был не один энтузиаст-этнограф, а семеро.
Мы плыли из Северной Африки к Южной Америке. Написал эту фразу и тотчас отметил — ошибка. По всем правилам доброго моряцкого жаргона, видимо, надо сказать не "плыли", а "шли". В первые дни плавания Норман всерьез огорчался, когда Жорж кричал: "Тяни за эту веревку!", а я в слове "компас" по-сухопутному ударял на первый слог. Сам Норман оперировал морскими терминами щегольски, каждую веревочку и петельку называл именно так, как она у моряков и только у моряков называется. Ему казалось странным, если мы не всегда сразу соображали, что дергать и за что тянуть.
В конце концов Тур собрал специальное совещание, на котором попросил Нормана преподать нам терминологию и при этом что возможно упростить. Мы точно условились, что именно нам называть шкотом, а что брасом. Это, разумеется, в дальнейшем помогло при авралах, но записными "морскими волками" мы так и не стали: ни Жорж с его подводными приключениями, ни тем более Сантьяго и Карло, ни даже ветеран "Кон-Тики".
Начальные страницы моего дневника сплошь в восклицательных знаках: тот хороший парень и этот отличный парень! И пациенты мои выздоравливают! А с Жоржем мы завтра начнем заниматься русским языком! И если Норман на меня накричал, так я сам виноват, что не владею морской терминологией! Абдуллу же необходимо просто немедленно рекомендовать к приему в Университет имени Лумумбы!..
Видимо, похожие чувства испытывали и мои товарищи. Мы еще не успели распрощаться с портом Сафи, как Жорж Сориал (о нем в дневнике: "Умница! Забавник! Весельчак! Балагур! Полиглот!") уже предложил мне будущим летом отправиться с ним вместе в такое же плавание. И тоже на лодке из папируса, но меньших размеров.
— Зачем?
— Просто так! Ведь я бродяга! — Глаза его блестели, настроение было безоблачным, доверие ко мне — безграничным. Обстановка, сложившаяся на корабле, устраивала его как нельзя более.
Однако очень скоро выяснилось, что на "Ра" не только выбирают шкоты, но и моют посуду. Сантьяго, человек тонкий и ранимый, раньше других почувствовал: кончается наш фестиваль. Наступал кризис: плакатные Представители Наций и Континентов превращались в конкретных соседей по спальному мешку. Что делать, наши житейские слабости понемногу возвращались к нам, из святых мы снова превращались в обыкновенных…
Наверное, было бы здорово все два месяца плавания прожить в атмосфере праздничных взаимных расшаркиваний, обмениваясь значками и скандируя "друж-ба, друж-ба". Но даже в самой дружной, сказочно, небывало дружной коммунальной квартире новоселье не продолжается вечно. А ведь мы именно как бы и вселились в коммунальную квартиру, и в ней нам предстояло не ликовать, а жить. Теперь-то мы и начинали всерьез знакомиться друг с другом.
Выяснялось, что Норман любит покомандовать, а Жорж — поострить по поводу его команд; что Карло предпочитает работать без помощников, а Сантьяго, наоборот, без помощников не может.
Дольше всех оставался загадкой Абдулла. Впрочем, я так до конца его и не разгадал. Это был человек мгновенно меняющихся настроений: то хмурится, то поет и смеется. Предсказать, как он ответит, например, на предложение почистить картошку, было совершенно невозможно: то ли обрадуется, то ли вообразит, что его дискриминируют как чернокожего (!). Да-да, случалось с ним и такое!
В те дни я про него записал: "…Измучил своим приемником, слушает заунывные мелодии и наслаждается, а нам хоть на стенку лезь". Это уже давали о себе знать те самые пресловутые "зазубринки", несходство наших вкусов и привычек.
Что ж, я не был вне эксперимента, я был, как и остальные, внутри его. На меня тоже действовали экстремальные обстоятельства. Норман, опять изругавший меня — на сей раз за опоздание к завтраку, — безусловно, имел основания сердиться. Но я почему-то считал, что сердиться должен не он, а я. То же самое с приемником Абдуллы. Для бедного парня напевы родины оставались едва ли не единственным прибежищем. Он ведь не мог ни с кем из нас, если не считать Жоржа, в полную меру общаться — не вмешивался в наши беседы, не смеялся нашим шуткам. Ему зачастую только и оставалось, что прижимать к уху транзистор.
Тур, тактичнейший среди нас, великолепно понимал сложность положения Абдуллы на борту "Ра". Он относился к африканцу очень внимательно, всегда был настороже, готовый смягчить ситуацию и сгладить углы. Тур просил Жоржа — единственного, кто вполне имел такую возможность, — чаще разговаривать с Абдуллой по-арабски, чтобы тому не было одиноко и тоскливо. Жорж принялся учить Абдуллу читать. Ученик брал уроки с удовольствием, это развлекало и его, и Жоржа, что тоже было немаловажно. Впрочем, Абдулла очень быстро сообразил, почему Тур относится к нему с особым вниманием, и не преминул потом использовать это себе на пользу.
После того как кончилось плавание, перелистывая страницы своего дневника, я почувствовал, что меня задним числом берет оторопь: какие мы все на "Ра" были разные! Сверхобщительный Жорж и замкнутый Норман; конформный Сантьяго и не умеющий приспосабливаться Карло. День и ночь, земля и небо, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень сошлись на борту "Ра"!
Авторитет Тура был бесспорен. И что не менее важно, он этим авторитетом не кичился. Его можно было (не пробовал, правда) хлопнуть по плечу, вахты он стоял наравне со всеми, за тяжеленное бревно брался без приглашения. В сущности, большую часть времени был он никакой не капитан, а матрос, корабельный чернорабочий, как любой из нас. Этого требовали обстоятельства: экипаж малочислен, без совмещения обязанностей не обойтись. Но демократизм его не бесхребетен. Переход от Хейердала-матроса к Хейердалу-капитану совершался естественно, обоснованно и всегда кстати. Он великодушен и гибок, не мелочился, не встревал в пустяковые конфликты. Но когда было надо, умел настоять на своем. Взять хотя бы историю со спасательным плотом.
Спасательный плот на борту "Ра" представлял собой квадратную пенопластовую основу, обтянутую водонепроницаемой тканью. Внутри — емкость для аварийного запаса воды, пищи и для рации, а также тент. Общий вес плота — чуть больше ста килограммов. Размещался он под капитанским мостиком. Вскоре после начала плавания мостик осел и придавил плот, так что воспользоваться им в случае экстренной необходимости стало никак невозможно.
Мы убедились в этом, когда день на двадцать пятый принялись облегчать уже основательно притопленную корму: мы намеревались переправить плот водным путем с кормы на нос. Подступились к плоту, а он не вылезает. Отпилили кусок пластикового покрытия, укоротили, сузили, подрубили и расшатали все, что могли, а плот — ни с места. После многих попыток мы сыграли отбой, полагая, что назавтра то ли сами будем сильнее, то ли плот покладистее.
Следующий день наступил для меня позже обычного. Я отстоял рассветную, довольно хлопотную вахту, чувствовал себя несколько неважно — почему-то болели вырезанные четыре года назад миндалины — и с облегчением завалился спать. Меня не будили. Поднимаюсь, смотрю — уже десять утра, на корме Тур, Сантьяго и Карло оживленно спорят по-итальянски. Спросил Сантьяго, что решено делать с плотом.
— Есть идея плот разрезать на части и сделать из него кормовую палубу.
Вот это да! Уничтожить наш единственный шанс на спасение!
— А если ураган, шторм, если корабль переломится, что тогда? — Это не укладывалось у меня в голове! Наш плот, который уже почти месяц служил нам психологической опорой, амулетом от всяких бед… И вдруг его уничтожить… — Имею два возражения! Первое: плот может понадобиться. Второе: что скажут оппоненты? Древние мореплаватели не пользовались пенопластом! Уж скорей мы могли бы строить палубу из пустых канистр!
И тут вмешался Тур:
— Что касается оппонентов — да! Древние пенопласта не имели! Но они имели большее — опыт строительства подобных лодок. Наш "Ра" — эксперимент, и не совсем удачный. Если бы пришлось строить второй корабль, мы не повторили бы ошибок. А пока что доказано главное: папирус — отличный плавучий материал! Кривая его водонасыщения идет круто вверх первые пять дней, затем становится пологой и потом практически вовсе не поднимается. То же самое и с прочностью на излом: двадцать шесть дней корабль непрестанно сгибается и выпрямляется — и ничего! Сталь бы не выдержала, а мы плывем. О каких же угрожающих неожиданностях вы изволите говорить?
Я почти ежедневно, — продолжал Тур, — предупреждаю о постоянном обязательном ношении страховочных концов. Но некоторые, не буду называть кто, ибо в их числе побывали почти все, упрямо об этом забывают. Между тем это опасность номер один. Мы не сможем спасти человека, упавшего за борт, "Ра" не имеет заднего хода и не обладает маневренностью.
Речь Тура, в которой он упомянул и о других опасностях, была длинной. В заключение он сказал:
— Прошу понять — мы ведь не выбрасываем спасательный плот, мы только разрежем его и примонтируем к корме. То есть плот останется, тот же самый, лишь в несколько измененном виде. Вариант с плотом отнюдь не навязывается, он предлагается в порядке обсуждения. Любой из вас имеет право вето. Хотя я должен подчеркнуть, что плот взят мной только для спокойствия семей экипажа, а вообще он на борту лишний и бесполезный.
Разумеется, Тур победил. Все его поддержали. Я тоже согласился, переубежденный, без тени сомнения.
И мы продолжали свой путь, зная, что отныне нам с палубы "Ра" пересесть не на что, — с хрупкими веслами, с обвисшей кормой, наваливаясь сообща при авралах и уходя в себя в минуту грусти.
И все же, что такое был наш "Ра"? В сущности, он представлял из себя многослойный плот, связанный из снопов папируса, с изогнутыми кверху носом и кормой. Лодочники с озера Чад укладывали вместе один бунт за другим, соединяли их, притягивая друг к другу веревками и канатами. Каждый сноп плыл как бы сам по себе, поднимался и опускался, как рояльная клавиша. Мы путешествовали словно на целой стае игрушечных корабликов, где у каждого свой норов. Хорошо хоть всем им было с нами по пути.
Тур этим восторгался. Он объяснял: "Главный секрет "Ра" — его эластичность, он и волны взаимно огибают, обтекают друг друга, и потому нашему судну не опасен никакой девятый вал".
Действительно, как ни трепало нас, мы не перевернулись, не утонули. И все же "Ра" был довольно кустарным сооружением. Кривобокий, несимметричный, хижина не по оси, а набекрень. Корма почти сразу же начала намокать и погружаться, а правый борт оседал на глазах. Так что большую часть пути мы проделали полупритопленные, словно накренились однажды для виража, а выпрямиться раздумали. Да, первый наш "Ра" был не очень надежен, теперь можно это сказать.
Мы любовались им, когда он возникал на строительной площадке, радовались, ступив на его палубу, а расставшись с ним, глотали искренние слезы. Последнее не мешало нам понимать, что этот уродец-работяга был, конечно, никакой не корабль, а, употребляя любимое выражение Тура, плавучий стог.
Однако, несмотря ни на что, "Ра-1" честно исполнил свой долг. Он был первопроходцем, отважным разведчиком, и мы ему искренне благодарны…
На третий день пути, 27 мая, я записал в своем дневнике: "…Правая сторона кормы осела больше левой. Вообще, мы с самого начала (еще в Сафи) перегрузили правую сторону, а кроме того, и волны и ветер идут все время справа. Корабль слегка косит на правый бок…"
Через день я снова записал: "Нас заваливает на правый бок. Волны идут справа, папирус с этой стороны намокает больше. Если не вмешаться, наша палуба может стать правым бортом, а левый борт — палубой. Тур считает, что большой парус исправит положение, но и не сбрасывает со счетов перераспределение груза… Завтра весь груз будет перемещен с правого борта на левый и ближе к носу…"
С того дня перетасовка багажа стала нашей постоянной и естественной обязанностью. Кувшины с водой и пищей мы без конца перетаскивали с места на место, снова и снова находя для них точку, позволявшую уравновесить качели, один конец которых оседлал океан.
Иногда нам казалось, что весы выровнялись: "7 июня. Лодка ведет себя прекрасно". Но океан усаживался поудобнее, и: "8 июня. Кренимся на правый борт, и довольно значительно. Вся правая половина кормы пропиталась водой, под ногами хлюпает, будто забрел в болото".
К тому времени мы уже понимали, что беда не только и не столько в размещении груза, — виновата сама лодка, качество ее постройки."…Я заметил, что правая сторона вообще сделана хуже, чем левая: папирус уложен не так тщательно, местами вылезает из-под веревок, коробится. "Да, ответил Тур. — Левую сторону делал Муса, а правую — Омар…""
Большим бедствием на "Ра" была корма. Ее загнутый внутрь завиток должен был соединяться крепким канатом с палубой примерно в месте крепления последних штагов. Эти параллельные штаги, закрепленные за колена двуногой десятиметровой мачты в виде буквы А, поддерживали корпус. Сначала думали, что канат нужен только для того, чтобы сохранять изгиб кормы, то есть выполнять как бы эстетическую функцию. Но завиток держался и без каната. У него была совсем другая задача — поддерживать колеблющуюся корму. Мы не знали этого секрета древних мореплавателей и вышли в море без такой "струны". Поэтому корма с самого начала повела себя не по совести: прогибалась, обвисала и в конце концов потащилась за нами, как полуоторванная подметка, мешая двигаться и грозя отломиться.
И тогда Тур объявил, что имеется план ("планов полно, а идем на дно", — раздраженно приписано в моем дневнике) приподнять корму, протянуть с нее канаты на нос и дернуть как следует. Не дернуть, конечно, а выбирать понемногу, постепенно, каждый день.
Приступили к работам, подготовительным, весьма кропотливым. Карло и Сантьяго долго-долго отбирали длинные веревки, крепили их на носу и проводили к корме…
Стали тянуть, по-бурлацки, "раз-два-взяли". И заметили, что одна из стоек мостика прогнулась, трещит и сейчас сломается. Бросили корму, взялись за мостик. Укрепили его противотягами. Опять взялись за канаты: "Еще-раз-взяли!"
— Пошла!!!
Кончик кормы, самый кончик, зашевелился. Тур торжествовал. Я — как заметивший — до ночи ходил у него в любимчиках, был расхвален. Но раза три Тур спросил меня по секрету:
— Ты вправду видел или тебе показалось?
А Сантьяго сложил из бумажного листка кораблик, продел, где надо, ниточку и продемонстрировал наглядно, на модели, что ничего с подъемом кормы не получится. Это все равно что тянуть себя из воды за ухо. Чем выше корма, тем ниже центр. Мы просто как бы складываемся на манер перочинного ножичка…
Нас закручивало в жгут: палуба собиралась стать правым бортом, а левый борт — палубой. Болотце на корме превращалось в озеро, отделенное от океана чисто условной перемычкой. Да и та вот-вот исчезнет, — что могли дать отвоеванные у воды жалкие сантиметры? Тем более что, отступая в одном месте, волны брали реванш в другом: у подножия мачты возникла лужица. Они без помех накатывали на "Ра" сзади, ударяя в закрепленную к палубе рубку. Она ерзала, перетирая веревки, которыми был скреплен корпус нашей лодки…
"Ра" строился по тем образцам, которые были отражены в древнеегипетском искусстве. По тем же принципам изготовлены были и два семиметровых рулевых весла. Они крепились наклонно по бокам кормового завитка, в двух уключинах — наверху и внизу.
Но весла с очень длинным веретеном и широченными лопастями оказались ненадежными — они сломались в первый же час нашего плавания. Еще когда они лежали на берегу, я обратил внимание на них и спросил Хейердала: "А что это они какие-то хлипкие?" — "Нет, все нормально". Наклонные весла вращались вокруг своей вертикальной оси, и когда они поворачивались в определенную позицию, то напор воды работал на излом в той части, где лопасть переходила в "тело" весла. Что у нас и случилось. Видимо, у древних мореплавателей веретено рулевых весел делалось из крепкого дерева, возможно, ливанского кедра. Наши же весла были изготовлены из более легкой древесины. Так из-за конструктивной ошибки при оснастке началась наша эпопея с веслами, ломаными-переломаными, сколоченными и связанными и снова ломаными…
Вот отрывки из моего дневника:
"25 мая. Тур и Абдулла колдуют возле одного из сломанных весел. Весла сломались неодинаково. Одно совсем не годно к употреблению, другое может быть использовано".
"26 мая. Еще вчера к лопасти весла Абдулла приделал две планки. Они должны удерживать лопасть в вертикальном положении, так как, став горизонтально, весло тут же ломается".
"28 мая. Карло укрепил рулевое весло. Вообще все потихоньку растягивается и требует постоянного контроля".
"1 июня. Решено восстановить сломанное рулевое весло. Из-под вороха соломенных циновок извлекается огромное, в три с лишним метра, четырехгранное бревно (из таких сделана мачта). К нему предстоит привязать сломанную лопасть. Работа идет медленно".
"4 июня. Всего у нас сломалось пять весел (из них два больших) и одно утеряно".
"5 июня. Весь день Тур, Карло и Норман мастерили второе рулевое весло, чтобы завтра водрузить его на место".
"21 июня. В ночь с 19 на 20-е сломалось очередное (рулевое)". Через несколько строк: "После обеда занялись подъемом сломанного весла". Еще через несколько строк: "Вначале трудно закрепить весло, так как веревки сухие и скользят, потом — трудно убрать, так как веревки мокрые, разбухают и натягиваются".
"22 июня. Лопасти наших весел очень велики, рукоятки не могут выдержать нагрузки — вот весла и ломаются одно за другим".
"23 июня. Стоял на вахте и помогал Норману и Абдулле приделывать новую рукоятку к веслу".
"Весло", "веслу", "веслом", "о весле" — грустная грамматика…
Почему нам так не повезло с веслами? А почему нам, собственно, должно было с ними везти? Разве мы знали до тонкостей, какими им быть — именно на этом корабле, на этом маршруте? Мы фактически тем и занимались, что учились их делать — от поломки к поломке, методом проб и ошибок. Уточняли их положение, угол наклона, способы крепления, испытывали толщину веретена, длину его, ширину и форму лопастей…
Чтобы закончить рассказ об оснастке нашего папирусного корабля, надо сказать несколько слов о мачте и парусе. Мачта у нас была такая, какие ставились на ладьях времен фараонов, — согласно фрескам и рельефам на стенах древних гробниц и моделям, из тех же гробниц извлеченным. Строя судно, Хейердал стремился к возможно большей точности реконструкции, поэтому мачта у нас была похожа на заглавную букву А, только со многими перекладинами.
Парус тоже постарались сделать из ткани, выработанной по древнему способу, — из натурального хлопка, прочности необыкновенной. Он был чуть лиловатый и на нем эмблема, тоже древняя — оранжевый диск, олицетворение солнечного бога Ра.
Весил он верных полсотни килограммов — сухой, а мокрый — представляете сколько? Ставили мы его не меньше сорока минут, а убирали иногда и полтора часа — смотря какая погода и какое время суток. Ночью, да еще в бурю, парус кружил над нами, как чудовище, мы боролись с ним отчаянно, по трое и четверо повисая на канатах. Однажды Сантьяго, пытаясь взять парус не мытьем, так катаньем, уцепился за нижнюю шкаторину. Она предательски провисла, но ударил порыв ветра и Сантьяго взмыл, как Икар. К счастью, его опустило туда же, откуда подняло. А если бы за борт?!
Помню свое первое купание в том плавании. С утра было ясно, что день предстоит жаркий. Солнце светило вовсю, океан вел себя необычайно спокойно. Я пришел на корму умываться и увидел Карло. Он в голом естестве плескался возле борта, привязавшись к деревянной поперечине. Он фыркал и повизгивал от удовольствия. Тур попробовал воду ногой: "Ледяная!" Но я рискнул и забарахтался рядом с Карло, согнав Тура брызгами с его места. Конечно, вода не очень теплая, но до того приятно принять ванну, пусть и соленую, после двенадцатидневного перерыва!
Намылился, хорошо помылся, вылез освеженный. И тут же упустил мыло. Потянулся за ним, но оно уплывало, уплывало, а Тур, заметив мой жест, сказал: "Осторожно! Мы все-таки движемся!"
Да, мы двигались, хотя и ветра почти не было, и парус висел как неживой. И, представив себе, как я только что плескался на тоненьком шкертике, я ощутил на секунду некий неуют…
Вспоминается еще одна история в том же роде. Я сидел в хижине, а на палубе орала обезьяна. Я никак не мог понять, почему она орет. Потом вдруг Карло стал меня звать, и я выскочил. Смотрю — борт частью разъехался, папирусные связки болтаются в воде, а к ним как раз обезьяна и привязана. Ее свободно могло бы утащить, но Абдулла бросился, притянул связки обратно. Все его очень хвалили, он радовался и сиял. Вот и все, больше незапланированных отлучек с борта "Ра" не было.
А запланированные были. Помню, шел, кажется, двенадцатый день путешествия. Мы с Жоржем, привязанные тонкими манильскими канатами, совершили первое погружение. Нырнули, течение сразу подхватило нас и поволокло. Пришлось цепляться за обвязку папируса и усиленно работать ластами. Мы сделали несколько кругов под кораблем. Это была фантастическая картина — "Ра" снизу! Выяснилось, что днище в превосходном состоянии, ничуть не пострадало от штормов, и с какой радостью мы, вынырнув, доложили об этом Туру!
Читатели уже поняли, что нас на борту было не семь, а на одного больше. Обезьянку Сафи нам подарили перед отплытием, и ее имя должно было напоминать о гавани, из которой мы вышли в путь. Существо озорное и предприимчивое, она проделала с нами весь маршрут. Но однажды вдруг закуролесила, стала огрызаться, покусала Нормана. Мы долго гадали, чего ей нужно. И додумались — смастерили бамбуковую площадку с навесом, домик, и подарили его Сафи. Она сразу притихла. Немножко одиночества и уюта — вот в чем она нуждалась. Но для себя мы не могли здесь понастроить одноместных кают!
Мы все размещались в хижине, где у каждого было свое спальное место изголовьями к корме и носу, а ногами к центру. Вот что я записал в своем дневнике о нашей каюте:
"В хижине хорошо, но она ходит ходуном со страшной силой, кажется, что сейчас рухнет. И потом, в ней не видно, что происходит снаружи". И еще: "…Когда лежишь в хижине ночью, ощущаешь сильное движение и изгибание корпуса… С ним ходит вся каюта, и возникает звук, похожий на шуршание сухого сена…"
Смешно вспоминать, но в начале плавания я старался под любым предлогом выбраться на палубу. На палубе страшно, а в каюте еще страшней: сразу начинает казаться, что корабль переворачивается. А потом пришло успокоение. И чудилось, что, привалившись в своем спальном мешке к шаткой станке, ты отгородился от всех бед: словно не плетень из сухих прутиков отделяет тебя от океана, а по крайней мере дубовая корабельная бортовая доска.
Кроме нас на "Ра" были и другие живые существа. Под нижней шкаториной паруса, поперек дощатого настила, стоял ящик-клетка, где кудахтали куры. Весьма вероятно, что такой живой провиант был и на древних судах. Среди пернатой братии оказался и селезень, которого мы назвали Синдбад-Мореход.
В том плавании мы увлекались шумными праздниками — Первая тысяча миль, Полдороги, просто Давайте-встряхнемся или Не-поесть-ли-русской-икорки… Карло готовил особенно вкусный и обильный обед. Раскупоривалась бутылка "Кон-Тики" или "Аку-Аку", крепкого, густого — Тур прозвал его "винным супом". Бравурно звучала губная гармоника Нормана. Жорж срывал с меня панаму, швырял ее на ящик и показывал, как мексиканцы пляшут вокруг брошенного наземь сомбреро.
Хорошо помню, как мы отмечали Первый месяц пути. Жорж повесил на стенку хижины, со стороны камбуза, табличку, на которой в окружении всяческих алгебраических и химических формул значилось что-то вроде "Карлушин ристаран". Мы собрались в "ристаране" принаряженные, включая Сафи — она блистала в пластикатовом фраке с эмблемой "Ра". Открыли шампанское. Пили, пели, шутили. Жорж превзошел себя — Тур даже пообещал, что пошлет его матери хвалебную радиограмму. Карло снимал всех на пленку. Потом они с Туром поменялись местами, и Тур снимал его и нас. Было весело, тепло и уютно. Капитан и штурман соревновались в аппетите, и Жорж провозгласил тост за здоровье обоих, а Тур дополнил: "Нет-нет! За здоровье всех семерых!"
Четвертого июля, в День независимости США, честь приготовления ленча была доверена Норману, и он сотворил такую яичницу, что… Норман стряпал с огромным удовольствием и старанием. Сперва поджарил бекон, затем слил жир, затем бекон слегка подсушил, затем наконец бросил на сковородку яйца и священнодействовал еще минут пять, пока мы не принялись понукать Америку от имени всего остального мира.
Но главные переживания наступали, когда в кухмистерство включался Жорж. Он — человек порыва и вдохновения, и мы никогда не знали, чего от него ждать. Какао, сыр, египетская икра — значит, Жорж был не в ударе. Да и что от завтрака требовать — наелись и ладно. Но зато уж если его разбирало, тогда начинались чудеса. Возникали откуда-то пирожки с медом это на "Ра"-то, посреди океана, на утлой палубе! Или солонина, пахнущая свежим горошком, с гарниром из горошка, пахнущего солониной. И все это побрызгано лимонным соком, назло канонам, вопреки рецептам, — а вкусно!
Типичное произведение Жоржа — рисовая каша с томатным соусом и лимоном, туда накрошено черного хлеба и всыпано невероятное количество перца. Попробуйте! Только обязательно заешьте финиками и ломтем арбуза, а в случае чего — зовите: я как врач немедленно приду на помощь.
Или еще можно было сделать так: выпить, извините, водки, закусить картошкой, тут же перейти к шоколадному пудингу, а потом вернуться к картошке. Данным образом мы отметили пройденные тысячу миль, а наутро весь экипаж во главе с капитаном коллективно проспал!
Те давние, долгие, идиллические вечера на "Ра"! Забуду ли их? Небо в звездах, тишина, только вода плещет, да руль поскрипывает, да магнитофон мурлычет. И льется плавная речь Карло, оттеняемая приглушенной скороговоркой Жоржа, нашего записного толмача. Какие же у нас на "Ра" подобрались интересные люди, честное слово! И как удачно, что у нас есть скамейка-завалинка, словно специально созданная для вечерних бесед!
Получилась она сама собой. Облегчали правый борт: убрали оттуда запасные весла и их обломки, унесли веревочные бухты, связки папируса и соломенные циновки, вскрыв таким образом модерновое великолепие — канистры с водой, бензином и двухтактной смесью. Мы передавали канистры по цепочке Туру. Он их устанавливал в ряд вплотную к хижине и крепил канатом. Затем Жорж и я просунули в ручки канистр дощечки, расстелили сверху пустые бурдюки, укрыли их парусиной и уселись торжественно.
И не было с тех пор на "Ра" более уютного места…
Я потрошил кур на корме и уже собирался нести их на кухню, как вдруг гляжу: движется фиолетовый пузырь. Потом увидел еще один — тем утром их было вокруг великое множество. Я сперва не понимал, что это, и спросил у Жоржа. Он объяснил: "Медузы". И вот теперь такая красивая медуза плыла мне прямо в руки.
Недолго думая, я схватил ее — и взревел от боли! Лихорадочно стал отмывать пальцы морской водой, но липкая слизь не отставала. Проходил мимо Сантьяго, я взмолился: "Мыло!" Видимо, такое страдание было написано у меня на лице, что Сантьяго помчался за мылом как ошпаренный. Однако и оно не помогло. Руки горели и ныли, пальцы сгибались с трудом. Достал пульверизатор с анестезирующим, попрыскал — боль исчезла. И тут же вернулась с новой силой.
Жорж сказал: "Подожди, пройдет само". Но ничегошеньки не проходило. Пальцы уже не сгибались, боль начала иррадиировать по нервам левой руки в плечо и далее — в область сердца. Чувствовал я себя преотвратительно. Принял две таблетки анальгина, валидол, пирамидон и лег. Меня тряс озноб.
Утихало постепенно. Сначала полегчало правой руке, затем левой. Полное выздоровление наступило лишь через пять часов.
Такова была моя первая встреча с физалией, "португальским военным корабликом". Ее называют так потому, что она похожа и на парусник, и на старинный шлем с гребнем. А под водой от нее тянется целая сеть щупалец, иногда десятиметровой длины. Яд, выделяемый ею, относится к нейропаралитическим. Представляю, каково рыбешке попасть ей в "лапы"!
Вторым пострадавшим от щупальцев физалии был Норман. Он укреплял "заземление" рации, лазил в маске вдоль борта. Жорж его страховал и следил, нет ли поблизости акул, и немножко злился, поскольку Норман полез в воду без очереди. Я стоял у весла и вдруг услышал истошный крик. Норман выпрыгнул, как бука из табакерки. На секунду подумалось: "Ну вот! Дождались! Акула!" Но руки-ноги его были целы, и я вздохнул облегченно, хотя радоваться все равно было нечему.
Нормана обвили щупальца медузы, словно лассо. Он пытался отодрать от себя жгучие нити и еще больше обжигался. Подоспел Карло с полотенцем, стал стирать слизь. Затащили Нормана в хижину, он стонал, стиснув зубы. Я понимал, каково ему, но также отлично знал, что практически ничем помочь не могу. Дал анальгин, валидол, брызгал аэрозолем, припасенным на случай зубной боли, но все это были полумеры.
И тут Тур вспомнил, что от ожогов мерзкой твари хорошо помогает аммиачный раствор. Такового на борту не имелось, но выделить его при желании мог любой из нас. И работа закипела — скорлупа кокосового ореха моментально наполнилась. Я смачивал ватку мочой и натирал Нормана интернациональным снадобьем. Боль стихла, начался озноб, затем проснулся аппетит, непомерный, как после долгой тяжкой болезни. Потом Норман уснул.
Все-таки вместо пяти часов он промучился три, благодаря радикальному средству.
С самых первых часов нашего плавания врачебные заботы не отпускали меня. Особенно беспокоил Абдулла. Морская болезнь как навалилась на него, так и не отпускала, несмотря на все мои старания. Правда, были часы радости, когда Абдулла утром поднимался свежий и восклицал в мой адрес:
— Ты самый лучший доктор на "Ра"!
А Тур добавлял, усмехаясь:
— Бери выше — на всех папирусных лодках мира!
Но проходил день-два, и снова Абдулла ходил грустный или даже не ходил, а лежал в хижине — "у меня болит голова!" — не ел, не пил и молился Аллаху.
Я потчевал его драмамином. Драмамин — препарат эффективный, но обладает побочным снотворным действием, и поэтому Абдулле вечно хотелось спать. Сантьяго однажды забеспокоился, не станет ли Абдулле совсем плохо от пересыпа. Я ответил:
— Ты думаешь, лучше, если он будет постоянно блевать?
Сантьяго поразмыслил и согласился, что спать все-таки полезней. Но это были только цветочки.
Вечером 27 июня Тур позвал меня и сказал, что Абдулла жалуется на боли в животе. Я взял Жоржа переводчиком и стал смотреть: температура 37 градусов, язык слегка обложен, болезненные ощущения в правой нижней части живота… Батюшки, не аппендицит ли?!
У меня с собой было все необходимое для аппендоэктомии — всё, кроме гарантии покоя и удобства прооперированному. К тому времени мы уже достаточно погрузились: корма нашего "Ра" была под водой, от нее к мостику тянулись сотни веревок и веревочек — здоровый и то с трудом продирался сквозь эти джунгли. Ни тебе утки, ни подкладного судна, качка, теснота. Помню, как, решив подождать с диагнозом до утра, стоя ночную вахту, я вновь и вновь возвращался мыслями к тому же: а ведь оперировать придется!
Может, вызвать помощь по радио? Но это — крах экспедиции, смысл которой больше чем наполовину в том, что нам не должен никто помогать. Нет, нельзя убивать экспедицию. А человека — можно? Если Абдулле станет совсем плохо, если ты, врач, не справишься…
В общем, не знаю, что бы я в конце концов сделал. Вероятно, все же оперировал бы, полностью взяв на себя ответственность. Но тогда, ночью, на мостике, я постыдно боялся, боялся любого решения, того и другого варианта. К счастью, жизнь подарила вариант волшебный, третий: утром оказалось, что Абдулла выздоровел, — у него было элементарное несварение желудка и никаких аппендицитов!
Если уж вспоминать о наших желудках — случалось и посмешнее.
Однажды Жорж встал мрачный:
— Болит живот, ты вчера обещал слабительное, но не дал. — Я извинился, полез в свой ящик, достал пурген. Жорж принял две таблетки сразу. — Когда подействует?
— Часа через три.
— О'кей.
Прошло три часа, и шесть, и девять…
— Давай сделаем клизму, — предложил я.
— Нет, не могу.
— Почему?!
— Не могу.
— Хорошо, принимай пурген.
— Но он не действует! Это плохое лекарство!
— Это живот у тебя плохой!
Тур и остальные хохотали. Мы тоже смеялись, но предпринимать что-то надо было, а этот тип не хотел сделать простую клизму. На помощь пришел Сантьяго:
— Юрий, я видел у тебя в коробке магнезию, может быть, она поможет?
Идея! Я бросился к своей аптечке, достал магнезию и вручил весь пакет Жоржу.
— На, прими две чайных ложки.
— И все? — сказал он скептически. — Я приму три!
— Нет, две.
— Нет, три.
— Ладно, но не проси потом средства для запора.
— О'кей.
Он съел три ложки магнезии и "свистал" всю ночь и половину следующего дня. Кроме прочего, после ужина его вырвало. Однако он не жаловался уговор есть уговор.
А клизму я ему таки поставил. Это уже в другой раз, позже, при сходных обстоятельствах. Он оказался сговорчивее, и мы с ним торжественно уединились на корме. А потом весь вечер Жорж подробно, под общий хохот, отчитывался в своих впечатлениях, представляя в лицах себя, меня и, кажется, клизму тоже.
День ото дня состояние нашего папирусного корабля становилось таковым, что было ясно — плавание идет к концу. Вот записи из моего дневника тех дней:
"24 июня. Состояние правого борта и палубы неважное. Папирус местами разъехался, очень сильно наклонена вправо кабина, ходить по палубе невозможно — только по борту".
"29 июня. Не вызывает сомнений, что мы погружаемся больше и больше, хотя и медленно. Несомненно также, что мы не сможем затонуть, но что "Ра" будет затоплен по палубу — это точно".
"3 июля. Вода притягивает к себе "Ра". Она свободно переливается через правый борт и стоит на палубе озером".
6 июля. Был сорок третий день нашего путешествия. Нас качало и заливало. Тур созвал совет.
— Хочу сообщить нечто важное. Мне кажется, настала необходимость всерьез подумать…
Мы замерли. Если уж Тур говорит: "Нужно всерьез подумать", значит, дело плохо.
— …о фильме об экспедиции.
— ?!.
— Я наблюдал все это время, как идут дела, и считаю, что съемок на самом корабле недостаточно. Необходимы кадры со стороны, днем и ночью, в различных ракурсах. Считаю, что нужно послать телеграмму Бруно Вайлати и Ивон, чтобы они зафрахтовали корабль и шли нам навстречу.
Мы переглянулись. Разумеется, мы были "за"!
Тур прочел нам телеграммы для Ивон и Бруно и рекомендовал Норману попытаться выйти на связь завтра же, не дожидаясь традиционного вторника.
Каждый понимал, не по словам, а по тому, как они были сказаны, что подается замаскированный сигнал "SOS", что Тур, заботясь о нашей безопасности, решил подстраховаться. Но обставил свое решение так, что репутация "Ра" не могла ощутимо пострадать.
Следует сказать, что наш руководитель находился в весьма сложном положении. Хотя каждый член экипажа расписался в том, что идет на риск сознательно и добровольно, это была сторона чисто юридическая. Никакие подписи и декларации не могли освободить Тура от моральной ответственности за судьбу экипажа в целом и отдельных его представителей. Причем интернациональность наша еще более усугубляла эту ответственность, придавала ей особые оттенки: вообразите себе — среди шести белых гибнет единственный негр! Или "утрачен" единственный же представитель социалистического лагеря! Ситуация?! Как бы Тур ни был увлечен своей научной идеей, указанные выше соображения, к великой чести его, всегда были у него на первом месте. Именно этим и объясняются все данного рода переговоры и просьбы о помощи.
"9 июля. Справа рвутся веревки, связывающие папирус. Весь правый борт ходит ходуном и грозит оторваться от нас…"
"13 июля. "Солнце красно поутру — моряку не по нутру". И точно. Хоть небо чистое и голубое, океан беснуется сильнее прежнего. Мы уже забыли веселые времена, когда было можно свободно разгуливать по кораблю. Вся корма и весь правый борт практически целиком в воде. Вода почти полностью покрывает носовую палубу, и готовить пищу все труднее. Кроме того, "Ра" деформировался: срединная его часть выгнулась, борта опустились, корпус вывернулся спиралью. Сухими (сравнительно!) остаются кусочек на самом носу да часть левой палубы вдоль кабины.
Внутри хижины тоже несладко. Ящики плавают, на них плавают наши постели. Временами, когда приходят особенно большие волны, постели встают на дыбы. Крыша прогнулась, а пол выпятился, и передвигаться по хижине возможно лишь на четвереньках…
Наш корабль почти весь в воде, и напор волн сдерживает только хижина".
"14 июля. Потолок хижины еще более прогнулся. Ящики плавают и скрипят, плещет вода, постели извиваются, как какие-то доисторические чудовища. Порезал палец, полез за бинтом в свой ящик и увидел, что он еле-еле держится, чемодан с медикаментами весь в воде. Где-то мне предстоит спать сегодня?.."
"16 июля. Перед нами встала проблема ночлега. Спать в хижине могут Тур и Абдулла, остальные места разрушены. Днем мы пытались как-то собрать ящики и укрепить их, используя куски дерева и пустые канистры. Ничего не вышло, только внутри хижины скопилось множество деревянного и металлического барахла, всё это плавает и бьется о стенки.
Жорж и Сантьяго устроились на носу на корзинах, но смогли поспать лишь несколько часов — их стало заливать. Я нашел кусочек места на палубе слева, ближе к носу, на канистрах с водой. Накинул на себя брезент, который покрывал хижину, и получилось довольно сносное гнездышко. Правда, я согнулся в три погибели, в бока впивались ручки канистр, шея неестественно вывернута, но хоть сухо. Однако среди ночи проснулся от боли во всех членах и решил посмотреть, нельзя ли прилечь рядом с Жоржем и Сантьяго. Пошел на нос и застал там бесприютного Карло, который маялся вообще без ложа. Жорж и Сантьяго лежали в совершенно мокрых спальных мешках. Лучше уж корчиться на железе, чем подмокать. Отправился обратно, но, увы, на канистрах уже храпел Карло. Норман мучился на плавающих ящиках в хижине. Тур спал, наполовину высунувшись из двери, закутавшись в брезент…"
Вот была ночка! Последняя ночка на "Ра"!
Настало утро. Мы забрались на крышу хижины, Жорж — ближе к носу, я — к корме, и обозревали горизонт. Норман крутил шарманку рации. Карло роздал колбасу и сгущенное молоко — последний наш завтрак на "Ра".
Все вокруг было в диком хаосе: в хижине плескалась вода, плавали доски, медикаменты, пахло аскорбиновой кислотой. Только два ящика еще чудом держались: те, на которых спали Тур и Абдулла. Газовые баллоны смыло, и в абсолютно чемоданном настроении мы ждали, когда подойдет яхта и подойдет ли.
Вдруг Норман закричал:
— Я их вижу! Куда вы глядите, там, наверху?!
В моем кормовом отсеке ничего не наблюдалось. Я обернулся к Жоржу тот клевал носом. А вдали виднелась белая точка.
Она приближалась понемногу и становилась роскошной красавицей яхтой. Качало ее немилосердно, на борту стояли парни, ярко одетые, с фото- и киноаппаратами, они снимали нас. Мы тут же оживились, проснулись, замахали, полезли на мачту, закричали, чтобы прежде всего прислали нам покурить. Подошла резиновая лодочка, и матрос бросил с нее блок сигарет. Мы накинулись на него, распотрошили и закурили блаженно.
Теперь хорошо бы вымыться пресной водой. Едва очутившись на "Шенандоа", я шепнул об этом Туру. Он кивнул: "Беги!" И я ринулся внутрь, обнаружил ванну, чье-то мыло и бритву… Когда вернулся, пресс-конференция уже шла полным ходом — Тур отвечал на вопросы, на сотню, если не на тысячу. Затем мы поели, выпили пива, ледяного, из холодильника, и чувствовали себя превосходно. А многострадальный наш кораблик мирно покачивался совсем рядом и отдыхал.
Так завершилось наше путешествие, 16 июля 1969 года.
После встречи с "Шенандоа" сразу возникла проблема, куда девать "Ра". Бросать его нам не хотелось. Жорж заявил, что покидать папирусное судно вообще не собирается. Он, мол, договорился с Абдуллой, и они продрейфуют до Барбадоса, потихоньку, без вахт. Будут заниматься ремонтом, а мы с яхты возьмем их под контроль и в случае чего окажем помощь.
Уговорились, что утром все обсудим как следует, и Жорж, полный энтузиазма, отправился на "Ра" засветить сигнальный фонарь. Фонаря он не зажег, поскольку керосин выгорел, а пока возился — стемнело, развелось волнение. Мы испугались, что декларации Жоржа осуществятся слишком буквально: яхтенный прожектор как на грех не действовал, и за ночь, в кромешной тьме, "Ра" и "Шенандоа" рисковали разойтись навсегда.
Делать нечего. Норман сел в резиновую лодчонку, ему подсвечивали кто чем — кинософитами, карманными фонариками. Кое-как, почти уже ощупью, он подшвартовался к "Ра" и вернул энтузиаста пресному душу и свежим простыням.
А наутро мы с Жоржем — я в качестве гребца-перевозчика, он с аквалангом — поплыли выяснять, что можно на "Ра" сделать и как продлить его век. Мы почти догребли, когда я вдруг ощутил, что кто-то шевелится подо мной, внизу. Я сказал об этом Жоржу, он сунул голову в маске под воду и сообщил: "Там полно акул!"
Я тоже посмотрел и увидел — ходят рыбины, двух-трехметровые, если не больше. Все же Жорж решил нырнуть, хотя я твердил, чтобы он не смел этого делать. Нырнул, вынырнул, уселся на борт "Ра" и принялся рассуждать о том, что, видимо, работать не удастся, но попробовать стоит: "А ты бери ружье и карауль".
Как бы я его укараулил, не знаю: он — под водой, акулы — тоже под водой. Но я взял ружье и дежурил минут пять. Это были не самые спокойные минуты в моей жизни. Потом надел маску и поинтересовался, где он там? Жорж плавал, и акулы плавали, понемногу собираясь в кружок. Жорж не стал дожидаться, пока они сговорятся окончательно, и выбрался на воздух. Я сказал ему: "Хватит, не безобразничай, поехали обратно". Однако он попросил переправить на "Ра" Тура — пусть на месте принимает решение.
Я перевез сперва Тура, потом Нормана, затем еще и Сантьяго. Они долго и азартно жестикулировали, но ни к каким утешительным выводам не пришли.
Повторяю, бросать "Ра" нам до слез не хотелось.
Снова отложили приговор до утра — может быть, твари разбредутся. Уже глубокой ночью направили в океан кинолампы — он кишмя кишел акулами, черные тени сновали во всех направлениях. Матросы учинили рыбалку, весьма впечатляющую: за борт выбрасывался канат с огромным крючком, с пластиковой бутылкой-поплавком, канат крепился к поручням и вмиг начинал ходить ходуном. Его тянули в десять-двенадцать рук — суп из акульих плавников вкусен.
Но судьба папирусного суденышка была решена. Мы ободрали "Ра" как липку, сняли и перевезли на яхту все, что можно: мачту, капитанский мостик, любую мелочь, годную для музея "Кон-Тики". Что не годилось, то полетело в воду. Потом Норман и Сантьяго соорудили из двух маленьких весел подобие мачты, привязали к нему кусок брезента вместо паруса… И несчастный, надломленный наш кораблик растаял в зыбком мареве… А "Шенандоа" взяла курс на Барбадос, до которого оставалось всего 900 километров.
Но перед этим нас еще долго фотографировали на палубе, на фоне покидаемого "Ра". Снимков требовалось масса, затворы щелкали наперебой. Это злило, злил рулевой, который вновь и вновь дарил репортерам выигрышный ракурс. Мы уходили, разворачивались и опять спешили туда, где крошечный брезентовый "парус" сиротливо силился сдвинуть нам вдогонку израненное, отяжелевшее тело. Туда, где корабль прощался и не просил оправданий, а пел, как и прежде, свою скрипучую песню, песню о пятидесяти трех днях борьбы и дружбы, радостей и разочарований, торжества и страха. А может быть, и о древних мореплавателях, которые были отважнее нас и шли до конца.
Что до "Шенандоа", то она приветливо распахнула для нас двери ванных комнат и пивные утробы холодильников. Но мы не могли с ней дружить — между нами стояла тень "Ра". И от этого яхта злилась, шлепала по волнам сталью корпуса, била нас углами столов и диванов. "Ра" был другой — он был нежен, певуч, податлив, согревал нас ночью и давал тень в полуденный зной, доверчиво нес нас к победе…
Неделей раньше, восьмого июля, в день, когда волны уже заливали нас напрочь, когда под мостиком плескалось море, когда принялись выбрасывать даже деревянные кусочки и обрезки, которыми так дорожил Тур, и съестные припасы тоже, — в тот день Тур говорил:
— Предвижу, о чем нас будут спрашивать, и готов ответить.
Он будто репетировал беседу с вероятным оппонентом, и глаза его блестели:
— "Ра" — океанское судно?
— Да! Оно прошло в открытом океане две тысячи семьсот миль.
— Могли ли древние идти таким маршрутом?
— Да, и успешнее: их папирусные суда были построены лучше нашего. И потом, в отличие от нас они ходили всегда по ветру. Это дольше, но проще и сохраняет корабль.
— Удалось ли сотрудничество семи наций на борту "Ра"?
— Да, интернациональный экипаж вполне доказал свою жизнеспособность.
Три вопроса, и на все три ответ начинался с "да". Экспедиция задачу выполнила. "Шенандоа" не в счет, как бы ни были мы ей по-человечески благодарны.
Кстати, уже с Барбадоса самолеты несколько раз летали в район, где остался "Ра", пытались найти его, но безрезультатно. Там в те дни прошел ураган, так что, возможно, кораблик был просто развеян по стебельку. Нет, вовремя мы оставили "Ра"! Мы поступили правильно, благоразумно, не в чем нам себя упрекнуть. Нас поздравляли и чествовали. И все-таки…
На "Шенандоа" мы пришли на Барбадос. Отдохнули там несколько дней и вылетели в Нью-Йорк. Поселили нас в одной гостинице. Завтракали и ужинали мы вместе, а днем разбегались каждый по своим делам. Тур был занят больше других — он был нарасхват: прием у Генерального секретаря ООН У Тана, встречи с многочисленными знакомыми, интервью, выступления… Мы тоже не были обделены вниманием прессы, радио, телевидения. Суета вокруг нашей экспедиции была неимоверная.
Но обычная жизнь брала свое. И раньше всех в нее окунулся наш Абдулла. В первое же утро пребывания в Нью-Йорке он удивил нас за завтраком: "Ребята, тут у них есть рядом Сорок вторая улица, и девчонка там стоит столько-то…" — "Откуда же тебе это известно, ведь ты не говоришь по-английски?!" Оказалось, что выйдя рано из гостиницы, он сразу же встретил на улице своего земляка, который его и просветил. Встретились два очень земных человека. Какие тут могут быть научные проблемы? При чем они? Каждому свое…
Меня, конечно, сразу взялись опекать наши ребята, работавшие в миссии при ООН: возили по Нью-Йорку, показывали город, его наиболее интересные районы. Должен сказать, что я был совершенно оглушен им, — после двух месяцев плавания в океане, где мы привыкли к тишине, огромный город подавлял своим шумом, оживлением. Там же, в Нью-Йорке, я впервые увидел, как американские спецслужбы "пасут" наших. Когда я приехал в нашу миссию и потом вышел с ребятами к машине, чтобы ехать в город, за нами сразу пристроился какой-то автомобиль. Сидевший за рулем сотрудник сразу это отметил: "Может, оторвемся?" — "Да не надо. Мы можем этим Юре навредить. Пускай едут". И потом по пути, когда мы останавливались, заходили куда-нибудь, я видел этих "топтунов", которые совершенно открыто следовали за нами по пятам. Мне стало интересно, и я даже решил пошутить: "Ребята, а может, оторвемся от них?" — "А зачем? Мы ведь не делаем ничего предосудительного. Нет, с ними надо дружить, а то они могут разозлиться и устроить какие-нибудь козни".
Через несколько дней я вылетел домой. В Москве никто не знал, что я прилетаю, — я никого не предупредил и решил прибыть инкогнито. Но полного инкогнито не получилось: в аэропорту встретил улетавшего заместителя министра здравоохранения Бурназяна. Аветик Игнатьевич, неожиданно увидев меня, удивился: "Юра! Ты откуда?" — "Да вот прилетел из Нью-Йорка". — "А деньги-то у тебя есть?" Русских денег у меня с собой не было, только доллары. А поскольку в те времена с обменом были несусветные строгости, никаких тебе столь привычных нам теперь обменных пунктов на каждом шагу, то, по сути дела, я прибыл в Москву без рубля в кармане. Бурназян, сразу поняв мое положение, предложил: "Может, тебе денег дать?" — "Да нет, не надо. Сейчас приеду домой, и все образуется". И все же он приказал своему шоферу отвезти меня домой.
У меня не было не только русских денег, но и ключей от собственной квартиры, — улетая в Марокко, я оставил их у своего приятеля. Звоню ему, а его нет дома. Тем не менее мы поехали. Водитель подвез меня к дому. Как попасть к себе? Поскольку я жил на первом этаже, то решил проблему просто влез через окно. Попросил у водителя отвертку, поковырял ею форточку, потом открыл окно, впрыгнул в комнату.
Справиться с замком изнутри не составило труда. Я вышел к машине, взял свой багаж, занес его в квартиру… Всё, я дома. Потом позвонил приятелю, сказал о своем приезде, но при этом попросил: "Ты никому не говори, что я уже в Москве. Пока я никого не хочу видеть. А ты давай сейчас же подъезжай".
Он приехал, и мы отправились с ним к Белорусскому вокзалу в магазин "Березка", где в тогдашние времена можно было отовариться за валюту. Что мы и сделали, накупив за доллары всевозможных деликатесов, а потом праздновали пару дней без перерыва, закрывшись у меня дома.
Праздники быстро проходят, и мне надо было появиться в институте, а потом дать о себе знать и в редакции "Комсомольской правды", позвонить своим в Ленинград. В институте к моему появлению отнеслись совершенно спокойно — ну вернулся и вернулся, не утонул, ну и слава Богу. Зато в газетах ко мне проявили необыкновенный интерес — начались интервью, просьбы написать статьи, поделиться впечатлениями, просили выдержки из дневников…
Этот ажиотаж был не только в Москве. Я ощутил его и тогда, когда решил навестить родителей и Дашу в Ленинграде. В то время, еще до плавания на "Ра", я часто летал к ним из Москвы, что было накладно, учитывая мою зарплату младшего научного сотрудника. И как-то так вышло, что у меня появились друзья-летчики, командиры "ТУ-104", которые не раз возили меня "зайцем". Одним из них был Валентин Панов, а другим моим благодетелем был Илья Залесинский. С Ильей я однажды летал в Ленинград через Мурманск. Он позвонил мне и сказал: "Лечу в Мурманск с заходом в Москву. Ты подъезжай в аэропорт, я заберу тебя с собой. В Мурманске я пробуду около часа, и оттуда мы полетим в Ленинград".
На этот раз доставить меня в Ленинград предстояло Валентину Панову, конечно же, как и прежде, "зайцем". Я позвонил своим, что вылетаю, попросил предупредить друзей. И вот подруливаем мы к зданию аэропорта Пулково, и Валентин говорит мне: "Там собралась толпа журналистов. Они откуда-то узнали, что на борту летит Сенкевич. Просят подогнать специальный трап". И потом прокомментировал с неподдельным удивлением: "Ну и дела, черт возьми! Впервые вижу, чтобы для "зайца" подавали отдельный трап!" Оказалось, что журналисты попросили аэродромную службу сделать это для съемок: Сенкевич спускается из самолета на родную ленинградскую землю.
Пробыл я в родном городе неделю. В доме — непрерывный праздник, толпа друзей, гости, застолья, шум, гам… Вскоре я от всего устал и вернулся в Москву. Этого требовали и неотложные дела: надо было писать отчет для Академии наук, которая отправляла меня в экспедицию на "Ра". Кроме того, я должен был продолжить тренировки по программе подготовки для полета в космос. Вся наша группа уже находилась в Киргизии, на Тянь-Шане, и я улетел туда. Вернувшись недели через две, постепенно втянулся в повседневную работу.
Но вдруг пришло в Академию наук приглашение, в котором говорилось, что экипаж "Ра" в полном составе должен собраться в Каире, потом перелететь в Москву, далее отправиться в Норвегию, потом в Италию… Началась череда встреч, которые намечалось проводить в тех странах, откуда были коллеги Хейердала по плаванию на "Ра".
Пройдя все необходимые формальности, я улетел в Египет, встретился там со своими друзьями. Потом нас принимали в Москве — в Академии наук, в АПН, были организованы пресс-конференция, встречи с учеными… Когда мы прилетели в Осло, в честь нас был устроен торжественный вечер в здании Национального оперного театра, и на нем присутствовал король Норвегии. Нас приветствовал известный актер Питер Устинов, местные знаменитости. Мы тоже выступали, и не только на том вечере — интерес прессы был неподдельный. Потом это несколько осложнило мою жизнь. Дело в том, что после моего возвращения из плавания наш еженедельник "Литературная Россия" попросил у меня разрешения опубликовать отрывки из дневника, который я вел на "Ра". Чуть позже норвежская газета "Афтенпостен" стала перепечатывать их на своих страницах.
Появление в норвежской печати дневниковых отрывков из "Литературной России" могло отразиться на моих отношениях с Туром Хейердалом: сам того не зная, я едва не подвел его. Оказалось, что Тур имел эксклюзивное право на все публикации о нашем плавании, у него был заключен договор на издание книги. Кроме него, никто из нас не мог до ее выхода ничего писать об экспедиции "Ра". Я этого не знал, поскольку при подписании контракта со мной Тур меня об этом не предупредил, так что я с чистой совестью передал дневники главному редактору "Литературной России" Владимиру Соломатину. При встрече Тур мне сказал: "Юра! Что ты делаешь? У меня же могут возникнуть неприятности!" Я тут же позвонил Соломатину и попросил прекратить публикацию дневников, объяснив ситуацию. Но много позже этот случай мне припомнили мои "доброжелатели", утверждая, что Сенкевич поставил Хейердала на грань финансового краха… То, что это было не так, подтверждает наша дружба с Туром, продолжающаяся и по сей день.
А тогда, в Осло, Тур предложил мне вместе с ним лететь в Италию, хотя официального приглашения оттуда еще не было. Так как у меня была и виза, и билет до Рима, то я согласился, тем более что Тур просил меня помочь ему при монтаже фильма о нашем плавании, который снимали Карло и Жорж.
Прилетели в Рим, поселились в гостинице в самом центре, рядом с Виа Beнетто. Жили мы весело, просматривали с Карло и Туром отснятый материал, я встретился со знакомыми из представительства нашего Аэрофлота, по просьбе одной из моих сотрудниц по институту передал посылочку для ее сестры, жившей в Риме с мужем. Этот визит впоследствии сыграет в моей жизни важную роль, о чем я расскажу чуть позже.
А потом Тур пригласил меня поехать к нему в гости в Колла Микери, на побережье Лигурийского моря. Когда-то он купил в округе Савона около местечка Аласио участок земли, благо, что тогда цены были относительно низкие. Участок был большой, по нему даже проходила древнеримская дорога, сохранились старинные маленькие охотничьи домики типа башенок. В деревеньке Колла Микери имелась тогда запущенная церквушка, которую Хейердал потом отреставрировал на свои средства и в которой шли службы. Землю в своем поместье Тур отдал в пользование крестьянам деревушки на таких условиях: они будут выращивать на ней, что хотят, только пусть обеспечивают его семью свежими овощами, фруктами, другими продуктами.
Я согласился на предложение Хейердала провести какое-то время в его поместье, тем более что перед отлетом из Москвы мне не были установлены сроки возвращения. Поехали из Рима в Геную на машине Тура. Сначала за рулем сидела Ивон, потом ее место занимал я… Так я впервые проехался по Италии. Прибыли в округ Савона, потом в Аласио, и наконец я увидел место, чем-то напоминающее Крым, гору Медведь. На горе, на самом ее верху, была деревенька — Колла Микери.
Дом Тура, где он жил с семьей, оказался довольно большим. Имелось еще несколько домиков — для гостей. Началась жизнь, полная блаженства. С утра я с дочками Тура ходил на пляж, вечерами приходили гости семьи Хейердалов или мы ходили в какой-нибудь ресторанчик. Карло некоторое время был с нами, мы продолжали просматривать и монтировать фильм, разбирали слайды… Время шло быстро, но я все чаще стал задумываться, что пора и честь знать. Сказал Туру: "Мне уже надо лететь домой". — "А чего тебе не хватает? Живи в удовольствие". Я, конечно, не мог себе позволить такой беззаботной жизни меня ведь отпустили не в отпуск.
Прилетел в Рим, позвонил в бюро Аэрофлота, чтобы узнать насчет билета. Слышу: "Юрий Александрович! Наконец-то! А вас давно ищут!" — "Кто?" — "Да вот прошел слух, что Сенкевич куда-то пропал". Позвонил в Москву, чтобы узнать, в чем дело, и успокоить, что вот он я, жив и здоров. А там уже действительно стали не на шутку беспокоиться: "Где ты? Что с тобой?" Понять моих коллег было можно — я ведь и сам перед отъездом не знал, сколько времени мы пробудем в своем вояже по приглашению нескольких стран.
Вернулся в Москву, где все пошло своим чередом: работа в институте, где я снова стал заниматься проблемами гипокинезии, перейдя в лабораторию Леонида Ивановича Какурина, тренировки в группе врачей Минздрава, отобранных для подготовки к полету…
Но вскоре у меня появилось и еще одно занятие: меня стали приглашать, чтобы я рассказывал о нашем плавании. И не только рассказывал, но и показывал слайды, сделанные во время пребывания на борту "Ра". Организовывало мои выступления общество "Знание". Интерес к нашей экспедиции тогда был очень большой, люди заполняли и залы учреждений, и зал Политехнического музея. Я выступал не только в Москве, но и в других городах, куда выезжал во время своих выходных. В некоторые из них, например в Вильнюс, меня приглашали не один раз.
Но вот в Академию наук СССР от Тура Хейердала опять пришло письмо…
И СНОВА "РА"
Еще в Египте, сидя с нами за каким-то очередным торжественным столом, Тур вдруг заявил, что хотел бы отобедать в тесной компании. Мы собрались в отеле, и он завел речь издалека. Из его очень дипломатичного, осторожного выступления мы поняли, что многого нам не удалось, что многого мы не знали. Тур подводил нас к выводу, что путешествие было как бы черновое: мы испытывали судно и самих себя. Разумеется, испытания прошли прекрасно, но ведь это лишь испытания.
— А что, если я буду строить второй "Ра"?
Выпалил и взглянул на нас в упор, на каждого. Мы поняли, что он уже все для себя решил, сколько бы ни подчеркивал, что разговор теоретический. Мы слушали и понимали: с момента, когда мы ступили на палубу "Шенандоа", пусть до финиша оставались считанные мили, неважно, — с той минуты мы автоматически обрекли себя на новую попытку. Эксперимент должен быть чистым, потому что Тур не из тех, кто решает проблемы "в общем и целом".
Норман согласился. И Карло согласился, и Жорж, и Абдулла, и Сантьяго, и я. И сразу условились, что беседа наша до поры секретная. Подняли рюмки и забыли о ней. Жили как прежде. Но семена были брошены — мы снова становились матросами "Ра".
Всю зиму мы готовились к плаванию, утрясали служебные и личные дела, уговаривали близких и начальство. И стремились сохранить тайну — об этом просил Тур. Он хотел обойтись без рекламы и преждевременных сенсаций.
В январе я выступал в Москве, в Телевизионном театре, и неожиданно ведущий на весь зал объявил:
— Друзья, это путешествие для Юрия Сенкевича не последнее, уже строится другой "Ра"!
Я оторопел. Едва дождался, пока окажемся за кулисами, бросился к нему:
— Что же ты делаешь?
— Это напечатано в сегодняшнем номере "Московского комсомольца".
Да, шила в мешке не удалось утаить…
Но так случилось, что первое путешествие на "Ра" могло остаться для меня и последним. В конце февраля наша группа, следуя программе подготовки к полету, выехала в подмосковную Коломну. Там, на базе какого-то авиационного подразделения, мы должны были совершать тренировочные прыжки с парашютом. Быстро прошли теоретическую часть, нам показали, как складывать парашют, как, когда и что дергать… Затем на наземном тренажере-вышке мы начали на практике осуществлять то, что узнали от своих инструкторов. Я прыгал впервые и должен, признаться, что даже с высоты десятка метров делать это не очень приятно.
Назавтра нас должны были поднять в воздух на самолете "АН-2". Взлетели, сидим, улыбаемся друг другу, боимся обнаружить, что все-таки боимся. Инструктор перед открытой дверью ждет сигнала (кстати, неприятного на слух), чтобы вытолкнуть в бездну человека, приготовившегося к прыжку. Конечно, нам объяснили, как нужно выпрыгивать, — раскрывать руки, стараться попасть на воздушный поток… Но все равно ощущение жуткое, особенно когда прыгаешь в первый раз. Я только на четвертом прыжке заставил себя сигануть с открытыми глазами. А до этого зажмуривался, чтобы не видеть, куда лечу.
Но зато, когда раскрывался парашют, ощущение было удивительное, особенно первые несколько секунд, пока не чувствуешь своего движения вниз. Летишь спокойно, даже умудряешься переброситься словами с рядом летящим коллегой. Потом земля начинала стремительно надвигаться — быстрее и быстрее. Мы сгруппировывались, как нас учили, и нормально приземлялись.
Первые пять прыжков прошли для меня вполне успешно. А шестой, последний, оказался не столь удачным. Нам сказали, что мы будем на этот раз отрабатывать выброс запасного парашюта. Хотя не в каждой инструкции такое рекомендовалось, особенно при том типе парашютов, которые нам выдали, но задание было получено.
Нам объяснили, что как только раскроется основной парашют, надо определить, откуда дует ветер, чтобы направить запасной строго по ветру. Я прыгал в своем антарктическом костюме с капюшоном и не смог сразу понять, откуда идет воздушный поток. Мне казалось, что ветер дует со всех сторон одинаково. Сориентировался приблизительно — и слегка не угадал. Дернул кольцо, отбросил запасной парашют как можно дальше от себя, но его стропы запутались. Раскрывшийся не полностью маленький купол потянуло под большой парашют — он частично зашел между его строп. Основной парашют "затрепыхался", и я почувствовал, что меня стремительно понесло вниз. В чем дело? Взглянул наверх — большой купол у меня колышется… Что-то тут не то…
Испугаться я не успел — было не до того. Старался дергать стропы маленького парашюта, чтобы вытащить его из-под большого купола, но полностью сделать это не хватало сил. Если бы у нас были с собой ножи, можно было бы разрезать стропы. Но ножей нам не выдали. И все же главное я успел сделать: с грехом пополам удержал запасной парашют на полпути дальше под основной купол он не пошел.
Пока я боролся с обоими парашютами, приблизилась земля. Сгруппировавшись, я упал в снег, меня тащило какое-то время, пока удалось погасить куполы.
Потом я лег на снег, чтобы отдохнуть от всего пережитого. Лежу, смотрю в небо… Вдруг на большой скорости подлетает газик, из него пулей выскакивает наш инструктор, бледный как полотно. Пошел на меня, как идут с рогатиной на медведя. Обложил пряным русским языком. А я ничего не могу понять — в чем, собственно, дело?
Вечером, когда мы собрались и стали разбирать наши прыжки, я понял, что был на волосок от гибели. Мне объяснили, что если бы я не задержал запасной парашют, он бы зашел под купол основного, и они бы оказались один в другом. Маленький лишил бы воздуха большой, а тот, в свою очередь, смяв маленький, погасил бы и его, сам выйдя из строя. А я бы свечечкой воткнулся в землю. О судьбе инструктора и говорить не приходится — его ждали бы в отдаленных местах…
А тем временем "Ра-2" начинал обретать вполне реальные очертания. На сей раз Хейердал решил, что строить вторую лодку из папируса должны индейцы, живущие на озере Титикака. На этом высокогорном озере бывают настоящие штормы, и местные индейцы умеют строить ладьи классического типа подобно древнеегипетским, которым не страшны ураганы и большие водные пространства. Удивительно, что единственным местом в современном мире, где вяжут камышовые лодки с профилем судов времен фараонов, является Южная Америка. Там делают лодки с серповидными обводами, составляют корпус из двух параллельных камышовых веретен, а между ними помещают третье, меньших размеров. Потом эту третью "сигару" веревками спирально соединяют сначала с одной, потом с другой. Затем все стягивают, и тонкое веретено посередине настолько плотно сжимается с каждой "сигарой", что почти сливается с ними и образует невидимую сердцевину лодки.
Между первым и вторым "Ра" было существенное различие, и чтобы увидеть его, надо было нырнуть и проплыть под днищем. Тогда видно, что снизу корпус "Ра-2" — это словно две китовые акулы, плывущие в обнимку. На самом же деле — это пара веретен из папируса двухметровой толщины и двенадцатиметровой длины, натуго перевязанных. Колена двуногой мачты опирались каждое на свою "сигару".
Папирусные стебли, из которых были сделаны веретена, обработали с обоих концов битумом, так что в теле "Ра-2" образовались как бы тысячи маленьких изолированных отсеков. Это должно было существенно увеличить его плавучесть. А в нижней, подводной части корпуса битум отсутствовал, папирусные стебли могли беспрепятственно набухать и тяжелеть, повышая тем самым остойчивость корабля.
Тур, убедившись после окончания плавания на первом "Ра", что лодочники с озера Чад делают ладьи, не слишком приспособленные для морских путешествий, решил пригласить южноамериканских индейцев. Не было смысла строить "Ра-2" в Египте, а затем перевозить в Марокко. Поэтому лодку было решено строить прямо в порту Сафи. Туда оставалось только привезти папирус, который, как и в первый раз, помогал доставать норвежский посол в Египте Петер Анкер.
А Сантьяго Хеновес разыскал индейцев-строителей из племени аймара, перевез их в Марокко. Их было пятеро мужичков, толковых и хитроватых. Они жили на островке посреди Титикаки и долго не соглашались выехать в большой мир. Сантьяго использовал все резоны, но никакие деньги не смогли соблазнить индейцев. Тогда он посулил им возможность построить самую большую лодку, какую еще никто на свете не строил. И в мастерах взыграл азарт: самая большая лодка, интересно, стоит попробовать.
Но даже на аэродроме они продолжали раздумывать, ехать или не ехать. Им было жуткова-то и неуютно: впервые в жизни они видели и автомобиль, и самолет, но достоинства не теряли, притворялись, что их и этим не удивишь. Когда один из них отваживался взять в руки нож и вилку, невозмутимо отваживались и остальные, а пилюли от кашля все пятеро — безразлично, кто кашлял, а кто нет — глотали сообща.
Корабль они построили — загляденье. С трудом верилось, что у них вообще что-нибудь может выйти: материал незнакомый, не камыш тотора, который растет на их Титикаке, а папирус! И размеры, размеры! Но индейцы потихоньку, не торопясь сделали сначала пару моделей, пустили их поплавать. Потом так же не спеша принялись вить из пучков папируса двенадцатиметровые веретена и обвязывать их одной-единственной веревкой, без узлов. Потом дошла очередь до хижины, до лебединых завитков носа и кормы…
И вот уже "Ра-2" радовал глаз, и заранее было ясно, что мы можем ему доверить свои жизни. В спешке и суматохе мы даже не очень заметили, как скромно и тихо уехали домой удовлетворенные мастера.
А перед самым отплытием "Ра-2" в Сафи пришло письмо. Нас приглашали в конце путешествия обязательно завернуть на озеро Титикака. Не беда, что озеро это никак не сообщается с океаном и расположено на высоте четырех километров, — географические подробности авторов письма не волновали. "Ра" ждали в гости, и точка! Мы не потешались, читая эти строки, мы улыбались нежно и растроганно — ведь это писали нам индейцы, строители нашего корабля…
И вот снова Сафи, марокканский порт, и опять кипит работа. Корабль почти готов. Что значит "почти", лучше не объяснять, — это значит разрывайся пополам, затыкай двадцать дыр и беги за сотней зайцев. А ведь кроме корабля есть и багаж, вода, продовольствие, которое надо упаковать, погрузить.
У нас был сарайчик на берегу, по площади он примерно соответствовал "Ра-2". Вот в нем мы и трудились в поте лица, раскладывали груз в пакеты, пересыпали рисом, чтобы адсорбировалась влага, прикидывали, где и что разместится.
Провианта набиралось несусветное количество, и способствовала этому главным образом жена Тура, Ивон. Она приносила в сарай самые невероятные морсы, сиропы, соки. Мы ужасались:
— Зачем это?
— Ничего, мальчики, берите! Вы же будете совсем одни, удовольствий, радостей никаких. А как приятно посидеть в холодке и пососать лимонную конфетку!
Она сама обшивала матрацы, на которых нам предстояло спать. Помнила, что Сантьяго предпочитает жесткие зубные щетки, а я — мягкие, что Жорж обожает спать на высокой подушке, а Карло — вообще без подушки. Учитывала наши пристрастия и уважала слабости. Съестное, снаряжение, бухгалтерия все это лежало на ней. Она за всем следила и все успевала. Наряду с прочим она еще перестукивала на машинке книгу, которую Тур за зиму не успел закончить и сейчас срочно дописывал, прячась в развалюшке рядом со стапелем.
С утра до вечера мы проводили на строительной площадке — нашей заботой после постройки лодки была ее оснастка, погрузка всего необходимого. Воспоминания о царившем на "Ра-1" водном изобилии несколько вскружили нам голову: планируя загрузку теперешнего нашего судна, мы уменьшили наши питьевые запасы. К чему везти лишний балласт? Как показал опыт, два литра в день на человека — вполне достаточно.
Я тоже при подготовке ко второму плаванию использовал прошлогодний опыт — уже не брал такого количества медикаментов, как в прошлый раз. Зато взял кое-что посерьезней, вспомнив случай с псевдоаппендицитом Абдуллы, например, титановые хирургические инструменты. Не забыл и аммиак, чтобы при встречах с физалией больше не прибегать к собственным выделениям… Специально для моих медикаментов в хижине был приспособлен плетеный ларец.
Наша хижина, или каюта, как мы ее называли, была сделана из бамбука и походила на плетеную корзину, опрокинутую вверх дном. Высота ее — два с лишним метра, длина — четыре, ширина — три. Таким образом, с обеих ее сторон оставалось по метру до борта. Нет, больше, если учесть дополнительные бамбуковые же платформочки, — они, как крылышки, нависали над водой. По ним, собственно, мы и ходили, ибо к стенкам хижины много чего было пристроено, привязано, положено и прислонено.
Вдоль плетеной стены тянулась завалинка, скамейка-рундук. В прошлом году, на "Ра-1", она возникла случайно: складывали к стенке разные деревяшки, обломки весел, запасные канаты, канистры — и вдруг обнаружили, что на всем этом весьма удобно, приятно и уютно сидеть. Поскольку, оборудуя новый корабль, мы надеялись, что на нем весла будут ломаться значительно реже и обломков может на завалинку не хватить, было решено соорудить ее заранее, на манер нижней полки в вагоне — с ящиками под сиденьем. Там хранились еда и питье.
Так что на "Ра-2" в нашем распоряжении была не кустарщина из канистр и бурдюков, а заранее предусмотренное, тщательно выполненное, комфортабельное сиденье. От прежней завалинки остались лишь размеры и форма.
Каков был наш дом? От пола до потолка — чуть больше полутора метров. Однако на самом деле пол был гораздо ниже: просто его скрывали ящики, придвинутые тесно один к другому. Пол в хижине — это крупные клетки из толстых бамбучин, покрытых папирусными циновками. На них и стояли шестнадцать ящиков, на которых мы спали. Окон не было, но бамбуковые стенки просвечивали. И брезент, даже двойной, — им была укрыта хижина сверху, сзади и с левого борта — тоже пропускал свет солнца. В мягкой цветной полутьме легко различались восемь наших постелей: четыре и четыре, валетом, как и на "Ра-1", ногами к центру, изголовьями к носу и корме.
На стенках были развешаны плетенки, сумки, мешки, фотоаппараты. И еще в хижине висел ящик. Собственно, не ящик, а домик, ибо нас в экипаже было не восемь, а девять: с нами плыл еще один ветеран — обезьянка Сафи.
Но из прошлогодних матросов в экипаже "Ра-2" не было на этот раз Абдуллы. Обстоятельства сложились так, что ему пришлось остаться на берегу, и, по сути дела, по собственной вине. Когда мы в мае 1970 года все съехались в Сафи, оказалось, что за месяцы после первого плавания наш бывший товарищ странно изменился — в таких случаях говорят "вырос над собой".
Участие в экспедиции, а главное, возможности, открывшиеся для Абдуллы после того, как он стал известным, подействовали на него радикальным образом. Он решил поселиться в Каире, купить там дом. А деньги на это стал добывать, используя доброе и предупредительное отношение к себе Хейердала. Послом Норвегии в Египте был тогда замечательный человек, большой друг Тура Петер Анкер. Абдулла стал ходить к послу и просить у него денег на покупку дома (как оказалось, не одного), ссылаясь на то, что договорился об этом с Хейердалом, который потом вернет послу долг Абдуллы. Петер Анкер, человек кристальной честности, не мог не поверить тому, что сказал Абдулла, и дал ему нужную сумму. На самом деле Тур даже не подозревал об этом. Все выяснилось гораздо позже, и ему пришлось отдавать не свои долги.
Хейердал был настолько деликатен, что ничего не сказал нам, когда мы встретились в Сафи, а вел себя так, словно ничего не случилось. Но мы и сами видели, что с Абдуллой творится что-то совсем не то. В Сафи для разъездов мы арендовали три машины, из которых самый большой "фиат" Абдулла выбрал себе, а для всех остальных оставил два поменьше. С раннего утра мы все съезжались на строительную площадку и трудились там до самого вечера. Все, кроме Абдуллы, который приезжал позже, вылезал из "фиата" вальяжный, почти бей. От прежнего плотника с озера Чад ничего не осталось. Покрутившись на площадке, видя, что работа идет и без него, он уезжал к себе в отель развлекаться с висевшими на нем гроздьями веселыми девицами.
Мы несколько дней терпели этот светский, по его представлениям, образ жизни Абдуллы, а потом решили ему напомнить, зачем мы сюда приехали. Но сначала обратились к Туру:
— Что все-таки происходит с Абдуллой? — И он поведал нам о каирских "подвигах" своего бывшего подопечного.
Тогда мы созвали "партийное собрание" "Ра", и состоялся примерно такой разговор:
— Абдулла, ты когда думаешь приступить к работе? Ты же сам видишь, что рук не хватает.
— А зачем? Все и так идет нормально.
— И все же, давай прекращай такой образ жизни. Ты ведешь себя неправильно по отношению к нам. И потом, эти постоянные девицы, загулы… — Ко всему прочему Абдулла стал еще и увлекаться выпивкой, что уж совсем не укладывалось в нормы поведения мусульманина, поскольку им запрещено пить. — Так что либо начинай работать, либо гуляй отсюда!
— Ах, так! Вы-то сами кого из себя корчите? Тоже мне, научная экспедиция называется! — Это говорил тот, кого именно в плавании на "Ра" Жорж учил писать. — Да не нужны вы мне! Я сам от вас ухожу!
На том и разошлись. А через несколько дней Хейердал за завтраком нас огорошил:
— Не знаю, что и делать! Абдулла требует от меня две тысячи долларов, иначе он всем будет говорить, что на "Ра" процветает расизм. Что его выгнали, потому что он черный…
И это он говорил Туру, который в прошлом плавании все время боялся, чтобы, упаси Господи, кто-нибудь чем-нибудь не обидел бедного Абдуллу. А смышленый плотник из Чада очень быстро сориентировался, чем он может шантажировать Хейердала. И Тур, мужественный, сильный человек, в этой ситуации растерялся.
Мы стали успокаивать Тура:
— Что за ерунда?! Пусть идет ко всем чертям! Пусть говорит, что хочет!
— Нет! Я так не могу! Я сам всегда боролся с расизмом. Лучше я дам ему денег…
— Это ровным счетом ничего не изменит. Он все равно будет говорить, что его обидели…
Но переубедить Тура мы не смогли. Он все-таки дал Абдулле требуемую сумму, и тот "слинял" из Марокко, но все же в каких-то газетенках обвинил нас во всех грехах. Когда появились эти заявления Абдуллы в местной прессе, Тур сказал нам:
— Я должен взять в это плавание представителя Африки. Жорж не в счет. Нужен марокканец. Давайте пригласим в экипаж Мадани…
Мадани Аит Охани работал администратором в гостинице, где мы жили. Был он доброжелательным, симпатичным, всегда готовым помочь нам не только в бытовом смысле, но и по работе на строительной площадке, куда часто приходил.
Мы стали обсуждать предложение Хейердала. Он выслушал наши "за" и "против" и принял решение — восьмым членом экипажа "Ра-2" вместо Абдуллы станет тридцатилетний марокканец Мадани. Тур не ошибся в нем — во время плавания он проявил себя приветливым, добрым, нормальным парнем. Конечно, по сравнению с нами, уже плававшими на папирусной лодке, Мадани было тяжело. Но он старался привыкнуть к столь необычным условиям, и мы потом расстались друзьями. Сейчас, по некоторым сведениям, он работает менеджером крупных гостиниц в Марокко…
А седьмым членом экипажа Тур еще задолго до приезда в Сафи пригласил японского кинооператора Кея Охару. Тридцатидевятилетний новичок должен был вместе с Карло Маури составить штат плавучей "киностудии "Ра-2"".
Десятого мая состоялся спуск "Ра-2" на воду. Ровно в одиннадцать начался съезд гостей. Официальные лица прибывали в черных автомобилях, с шоферами в ливреях. Ритуальные брызги козьего молока, шорох и хруст соломы — и судно в голубом море. Но тут же мы его чуть не лишились.
Ветер был свежий, кораблик легкий, с буксирного катера вовремя не кинули конец — и нашу новенькую ладью потащило, как осенний листок. Потащило и бросило — прямо на бетонный пирс! Тур схватился за голову.
"Ра-2" ударило о стенку со страшной силой, благо, что носом, загнутый нос спружинил, и судно отскочило от пирса, как мячик. Его подхватили, зацепили и оттащили туда, где ему полагалось намокать.
Старт был назначен через полторы недели. Последнее утро вижу как сквозь сон: шесть часов, холодно, круглый гостиничный стол. Подробности стерлись из памяти, мне потом их пересказывали, будто постороннему. Оказывается, я был страшно весел и разговорчив, приставал к новичку Мадани, чтобы тот быстрей расправлялся с яичницей:
— Ешь, еще неизвестно, когда мы снова будем есть.
Мадани ответил:
— Я боюсь, у меня случалась морская болезнь.
Я расхохотался и не мог остановиться. Крикнул второму нашему новичку, Кею:
— А ты? У тебя нет морской болезни? А плавать ты умеешь?
— Извини, не умею.
— Тур, Тур, ты слышишь?
Тур отозвался спокойно:
— Будем следить, чтобы не свалился за борт. А что касается Мадани пусть и у врача на "Ра" окажется занятие.
Холл отеля наполнился людьми, были друзья, журналисты, фотографы, любопытные. На пирс вышел паша Сафи Тайеб Амара и сказал прощальную речь. Тур тоже произнес речь. Прибыли послы: наш, американский, норвежский, множество дипломатов. Народу собрались толпы, пароходы в порту гудели. Ивон ("Уж возьмите, мальчики!") подвесила к потолку хижины ветчину и колбасу…
А мы все что-то доделывали, догружали, распихивали и в суматохе даже не почувствовали торжественного мига, не заметили, как буксирчик потащил нас к выходу из гавани. И вдруг, осознав, расслабились, вздохнули облегченно: слава Богу, кончилось! Именно не началось, а кончилось: теперь — держи курс, считай мили! Нормальная мужская работа.
Погода была великолепная, ветер северо-восточный, то, что нам надо. Сафи едва виднелся в дымке. Пора было поднимать парус. Уточнили, как будем это делать, и стали по местам.
Мы с Сантьяго стояли на шкотах, он — справа, я — слева. Я помнил, что это не такое уж сложное дело, и не слишком напрягался, обмотал шкот вокруг бруса и глазел по сторонам. Но я упустил из виду, что веревка свежая, сухая и скользит. Когда парус пошел вверх, внезапно хлопнуло, рвануло, обожгло ладони, и шкот змеей взлетел в воздух, а левый нижний угол паруса завернулся и бешено заполоскал. Сантьяго растерялся и выпустил свою сторону тоже.
Да, первый подъем паруса на "Ра-2" был неудачен. Но бодрого настроения мы не теряли, убрали парус, закрепили шкоты намертво и снова подняли. Он надулся и расцвел над нами, гигантский, с оранжевым диском в центре, похожий на диковинный праздничный флаг.
Как это всегда бывает, праздник длился недолго. Сразу по выходе из бухты нас качнуло для пробы баллов под пять. Это было как бы дружеское приветствие нашим новичкам, и они отреагировали моментально: Кей укрылся в хижине, а Мадани прилег на корме с полиэтиленовым мешочком. А затем уже океан принялся и за ветеранов, всерьез, явно желая побыстрее вернуть им форму…
Мы шли неподалеку от берега. Временами виднелись огни маяков. Держать следовало между западом и юго-западом, как раз на луну, — огромная, рыжая, она горела точно по курсу. Я старался подпереть ее носом лодки, однако скоро тучи сомкнулись и нас окутал полнейший мрак. Когда не видишь волн, вначале встречать их боязно, но быстро привыкаешь — чувствуешь их приближение всем телом и ноги сами начинают подгибаться и выпрямляться, следуя движениям палубы.
Я совершенно замерз, еле-еле отстоял свое, разбудил Нормана и завалился спать…
Зачем, зачем мы опять ввязались в это дело? Ну, Тур — понятно, у него гипотеза, а мы-то, остальные, зачем?
Написал это и подумал: нет, не так. На борту "Ра" не было деления на вдохновителей и исполнителей. Взять хотя бы меня самого: что мне, казалось бы, до древних мореходов? А вот вспомню о них — и радуюсь, и горжусь, что повторил их маршрут…
Шторм длился третьи сутки. Мы неслись по волнам с угрожающей быстротой, да к тому же нас переваливало с борта на борт. Чувство такое, что ты штопор, который ввинчивают и ввинчивают во что-то упругое, не имеющее начала и конца. Состояние не из приятных.
Полнее всех, пожалуй, это ощущал Мадани. В день отплытия он был горд собой, счастлив, на голове его красовалась повязка с надписью "Ра-2", вышитой разноцветными нитками. А теперь в его глазах были растерянность, страдание. Он удивленно взирал на нас, "старых морских волков": как мы отважились на такое, да еще во второй раз?!
Бедный Мадани, он не знал, что и нас тоже преследовали подобные мысли.
Когда видишь непрерывно движущийся калейдоскоп волн, когда испытываешь на себе их мощь, то кажется, что весь мир сейчас залит ими. Даже удивительно, насколько могучи вода и ветер! Мягкую ткань паруса они превращают в стальную пружину, а бесхребетная веревка — только зазевайся! бьет наотмашь, как шпицрутен.
Океан пугает. Это верно. Но он дает и силу. Глядя на наших новичков, мы, ветераны, становились дружнее и сплоченнее. Мы знали, что защитить их можем только мы.
Утром 24 мая на борту произошло важное событие, запечатленное на фото-, кино- и магнитной пленке. Состоялась первая операция на "Ра-2"! Жорж, встав, пожаловался, что плохо спал — болел палец. Я взглянул панариций. И получил от пациента согласие вскрывать.
К операции готовились обстоятельно. Сантьяго надел на голову пластиковый чепец, на лицо — марлевую маску. Я опоясался полотенцем, а поверх него — веревкой.
И вот Сантьяго, ряженный медицинской сестрой, подает мне спирт и салфетку для дезинфекции рук. Затем прошу у него резиновые перчатки, а он, вместо хирургических, вручает мне здоровенные, электромонтерские. Кинооператор доволен, зрители хохочут, Жорж тоже. Он и не подозревает, что через секунду ему станет не до смеха.
Для местной анестезии я решил использовать пластмассовый шприц. Но подкожная клетчатка на пальцах практически отсутствует и такой шприц здесь непригоден, он маломощный, маленький. Жму-жму, Жорж морщится, а толку нет. Говорю:
— Потерпи. Лучше я тебе разрежу без анестезии. Это быстрее и проще, чем колоть несколько раз.
Вот тут Жорж заорал неистово!
Я вскрыл ему панариций и выпустил гной. Хотел промыть ранку, но он больше не давался и громогласно крыл меня на всех языках, включая русский.
Киногруппа — Карло и Кей — торжествовала: никакой инсценировки, поймали-таки правду жизни. Жорж уже оправился от потрясения и договаривался с провиантмейстером насчет стопочки. А я собирал инструментарий и думал: пусть эта операция будет единственной на "Ра"!
Раньше по наивности представлялось: плыть — значит рулить понемножку, поглядывая вдаль. Оказывается, плыть, во всяком случае, на папирусе, — это непрестанно что-то приколачивать, надвязывать, разбирать, сортировать, переносить… Словно мы переехали в новую квартиру и никак не можем устроиться
Нужно, например, попробовать собрать и испытать резиновую лодку "Зодиак". И вот она разложена на площадке хижины, и начинается решение головоломки: какая деталь куда вставляется. Инструкция, естественно, куда-то засунута или вообще оставлена в Сафи. Вариантов множество, страсти кипят, собирается консилиум. Норман, как самый сведущий, приглашен персонально…
Затем назрела необходимость разобраться с трапом, ведущим на мостик, почему бы не перенести его с левого борта на корму? Не успели покончить с трапом, как позвал встревоженный Норман: он заметил серьезный непорядок рей перетирает канаты, которыми стянуты вверху две ноги мачты. Это уж совсем ни к чему! Мачта может распасться, развалиться и рухнуть!
Так и жили. В непрестанных хлопотах, занятые тысячей вроде бы пустяковых дел. Но попробуй пренебречь хоть одним — начнется цепная реакция, как в балладе про гвоздь и подкову: лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит и так далее. Чем дальше — тем печальней
Ужасно люблю подводное плавание, но для меня оно все же не более чем забава. Для Жоржа — это дело жизни, любовь навсегда, он человеком себя не мог считать без него.
Вот он вылез из воды, замерзший отчаянно, окоченевший. Ему необходим был массаж со спиртом, и я вступил в свои профессиональные права. Оханьям и аханьям не было конца. Норман только глаза таращил, глядя, как я мял Жоржа, не щадя ни своих, ни его мышц. Кажется, наш штурман был даже доволен, что искупался не он, а Жорж.
Отдышавшись, Жорж сообщил, что под днищем лодки плывет групер, огромный, чуть не полутораметровый, и что он очень дружелюбен. Мы решили его не убивать и нарекли Нельсоном. Итак, считая Нельсона, нас теперь в экипаже было одиннадцать.
Мы восьмеро — это во-первых; обезьянка Сафи — во-вторых; в-третьих, среди кур, взятых для еды, опять, как и в прошлый раз, объявились утка и селезень. И мы снова назвали его Синдбадом. Так что у нас на "Ра-2" был и Синдбад-2.
А в-четвертых, ночью — она была тишайшей, мы едва двигались, и луна ярко светила — какая-то птица ударилась о парус. Скользнула по нему, взлетела, сделала круг и опустилась на крышу хижины
Я позвал Сантьяго. Он дал мне сачок, и через минуту гость был в наших руках. Это оказался голубь, почти натуральный сизарь, и не простой, а окольцованный, — как следовало из надписи, — в Испании, в 1968 году.
Его посадили в клетку, а утром решили отпустить: насильно покормили напоследок и подбросили в воздух. Он покружил и снова уселся на площадку. И мы поняли, что он никуда не собирается от нас улетать. Взяли его на довольствие и выбрали для него имя Юби — в честь грозного африканского мыса, мимо которого нам еще предстояло пройти.
Этим не кончилось. Тем же утром к нам залетела птица невероятно пестрой окраски, с длинным клювом. Никто не знал, как она называется. Она сидела на мачте и не желала спускаться. Норман отнес ей туда поесть и попить в кружке. К вечеру она забралась между крышей хижины и площадкой и уснула. А на следующее утро появилась еще птичка, малюсенькая, вроде синицы. За ней еще такая же, потом третья. Они принялись чистить нашу лодку, выковыривать из папируса мух и жучков.
Сменившись с вахты, я долго, старательно и с удовольствием брился. Процедура в наших условиях не из приятных — щеки щиплет и саднит от морской воды. Хорошо, если Норман на связи и можно было подключиться электробритвой к генератору радиостанции — так мы обычно и старались делать. Но сегодня не стал ждать Нормана: мне хотелось с раннего утра быть свежим. На то были причины.
Появился заспанный Тур. Я спросил его:
— Ты помнишь, что сегодня большой праздник?
Он призадумался. Потом лицо его осветилось:
— Мы стартовали?!
— Да.
Нынешнюю дату отметили неожиданно тихо. Видно, особая это годовщина годовщина начала пути.
А ночью океан преподнес нам подарок. Лучший, какой только мог, — мы благополучно миновали мыс Юби, спокойно, как по маслу, даже не заметив. Лишь из утренних выкладок Нормана стало ясно, что событие, к которому напряженно готовились, — позади.
В прошлом плавании по поводу Юби тоже было много тревожных предчувствий. В решающую ночь вызвался дежурить Сантьяго. Он глядел во все глаза и слушал во все уши, поутру в тусклой дымке увидел приближение чего-то непонятного и разбудил Тура. Непонятное надвигалось неотвратимо — и оказалось не мысом и не рифом, а танкером из Гавра. Танкер оглушительно проревел сиреной, описал вокруг нас приветственный круг и удалился. А Юби, как выяснилось, был уже далеко за кормой.
Мы знали, какие клочки суши могут вдруг возникнуть в туманной дымке слева и справа по борту: Канарские острова, острова Зеленого Мыса. Знали, что нам угрожает больше всего: западная оконечность Африки, мыс Юби, неприютный, скалистый, с вечной непогодой, рифами и двадцатиметровыми валами. Знали, пусть ориентировочно, где мы пристанем, если все обойдется благополучно: Барбадос, Тринидад, Мартиника, возможно, даже и Юкатан…
И всем этим знанием мы были обязаны тем, кто прошел здесь до нас, на клиперах, фрегатах и каравеллах. А еще раньше — вероятно, и на таких же, как наша, папирусных лодочках, изнывая от голода и жажды, не страшась циклопов и сирен, примитивными приспособлениями нащупывая путь.
Нет, мы не совершали подвига. Мы только в меру сил повторяли, воссоздавали их давние действия.
По мере того как мы продвигались на запад, океан пустел и нам попадалось все меньше кораблей. Иногда они проходили днем, но большей частью мы замечали их ночью. Ночью корабль легче заметить, он хорошо освещен.
Эти встречи вызывали у нас противоречивые чувства. С одной стороны, приятно сознавать, что еще кто-то плавает рядом. Однако, с другой стороны, — лучше бы не плавал. Потому что, когда видишь, как в непосредственной близости идет громадный, весь — иллюминация, лайнер, когда даже слышишь музыку с него, тебя охватывает мелочная зависть. Завидуешь людям, которые веселятся, пьют вино, и нет для них шторма, и парус у них не сорвет.
О, первые мгновения таких встреч!
Помню, в прошлом плавании, в день, когда мы уже изнемогали от возни с веслами, от борьбы с ветром и волной, из-за горизонта вырос огромный корабль. Он шел нам наперерез. Мы заорали: "Шип, шип!" — замахали руками. Судно изменило курс, удалилось, снова приблизилось и застопорило машины. Оно было примерно в трехстах метрах от нас, на его палубе суетились матросы, ходили (бог мой!) натуральные живые женщины!
С судна сбросили за борт предмет красного цвета. Предмет медленно дрейфовал в нашем направлении, течение слегка относило его вправо и собиралось пронести мимо нас. Жорж, испросив разрешения у Тура, облачился в гидрокостюм, обвязался линями, концы которых Сантьяго и я взяли в руки, и прыгнул в море. Проплыл метров сорок и загоготал, извещая, что посылка в его руках.
К двум спасательным поясам был привязан мешок, а под него подсунута связка журналов. В мешке оказались яблоки, апельсины, грейпфруты, лимоны всего понемногу. Мы тут же расхватали яблоки и накинулись на журналы, которые довольно солидно пострадали от воды и вообще не отличались свежестью, так как, видимо, корабль покинул порт недели две назад. Но все равно мы листали их с жадностью, и радовались, и пялили глаза на обнаженных фотокрасавиц, а "Африканский Нептун" (приписка Нью-Йорк) скромно уходил, таял в дымке, провожаемый нашими благодарными возгласами.
И все же мы боялись таких встреч: "Ра" даже по сравнению с траулером букашка. Нас трудно было разглядеть, особенно если ночь и туман, — налетит, потопит и в чем дело, не сообразит.
Примерно месяц мы плыли в полнейшем одиночестве, а потом, уже близ Южной Америки, суда стали появляться вновь. Однажды нас разбудил Жорж. Он кричал, что на нас движется корабль. Мы выскочили из хижины кто в чем был и залезли на крышу. Действительно, корабль шел прямо на нас, весь в огнях, как новогодняя елка, а у нас на мачте горела только жалкая керосиновая лампа. Мы схватили фонарики и принялись, соединяя лучи, бить общими усилиями в его рубку. Там нас заметили и, наверное, страшно удивились. Зажгли мощный прожектор и долго слепили "Ра" ярким лучом, видимо, силясь понять, что это перед ними такое.
Затем на корабле решили с нами поговорить. Мы переговаривались азбукой Морзе, мигая фонариками, — верней, это делал один Тур. Он вспомнил свою военную молодость, снова и снова он твердил: "Экспедиция "Ра"! Экспедиция "Ра"!" А те, на корабле, не понимали и переспрашивали. Ветер был слабый, мы шли зигзагами, корабль тоже лавировал, боясь с нами столкнуться. Временами он пропадал за нашим парусом и разговор обрывался.
Я слез на палубу — на палубе парус не мешал и корабль был виден, оттуда сигналили напропалую, без перерывов, не заботясь, принимаем мы или нет. Тур в азарте кричал мне с мостика:
— Что они сказали: ти-ти-та-та или ти-та-та-ти?
Откуда мне знать, что они сказали? Я не могу читать эту штуку. Тур от возбуждения просто забыл, что не все учили азбуку Морзе. Он вел себя в точности как любопытный глухой, который переспрашивает, приставив ладонь к уху:
— А? Что? Та-ти-та?
Потом, успокоившись, он очень смеялся.
Да, случаи бывали разные. Как-то вдруг показалось, что коллективно сходим с ума: по левому борту, чуть видимый вдалеке, плыл другой такой же "Ра"! Словно мы отразились в зеркале!
— Тур, — вскричали мы, — твой приоритет под угрозой!
Судно подходило ближе, и сходство исчезло: обыкновенное рыболовное суденышко, ничего общего с нами не имеющее. Океан пошутил…
Мы плыли ничем не защищенные от океана — ни высотой бортов, палуб и мостиков, ни стеклом иллюминаторов, ни, наконец, техникой — параболами локаторов, мощью котлов и турбин. Волна плескалась у самых наших подошв, и это была не волна вообще, а конкретная, именно атлантическая. Мы стали как бы частью Атлантики: мы в ней жили, а она экспериментировала на нас едва ли не больше, чем мы на ней.
Но цивилизованное человечество и посреди океана давало знать о себе. Порой было противно утром чистить зубы — столько грязи плавало у кормы. Ну ладно, пустые бутылки, доски, пластиковые мешки — их как после воскресенья на дачной полянке. Но битум! Но мазут!!! Куски темно-бурого цвета, величиной с кулак, а иногда крупнее! Некоторые обросли ракушками и усеяны моллюсками, другие совершенно свеженькие. И это в центре Атлантики, а она довольно большая!
Едва первые наши отчеты появились в печати, возникли слухи о том, что мы из-за загрязненности воды якобы даже не решались купаться. Это, разумеется, не так. В сплошные поля нефтяной пленки мы все же не попадали.
Карло и Кей наставляли свою обличающую кинооптику на очередную битумную лепешку в руках Тура. Позднее я видел на экране эти кадры. Они медленные, чем-то похожи на спецкриминальные: преступление обнародуется, вещественное доказательство предъявляется, камера подробно, сантиметр за сантиметром, фиксирует одиозный предмет, его размер, форму, фактуру… Смотрите, люди! Вы рубите сук, на котором сидите! Вы лишаете себя завтрашнего источника существования, кладовой ваших завтрашних богатств, сферы завтрашнего обитания, наконец! Это ведь уже не совсем фантастика: ведутся опыты по адаптации человека к водной среде, сбываются грезы о человеке-амфибии. Остановитесь, люди! Во имя самих себя, завтрашних Ихтиандров!
Материалы, добытые экспедицией "Ра", явились в известном смысле сенсационными: действительно, никто до нас не наблюдал подобного. На современном корабле мореплаватель океана практически не видит. Мало кто подозревал, что беда зашла так далеко. Вскоре после возвращения Тур был приглашен в США, на заседание сенатской комиссии, для обстоятельного отчета. Мир ужасался, негодовал. О нас говорили: "Это те парни, которые обнаружили, что океан безумно грязен". Как будто это было единственное, чего мы добились в путешествии. Но мы не обижались. В конце концов, проблемы трансатлантической миграции — для знатоков, а вода нужна всем…
Минули времена, когда океан был сам по себе, а люди сами по себе. Да и было ли такое когда-нибудь? Афродита вышла из морской пены; океан колыбель всего живого на Земле. Выросшие дети, мы должны бережно относиться к своей колыбели…
Корабль шатало, ветер был веселый, наш уже изрядно выгоревший парус туго надут. На носу дремлет флегматичный Синдбад. Жорж только что накормил его, напоил, приговаривая:
— До чего же ты дурень, Синдбад! Вот прошлогодний был (вздох) — это да!
…Дремлет Синдбад. И Сафи прикорнула в своем подвесном бамбуковом домике. И Жорж спит, и Сантьяго, и Карло. Время такое — послеобеденное.
Сегодня сделано 63 мили, совсем неплохо. И вообще все неплохо, только холодновато, а ночью и по утрам еще и влажно. Выбираться из мешка совершенно не хочется: рубашка и джинсы налезают с трудом и не вызывают приятных ощущений. Попросить, что ли, Нормана изменить чуть-чуть курс и пойти южнее? Он хихикает в ответ:
— Маньяна!
"Маньяна" с легкой руки Сантьяго было любимое наше слово. "Маньяна" по-испански — "завтра", но с оттенком нашего "после дождичка в четверг". Сантьяго советовал: "Попадешь в Мексику — говори всюду "маньяна", и тебе будет хорошо".
— Юрий, как насчет того, чтобы повозиться с брезентом?
— Маньяна…
Маньяна не маньяна, а идти нужно. Карло и Жорж, бодрые после сна, потащили на корму бывший запасной парус. Он теперь располосован, и мы укрепляем его по правому борту вдоль хижины — строим баррикаду от волн, потому что заливает и захлестывает основательно.
Но не сами волны опасны — им нас не перевернуть, не потопить, они приходят и уходят. Опасно их соприкосновение с папирусом. Папирус для них ловушка, копилка: что впиталось, то уже навсегда. "Ра" не выжмешь, как губку, не выкрутишь, как мокрую тряпку.
Теперь волны, перехлестывая через борт, не идут вниз, под хижину, а отражаются от нашей баррикады и скатываются назад, в океан. Мера определенно эффективная: надо возвести заслон и с кормы, и с носа отгородиться от океана везде, где можно.
Сменю-ка я тему и расскажу о нашем зверинце.
Итак, первый наш пассажир — селезень Синдбад-Мореход. Ночью он спал в корзинке-люльке, подвешенной на носу, днем важно расхаживал по палубе. Был он весьма серьезен, сердит, недовольно крякал, когда кто-либо подходил слишком близко.
Голубь Юби жил на крыше хижины — там Жорж приспособил для него домик из картона. Но Юби предпочитал сидеть на свежем воздухе и залезал в домик только в случае дождя. Иногда он взлетал, делал круг над кораблем и возвращался обратно.
И, наконец, четвероногая-четверорукая Сафи, заядлая путешественница, единственная, пожалуй, из нас, кому на борту было вольготнее, чем на суше. День Сафи начинался с того, что ее умывали и переодевали в свежие штанишки. Этим занимался обер-камердинер Жорж, а гофкухмейстер Карло уже стоял наготове с куском печенья. Затем министр этикета Сантьяго привязывал высокородную даму на длинной цепочке к мостику, и Сафи бралась за дело. Главной ее задачей было — стянуть всё, что плохо лежит: тетрадь, карандаш, лекарство, бинт и так далее. И всё — в рот.
Ей очень нравилось прыгать с крыши хижины на ванты и на треугольный парус, который, прогибаясь под ветром, образовывал словно специально для Сафи удобный гамак. К сожалению, это не всегда было возможно, только если люди отпускали цепочку на полную длину, — тогда сальто и кульбиты следовали один за другим. А попутно можно было успеть поинтересоваться и прической Тура, и карманом Юрия, и багажом на крыше, а если прикрикнут и шлепнут — не беда, в ответ полагалось фыркнуть и скорчить гримасу.
Сафи была необычайно любопытна. Когда кто-нибудь из нас облачался в гидрокостюм, она повизгивала от страха, наблюдая, как хозяин превращался в непонятное черное чудище. Но все-таки ползла к борту вслед за прыгнувшим заглянуть, как он там, среди ужасных рыб, в ужасной воде. Визжала, но ползла, готовая тут же ринуться наутек и опять вернуться.
Она любила общество. Толклась обязательно в самых тесных, в самых людных местах. Если, например, опускали в воду весло, Сафи была тут как тут. А если я вшивал веревку в парус, то Сафи прыгала вокруг, норовя попасть под иглу.
С наступлением сумерек Жорж переносил ее в домик — специальный ящик с поддоном, подвешенный под потолком хижины. В этом ящике она и спала вместе со своей любимицей — смешной и безобразной резиновой лягушкой.
Ивон говорила мне, что она предлагала Сафи множество игрушек, но Сафи либо бросала их, либо ломала, а вот эту полюбила и обращалась с ней бережно, как с ребенком. И уходила в свой ящик, нежно прижимая ее к груди.
Однажды после ленча я отстегнул Сафи от цепочки и, привязав длинный шкерт к ее поясному ремню, пустил гулять по палубе. Сафи резвилась в вантах, бегала по крыше хижины и по мостику, а Кей умиленно снимал на пленку этот процесс. Потом я забрался с ней на мачту, потом мы пустили ее на нос, где кейфовал Синдбад, и Сафи его немного пощипала. Внезапно веревка развязалась, и обезьяна обрела свободу!
Она пулей взлетела по канату на верхушку мачты и уселась там, весьма довольная собой. Все замерли от страха. Мы представили себе, что будет с Туром, если Сафи упадет за борт. А Тур уже все заметил, закричал нам: "Сафи на воле!" Мы и сами прекрасно видели это, приманивали ее фруктами, орехами, конфетами — ничто не помогало. Она сидела наверху и, видимо, не собиралась спускаться.
Тогда Сантьяго принес лягушку. Увидев ее и услышав ее жалобный писк, Сафи мгновенно слезла вниз и стала отбирать у мучителя свою любимицу. На том обезьянья самоволка и окончилась.
Иногда по вечерам Тур брал Сафи к себе на руки. Обезьянка блаженствовала, ворошила волосы у него на груди, снимала с них очень ловко и забавно кристаллики соли и лакомилась. Что еще? Да, изредка мы устраивали ей купание. Вначале она сердилась, зато после была счастлива и любовно чесала свой ставший пушистым мех.
По плану Туру и Жоржу предстояло осмотреть корабль под водой, а мне на мостик, на вахту. Постоял я, постоял, ветра почти нет, океан гладкий, как пруд, на носу — брызги, гогот, веселье… Тут и приказала долго жить вся моя организованность. И не только моя: за мной нырнул Сантьяго, за Сантьяго — Норман. И пошло поголовное купание, включая Синдбада-Морехода: мы о нем тоже не забыли и пустили поплавать. Правда, он этому не очень обрадовался и хотя плавал, естественно, как утка, но дрожал после ванны, как мокрая курица.
Посчитали за ужином, какой завтра день, вышло, что завтра — 31 мая, воскресенье. Постановили отдыхать вовсю, благо солнечно и очень тепло. День минул в безделье и хозяйственных хлопотах — помыться-побриться-одежкупостирать…
Как судовому врачу "Ра" мне надлежало заниматься не только лечением моих товарищей-клиентов. Еще перед первым плаванием планировалось проведение обширных научных исследований. Правда, полностью намеченное выполнить не удалось.
Во-первых, мне не повезло как физиологу. Я думал, что проведу изучение водно-солевого обмена. Но на "Ра" не было ни места, чтобы развернуть походную лабораторию, ни времени. Да и сухопутная методика оказалась непригодной. Так что опыты эти, к сожалению, пришлось отложить. Похожее вышло и с наблюдениями над вестибулярным аппаратом — они тоже были намечены и, в общем, не осуществились.
Оставались задания, полученные от психологов. Им наше плавание давало идеальную возможность исследовать явления групповой психологии. Меня снабдили разного рода опросниками, инструкциями. Три четверти инструкций относились к "гомеостату", прибору, названному так от греческого "гомео статис" — "имитирую состояние". Это был ящик с верньерами, похожий на приемник старинной марки.
Принцип его действия состоял в следующем. Представьте себе несколько душевых кабин, трубы которых соединены последовательно. Пусть в кабины войдут люди и, манипулируя кранами, попытаются создать себе подходящую температуру воды для мытья. Нетрудно догадаться, что сосед будет мешать соседу, пока наконец действия всех не согласуются.
Говорят, что именно в душевой профессору Федору Дмитриевичу Горбову пришла мысль о приборе, на котором можно моделировать групповые взаимосвязи. Ты должен вращением ручки вывести стрелку своего потенциометра на нуль. Но такие же потенциометры и у твоих партнеров: они мешают тебе, выполняя ту же задачу и отнимая ток. Значит, выбирай тактику, наступай, отступай, выясняй свой характер: кто ты — лидер или ведомый?
У меня был с собой "гомеостат", рассчитанный на трех человек. Это значило, что три испытуемых могли одновременно взяться за ручки потенциометров. Переговариваться и командовать не разрешалось: смотри на стрелку, улавливай ритм ее прыжков и самостоятельно принимай решения.
Тут сразу возникали сшибки характеров: кто-то беспорядочно крутил верньер, кто-то сердито отстранялся: "Ничего не выйдет, аппарат неисправен!" А иной возьмет и уведет свою стрелку влево до нуля, как можно дальше, чтобы зашкалило. Тогда у партнеров стрелки на столько же отклонялись вправо. Их лихорадочно начинали посылать на место и тем сообща помогали тебе. И ты добивался победы раньше остальных, потому что применил тактику не ведомого, а лидера, заставил всю группу себе служить.
Любая подробность подлежала занесению в протокол: кто и как себя вел, кто раньше закончил, сколько секунд или минут затратила на задание группа в целом…
Кроме "гомеостата", в моем арсенале были разнообразные тесты. С ними пришлось повозиться, особенно с так называемым Миннесотским опросником. О нем инструкция предупреждала сочувственно: "Значительная по времени работа, но она необходима". Шутка ли — 566 вопросов, касающихся самых различных сторон личности!
Обо всем этом можно рассказывать долго, но боюсь слишком отвлечься. Достаточно подробно вся эта работа была описана в моей книге о двух плаваниях на "Ра", вышедшей в 1973 году.
Я привез данные, полученные на "гомеостате" и в результате тестирования, в Москву, где наши специалисты-психологи, в частности Михаил Алексеевич Новиков, помогали мне обработать их…
А тогда, в мае 1970 года, когда мы съехались в Сафи в радужном настроении — что для нас повторный рейс? — я тоже был полон "психологического" оптимизма. У нас ведь появился мореходный опыт, мы "притерлись", приспособились один к другому, прошли, что называется, полосу прибоя…
Я, как заправский психолог-консультант, выдал Туру уйму рекомендаций, основанных на материале прошлого плавания: надо сдерживать Нормана, если будет покрикивать; надо почаще похваливать Жоржа; надо, чтобы на долю Карло выпадала работа в основном систематическая и ритмичная, а Жоржу, наоборот, пусть достаются авралы, усилия кратковременные, но зато требующие полнейшей самоотдачи. А сам я должен быть более инициативным и более терпимым к слабостям спутников. И пусть Тур, ежели что, не стесняется меня одернуть…
Тур слушал внимательно. Потом обронил загадочную фразу:
— Надеюсь на новичков. — Это было странно, даже обидно. Робкий, вежливый Кей, Мадани в пиратской повязке… На них, выходит, надежда? А мы? — Мы слишком привыкли друг к другу, — объяснил Тур.
— Позволь, так это ж хорошо, что привыкли!
Тур скептически хмыкнул. И оказался прав. Едва схлынула предстартовая горячка и улеглось возбуждение, связанное с началом пути, мы почувствовали, что дышится на борту "Ра" не совсем так, как раньше.
Выяснилось, во-первых, что мы меньше, чем в прошлом году, стремились к общению. Зачем нам оно? Разве и без того каждый о каждом не знает уже всё-всё?
Во-вторых, обнаружилось, что мы перестали друг друга стесняться. Разгуливали, фигурально говоря, в неглиже, не боялись ненароком задеть собеседника словом или жестом, откровенность наших реплик иногда была чрезмерна и граничила с бестактностью.
И, наконец, в-третьих, открылось, что, как ни парадоксально, нам служили не всегда полезную службу воспоминания о "Ра-1".
"Ра-1" был нашим черновиком. А теперь мы словно переписывали черновик набело, с огромным тщанием, уверенные, что уж нынче-то не наврем ни в единой строчке, совершим чудеса каллиграфии и стилистики. Однако, корректируя опыт минувшего плавания, нам не к чему было обратиться, кроме как к собственной памяти. Но память — штука коварная: она смещает масштабы, переоценивает ценности, собственные промахи смазывает, чужие усугубляет…
Карло был мрачен последние дни: гложет его что-то. Увидев меня с фотоаппаратом, он поинтересовался, для кого я снимаю. Я ответил: "Для себя и для Тура, а что?" Он сердито отошел и долго-долго говорил с Туром по-итальянски. Его, как выяснилось, волновало, что все члены экипажа фотографируют для себя, а он — для экспедиции. Через какое-то время поссорился с Сантьяго, ушел на мостик стоять вахту, и готовил за него Жорж.
Иногда я думал: в случае если бы в состав экспедиции мог быть включен или Жорж, или Карло, кого бы я, будь моя воля, взял с собой? Карло серьезный труженик, Жорж — развеселый балагур. Но кого из двоих я все же взял бы на "Ра"? Не знаю. Трудный выбор. И хорошо, что не мне его делать.
Я любил Карло Маури за то, что он такой крепкий человек, и любил Жоржа Сориала за то, что он такой беспечный и неорганизованный человек. Для экспедиции, мне кажется, равно нужен был и Карло с его непримиримостью, с его цельным и надежным характером, и Жорж, который мог развлечь в любой момент, шуткой сгладить острые углы, а желающему всегда предоставить богатую почву для нравоучений и критики — было на ком отвести душу…
Карло сердился неизвестно на что, отмалчивался. А между тем он был нездоров — что-то с обменом веществ. Надо бы его полечить, а не подступишься. Пробовал просить Тура, чтобы он дал Карло лекарство якобы от себя, но Тур сказал, что Карло дуется и на него. Так что выбора пока не было.
У Сафи на мизинце ноги оказалась содрана кожа, палец распух, кровоточил и гноился. Обработал, перевязал, обмотал ступню лейкопластырем и специальным бинтом, бедняжка хромала. Четыре повязки она, правда, содрала.
Шли в тот день хорошо, ветер достаточно сильный, океан умеренный. Несколько уклонились к югу. Вот, пожалуй, и все. Нет, не все! Конечно, не все — день-то был знаменательный! Прошел первый месяц плавания — и пройдена первая половина пути!
Но настроение было непраздничное. Тем не менее Сантьяго "пошевелился", извлек из загашника две бутылки шампанского. Жорж подвесил их на мачте, чтобы охладились на ветерке, — в воду опускать их здесь не было смысла.
Сходились и рассаживались, готовые поддержать традицию. Вежливо порадовались, но должного тонуса не было — что-то словно висело над всеми: то ли усталость, то ли вообще стали мы, черт возьми, старее и равнодушнее и на смену прошлогоднему энтузиазму пришла привычка. В самом деле, мы уже ощущали себя не первопроходцами, а чуть-чуть рейсовиками, не поэтами, а ремесленниками океана…
А тут еще Сантьяго окликнул Жоржа писклявым, якобы женским голосом. Он и раньше не раз так шутил, поддразнивал, но на этот раз Жорж взорвался. Окружающие мгновенно сдетонировали — и разразился скандал.
Не буду его описывать, не стану воспроизводить нашу более чем часовую дискуссию — она касалась распорядка вахт, помощи в мытье посуды, отлынивания и, наоборот, выскакивания поперед батьки, опаздывания к трапезам и любви к чужим полотенцам… Это был отличный интернациональный хай, в котором итальянская экспансивность удачно сочеталась с мексиканским ядом, американскую же прямолинейность выгодно оттенял, простите, русский фольклор.
Деликатный Кей только глазами хлопал. Мадани, отчаявшись хоть что-то понять, сжался в комочек, а бедный Тур кусал губы. Я на его месте давно бы стукнул по столу, но он не вмешивался, давал нам выкричаться.
Впервые мы так "беседовали" друг с другом. И когда накал полемики достиг наивысшей точки, когда, казалось, на палубе "Ра" вот-вот должны были замелькать кулаки, вдруг все умолкли.
Вдруг открылось, всем сразу и каждому в отдельности, какая нас волнует чепуха, на какую дрянную мелочь — на окурки, на грязные тарелки — мы размениваем нашу экспедицию, наш славный кораблик, нашу мужскую общность, рожденную в суровой работе под свист ветра и рев океанских валов.
Каждый взглянул на соседа, усмехнулся несмело и смущенно… И грянул хохот, целительный, очищающий, как майская гроза. Сантьяго привалился к плечу Карло, Норман шутливо ткнул меня под микитки, Жорж кошкой вскарабкался на мачту за шампанским. И на "Ра-2" начался пир!
Мы разошлись только в два часа ночи, случай вообще неслыханный в обоих плаваниях! Пили, ели, опять пили. И говорили, говорили, никак не могли наговориться, будто встретились после долгой разлуки. Да так, в общем, оно и было.
Рухнули перегородки, неизвестно во имя чего построенные, перегородки, разделявшие нас; встали точки над "i"; определились отношения… И праздник, нелепо и неприятно начавшийся, преподнес нам действительно драгоценный сюрприз.
Вахтенные улыбались в ту ночь, и долго-долго посреди Атлантики, под огромной луной, на хлипком травяном островке звучала губная гармоника Нормана…
Всё у нас пока было в порядке — и такелаж, и корпус, и весла. Ничего не сломалось ни разу. Только вот погружались мы. Тяжелели. Тонули.
Нет, это, пожалуй, слишком громко сказано: мы всего лишь оседали, набухали, пропитывались — естественный процесс, чуть-чуть более интенсивный, чем ждали…
Все повторялось. Сперва как бы в шутку, потом все настойчивее возникали на борту разговоры о промежуточном финише, о том же Зеленом Мысе или даже об Африканском побережье — пришвартоваться, вытащить лодку, просушить на солнышке. Но Тур, в отличие от прошлого года, и слышать об этом не хотел. Как всегда, он возражал по пунктам.
Во-первых, корабль на берегу будет сохнуть очень медленно и нет гарантии, что не сгниет внутри.
Во-вторых, до островов Зеленого Мыса три недели ходу, а до Барбадоса шесть, всего вдвое больше.
В-третьих, даже если весь "Ра" уйдет вглубь, мы сможем продолжать плавание, ибо хижина задумана как самостоятельный поплавок: получится что-то вроде подводной лодки в позиционном положении.
Но самое главное — до этого же еще не дошло. И когда еще дойдет? И дойдет ли? "Ра-2" совсем не так плох!
Вот уж что верно, то верно. Пусть до Барбадоса на самом деле не шесть недель, а восемь, пусть плавучесть хижины никто не испытывал, но последний тезис был вне всяких сомнений: "Ра-2" держится молодцом, его погружение пока что не доставляет конкретных неудобств. Эффект его — чисто отвлеченный, абстрактный. И, пожалуй, эмоциональный — мы весьма отчетливо помнили последние дни на "Ра-1".
И все-таки мы опять споткнулись на той же колдобине — "Ра-2" не вполне симметричен. Правда, его слабым местом была уже не корма, а нос. Волны заливали нос и уходили, просачиваясь между "сигарами", папирус успевал намокнуть, а высохнуть не успевал.
Лодка была построена не идеально. К тому же она перестояла в порту, зря расходуя запас непотопляемости. Но поздно об этом жалеть, и бранить, кроме себя, некого. Нужно было выпутываться, и чем раньше, тем лучше…
Собрался совет: капитан, провиантмейстер, кок, врач. Полистали книгу, где были учтены запасы нашего продовольствия, и приговорили к выбросу добрую треть. Описание акции опускаю. Меня с детства учили беречь хлеб, ругали, если крошку ронял на пол, а тут… За "Ра" потянулся длиннющий шлейф: плыли норвежские, египетские, русские хлебцы, плыли рис и кофе, макароны и сухофрукты… Прости нас, Ивон!
Радовались рыбы и обезьяна. Мы наполовину завалили провиантом корзину, где Сафи сидела днем. Она никогда не видела такого изобилия и лопала все подряд без разбора…
Повторялась история прошлого плавания. В нем четко прослеживались два этапа: на первом, до отплытия, мы тащили на корабль, что только могли, а на втором — после старта — принимались дружно и азартно выбрасывать все, что можно. Психологически это объяснимо: если вдруг обнаруживаешь, что папирус впитывает воду чересчур интенсивно и корабль оседает чуть ли не на глазах, многие вещи становятся лишними.
Погода испортилась еще с вечера, а ночью, проснувшись, я испытал самый настоящий, банальный страх. Даже в хижине чувствовалось, с какой необычайной скоростью мы летели. Океан ревел, корабль бросало, в дверном просвете появлялись и исчезали огромные пенные гребни… Холодок стал карабкаться по позвоночнику. Но тут я услышал голос Сантьяго: он звал меня на вахту. Бояться времени не было — надо было работать.
Такого шторма я еще не видывал! Не менее семи баллов. Волны высотой с трехэтажный дом шли бесконечной размеренной чередой. Когда мы забирались на их гребень, казалось, что разверзается бездна. Сантьяго на этот раз не дал мне правое весло, и я два часа простоял "на стреме", изредка помогая.
Мы неслись как на крыльях. К сожалению, прямой курс держать было невозможно — амплитуда зигзагов достигала сорока градусов. Еще две-три такие ночи, и мы пролетели бы половину пути.
К утру ветер немного стих и океан поуспокоился. Я помылся после вахты и, проходя мимо мостика, заглянул под него — там почти ничего не было, все оттуда выброшено или перемещено. Остались только подвесной моторчик, ящик со столярным инструментом да четыре канистры с водой. Мне показалось странным, что канистры разбросаны. Я проверил одну — пусто! Другую, третью, четвертую — везде пустота! Вот это уже совсем непредвиденное осложнение!
Освобождаясь от излишков продовольствия, мы заодно избавились и от трех кувшинов с водой. От целых трех! Это произошло позавчера. А сейчас я глядел на пустые канистры, на выбитые пробки и подсчитывал: за сутки потеряно сто восемьдесят литров! Это наш двенадцатидневный рацион!
Трагедии не было, но с того дня мы перешли на экономный водный режим. А я перехожу к "водной" саге.
7 июня на корабле был введен новый питьевой режим. Провиантмейстер Сантьяго обследовал кувшины с водой, рассчитал наш расход и пришел к выводу, что если мы не подожмемся, то через двадцать дней останемся на бобах. Было решено: по литру на сутки в индивидуальную фляжку и по два литра на каждую из трех общих трапез. Итого — четырнадцать литров в день на всех, и точка! И пить из кувшина, который на камбузе, запрещено.
Сантьяго перестарался: для вящей экономии смешал в кухонном кувшине пресную воду с морской. Это сочетание и в супе, и в чае преотвратительно: у меня разболелся желудок…
После ужина долго болтали с Норманом, Сантьяго и Жоржем: прикидывали, когда и куда прибудем. К концу разговора я случайно заглянул за нашу брезентовую загородку по правому борту и увидел осколки амфоры
— Эй, Сантьяго, амфора разбилась!
Он глянул и уточнил:
— Две.
Там были две амфоры, большие. Следовательно, мы потеряли еще добрых тридцать литров — двухдневный запас. Черепки мы выбросили и уговорились Туру ничего не сообщать: очень уж он расстроился бы. Если и дальше так пойдет, нам, пожалуй, придется по примеру Бомбара пить сок летучих рыбок. Благо они принялись к нам залетать…
14 июня, воскресенье, двадцать девятый день пути. За сутки пройдено 73 мили, средняя скорость плавания — 54,8 мили в сутки. Расстояние от Сафи 1589 миль, или 2963 километра, до Барбадоса — чуть-чуть подальше.
По воскресеньям мы традиционно отдыхали. Но провиантмейстер и врач вышли на локальный аврал: все те же водяные дела. Сантьяго обнаружил, что два кувшина с водой — не те, разбитые, а уже другие — наполовину пусты. Наваждение какое-то! Положение и впрямь становилось весьма щекотливым. У нас оставалось девять больших амфор, по восемнадцать — двадцать литров, и пятнадцать маленьких, десятилитровых. Это всего триста тридцать литров. Даже при самом экономном расходе уходило пятнадцать литров в сутки. Стало быть, воды у нас было на двадцать два дня.
До ожидаемой встречи с яхтой, которая должна была выйти для киносъемок нам навстречу, оставалось пятнадцать дней. Это как будто обнадеживало — не только дотянем, а даже целая неделя в запасе. Но вдруг встреча не состоится вовремя? и неизвестно, окажется ли на яхте лишняя вода? Тур до сих пор ее не запросил…
Мы поговорили с ним на эту тему. Он не знал, как поступить. Просить о пополнении запасов — дать лишний козырь в руки оппонентам: ведь древних мореплавателей никто в океане не подкармливал и не утолял их жажду.
Полезли под хижину проверять амфоры, с трепетом, заранее уверив себя, что зрелище будет ужасным: осколки, трещины, струи из протекших пробок. Но предчувствия обманули: амфоры стояли целехонькие, толстенькие. Только одна оказалась полупустой, у прочих пробки держались крепко.
Мы оставили внизу три амфоры — только три, как неприкосновенный запас, — привязав их накрепко чем возможно и к чему возможно. Остальные вынули и поместили в ящики, на которых спали. Так что теперь мы были Кащеи, храпящие на сундуках с главным своим богатством.
Порожние амфоры решили укрепить на корме — пусть увеличивают ее плавучесть: на корме начинает застаиваться морская вода, как в незабвенные времена "Ра-1".
…А нос нашего корабля продолжал между тем оседать. Тур был настроен оптимистически: строители лодки обещали, что "Ра-2" будет плавать не меньше полугода. Однако индейцы не имели представления ни об океанских волнах, ни о количестве груза. Не так ли, Тур? Он упрямо пожимал плечами. Спокоен прямо зависть берет!
Решили, что с носом надо что-то предпринимать, и собрались прежде всего убрать с носовой палубы всё лишнее — деревянный настил, клетку (в ней раньше жили куры), которая служила нам столом, и так далее…
День был хороший, прошли 57 миль. Светило солнышко, но вдруг стало пасмурно, и Тур, стоявший на вахте, сказал, что, кажется, будет шторм. Мы принялись убирать с палубы лишнее, увязывать багажник на крыше. Потом объединенными усилиями подтащили парус к мачте. Эта дополнительная страховка была предпринята на случай, если придется его убирать: Тур опасался, что намокший парус рухнет всей тяжестью на наш соломенный нос и поломает его.
Готовились капитально. Но шторм разменялся на мелочь: небольшой дождик, часа через два — опять дождик, и всё. Нельзя сказать, что это нас огорчило и разочаровало.
Отправляясь во второе плавание, мы учли ошибки первого и прежде всего позаботились о надежности весел. Теперь это были огромные бревна из отборной мачтовой сосны, очень твердой и прочной, а вилки были из железного дерева, которое еще тверже и прочнее. Казалось бы, теперь мы были уже не лыком шиты, предусмотрели все, что нужно. И все же просчитались в мелочи — в рогатине-вилке. Железное дерево понемножку перетирало сосну, уключина ела весло. И съела.
После обеда я залез на капитанский мостик и часок-другой подежурил. Затем меня сменил Тур, а я отправился на камбуз мыть посуду. Навстречу встревоженно спешил Карло: он почему-то срочно решил перебраться со спиннингом с носа на корму. Как потом выяснилось, Карло случайно глянул с носа вниз и оторопел: "Ра" балансировал на гребне волны высотой с шестиэтажный дом и вот-вот должен был ринуться в пропасть.
Такие волны иногда приходили, они были нам не опасны, но наблюдать их не доставляло удовольствия.
У меня тоже, когда их видел, появлялось острое желание удрать куда-нибудь подальше. А корабль тем временем спокойно полз и полз вверх по склону, а потом вниз по склону, и ничего ужасного не приключалось.
Мы с Карло разошлись на узкой дощечке, я продолжал путь к камбузу, и тут позади раздался резкий треск, выстрел, грозовой разряд, — звук, увы, знакомый с прошлого года. Огромная лопасть левого весла всплыла за кормой, болтаясь на ослабших веревках. Настал-таки этот час…
Тур метался на мостике и кричал: "Все наверх!" Я бросился к другому веслу, правому, целому, сорвал с рукояти стопор, навалился на нее, пытаясь двинуть до отказа, чтобы предотвратить неминуемый разворот… Весло не двигалось.
Правое весло было закреплено намертво, ибо в нем до сих пор не было нужды, это левое — постоянно в ходу. Только не нужно думать, что им гребли. Грести такой махиной и физически невозможно, а главное, не требовалось. Нас двигали ветер и течения, а веслом мы правили — поворачивали его вокруг оси. Фактически это было не весло, а руль, гигантский, с прямоугольным пером и саблевидным румпелем.
Руль был опущен в воду наклонно и покоился средней своей частью на массивной балке, положенной поперек палубы между мостиком и кормой. Мы тогда еще не знали, что если бы весло было закреплено внизу, на уровне палубы, более тонким линем, чем наверху, на мостике, поломки могло бы и не быть, — волна порвала бы только нижний линь. Весло тогда лишь отнесло бы в сторону, и нам оставалось бы только закрепить его внизу снова. Опыта приходилось набираться по ходу плавания. Потом мы поняли, что крепления весел должны быть разной толщины — внизу более тонкие и с меньшим количеством витков.
Итак, левое весло сломалось. Вторым мало что можно было сделать: полная парусность, огромные волны и подвижности у веретена почти никакой. Через несколько минут нас развернуло, и мы стали к ветру правым бортом. Корма тут же была залита.
С огромным трудом мы извлекли лопасть с остатком веретена и поместили все на корме. Потом надлежало заняться парусом: его необходимо было убрать, ибо рей бился о мачту так, что вот-вот должно было что-нибудь сломаться: либо мачта, либо рей. А убрать парус на таком ветру — задача нелегкая. После недолгих споров решили убирать его постепенно…
Тур хотел тут же заняться веслом, однако Норман сказал, что люди устали и надо поесть. Жорж пошел на камбуз готовить пищу, а мы разбрелись кто куда, измотанные и тревожные.
Утром встали рано. Быстро позавтракали и уселись у входа в хижину, чтобы обсудить возможные варианты ремонта весла. Их могло быть несколько, и надо выбрать лучший, дабы не ошибиться. Минуло не меньше трех часов, покуда после споров и прикидок прояснилась программа: решили соединить лопасть весла и верхний обломок. Длина весла должна была при этом значительно уменьшиться.
Стесали торец веретена, чтобы оно легло на лопасть плашмя, долго крепили одно к другому. В общем, провозились весь день, и только к вечеру весло было готово к спуску. Как его опускали, даже не запомнил. К чему подробности? Тяжко пришлось… Сумерки густели, когда мы опустили весло в воду и, окончательно выбившиеся из сил, побрели на нос ужинать…
За сутки прошли всего 47 миль. Наверное, это был результат плохой управляемости: шли зигзагами.
Перед сном долго-долго толковали о том, что сделать, чтобы волны не захлестывали нас так фатально. Наметили целый перечень работ: перегрузка пустых амфор, перестановка брезентовых стенок. Но ни один пункт этого перечня назавтра не был выполнен: все светлое время ушло на парус.
Мы долго копошились, прежде чем убрали рифы и поставили парус, так как опять пришлось развязывать, привязывать, менять массу веревочек, веревок и веревищ. Напрягались, тянули парус вверх — он взвивался, как летучий змей: слишком ослабили шкоты. Переделывали и снова — тянем-потянем. Наконец парус оказался на месте. И тут же он задал нам работу на добрый остаток дня. Корабль отвык идти по курсу, сбивался то на зюйд, то на норд. Парус хлопал и полоскал, без конца регулировали то шкоты, то брасы… И никакого проку.
Тур уговорил Нормана подать парус немного вперед, то есть превратить его как бы в спинакер. Для этого нужно было парус чуть приспустить. И вот он двинулся вперед, надуваясь пузырем, увлекая за собой рей. Курс выровнялся — и новая забота: теперь нижняя шкаторина паруса терлась о нос "Ра", угрожая его разрушить.
Здесь Тур поступил как Александр Македонский. Вместо того чтобы распутывать гордиев узел, он его разрубил. Вернее, распилил.
— Ножовку мне! — воскликнул Тур и вместе с Карло моментально отнял у "Ра" кусок его великолепного носа. Парус тут же провис, корабль пошел удивительно спокойно и прямо. Тур углубился в раздумья, как использовать отпиленное: не выбрасывать же, это же папирус, дополнительная плавучесть! Норман пристроил "плавучесть" на корме — туда сколько поплавков ни клади, никогда много не будет…
Настало утро, вернулись будничные заботы. Парус постановили не трогать, пусть остаются рифы, пока не приведем в порядок весла.
Снабдили левое, укороченное, палкой и веревкой, веревку пропустили через блок. Соорудили, таким образом, систему дистанционного управления: ногой натягиваешь веревку, рукой тянешь палку. Вахтенный был похож отныне на дергунчика, на марионетку-плясуна. Правое весло по-прежнему ходило туго: где-то его заедало, затирало. Карло предложил устроить ему назавтра профилактический осмотр.
Возился с брезентовыми стенками, они значительно пострадали и на корме, и на носу. С кормой плоховато. Волны разгуливали под мостиком.
К вечеру ветер настолько разошелся, что даже с зарифленным парусом управляться стало трудно — нас волокло то к северу, то к югу. Это вынудило организовать двойную вахту: вдвоем по два часа. К рассвету, правда, ветер поутих, но волны остались. Огромные, они словно наверстывали все, что упустили за предыдущие дни.
Тур, Норман, Карло и Жорж долго мучились с правым веслом, стараясь вытянуть его, но ничего не получалось. Позвали меня и Сантьяго на помощь. Вшестером тоже сил не хватало. Надумали использовать тали — дело пошло. Приподняли весло сантиметров на сорок — и поняли, насколько мы удачливы. В веретене весла была глубокая выемка, борозда, рана с рваными краями. Просто удивительно, как оно держалось до сих пор, как не переломилось одновременно с левым!
Приподнятое из рогатки-уключины, весло отлично вертелось. Только саблевидная рукоять вздернулась, пришлось ее перевернуть вверх кривизной, иначе рука не доставала. Так нам теперь и предстояло плыть — один руль укороченный, зато другой удлиненный.
Верный своему пристрастию, я опять вернулся к ремонту брезентовой стенки. Волны бесились, накрывали с головой, и я чувствовал, как страховочный линь натягивается в струну, — это вода, уходя с кормы, пыталась захватить меня с собой.
Заплатку, которую прежде я ставил за пятнадцать минут, привязывал более полутора часов. Глаза щипало, в горле пересохло, появилась изжога от морской воды. Ничего, брезент — вещь полезная. Теперь-то все его оценили, а раньше, бывало, посмеивались: тряпочка против океана! Тряпочка, а выручает.
Ветер вновь усилился к вечеру, опять в одиночку было не справиться с веслом, и парус начинал полоскать. Хотели продолжить двойную вахту, но Жорж предложил:
— Буду спать на крыше, если что — будите.
Он залез в мешок, укрылся одеялом и свернулся калачиком, а я присвоил его матрац в хижине и блаженствовал. Никогда я так крепко не спал, как в ту ночь. Много ли надо матросу "Ра"? Отоспаться, побриться, умыться, надеть свежее белье…
Мы миновали сороковой меридиан. По этому поводу Жорж морочил нам головы три часа, готовя несусветное блюдо, как выяснилось, черные сухари, поджаренные с сыром, и овсянку с изюмом. Тур добавил к ним баночку черной икры. Праздник был не очень веселым. Все устали и еще не разрядились после недавних событий.
Событий хватало и дальше, в основном неприятных. Жорж пошел на корму помыться после вахты, и вдруг волна закинула туда физалию. Она шлепнулась Жоржу на ногу. Я не мог спросонья понять, почему вопли, а поняв, бросился искать бутылку с нашатырным спиртом, намочил в нем вату и прекратил страдания Жоржа.
Ветер непрестанно менялся, парус капризничал, не давал и поесть как следует. Выбирали шкоты, жуя на ходу. Норман связался с Барбадосом, в эфире возник голос радиста яхты "Ринг Андерсен". И выяснилось то, чего втайне мы опасались: яхта была еще в порту!
Мы тут считали дни до ее прихода, боялись перелить лишнюю каплю в чью-нибудь фляжку, а она в порту! Капитан, видите ли, не хотел рисковать, удаляться от берега, ждал, когда мы подойдем поближе: "Через недельку, Бог даст, отчалим. Куда торопиться?"
Тур вызвал к радиотелефону Ивон. Он ни словом не обмолвился о нехватке воды, о поломке весла. Он надеялся на ее сообразительность: эфир кишел посторонними слушателями, ни к чему было давать пищу сплетням: "Слыхали? А на "Ра"-то, на "Ра"…"
— Неделя — хорошо, — говорил Тур. — А пять дней — лучше. Ты поняла? Еще лучше!
В тоне его звучало: "Отплывайте немедленно, какого дьявола! Дорог каждый день!" Осознают ли на "Ринг Андерсен", что им действительно нужно поторопиться?
Следующий день — тридцать девятый день плавания — сплошь состоял из радиоконтактов. Ровно в 9.00 Норман вышел в эфир, Барбадос тотчас ответил. Ивон, умница, поняла, что требовалось, и проявила максимум энергии.
Каковы же были новости?
"Ринг Андерсен" — судно тихоходное и мало пригодное для открытого океана (так, по крайней мере, считал капитан). Капитан не хочет удаляться от берега более чем на 300–400 миль, поэтому он склонен подождать, пока мы приблизимся к Барбадосу, и тогда выйти навстречу.
Появилась, однако, счастливая оказия. На Барбадосе тогда находилось научно-исследовательское судно ООН "Каламар": оно изучало фауну океана и могло выйти к нам через день, а еще через четыре дня быть возле нас. Но для этого рейса "Каламару" нужен был резон. Нас просили ответить на ряд вопросов, касающихся рыб, которые вокруг нас плавают, и птиц, которые вокруг нас летают. Если ответы удовлетворят, то судно выйдет.
Договорились, что для размышлений нам нужен час. Весь этот час команда "Ра" словно решала зоологический кроссворд.
— Кит! — кричал Жорж с мостика.
— Макрель, — отзывался Сантьяго.
— Не макрель, а корифена!
— А эти, с плавниками, летучие, — как их по-латыни обзывают?
Мы вспомнили нашего Нельсона, каменного групера, не забыли вредной физалии, перечислили всех акул и китов, встреченных или виденных нами хотя бы издалека. Даже голубь Юби, явно нетипичный обитатель океана, попал в список. Нам так важно было показать, какое здесь для биологов раздолье, так хотелось, чтобы они не заартачились, чтобы "Каламар" пришел!
Ровно через час Норман запустил движок. Приняв информацию, Барбадос медлил. Похоже, там сомневались: им требовалась отсрочка, они попросили возобновить связь в семнадцать часов.
Задолго до семнадцати мы уселись у входа в хижину в нетерпеливом ожидании. Тур надел наушники, взял микрофон и начал обстоятельную беседу с Ивон по-норвежски. Мы, естественно, ни бельмеса не понимали и ерзали на скамейке, пытаясь угадать хоть что-нибудь по выражению Турова лица. Но он сохранял крайнюю серьезность, смотрел прямо перед собой, будто нас и не было. Наконец как бы случайно заметил нас — и заулыбался. Мы поняли, что все в порядке: "Каламар" выйдет послезавтра пополудни.
И "Ринг Андерсен" тоже вдруг расшевелился и решил выходить не через неделю, а через пять дней. На нем будут Ивон с дочками, на "Каламаре" киногруппа и репортеры.
Атмосфера на "Ра" резко изменилась. Куда девались усталость и нервозность? Послышались шутки, раздались веселые голоса. Мы засыпали Тура вопросами насчет размеров судов, их экипажей и так далее. В нашем календаре появилась новая точка отсчета: за день до выхода "Каламара", в день выхода "Каламара", в первый день пути "Каламара". Какое приятное имя — "Каламар" (оно значит, между прочим, по-испански "каракатица")!
Тур снова разговаривал с Барбадосом, с Ивон. Со смехом сообщил нам, что Ивон предлагает привезти телеграфный столб, чтобы заменить им сломанное весло. Тур долго не мог понять, что она хочет притащить, покуда Ивон не передала по буквам: с-т-о-л-б.
Кстати, оказывается, "столб" и по-русски, и по-норвежски значит одно и то же.
Обрезанный нос нашего корабля все-таки был слишком высок. Парус терся о папирус и по кромке разлохматился. Жорж и Карло отпилили еще метр с лишним. Теперь у нас вообще не было носа — торчал безобразно толстый и тупой пень.
Погода была сносная, но переменчивая, иногда накрапывал дождь, несильный и недолгий. Ночная вахта — вновь полуторачасовая. Управлять легко, океан лениво плещет о борта. Небо чистое, удивительно звездное, луна еще не появлялась, и поэтому звезды были особенно сочны. Я засветил "летучую мышь" и уселся на камбузе за дневник, но расслабился и задумался, глядя в небо.
В такие моменты было особенно приятно сидеть развалившись, вытянув ноги, и думать — ни о чем конкретно, просто просеивать всякое разное сквозь дремлющий мозг. И вдруг вспомнить удивленно, что помимо этого твоего мира, сжатого со всех, сторон океаном, есть еще и другой, огромный. Там живут твои друзья и враги, все мы — дети того мира, менее натурального, более сложного. И не можешь ты жить без него, тоскуешь — тянет…
Утро встретило нас отличным солнцем, теплым ветерком и спокойным океаном. Ветер дул с востока. И мы шли бейдевинд, не испытывая никаких хлопот с управлением. Но чего-то мне с утра не хватало, никак не мог сообразить чего. И внезапно осенило: голубь. Исчез голубь. Мы искали его по всему кораблю, но тщетно. Как, когда и зачем он покинул нас? Куда увлек его непонятный инстинкт? Смог ли он преодолеть девять сотен миль и добраться до суши? Это навсегда осталось тайной.
Не знаю, как для кого, а для меня исчезновение Юби означало, что путешествие вступало в финальную фазу…
Норман и Тур разговаривали с "Каламаром": речь шла о вероятном месте нашего рандеву, о координатах. Им оставалось до места встречи около ста пятидесяти миль, нам — около пятидесяти. Что-то вроде школьной задачки о двух поездах, экспрессе и почтовом: когда они встретятся? Задачка простая, но мы решили ее не сразу.
Назавтра Норман три часа торчал на верхушке мачты, пускал ракеты и жег аммоналовые шашки. "Каламар" делал то же самое, но никто никого не видел, хотя связь была постоянная. "Каламар" потерялся. И с координатами творилось нечто странное. Выяснилось, что за сутки пройдено всего двадцать три мили. Совершенно непостижимо, но истинно: мы попали в зону какого-то ненормального течения, и оно волокло нас против ветра.
К вечеру расчеты вдруг показали, что "Ра" и "Каламар" находятся в одной и той же точке. Безусловно, штурманские погрешности неизбежны, однако плюс-минус две мили не играют роли; это в пределах прямой видимости. Но мы все глаза проглядели, дежурили на крыше хижины, на мачте, а "Каламара" не было.
У них барахлил радиопеленг. Но мы все-таки попробовали дать им возможность нас запеленговать. Извлекли свою маленькую вспомогательную рацию и долго крутили ручку: "Ну, как?" — "Засекли, скоро догоним". Через час опять принялись крутить шарманку, пока не услышали в наушниках: "Хватит, ребята, мы вас видим".
Теперь и мы видели их. Они шли за нами с востока. Сказать, что мы обрадовались, — значит ничего не сказать.
Был спущен на воду "Зодиак", поставлен мотор, и Тур отправился на "Каламар" с официальным визитом, а заодно и для хозяйственных заготовок. Вскоре Жорж принялся сновать на "Зодиаке", как челнок, доставляя на "Ра" овощи и фрукты. Воду мы все-таки решили не брать. Зато Жорж привез изрядную груду мороженого, и оно исчезло мгновенно.
Кей вежливо склонился ко мне:
— Юрий, прошу прощения, на корме справа совсем развалился брезент.
Я взглянул на него удивленно: какой еще брезент? В эти минуты совсем забылось, что поход "Ра-2" продолжается и океану нет дела до наших свиданий. А брезентовую стенку действительно надо менять, теперь же, не откладывая. Только где взять материал для заплаты? Придется раздеть хижину, обкорнать ее покрытие — другого выхода нет.
Тур задерживался. В очередной раз подшвартовался "Зодиак", а он опять не приехал: что-то в гостях засиделся. Норман нервничал. Однако Тур разрешил ставить брезент, не дожидаясь съемок, к моему и Норманову удовольствию.
Съемки состоялись позднее, после ленча. Карло, Тур и Норман пилили ахтерштевень, делая его столь же коротким и безобразным, как и нос. Отпиленные куски папируса перетаскивали на крышу хижины и расстилали, как стелют сено для просушки, с тем чтобы потом уложить их на корме. В занятии этом не было ничего внепланового. Но сегодня, в окружении зрителей, под жужжание кинокамер, наш будничный труд выглядел немного театрально и "Ра" казался чуть-чуть декорацией, а океан — гигантским рир-экраном.
Подумалось тогда: вот и последние съемки. А давно ли были первые? Не вчера ли? Обед с вином, финиками и арбузом; Карло достал камеру, протер ее. Тур, увидев приготовления, сказал: "Минуту!" — и сменил свою металлическую ложку на сувенирную, русскую, деревянную… Не вчера ли начиналось путешествие на "Ра"?.. Вечность промелькнула мгновением.
"Каламар" выполнил программу, погудел и исчез, мачты скрылись за горизонтом, и на воде не осталось следов. Спасибо ему, но очень он нас растревожил.
Первое, что я заметил следующим утром, была снесенная напрочь брезентовая стенка на корме справа. Позвал Карло. Он посмотрел, покачал головой и сказал, что сомневается, можно ли ее восстановить. За последние дни корма здорово осела и волны хлестали через борт двумя водопадами. Какой брезент выдержит? Лучше будет, если снимем остатки стенки и окружим ими мостик. Отступим, так сказать, за внутренний пояс баррикад, отдав врагу предмостные укрепления.
Так и поступили…
Затем меняли стенку на носу. Сняли старую, прохудившуюся, и поставили свежий брезент, подаренный "Каламаром". Вернулись на корму — она продолжала оседать и крениться. Уже и мостик ощутимо клонился вправо. Возник разговор о надувной лодке. Она подвешена к хижине и бездельничает, а из нее можно бы соорудить на корме дополнительную стенку от волн…
Всё! Пора было прекращать путешествие. Хватит! Цель в принципе достигнута, задача выполнена. С того мига, как вдали показался "Каламар", психологически мы уже как бы приплыли. Тем труднее было дотягивать последние дни.
Был очередной радиоконтакт, и Ивон "обрадовала": "Ринг Андерсен" сломался, есть другое судно, которое предлагает свои услуги за тысячу долларов в сутки. Это неприемлемо, и она попробует предпринять еще что-нибудь: "Мальчики, не горюйте — до послезавтра!"
До послезавтра мы успели уложить поперек кормы "Зодиак", разминуться с норвежским танкером "Титусом" — и распрощаться с хорошей погодой. Небо обложили зловещие черные тучи, стал накрапывать дождь, дождь сменился ливнем, ливень — опять дождем. Все стало мокрым, скользким и холодным, постель и белье пропитались влагой. Ветер то налетал шквалами, то исчезал совершенно, и мокрый парус переваливался с боку на бок в такт крену корабля.
Под стать погоде было и наше настроение. Сидели в хижине, опустив брезентовый полог. Душно, влажно и тоскливо…
Ивон появилась в эфире с прекрасными новостями: правительство Барбадоса распорядилось выслать небольшое судно. Оно отбуксирует нас к острову в случае нужды. Проблема в том, что мы значительно уклонились к северу, нас может пронести мимо. Нужно постараться спуститься южнее Барбадоса, взять упреждение, как при стрельбе по движущейся цели. Удастся ли выполнить этот маневр? По словам Ивон, моряки единодушно утверждают, что, находясь в нашей позиции, попасть на остров невозможно.
Норман взялся за лоцию: есть, кроме Барбадоса, и другие острова. Но попытка не пытка — круто поменяли курс…
Шли наперерез волнам. Заливало нас теперь уже слева, со стороны двери в хижину, радости в этом — никакой. Дождь добро бы лил не переставая, так нет — то кончится, то начнется. А когда приходит дождь, обязательно меняется ветер, тут только смотри.
За парус боялись жутко, всякий раз, как заполаскивал, жмурились даже: вдруг не выдержит. Он уже два месяца был в работе, а запасного нет извели на брезентовые стенки. А стенка на носу вновь нуждалась в ремонте, и на корме тоже, но было неохота — лень, апатия, доберемся как-нибудь.
Барбадосское судно вышло, оно было уже не так и далеко: сигналы в наушниках Нормана были все слышнее. Рацию привязали к мачте, Норман, промокший, крутил рукоятки, переключал тумблеры: "Наши координаты такие-то, сообщите ваши". Оттуда отвечали: "Ладно, примерно через час будьте на связи, позовем".
Огромное самообладание было у нашего Нормана. Я бы не выдержал, взвился бы: то они нас слышат, то они нас не слышат. Координаты толком сказать не могут, придут, не придут. Ничего не ясно, а у нас каждую минуту готов лопнуть парус. А лопнет — крах, конец экспедиции, идти больше не на чем, и тогда все наши двухмесячные старания к чертям.
В три часа пополуночи они вовсе пропали. Не вызывали и не отвечали. А погода, как назло, стала совсем плохая, брезентовые стенки разрушались в прах, волны шли со всех сторон. Здесь, видимо, сходились Южное Экваториальное и Северное Экваториальное течения, мы были в самом завихрении, в сердцевине. Единственное средство было — бросать плавучий якорь: он дает парусу передышку, — но зато нас сразу же начинало сносить на север.
Этого еще не хватало — волны принялись атаковать нас и спереди. Они били в переднюю стенку хижины, как раз туда, где я спал. Утешался тем, что все же я под крышей, — на "Ра-1" к этому времени дела обстояли иначе…
Днем торчали на мачте, ночью жгли сигнальные огни — никого, ничего. А между тем они были где-то уже совсем рядом, может быть, уже в радиусе игрушечной "воки-токи".
Тур достал "воки-токи" и сразу услышал близкий голос Ивон. Связь возобновилась. Но встреча никак не получалась: на судне опять, как и на "Каламаре", не работал пеленгатор. Мы шли бок о бок, возможно, уже параллельными курсами, и не могли друг друга отыскать.
Нашла нас Ивон. Она попросила Тура быть на связи и что-нибудь говорить, а сама принялась водить туда-сюда антенной. И "воки-токи" выручила: нас приблизительно запеленговали. Ивон показала рукой: "Они, видимо, в этом направлении". Судно повернуло и вышло прямо на нас.
Это случилось на пятьдесят пятый день нашего пути, 10 июля 1970 года, в девятнадцать ноль-ноль…
А ночью опять бросали плавучий якорь. Опять мы с Сантьяго воевали с проклятым парусом. Только вздохнешь спокойно — приходит тучка, р-раз! ветер меняется. Сильный ветер, сильный дождь, вокруг грохотало, хлопало, с курса сбились — провожал нас океан по первому разряду.
Назавтра открылось, что мы переборщили — слишком уклонились к югу и проходили мимо острова. Нужно было сворачивать на север. Мнение барбадосских радиосоветчиков опять было единодушным: уж теперь-то нам к цели никак не попасть.
…Ее увидел первым, кажется, Норман. До того как это произошло, мы заметили самолет, затем другой, третий — они кружили над нами стаей. На одном из них, как мы узнали, находился сам президент Барбадоса. Потом появились катера. Нас предлагали взять на буксир, но мы отказались: хотели подойти как можно ближе, а там поглядим. На горизонте, в дымке, маячила темная полоска…
И были крики "Земля!" на восьми языках, и махания руками, и прыгания на палубе, и объятия… И команда "К парусу!", и развязывание, распускание, растягивание бесчисленных переплетений и узлов. Был труд, привычный, тяжелый и долгий. Но мы не замечали времени, забыли про то, что спины ноют и руки болят. Наоборот, пусть будет еще труднее — мы справимся, потому что мы молодцы, черт возьми, потому что мы доплыли! Да здравствует гипотеза Тура! Слава нашему "Ра"!
Мы работали, радостные и влюбленные, осыпая друг друга комплиментами: "Я счастлив, парень, что был эти месяцы с тобой!" — "О'кей, приятель, ты великолепно справлялся!" — "Ну, дружок, навалимся в последний раз!"
Мадани хохотал, Карло распевал по-итальянски, Жорж хлопал меня по плечу ручищей, глаза Кея лучились… И Тур подозрительно покашливал, и Сантьяго умудрялся, воюя с канатами, отбивать чечетку… И гортанный голос Абдуллы тоже, клянусь, слышался в нашем неумолчном хоре…
Парус лег наконец на палубу, блестяще, по всем правилам спущенный и уложенный. И мы встали над ним, оглушенные, и поняли: "Всё!"
Всё! Кончено! Ничего не надо больше делать!
Тихо-тихо было в те минуты на "Ра"…
Только чайки кричали, да умиротворенно повизгивала на плече Жоржа обезьяна, да пустые амфоры погромыхивали, перекатываясь у мачты.
— Смотрите! Это так поддержит нашу плавучесть! — воскликнул Норман, подхватил амфору, понес ее на корму. И не донес — отбросил и рассмеялся…
…Высокие валы прибоя набегали на барбадосский берег. Восемь человек из восьми стран расположились в тени кокосовых пальм, густые кроны которых шевелил пассат. Известняковые скалы вокруг — это юго-восточный конец островов Карибского моря, неправильно названных в свое время Вест-Индией.
Теперь мы были только зрителями. Мы глядели на прибой, на белые облака, гонимые трансатлантическим воздушным течением. Всего лишь несколько дней назад мы сами были участниками этого гигантского естественного процесса.
Зачем нам это понадобилось?
Одна не в меру экспансивная дама в разговоре со мной сочувственно воскликнула: "Юра, вы так рисковали! И во имя чего? Гора родила мышь!" Вероятно, она имела в виду, что результаты нашего плаванья нельзя надеть на себя или скушать с кашей.
Что ж! Молочные реки действительно не потекли и булки не стали расти на деревьях оттого, что "Ра" пересек океан
Этнографическая задача экспедиции имела значение для немногих знатоков. Правда, и опыты на синхрофазотроне — тоже для непосвященных звук пустой, умозрительная игра в бирюльки. Тут можно было бы кстати вспомнить, что вся современная электроэнергетика возникла из якобы баловства с пустяковыми лейденскими банками А какое глобальное "электричество" может в принципе вырасти из нашего скромного вояжа? Гадать не к чему.
Наш век, оснащенный самой разнообразной и совершенной техникой, вообще располагает к экстраполированию. Пациент приходит к врачу не иначе как с целым ворохом справок об анализах. И это закономерно: чем полнее исследование, тем точнее будет диагноз…
И все же не сдана в архив трубочка стетоскопа! Все же иногда — пусть и крайне-крайне редко — настает необходимость, несмотря на обилие приборов, реактивов и инструментов, по-дедовски поднести к губам пробирку, в которой — опасный вибрион, подлежащий изучению!
Приручение плазмы, борьба с лейкемией и раком, космонавтика, наконец, — в той или иной степени это обязательно эксперименты на самом себе. Везде рано или поздно исследователь остается один на один, лицом к лицу с Неведомым.
"Ра" в этом смысле не исключение. Говорю это без ложной скромности и при этом имею в виду отнюдь не только ветер и воду, волны и штормы… Экспедиция "Ра" показала наглядно, не на теоретических выкладках, а на практике: самые грозные препятствия преодолимы, если люди солидарны в главном, если вопреки всему, что их разделяет, они верны общей разумной цели.
Ради одного этого уже стоило выходить в океан кораблику "Ра"!
Среди встречавших "Ра-2" на Барбадосе были и рыцари Мальтийского ордена, его американской ветви. Это было связано с тем, что Тур Хейердал был к тому времени их "офицером". На самолете, предоставленном в наше распоряжение, мы перелетели в Нью-Йорк. Там нас поселили в роскошной гостинице "Уолдорф-Астория", возили на автобусе фирмы "Роллс-ройс", сделанном для рыцарей по специальному заказу.
Дальше — больше. Мы поехали в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, на церемонию посвящения в почетные рыцари. Привезли нас на огромную виллу магистра Мальтийского ордена Анатоля Бухенвейделя, в прошлом русскогр барона немецкого происхождения. Видимо, это сыграло свою роль в том, что я, единственный русский в нашей команде, был встречен им почти как родной.
Церемония посвящения была торжественной и удивительной. После того как каждого из нас ударили мечом, мы стали почетными членами мальтийского братства. Затем в честь этого был устроен роскошный прием. Достаточно сказать, что столы были сервированы золотой посудой. Среди гостей было немало потомков знаменитых аристократических родов, в том числе княгини Оболенская, Юсупова…
С Юлией Владимировной Юсуповой, племянницей известного Феликса Юсупова, мы оказались за столом рядом. Я интересовал ее больше других: она буквально засыпала меня вопросами о России, из которой ее увезли совсем девочкой еще до 1917 года. По-русски она говорила хорошо, и мы вскоре нашли с ней общий язык не только в лингвистическом смысле, но и в музыкальном, и в гастрономическом. Я стал петь ей романс "Снился мне сад в подвенечном уборе", и немолодая уже княгиня чуть ли не рыдала у меня на плече от переполнявших ее чувств. И как два русских, мы, конечно же, отдали дань нашей родной водочке…
Я впервые ел на золотой посуде и признался в этом Юлии Владимировне.
— Странное чувство испытываешь при этом.
— Какое же?
— Когда берешь эти тарелочки, приборы в руки, то так и тянет что-нибудь стибрить.
— А что значит слово "стибрить"?
— Стащить.
— Ну, это в нас, русских, неистребимо, — расхохоталась княгиня. — Я тоже об этом думаю…
У нее на груди был огромный, усыпанный бриллиантами царский герб. Такой же я увидел и у княгини Оболенской и спросил Юлию Владимировну:
— А что это означает?
— Это знак принадлежности к царской фамилии…
Вечер прошел прекрасно, расстались мы почти друзьями. По возвращении в Нью-Йорк у нас были и другие встречи со знаменитыми людьми, пригласили даже в самый закрытый, элитарный "Сенчури-клаб"…
В Москву я попал не сразу — полетел в Италию, чтобы погостить у Карло…
Туристы, пожелавшие осмотреть в один из осенних дней 1970 года пирамиду Хеопса, были бы немало удивлены, взгляни они вниз, в лощину, которой начинается пустыня Сахара. А там восемь человек, одетых будто для дипломатического приема в белоснежные рубашки и строгие костюмы, восемь солидных взрослых мужчин бегали по небольшой площадке. Нагибались, рылись в песке и вскрикивали от радости, выудив очередную коротенькую желтую палочку.
Каирское солнце безжалостно палило, лбы и спины взмокли, пыль медленно поднималась вверх по брюкам, как ртутный столбик термометра. И кинооператор в нешуточном ужасе кричал: "Ребята, как я вас буду снимать?! Вы перемазались, словно черти!"
Это мы искали кусочки папируса, которые должны были остаться на месте бывшего стапеля, где несколькими месяцами раньше строился наш первый "Ра". Искали с невероятным тщанием, с непомерным азартом — ах! еще сувенир! еще! Для дома, для семьи, для друга, для знакомого, для сослуживца.
Но в сувенирах ли была суть? Просто мы неосознанно старались растянуть минуты, когда в последний раз хоть что-то делаем вместе. Хрупкие желтые палочки — казалось, пока они в твоих руках, ничто не кончилось и продолжается путь. Мы хватались за эти палочки, как за волшебные. Нам не хотелось прекращать быть экипажем, терять свою выстраданную общность. Нам не хотелось прощаться.
Словно мы боялись, что, расставшись, тут же что-то в себе утратим, чего-то нужного и уже привычного в себе лишимся, — снова превратимся в обыкновенных, в будничных, во вчерашних себя…
Мы разъехались. Стали обыкновенными. Раздарили магические кусочки папируса. А наш кораблик стал на прикол в музее "Кон-Тики" и "Ра" в Осло.
Тогда, на Барбадосе, его, полузатопленного, извлекли из атлантических вод, переправили в Норвегию. В Осло были приглашены его строители, индейцы племени аймара. Они полностью разобрали наш "Ра-2", потому что намокший папирус начал кое-где гнить. Просушили, заменили частично таким же папирусом, срезанным в Эфиопии, собрали снова. Теперь "Ра-2" — экспонат, стоит в специальной пристройке к музею. Он в прекрасном состоянии, смотрится замечательно, сохраняя свои изящные формы.
Когда я последний раз был в Осло, пришел взглянуть на нашу ладью, нашу лодочку. Забрался на нее и невольно пришла мысль: "Боже ты мой, невозможно представить, что мы на этом пересекли океан…"
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Воспоминания о плаваниях на "Ра" постепенно уходили в прошлое, хотя результаты исследований, которые мне удалось провести там, пришлось обрабатывать и анализировать довольно продолжительное время. Естественно, делал я это не один, а с уже упоминавшимся мною психологом Михаилом Новиковым. Работа получилась интересная, и я даже получил приглашение выступить на одном из международных симпозиумов в Америке — делал доклад о психологии многонациональной группы в длительном путешествии на примере экипажа "Ра". Американцы проявили большой интерес к представленным материалам, поскольку подобные исследования были сделаны тогда, по сути дела, впервые.
После возвращения из плавания на "Ра-2" я продолжал работать в институте, теперь уже в составе лаборатории Какурина. А там по-прежнему ставились эксперименты по гипокинезии, только теперь уже более сложные. В одном из них я принял участие в качестве испытателя. Возникла идея укладывать человека на длительное время не просто в горизонтальном положении, как это мы делали раньше, а поместить его так, чтобы голова находилась на несколько градусов ниже относительно всего туловища. То есть мы приподняли "ножной" конец кровати, на которой помещали испытуемого.
В результате нескольких попыток и поисков мы выбрали наиболее приемлемый угол наклона — 6 градусов. Поскольку группа врачей Минздрава продолжала тренировки по программе подготовки к космическому полету, то наш директор О.Г.Газенко как-то сказал: "А что ж наши будущие космонавты не участвуют в этом эксперименте? Пусть они на себе попробуют, что это такое". Мы согласились, тем более что длительное пребывание в положении головой вниз больше всего моделировало возможные эффекты невесомости.
И вот мы, те, кто проходил подготовку, вошли в группу испытателей, которым предстояло лежать именно в таком положении. Две другие группы испытуемых лежали так: одни — просто горизонтально, другие — в состоянии, когда голова была приподнята на 6 градусов.
Этот сложный эксперимент проводился на базе Института курортологии и физиотерапии на тогдашнем проспекте Калинина. Все три наши группы, по восемь человек в каждой, уложили в большом конференц-зале института, где только и можно было разместить двадцать четыре кровати в три ряда. Пролежали мы месяц. Режим был очень строгий и соблюдался четко. Подниматься не разрешалось вообще, можно было только поворачиваться. Кормили нас тоже в таком же положении. Что и говорить, было трудно.
Но на этом сложности эксперимента не закончились. Решили одновременно сделать упор на исследование желудочно-кишечного тракта, особенно у тех, кто лежал головой вниз. Дело в том, что во время одного из космических полетов у кого-то из космонавтов возникли проблемы с поджелудочной железой. И вот теперь решили всё проверить на нас, поэтому нам приходилось чуть ли не через день глотать зонды, чтобы врачи могли исследовать содержимое поджелудочной железы. Процедура эта, особенно в положении головой вниз, надо сказать, весьма тягостная.
Когда эксперимент был закончен и наши кровати были установлены в обычное положение, а я наконец смог лежать горизонтально, у меня было такое ощущение, что я сижу. К нормальному состоянию я возвращался постепенно, в течение месяца.
После второго плавания на "Ра" в моей жизни произошло важное событие я женился. История моей второй женитьбы долгая. Началась она в один прекрасный день 1964 года, когда я взял в руки американский журнал "Saturday Evening Post". Его принесла наш биохимик Лена Журавлева. Я работал тогда в лаборатории Бориса Егорова, где мы готовили эксперимент по отправке в космос наших собачек, и Лена вживляла зонды в артерии Угольков, Ветерков…
Лена стала показывать нам красивый американский журнал, на обложке которого и на развороте были помещены… ее портреты. Журнал переходил из рук в руки, и хотя цветные фотографии были действительно превосходными, всех удивляло не это. Никто не мог понять, почему в журнале помещены портреты нашей сотрудницы, — ведь наш институт был закрытым, режимным…
Насладившись всеобщим недоумением, Лена объяснила, что на фотографиях не она, а ее сестра-близнец, Ксана. Она переводчик и зимой исколесила полстраны с группой американских журналистов. У них было задание сделать номер, целиком посвященный женщинам Советского Союза. В объемистом журнале были помещены интервью с Анной Ахматовой, с Майей Плисецкой, с Беллой Ахмадулиной, с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой… Были там материалы и о других советских женщинах, включая капитана дальнего плавания и даже кочегара…
Мне тогда все это очень понравилось: и сам факт, что такое вообще возможно, — ведь в те годы просто так нельзя было увидеть настоящий американский журнал, и эта девушка на обложке журнала… Лена, но и не Лена. И я сказал ей:
— Вот на твоей сестре, Журавлева, я и женюсь!
Мое заявление тоже всех удивило, потому что к тому времени я уже был холостым и мне очень нравился мой образ жизни. Я тогда не допускал и мысли о новой женитьбе. Упаси Боже! Друзья даже называли меня "сексуал-демократ"…
— Очень ты ей нужен! — ответила Лена.
— Вот увидишь! Передай Ксане, что я буду ждать своего часа.
Скоро я забыл об этом случае. Прошло четыре года. Вернувшись из Антарктиды, я стал наверстывать упущенное — премьеры, ужины в Доме журналистов, в Центральном доме литераторов…
И вот неожиданно в Доме кино, на премьере фильма, кажется, это был "Мертвый сезон", я увидел Лену Журавлеву с ее сестрой. Хотя они и были идентичными близнецами, но я быстро уловил между ними разницу. В жизни Ксана понравилась мне даже больше, чем на фотографии. Мы познакомились, начался оживленный разговор. После фильма мне захотелось пойти куда-нибудь поужинать. Но Ксана должна была ехать домой. Настроение у меня сразу упало, и все-таки было предчувствие, что у нас все еще впереди…
Через год Ксана с мужем и только что родившимся сыном уехала в Италию, а мне предстояло плавание на "Ра". Я забыл и думать о своем несостоявшемся романе.
Как я уже писал, после возвращения из плавания на "Ра-1" весь наш экипаж получил приглашение посетить те страны, откуда были члены нашей экспедиции. Ожидалось, что мы прилетим и в Италию. Тогда Лена и обратилась ко мне:
— Юра, ты наверняка будешь в Риме. Ты не смог бы передать Ксане маленькую посылочку от меня?
— Конечно, передам.
Так и вышло. Когда я оказался в Риме, то позвонил Ксении и получил приглашение зайти в гости. Когда мы увиделись с Ксюшей, то я почувствовал, что в душе что-то снова затеплилось. На этот раз радость встречи была окрашена нежностью: видя Ксюшу с крохотным мальчонкой на руках, я поймал себя на мысли, что мне нравится чужой ребенок… Мальчишка напоминал мне… меня — был такой же лобастый. Он упорно лез ко мне на руки. В тот вечер я сделал много фотографий, которые потом часто рассматривал в Москве.
Следующая наша встреча состоялась через год и тоже в Риме. После окончания второго плавания я из Нью-Йорка полетел не в Москву, а в Милан, поскольку Карло Маури пригласил меня к себе. В Рим я приехал вместе с Хейердалом и его семьей. Конечно, я позвонил Ксюше и пришел к ней в гости. И застал уже совсем другую картину. Из разговора с ней я понял, что семейная жизнь у них не складывается, что она доживает в Риме последние месяцы, что мужа отозвали в Москву по делам Морфлота… Глядя на уже бегавшего около нас Колю, мне захотелось познакомить Ксюшу с Хейердалом. Что я и сделал.
Я улетел в Москву, куда вскоре должна была вернуться и Ксюша. Ее развод прошел быстро, и мы поженились. Теперь кроме дочери у меня был еще и сын.
Должен сказать, что и Лена через год вышла замуж за моего старого друга Бориса Юмашева, известного летчика-испытателя. И мы, и они несколько лет назад отметили серебряную свадьбу.
Примерно в это же время в моей жизни произошли и другие изменения. Одним из них стала моя работа на телевидении. Еще после первого плавания я начал получать приглашения выступить с рассказами об экспедиции Тура Хейердала. После второго плавания я занялся этим более активно: выступал с лекциями, показывал на своем проекторе слайды. Я уже почувствовал к этому вкус, тем более что мне нравилось рассказывать людям, делиться с ними тем, что я сам узнал, увидел. В этом было что-то от процесса обучения, и порой мне было жалко, что я не преподаю.
Надо признаться, что на мои выступления люди шли с удовольствием, поскольку тема была по тогдашним временам действительно необычная — до нас на папирусных лодках никто не пытался пересекать Атлантику, да еще в таком многонациональном составе. В некоторых городах местные лектории общества "Знание", учитывая неподдельный интерес людей, устраивали два-три моих выступления в течение дня — как бы "делали план" по заполняемости залов. Естественно, я уставал, и мне не всегда удавалось отдохнуть за остававшееся время выходного дня.
А потом так произошло, что именно эти выступления и способствовали некоторому повороту в моей жизни. Однажды мы встретились с моим бывшим соседом по дому на Бережковской набережной Владимиром Ухиным. Он был известен не только тем, что вел передачи на телевидении, но и тем, что был обладателем удивительной коллекции самых невероятных историй, случавшихся с его коллегами-дикторами: оговорок, ошибок, накладок, естественно, очень смешных. Ведь поначалу передачи шли в прямом эфире, так что материалов для Володиной коллекции было достаточно. А поскольку сам он был большим любителем юмора, шуток, то рассказывал все это так талантливо, так здорово, что слушатели просто покатывались со смеху.
Он не раз выступал с этими телевизионными байками в залах и всегда имел невероятный успех, не только рассказывая, но и показывая дикторов и гостей телевидения, оказавшихся в той или иной непредвиденной ситуации.
При встрече Володя Ухин предложил мне объединить наши усилия: "Ты ведь плавал, у тебя наверняка есть интересные фотографии, есть что и рассказать". Я не только подтвердил его слова, но и сказал, что уже давно выступаю перед различной аудиторией. Он обрадовался, и тут же мы решили, что я вместе с ним приму участие в вечере на сцене Телевизионного театра (который тогда располагался в прекрасном здании на площади Журавлева около станции метро "Электрозаводская"). Я должен был выступать в первом отделении, чтобы "разогреть" зал, а Володя Ухин — после антракта, во втором.
Когда я начал рассказывать и показывать слайды, то сразу почувствовал, что зал слушает меня с искренним интересом. В конце меня наградили такими аплодисментами, что Володя даже удивился: "Оказывается, ты интересно рассказываешь. Что же ты меня не предупредил? Как же я теперь буду "держать" зал?" Конечно, он шутил, потому что зал принял его на ура: слушатели разве что не умирали от смеха…
Потом мы с ним не раз повторяли такие выступления в разных местах Москвы.
Это было в 1973 году. В январе умер первый ведущий и создатель телепередачи "Клуб кинопутешествий" Владимир Адольфович Шнейдеров. Это был человек замечательный, один из тех, кто еще в 20-е годы стал снимать документальные фильмы с географической тематикой: сделал фильм о первой советской экспедиции на Памир, о загадочном в те годы для многих Йемене… Его художественным фильмом "Джульбарс" мы увлекались в детстве…
В.А. Шнейдеров возглавлял киностудию "Центрнаучфильм", где снималось немало интереснейших фильмов. И вот для того, чтобы их можно было показать значительно большему числу зрителей, и решили использовать возможности телевидения, создав познавательную передачу, где бы демонстрировались документальные ленты о путешествиях, о других странах. Так в начале 60-х годов и возник "Клуб кинопутешествий".
После смерти Владимира Адольфовича на роль ведущего пригласили известного ученого, профессора Андрея Георгиевича Банникова. Это был очень интеллигентный, мягкий в общении человек, который, к сожалению, нравился не всем. Особенно почему-то не нравился его нестандартный для тогдашнего телевидения (и его высокого начальства) внешний вид: Андрей Георгиевич носил бороду. Кроме того, он еще и немного заикался. Банников и сам понимал, что роль ведущего не для него.
И вот однажды Владимира Ухина встретила главный редактор Редакции кинопрограмм Центрального телевидения Жанна Петровна Фомина. В разговоре с ним она спросила:
— Володя, нет ли у тебя на примете какого-нибудь молодого парня, путешественника, который мог бы стать у нас ведущим? — Ухин назвал меня. Ах, это тот, который плавал с Хейердалом? А говорить-то он умеет?
— Конечно. Да еще как умеет. — И он рассказал ей о наших с ним совместных выступлениях.
Они договорились, что пока Володя будет молчать об этом разговоре требовалось время, чтобы меня "попробовать". Просто он как бы между прочим сказал мне:
— Знаешь, тебя приглашают выступить в передаче "Клуб кинопутешествий". Ты как к этому относишься?
— В общем-то, положительно.
— Тогда возьми с собой слайды и приходи.
Я пришел в студию, познакомился с А.Г.Банниковым. Потом, используя слайды, стал рассказывать про Хейердала, про его идею трансатлантических контактов, про наши плавания на "Ра"… Мне удалось рассказать так много, что в одну передачу мы не уложились, а решили продолжить в следующий раз. Тем более что технические возможности позволяли — передача шла в записи.
После этого меня вызвала к себе Ж.П.Фомина:
— Юра, вы нам понравились, у вас хорошо получается. Знаете, Андрей Георгиевич уходит в отпуск, его не будет месяц. Не могли бы вы в течение этого месяца вести у нас "Клуб кинопутешествий"?
Я согласился с условием, что мне подробно все объяснят, что и как надо делать. На том и расстались, договорившись, что я начну "входить в курс дела". Конечно, передачу готовило много людей: режиссеры, редакторы… Они намечали темы, исходя из имевшегося в их распоряжении киноматериала, оговаривали необходимые текстовые "подводки" к тому или иному фильму. И тем не менее волновался я страшно. В течение месяца я отсматривал материал, копался в энциклопедиях, справочниках, других книгах, делал коротенькие комментарии к тем фильмам, которые должны были показываться в передаче… За этот месяц я немного освоился, но все равно волнение перед камерой осталось и не покидает меня по сей день…
Итак, я провел свои четыре передачи. А. Г. Банников вернулся из отпуска. Я продолжал работать у себя в институте, как вдруг позвонили с телевидения и попросили приехать к Ж.П.Фоминой для какого-то разговора. Что же оказалось? После четырех моих выступлений в качестве ведущего в редакцию пошли письма, где зрители возмущенно спрашивали: почему убрали с экрана Сенкевича? Были там и другие вопросы, из которых следовало, что телезрители хотят, чтобы "Клуб кинопутешествий" вел именно я. Жанна Петровна, сообщив мне об этом, сказала: "Юрий Александрович! Мы бы хотели предложить вам быть у нас постоянным ведущим передачи".
Не могу сказать, что это предложение было для меня неожиданным — в общем-то, я был подготовлен к такому повороту дел. Да и в душе мне самому хотелось бы продолжить то, что я делал в течение месяца, — это было так интересно. И вполне объяснимое, нормальное для человека честолюбие тоже имело место.
И все же ответить сразу на предложение телередакции я не мог — мне надо было поговорить с руководством нашего института: как человек военный, я должен был соблюдать дисциплину. Пришел к директору института О.Г.Газенко и рассказал о предложении телевидения. Он, конечно, видел меня в передаче, даже похвалил, но, узнав, зачем я к нему обратился, спросил: "А как ты будешь теперь все совмещать? Работа в институте, тренировки…"
Мне действительно надо было решить эту непростую задачу — ведь для того, чтобы подготовиться к передаче, мне был необходим еще один свободный день, кроме выходных. Олег Георгиевич своей властью дал разрешение на дополнительный свободный день в неделю, попросив только написать соответствующий рапорт.
Так я начал свою работу на телевидении, которая продолжается и по сей день. Во внутренней жизни большой редакции, где готовились и другие передачи, такие, как "В мире животных", "Очевидное — невероятное", я особенно не участвовал — был только ведущим, внештатным автором. Смена руководства, появление новых редакторов, режиссеров шли своим чередом, почти не отражаясь на моем положении.
Работа и без того была сложная. Особенно трудно приходилось режиссерам, поскольку тогда не было средств электронного монтажа, которые имеются сейчас, и передачу мы записывали долго.
Постепенно я привыкал к новой работе, к своей новой роли. Мне очень много помогала советами наш замечательный диктор и телеведущая Валентина Михайловна Леонтьева. Эту очень умную, талантливую женщину, профессионала высокого класса я считаю своей крестной матерью на телевидении. А своим крестным отцом называю Владимира Ухина.
В то время сами мы ничего не снимали для своей передачи, а пользовались материалами киностудий документальных фильмов или съемками телекорреспондентов. Потом стали приглашать в "Клуб кинопутешествий" интересных людей, побывавших в других странах, в самых разных точках земли, — географов, океанологов, путешественников… Они не просто приходили в студию и рассказывали о том, что видели, но и приносили с собой фильмы, фотографии.
Без ложной скромности могу сказать, что "Клуб кинопутешествий" пользовался неизменным вниманием телезрителей. Выхода передачи в эфир ждали, у нас были многолетние постоянные поклонники. Мы знали об этом из писем, в большом количестве приходивших в редакцию. Для очень многих людей наша передача была окном в большой мир. Ведь тогда с поездками в другие страны были трудности не только финансового свойства: существовали ограничения и идеологические, и организационные, причем не всегда по вине нашей стороны.
Интерес к передаче был не только у телезрителей, но и у коллег-журналистов. Они всё чаще и с большим удовольствием приходили к нам в студию. В "Клубе кинопутешествий" они могли быть уже не политическими обозревателями, журналистами-международниками, а просто рассказчиками, живыми свидетелями того, что видели в тех странах, которые посещали или где работали.
Это были очень интересные люди, я уж не говорю об их высоком профессионализме, который, к сожалению, сейчас исчезает у тележурналистов. У нас на передаче выступал Александр Каверзнев так рано ушедший из жизни, бывали знаток Африки Сергей Кулик, великолепный арабист Фарид Сейфуль-Мулюков, много лет проработавшие в Америке Валентин Зорин, Мэлор Стуруа…
Мэлора Георгиевича я и сейчас считаю самым блистательным среди наших журналистов-международников. Я познакомился с ним еще в Нью-Йорке, когда оказался там с Туром Хейердалом. М.Г.Стуруа работал в те годы корреспондентов газеты "Известия", я читал его материалы, но лично никогда не встречал. И вот я увидел элегантного "не по-нашему" человека, поразившего меня блестящим знанием языка, эрудицией, каким-то особым, я бы сказал, европейским складом мышления.
У него была замечательная способность заканчивать свои выступления вовремя поставленной точкой, удивительно образной, запоминающейся фразой. И именно с этой его способностью у меня связан один эпизод.
Я очень любил приглашать его на передачу, и Мэлор Георгиевич не раз принимал в ней участие. Рассказывал он всегда очень интересно, и всегда это было какое-то открытие, по крайней мере, для меня. В одной из передач он рассказывал о Диснейленде и закончил ее фразой: "Здесь взрослые отводят душу, а дети обретают ее". Ну разве такое могло не врезаться в память?
И вот спустя год или два у нас в программе снова появилась тема Диснейленда. К тому времени я уже побывал там и своими глазами увидел то, о чем так увлекательно рассказывал у нас в студии М.Г.Стуруа. Я провел в Диснейленде целый день и ушел оттуда в полном восторге. И лишний раз убедился в том, как точно охарактеризовал Стуруа это сказочное место. Всплыла из памяти его удивительно емкая фраза.
Когда я на передаче предварял показ киноматериала о Диснейленде, то "выдал" в эфир блестящую характеристику этого "рая для детей", данную когда-то Мэлором Георгиевичем, поскольку она была уникальна по своему приближению к истине. Передача вышла, а через несколько дней раздался звонок:
— Юрий Александрович! Получается, что вы там у себя занимаетесь плагиатом? Наверное, подняли старые папочки, посмотрели тогдашнюю "подводку" Мэлора Георгиевича, а самого решили не приглашать… Решили, что на этот раз справитесь сами? А вместе с тем…
— Даю слово, что никакой папочки я не поднимал…
— Не может этого быть! Что-то не верится.
— Просто я запомнил вашу замечательную фразу.
— Вы не могли ее запомнить с такой точностью! Что, у вас такая память?
— Я действительно хорошо ее запомнил.
— Все равно как-то не верится!
— Сейчас докажу. Помните свое выступление у нас, когда вы рассказывали о родео, о ковбоях?
— Хорошо помню.
— А помните, что вы сказали в самом конце своего рассказа?
— Откровенно говоря, запамятовал…
— Надеюсь, вы верите, что сейчас у меня под рукой нет папочки той передачи? Ведь ваш звонок был для меня неожиданным…
— Да, конечно, папочка вряд ли у вас сейчас может быть.
— Ну так вот, тогда вы сказали следующее: "Не тот ковбой, кто лихо скачет в седле и ловко бросает лассо, а тот, кто, доя корову, не прольет на землю ни капли молока".
— Всё! Сдаюсь!! Юрочка, извини!!! Я понимаю, что у тебя не было эфирного времени, чтобы ссылаться на первую передачу о Диснейленде, объяснять, что я тогда был на ней, что сказал то или это… Поскольку ты доказал, что не вытащил фразу из папки, а сохранил в памяти, я тебя простил…
Наши отношения по-прежнему остались хорошими.
Не приходится говорить, что у нас на передаче побывали (и не один раз) Тур Хейердал, Карло Маури… Выступления моих друзей всегда проходили на ура и мне это было особенно приятно. Побывали у нас всемирно известный вулканолог Гарун Тазиев, отважный Жак Майоль, нырявший на глубину более ста метров без каких-либо специальных приспособлений, только с грузом. Участвовали в нашей передаче и Бернгард Гржимек, и Жак Ив Кусто, и другие знаменитые люди. Кусто был у нас на передаче три раза — каждый раз, когда приезжал в Москву. Только на третий раз наши отношения стали не столь формальными: он уже узнал меня поближе, приходил к нам домой. Мы с женой повели его в ресторан "Прага"…
Об этом нашем посещении тогдашней "Праги", которую я любил за милую, спокойную атмосферу, за элегантность и, конечно же, за относительную доступность (в отличие от теперешней, суперфешенебельной), стоит рассказать подробней. Меня знали здесь, поэтому встретили нас хорошо, тем более что я предупредил о том, кто мой гость.
Во время ужина мы обратили внимание на то, что за одним из столиков шумно гуляла какая-то компания молодых ребят. Они то и дело поглядывали в нашу сторону, о чем-то переговаривались, что-то обсуждали вполголоса. Наконец один из ребят поднялся и направился к нашему столу:
— Дядя Юра, вот я… хотел бы… с нашего стола… — Парень был настроен дружелюбно, но немного стеснялся. Я не проявил особого энтузиазма к его предложению. Тогда он стал меня уговаривать. — Ну, может, вашему гостю можно подарить…
— Между прочим, ты знаешь, кто это? Это знаменитый человек.
— Да ну! А кто же он?
— Сам Кусто!
Видимо, для него это имя значило не столько, сколько для меня. Он что-то слышал, но не больше. Собственно, он и не обязан был знать моего гостя, поскольку был совсем молодым, работал таксистом, пришел в ресторан с друзьями отметить какое-то событие, и тут — знакомое по телеэкрану лицо… А Кусто он никогда не видел.
Чтобы сделать гостю приятное, я немного слукавил:
— Жак, видишь, тебя узнали даже московские таксисты. Принесли в подарок бутылку шампанского…
Кусто был счастлив! Тут же попросил официанта открыть бутылку. Мы выпили. Настроение было прекрасное и располагало к откровениям. И тогда Кусто рассказал, как он впервые побывал у нас в стране, в Москве. Оказывается, это было еще в 1935 году. В то время он служил морским летчиком военно-воздушных сил Франции во Вьетнаме. Получив отпуск, Кусто решил через Китай поехать в Россию. Он пересек нашу страну от Дальнего Востока до Москвы по Транссибирской магистрали. Путешествие было для него очень приятное, поскольку ехал он в роскошном вагоне международного класса. Поезд шел десять суток, и Кусто смог увидеть очень многое даже из окна вагона.
За время путешествия он выучил несколько русских фраз, познакомился с каким-то русским врачом из соседнего купе. И вот когда они стали подъезжать к Москве, этот врач предложил молодому французскому летчику сделку — обменять его франки на русские рубли, причем по такому выгодному курсу, какой не смог бы предложить ни один банк. Так что выходит, фарцовщики были и в те довольно строгие времена.
Кусто согласился и в один момент оказался весьма платежеспособным. В Москве он остановился в гостинице "Метрополь", где тогда обычно и селили иностранцев. Возможно, из-за наличия русских денег Кусто и поселили не как иностранца с валютой, а как обычного постояльца, выделив ему какой-то весьма средний номер. Не приставили к нему и гида-переводчика.
Вечером он вышел прогуляться по Москве, пошел по ее улицам, оказался на Бульварном кольце. И здесь, на бульварах, зайдя в какое-то кафе, он познакомился с двумя очаровательными девушками, которые говорили по-французски. Одна из них ему так понравилась, что он с удовольствием принял ее приглашение пойти к ней в гости.
В общем, он прогостил у нее пять дней. Как рассказывал нам Кусто, "это была очень странная квартира, где жило много народа и где была одна ванная комната и один туалет на всех". То есть француз попал в обычную коммунальную квартиру. Но несмотря на прелести нашего тогдашнего быта, он не спешил возвращаться в гостиницу.
А там уже стали искать пропавшего постояльца. Потом, когда Кусто все же соизволил появиться в "Метрополе", все разъяснилось: ему сразу поменяли номер на более удобный, приставили гида, создали другие удобства вроде машины… О девушке-москвичке теперь пришлось забыть. А потом Кусто поехал в Киев, в Закавказье и через Турцию вернулся во Францию…
Когда мы выслушали его рассказ, я спросил своего гостя:
— Жак, тебе, наверное, интересно было бы увидеть ее сейчас?
— Что ты! Она же теперь наверняка такая старая!
Самому Кусто в это время было лет 75…
А компания за соседним столом продолжала гулять весело и шумно. Там появились уже какие-то девушки и — опять приятная случайность — одна из них говорила по-французски. Кусто пошел к их столу, и не успел я оглянуться, как вижу — наш гость уже сидит в обнимку с ней. Дело явно шло к поцелуям, а там, кто знает, еще до чего дойдет… Пришлось сказать:
— Жак, ты меня извини, но тут у нас это не принято… — Тогда еще не наступили сегодняшние свободные времена, нравы "блюли", "перестройка" и демократия еще только намечались.
— А что я могу сделать с собой? — Жизнелюбивый француз и в свои 75 был на высоте…
Эта дружба народов кончилась тем, что ребята принесли на наш стол бутылку "Камю". Я заставил Кусто взять коньяк с собой в качестве подарка от московских таксистов.
Продолжая вести на телевидении "Клуб кинопутешествии", я работал в своем институте, тренировался в нашей группе врачей. Но вскоре участие в подготовке к полету для меня закончилось. Для того чтобы стать кандидатом в космонавты, нужно было пройти мандатную комиссию Министерства общего машиностроения, так называемую "момовскую" комиссию. Человек, прошедший ее, уже получал официальный статус — назначался космонавтом-исследователем. И сразу получал определенные льготы — оклад его повышался чуть ли не вдвое, выслуга шла год за два и тому подобное…
Нашу минздравовскую группу врачей через эту комиссию не пропускали очень долго. Но вот однажды, когда я приехал в наш клинический отдел и пошел обедать, то оказался за столом совсем один — никого из группы там почему-то не было. Меня это удивило, и я спросил:
— А где же остальные?
— Да они же сегодня на "момовской" комиссии. Оказывается, вызвали всех, кроме меня. Это насторожило. Вечером я позвонил одному из нашей группы, чтобы узнать, что все-таки произошло. Но ответа не получил. Позвонил другому. Наконец, после уклончивых ответов, он признался:
— Только между нами. Понимаешь, нас строго предупредили, чтобы мы тебя не информировали, что вызваны на комиссию…
— Но ты-то почему не сказал мне?
— А что мне оставалось делать?..
Действительно, мой коллега не мог сделать обратное тому, о чем ему было сказано. Такого рода шутки в те времена исключались. Мы ведь не принадлежали себе — наши судьбы решали другие. Так что по-человечески у меня к нему нет претензий. Я не знаю, как бы сам поступил тогда, окажись в той непростой ситуации.
А люди из главка, принимавшие такое решение, понимали, что если я узнаю о комиссии заранее, то смогу вмешаться в ситуацию, изменить ее ход, поэтому и скрывали все от меня до последней минуты. Хотя мне не хотелось бы вдаваться здесь в подробности той интриги, но корни ее явно находились у нас в институте. Конечно, руководство все знало, при этом относясь ко мне (внешне, по крайней мере) вполне доброжелательно…
Надо сказать, что случившееся я пережил достаточно спокойно, поскольку был занят интересным делом. Меня тот инцидент не слишком затронул. Единственное, что было неприятно, — предательство. Это пережить всегда непросто. Для себя я тогда решил — коль случилось именно так, пусть идет как идет.
Как показала дальнейшая жизнь, я поступил правильно. Один из нашей минздравовской группы врачей, только один, все же дождался своего часа, полетел в космос. Но это случилось лишь через девятнадцать лет после того, как нас зачислили в ее состав. Этим единственным из нас, тогдашних, стал врач Валерий Поляков, пролетавший в космосе почти полтора года, побив тем самым все рекорды пребывания там человека…
Чье-то скрытое противодействие по отношению к себе я почувствовал не только в рассказанной ситуации. Проявилось оно и тогда, когда я должен был вступить в партию. Именно должен. До определенного момента со мной на эту тему никогда не заводили разговора — ни тогда, когда отбирали в группу для подготовки к полету, ни когда отправляли в оба плавания, ни когда звали на телевидение… Но настал момент, когда мне поставили такое условие.
Пришло время, когда стало необходимо подумать об изменении моего статуса в институте. Я все еще оставался младшим научным сотрудником, хотя после первого плавания на "Ра" Борис Егоров начал со мной этот разговор:
— Ну что ты все младший и младший! Пора уже становиться старшим… Давай мы тебя сделаем им…
— Но ведь я еще не защитил диссертацию. А без нее как-то неудобно.
Защиту диссертации я действительно все откладывал и откладывал. А когда постоянно что-то откладываешь, то возвращаться к этому не хочется. Но обстоятельства складывались так, что думать об этом приходилось: меня стало "поджимать" получение очередного воинского звания — подполковника медицинской службы, которое полагалось лишь старшему научному сотруднику.
В лаборатории Л.И.Какурина, где я работал, такой свободной должности не было. Я уже "переходил" лишний год в звании майора, когда понял, что в моем возрасте оставаться им уже вроде бы и неудобно. Поделился своими мыслями на этот счет с моим другом Михаилом Новиковым. И он вдруг мне сказал:
— Зачем тебе ждать должности старшего научного сотрудника у себя в лаборатории? Когда еще это будет? Не проще ли стать начальником отдела, поскольку эта должность полковничья?
— Как же я получу эту должность? И какого отдела?
— Странный ты человек! Работаешь у нас столько лет и не знаешь, что в институте уже год есть вакантная должность начальника отдела научно-медицинской информации. Не могут найти человека.
— Почему?
— Потому что там такой коллектив, такая атмосфера, что никто туда не хочет соваться! Змеюшник!
— Ты сошел с ума! Что ж, я должен бросить заниматься наукой и идти туда?
— Главное — ввязаться! — мудро откомментировал мои слова Михаил Алексеевич. — Даже если ты туда пойдешь, ты же все равно рано или поздно займешься своей наукой. И потом, информатика — тоже вещь важная…
В общем, он заронил сомнение в мою душу. Но идти к руководству и предлагать себя было неудобно. И тогда Михаил Новиков взял на себя роль моего "свата". Пошел он не к директору, а к его заместителю Ю.М.Волынкину, который к тому времени, закончив службу в армии, перешел в наш институт, где возглавил научно-организационный отдел.
Михаил поговорил с Ювеналием Михайловичем и "подбросил" ему идею о моем переводе в злополучный отдел. Волынкин поначалу обрадовался наконец-то нашлась кандидатура, — но потом спросил с сомнением:
— Ты думаешь, он согласится? Там ведь такой коллектив…
— Я его уговорю, — мужественно пообещал Михаил, изображая, что хоть ему будет и трудно, но он постарается. Спектакль получался замечательный.
Через какое-то время меня вызвал уже директор института, чтобы обсудить возможность моего перехода в новый отдел.
— Но учти — на твоей науке тогда будет поставлен крест.
— Вероятно. Но только на какое-то время… Жизнь покажет…
По правилам того времени, чтобы стать начальником отдела, я должен был вступить в партию. Что мне и было заявлено в самой откровенной и решительной форме.
Предстояло подумать о двух рекомендациях. Сначала я пошел к Леониду Ивановичу Какурину, рассказал ему обо всем. Он согласился дать мне рекомендацию. Вторую дал наш сотрудник, член парткома института Черкасов.
Прошло какое-то время, и вдруг он вызвал меня и спрашивает:
— Юра, что у тебя за сложности с заместителем директора по режиму?
— Впервые слышу об этом. А в чем дело?
— Он вызвал меня к себе и заявил: "Есть мнение… Я бы вам посоветовал отозвать свою рекомендацию, данную Сенкевичу". — "Почему?" — "Есть мнение…"
— Мнение о чем? И чье это мнение? — спросил я у Черкасова.
— Вот я у тебя и хотел спросить — нет ли у тебя каких "проколов" по их части?
— Да нет. Пока никаких замечаний не было.
До этого времени нашему институту везло на заместителей директора по режиму — ими работали вполне достойные люди. А когда пришел этот, многое изменилось. Я вскоре интуитивно почувствовал, что он ко мне почему-то не расположен, но не мог понять, по какой причине. Видимо, ситуация с рекомендациями давала ему возможность показать, чтобы я не забывал, кто есть кто… С Какуриным он тоже "провел беседу".
Не знаю, как точно развивались события за моей спиной, но Черкасов рассказал, что он сам пошел к этому человеку и потребовал разъяснить, какие именно претензии ко мне есть у него.
— Сенкевич столько лет работает в закрытом учреждении, он офицер. Если он у вас вызывает какие-то подозрения, тогда почему мы его держим? Почему он офицер? Какие у него прегрешения? Вы должны назвать их мне, члену парткома!
Не получив внятного ответа на свои вопросы, Черкасов заявил:
— В таком случае у нас с вами разговора не было!
— Да, да! Разговора не было… — Мой недоброжелатель явно струсил, пошел на попятную, видимо, испугавшись, что Черкасов потребует назвать автора пресловутого "мнения"…
Поскольку этот случай по времени был очень близок к тому, что произошло с нашей группой на "момовской" комиссии, я понял, что все это взаимосвязано: кто-то за моей спиной плел интриги. Непонятно было только зачем? Кому я мог мешать?
Как бы то ни было, я стал заведовать отделом научно-медицинской информации. Быстро привел в порядок коллектив. Взял в отдел несколько толковых сотрудников. Работа стала налаживаться. Не бросил я и занятий наукой, поскольку через какое-то время в институт обратился Спорткомитет с просьбой помочь в организации первой советской экспедиции на Эверест. Директор назначил меня ответственным исполнителем этой научной темы. Но это было уже после моего возвращения из плавания на "Тигрисе"…
"ТИГРИС" ВЫХОДИТ В ОКЕАН
После плаваний на "Ра", когда была доказана возможность древних трансокеанских контактов, Хейердала стала волновать история Двуречья, древних обитателей Месопотамии. И, конечно, в его излюбленном аспекте. Среди наскальных рельефов ему первыми попадались на глаза те, на которых были изображены корабли. В клинописных надписях на глиняных табличках его прежде всего занимали строки о море.
Древние шумеры совершали дальние океанские плавания — Хейердал был убежден в этом. Оставался пустяк — отыскать прямые доказательства. Тур не сомневался, что за доказательствами дело не станет.
Датский археолог Джеффри Бибби, ведя на Бахрейне раскопки, обнаружил под слоем песка останки стариннейших городов.
— Представляете, он отодвинул истоки мировой цивилизации более чем на тысячу лет! — восторгался Тур. — Трехтысячный год до новой эры — и могучее государство, остров-ярмарка посреди Персидского залива! Из Омана туда везут медь и золото, из Африки — слоновую кость, из долины Инда — кремни и сердолик!
В клинописных документах Двуречья часто упоминался Дилмун, богатая страна за морем, с которой торговали шумеры: обменивали шерсть на металлы. Из документов следовало, что шумеры совершали свои путешествия на каких-то плетеных судах, плавали на них по Персидскому заливу, ходили не только на Бахрейн, но спускались к Аравийскому морю, заходя в какой-то Макан за медью. Джеффри Бибби подтвердил, что на территории теперешнего Омана сохранились следы древних медных рудников.
За сердоликом шумеры плавали в какую-то Мелуху. Поскольку сердолик добывался в районе Инда, Хейердал вполне мог предположить, что шумерские плетеные суда выходили в Индийский океан.
Но на каких судах месопотамские купцы могли совершать свои путешествия? Ведь теперешние местные рыбаки пользовались лодками, которые они делали из пальмовых ветвей. На этих лодках они ночью выходили ловить рыбу, а днем вытаскивали для просушки, поскольку пальмовые стебли быстро впитывали воду и не могли долго держаться на плаву.
Хейердал предположил, что, возможно, шумеры делали свои суда из местного тростника. Но это еще требовалось доказать. И он отправился в местность, где живут "болотные арабы", чтобы разгадать тайну древних шумерских судов. Жители этой современной "аравийской Венеции" делают из камыша не только свои дома, но и "землю", на которой стоят их шалаши, находится скот. Они вяжут из камыша плот, грузятся на него и пускаются в плавание по бесчисленным протокам — куда понесет, туда и ладно. Постепенно плот намокает, притапливается, его наращивают, укладывая свежие вязанки… Странствия такого островка заканчиваются, когда он застревает на мели или прибивается к берегу.
Эти-то плавающие островки и заинтересовали Хейердала. Считалось, что хотя камыш берди, из которого могли быть сплетены шумерские суда, не уступает по плавучим свойствам африканскому папирусу, но и не превосходит его. Пробы подтверждали, что берди держится на плаву без просушки всего две недели — какие уж тут суда для выхода в океан…
А плоты "болотных арабов", прежде чем ощутимо намокнуть, плавали месяцами. В чем дело?
— Август, — ответили "болотные арабы". И объяснили, что для строительства плотов годится не всякий берди, а лишь тот, что срезан в августе. В августе он, как говорится, в самой поре: достиг спелости, но еще не начал стареть. И его плавучесть в это время высока изумительно.
Так у Хейердала созрела идея — а почему бы не проверить мореходные способности этого камыша берди? Но для того чтобы построить новое судно, больших, чем "Ра", размеров, требовались немалые средства. Надо было искать богатого покровителя или заимодавца.
Еще когда Тур трудился над фильмом о "Ра" и тоже испытывал финансовые затруднения, его выручило шведское телевидение, на котором работал его близкий друг Ленард Эренборг. Тур решил снова прибегнуть к его помощи и попросил Эренборга позондировать почву, не заинтересует ли географический отдел шведского ТВ телевизионный фильм о плавании на камышовом судне.
Шведы ответили: "Интересно, поможем, но одни не потянем. Надо привлечь какую-нибудь другую телевизионную компанию, например, английскую Би-би-си".
Би-би-си тоже отнеслась к предложению Хейердала сочувственно, однако заявила, что и она вкупе со шведами не потянет. Не позвать ли на подмогу телевидение ФРГ?
Дальше — как в известной детской сказке: за фалды западногерманских телевизионщиков ухватились японские, за фалды японских — американские, так называемый Тринадцатый канал, патронируемый Американским географическим обществом. И все вместе, впятером, вытянули репку: собрали требуемые полмиллиона долларов.
Взамен Тур обязался предоставить в распоряжение кредиторов четырехчасовую телевизионную картину об экспедиции "Тигриса". Картину они выпустят в эфир там и тогда, где и когда сочтут нужным.
Таким образом, медведь еще не был добыт, а шкура его уже была продана, причем продана именно для того, чтобы организовать охоту.
В контракте, заключенном Хейердалом с телевизионными компаниями, было много пунктов и пунктиков. Каждый в отдельности был вроде бы и пустячный, но вместе они связали Тура не хуже, чем Гулливера лилипутские путы. Вся информация о плавании, текстовая, изобразительная, печатная, переданная по радио, объявлялась собственностью консорциума. Без его ведома мы не имели права публиковать ни строки. Никакой самостоятельности! Тур с первых дней подготовки плавания уже чувствовал себя должником консорциума.
Заключенный контракт сказался и на составе будущего экипажа: в нем должны были быть четыре кинооператора. Но первыми в экипаж должны были войти ветераны "Ра" — без нас Туру было бы трудно.
К этому времени ряды "стариков" поредели. Весельчака Жоржа Сориала уже не было на свете — за два года до этого, работая под водой, он попал в беду и погиб в Средиземном море.
Разошлись пути Хейердала и Сантьяго Хеновеса. Мексиканский профессор сам стал выходить в океан. С Абдуллой Джибрином связь была потеряна. По семейным обстоятельствам отклонил приглашение марокканец Мадани: у него умер брат, и нужно было заботиться об осиротевших племянниках. В последнюю минуту отказался и Кей Охара — у него серьезная болезнь глаз.
Оставались четверо из девяти… Грустно… Из нас, прежних, Тур мог теперь рассчитывать на Карло, Нормана и меня.
Из новичков Тур пригласил своего давнего друга мексиканца Германа Карраско Франко. Крупный предприниматель, миллионер, он был блестящим кинооператором и фотографом. Во время подводных съемок фильма в Арктике он сделал под водой уникальные кадры плывущего над ним белого медведя.
В помощь Карло и Герману были "приданы" оператор Питсбургского телевидения Норрис Брок и японец Тору Сузуки, тоже одаренный оператор и по совместительству владелец ресторана. Самыми молодыми членами экипажа были: 26-летний Детлеф Зойтцек из ФРГ, несмотря на возраст, известный в своей стране капитан; норвежец Ганс Питер Бём, выпускник "Атлантик-колледжа", мечтавший стать врачом; датчанин Асбьерн Дамхус, студент-физик и математик, уже имевший опыт плаваний. Еще один студент (на этот раз скульптор), 20-летний Рашад Низар Салим, был уроженцем Ирака, знатоком древней арабской культуры. В экипаже он должен был быть матросом-переводчиком.
Состав экипажа будущей лодки — четверо ветеранов и семеро новичков уточнялся, определялся, подтверждался в течение всего долгого времени, от возникновения идеи до начала ее осуществления.
Для меня же все началось в январе 1977 года, когда я получил телеграмму: "Томас Александерсон ТВ Швеции надеется встречу тобой отеле "Россия" между вторым пятым февраля обсудить мой новый план Тур Хейердал".
Шел восьмой год с финала плаваний "Ра". Тосковать по прошлому было некогда. Работал. Защитил диссертацию. Странствовал по планете: Перу, Куба, Исландия… Случалось и ездить с докладами на медицинские конгрессы. Единственное, чего не хватало, — времени: никак не мог успеть сделать все.
Нет, грех жаловаться и гневить судьбу — мир хорош. Но мир и плох, потому что телеграмму принесли 29-го. Это сколько же еще ждать до 2 февраля? Как понять "надеется встречу"? Он меня найдет или я его? В холле дежурить? Цветок в петлицу воткнуть?
Пошучивал и нервничал. Крутился возле телефона. И не вытерпел — снял трубку, заказал Италию, Колла Микери, где жил Тур. Беседа сразу приняла конспиративный характер.
— Строжайший секрет! — кричал Хейердал чуть не через всю Европу, к развлечению, вероятно, десятка телефонисток. — Конфиденциально! Большая лодка! Прежний экипаж! Ты готов?
В гостиничном номере посланец Тура был разочарован тем, что я уже что-то знаю, и рад тому, что знаю не все. Он с восторгом сообщал детали: "На сей раз не бальса! Не папирус! Камыш!" (Потом уже по срезу стебля, доставленного в нашу страну со строительства "Тигриса", специалисты определили это растение как рогоз узколистый, который в обиходе называют иногда камышом.)
К весне пошли письма от Тура. Деловые и взволнованные, с обязательной пометкой "конфиденциально". Они обрушивали на меня уйму информации, большую часть которой я воспринимал формально.
Я не стал еще тем, кого Тур видел во мне. Он находился внутри идеи, я — снаружи. И нырять медлил. Боялся сглазить. Пребывал в ожидании.
Настал, однако, день, когда меня вызвал председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Сергей Георгиевич Лапин.
— Тут у нас документ…
Документ был чудесен. Доверчиво и восторженно, всячески стремясь убедить, Хейердал объяснял, что решил испытать мореходность лодки, сооруженной из месопотамского камыша по типу древних шумерских, что без советского представительства, без меня в частности, интернациональному экипажу зарез…
— Как станем решать?
Я ответил, что предварительное согласие мной дано.
— Правильно, — кивнул Сергей Георгиевич. — Ведущему "Клуба кинопутешествий" полезно набраться новых впечатлений.
Лиха беда начало. Аналогичные письма Тура получили главный ученый секретарь Академии наук Георгий Константинович Скрябин и директор нашего института Олег Георгиевич Газенко…
Я начал стажироваться во Всесоюзном кардиологическом центре и в Московском НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского — восстанавливал форму врача под руководством Левана Стажадзе.
Практику реаниматора прошел сначала в морге. Давал наркоз при операциях. Брал консультации по пропедевтике — диагностике внутренних заболеваний. Пошел в Центральный институт стоматологии и проверил, как умею справляться с флюсами и пульпитами…
Помогали мне доктор медицинских наук В.А.Сукачев, профессора Н.К.Пермяков, Б.Г. Жилис и, конечно, мой старый друг, известный кардиолог Н.М.Мухарлямов.
Потом упаковывался. С помощью друзей, разумеется. Взял врачебную укладку, разработанную для использования в длительных космических полетах. Михаил Алексеевич Новиков, рыцарь групповой психологии, подбирал опросники и налаживал "гомеостат".
В Институте медицинской техники, у Рустама Исмаиловича Утямышева, мне опять, как перед "Ра", вручили набор хирургических инструментов из титана. Пригодятся — ладно, нет — еще лучше…
Во Всесоюзном научно-исследовательском институте консервной промышленности мне подарили образцы продукции, разработанной для полетных нужд: две суточные дозы на одиннадцать человек — совсем немножко, чтобы попробовать. Тубы с борщом, творогом, крохотные, на один укус, буханочки, чтоб не сорить крошками в невесомости, сублимированные клубника, индейка…
Тем временем на юге Ирака, в болотах, в жуткую жару — Тур вспоминал: "Пятьдесят два градуса в тени, но тени не было!" — пятнадцать арабов и европеец принялись срезать камыш.
А в Андах, на высоте четырех тысяч метров, четверо боливийцев, тех же, что когда-то строили "Ра-2", собирались в дорогу. Они не спешили: требовалось выждать, пока на Аравийский полуостров придет осень, иначе им, привыкшим к прохладному климату высокогорья, будет очень тяжело в знойном Ираке…
Камыш, срезанный в краю "болотных арабов", сплавили по Тигру и разложили на просушку. Взялись за стапель. Его постройкой руководил подоспевший к Туру Эйч-Пи (так мы потом называли 22-летнего Ганса Питера, приданного мне на "Тигрисе" в качестве помощника по медицинской части).
На "Ра" мы старались доказать, что древние мореплаватели, употребляя средства и методы, им доступные, могли, дрейфуя, пересекать Атлантический океан. Мы стремились возможно глубже влезть в их шкуру, воссоздать на борту их уровень материальной культуры, их быт. Правда, в крайность мы не впадали: держали на борту рацию, "Зодиак", "воки-токи". Но что примечательно: всего этого мы стеснялись, боялись, что нас обязательно упрекнут за нечисто поставленный эксперимент.
Теперь, как неоднократно подчеркивал Хейердал, мы ничего не хотели доказывать. Мы испытывали реконструированное древнешумерское судно и заботились лишь о том, чтобы реконструкция была точной. Форма корабля, размеры, материал, оснастка — тут мы были придиры. А в остальном себя не ограничивали.
Осенью 1977 года за тысячи километров от Москвы работа вступила в ответственную фазу. Судостроители-боливийцы прибыли и начали вместе с арабами мастерить из камыша снопы. Сноп вплетался в сноп, так что постепенно наращивалась двадцатиметровая колбаса диаметром вполобхвата.
Восемнадцать таких колбас, стянутых в вязанку, образовывали гигантскую толстенную сигару. Сигар требовалось три: две по бокам и одна в середине, потоньше. То, что понемногу возникало на помосте, лишь отдаленно смахивало на лодку. Но это уже было лодкой. И лодка звала к себе экипаж.
Уезжать легче, чем провожать. Я давал прощальные интервью, а товарищи впрягались в брошенное мной дело. Спасибо всем, кто меня страховал.
22 октября с грузом около двухсот килограммов я вылетел из Москвы и в тот же день приземлился в Багдаде. Мне повезло: в самолете я оказался рядом с нашим послом в Ираке А.А.Барковским. Анатолий Александрович, человек чрезвычайно интересный и интеллигентный, рассказал мне много полезного и поучительного об Ираке и обещал свое содействие. Как показали дальнейшие события, оно было необходимым, действенным и своевременным.
В Багдаде пришлось пробыть три дня, утрясая таможенные формальности с багажом. Бегал по канцеляриям, ставил на бумажках штампы и печати. Города фактически не видел, а то, что видел, не напоминало о тысяче и одной ночи. Ни с багдадским вором, ни со стариком Хоттабычем ассоциаций не возникало. Столица Ирака осталась для меня лишь промежуточным пунктом, станцией пересадки.
Я спешил в Эль-Курну, в маленький городок между Багдадом и Басрой, туда, где Тигр и Евфрат сливают свои воды в Шатт-эль-Араб. На туристской схеме Ирака Эль-Курна обведена рамкой с надписью, почему-то немецкой, "дас Парадиз". Но таких же рамок на схеме было еще две — на севере и на юго-западе страны. И в каждой, кроме надписи, стоял еще знак вопроса, дескать, все три парадиза — предполагаемые.
Следовательно, и библейская известность Эль-Курны — как бы с вопросительным знаком. Хотя здесь с гордостью демонстрировали гостям пресловутое древо — в его, мол, тени Адам и Ева совершили первородный грех. А курненский рестхауз — дом приезжих по-нашему — носил поэтическое название "Сады Эдема".
К "Эдемским садам" мы с Игорем Беляцким, заведующим бюро АПН в Ираке, и подъехали после утомительного дня пути В доме светились окна. Тур радушно приветствовал нас. Мы обнялись, и он тут же сообщил новости. Норман в дороге, Ганс Питер скоро вернется, Детлеф уже здесь, но неважно себя чувствует — не осмотрю ли я его? Жаль, у врача с места в карьер начиналась практика!
Детлеф лежал с пузырем льда на лбу. Он не то что неважно, он очень плохо себя чувствовал. Вчера температура была сорок градусов, сегодня тридцать девять.
Болезнь была в Азии распространенная, а европейцам не слишком знакомая — особая кишечная форма гриппа.
Я тут же приступил к интенсивному лечению. Вечер приезда в Эль-Курну кончился тем, что мы с Игорем отправились в помещение, отведенное под склад, загроможденное до предела, — едва оставалось местечко для раскладушек. Плюхнулись и отключились среди ящиков, тюков, коробок с консервами, связок блоков, мотков канатов — заснули в раю.
Сразу, как явился в Эль-Курну, я отправился с визитом в Басру, представляться советскому генеральному консулу. Первое, о чем спросил меня Яков Егорович Сусько, было, разумеется: "Не могу ли быть полезным?" И я, помня кое-какие напутствия Тура, намекнул, что неплохо бы нам иметь что-нибудь колесное, для ближних разъездов.
Встречали меня в лагере с ликованием. Я вернулся за рулем видавшего виды агрегата, с неподнимающимися стеклами и дребезжащими дверцами, но выносливого и прочного, как танк. Правда, разъезжали мы на этой машине всего день-два. Потом ее забрали назад, а взамен прислали современную, новенькую, только-только после обкатки. Так что теперь у нас была машина прекрасная "Волга", которую, кто уважительно, кто с подначкой, называли "автомобилем доктора Юрия".
Машина очень нас выручала. Возила к стапелю снаряжение, провизию, ребят в госпиталь: местные врачи любезно согласились помочь в предстартовом обследовании экипажа. Госпиталь был километрах в трех от стройплощадки.
Через некоторое время наша жизнь приятным образом изменилась. Раньше, когда мы приходили на обед, водопровод в рестхаузе, как обычно, был испорчен — никакой надежды ополоснуться. А тут вдруг к нашим услугам было десять кувшинов воды, нацеженной из-под крана буквально по капельке. По вечерам у ребят исчезали носки и рубахи, а по утрам возвращались чистыми. Карловы джинсы, уникально жестяные, оказывались заштопанными парусной иглой. Перевод лоции Персидского залива был сделан в срок и безукоризненно. Корреспонденты исправно получали надлежащую информацию…
Эти и другие чудеса имели непосредственное отношение к одной нашей с Туром беседе. Я сказал тогда:
— Скоро сюда приедет моя жена.
Тур охнул и выдавил с трудом:
— Невозможно! Куда ее поселим?!
— Как — куда поселим?! Большой же дом!
Тогда я еще не разглядел, что рестхауз — далеко не гостиница, он лишь вроде сельского клуба и постоялого двора. В нем кроме бара и ресторанного зала только три жилые комнаты — для членов экипажа, боливийцев и киногруппы из Би-би-си.
Тур не шутя обеспокоился. Он, как выяснилось, еще раньше предупреждал: с жильем скверно, приезжайте без родных. Но до меня его просьба, переданная через пятые руки, почему-то не дошла. А теперь менять что-либо было поздно.
— Когда? — хмуро поинтересовался Тур.
Я утешил его:
— Не завтра, не послезавтра, но уж через неделю наверное.
И вот Ева прилетела в рай. Я встречал ее в Багдаде. Пробыли там полтора дня и направились в Эль-Курну. Добрались к вечеру, когда все сели за ужин. Ксюша быстро перезнакомилась с нашей командой. Мы повели ее смотреть лодку, а потом все дружно отправились смотреть наше с Ксюшей жилище. У ребят из Би-би-си оказалась маленькая палатка, которую они предложили мне. Я разбил ее в саду, на стрелке, где сливаются Тигр и Евфрат…
По утрам у палатки выстраивалась череда арабов. Они хорошие люди, но ужасно любили лечиться. Тот показывал на голову, этот покашливал, третий держался за живот. Предъявляли прыщики и царапины. Глотали витаминные таблетки и удовлетворенно благодарили…
У нашей с Ксюшей палатки было людно и по вечерам. То Карло с Туром забредут, то соотечественники из Басры, работавшие по контракту, нагрянут на огонек, отведать ржаных сухарей. Однажды даже налепили пельменей.
Но вот в один из дней здесь зазвучала музыка Анд. Боливийцы играли на свирелях, прощались: назавтра они уезжали. Почти месяц жили с нами бок о бок эти симпатичные ребята из высокогорной деревни, тихие, добрые, похожие на сказочных гномов-старичков, — Хуан, Хосе, Деметрио, Паолино. Конечно, мы их уважали. Ценили их редчайшее мастерство. Создавали условия: добыли, например, пепси-колу, когда обнаружилось, что ни вина, ни пива они не пьют. Вот соломенных шляп не купили — не нашлось нигде. Так они и щеголяли в домашних вязаных шлемах с надписью "Боливия" на боку.
Мы посмеивались над тем, что они все время держались вместе, — как острил Асбьерн, "молчат кружком". А ведь им, наверное, частенько бывало среди нас одиноко. С какой готовностью, поймав обращенную к ним улыбку, они улыбались в ответ!
Они не увидели лодки на воде. Им нельзя было остаться с нами ни на день — условия контракта были выполнены.
Был сплетен, связан и стянут корпус — махина в восемнадцать метров длиной, в шесть шириной и в три высотой. В толщу камыша по средней линии, на носу и на корме были втиснуты швертовые колодцы — дощатые ножны выдвижных килей-гуар. По бортам были привязаны плечевые сигары, род фальшборта, — для крепления надстроечных опор.
Были загнуты ввысь нос и корма — и лодка стала похожа в профиль на серп луны. И на знак "плыть" со старинных рельефов.
Но о "плыть" нам думать было рано. С нас еще прежде должно было сойти семьдесят семь потов. Предстояла огромная работа по оснастке: на судне должны были появиться мачта, две хижины, капитанский мостик, рулевые весла и так далее.
Нам хотелось все, что можно, доделать, поставить и закрепить на берегу, быстро спустить лодку на воду, загрузиться и — в путь! До океана путь долгий, а вода, к тому же не очень чистая, камышу вредна. Прикинули и решили: до спуска минимально неделя.
С веслами нам опять традиционно не везло… Весла были клееные, с запасом прочности, делали их на Гамбургской верфи профессиональные мастера, но при первом же знакомстве, когда я взглянул на них в свой первый эль-курненский вечер, их форма показалась мне странной. Вернее, наоборот, слишком обыкновенной, характерной для гребных: тело постепенно утоньшалось от рукоятки к лопасти. Но нашими надо было не грести, а рулить, и им нужна была толстенная шеища, а не шейка!
Изложил свои сомнения Туру. Он признался, что его тоже кое-что смущает: лопасти малы, пожалуй. Однако подождем, что скажет Норман.
Диагноз Нормана был суровым: "В Гамбурге напортачили!" Зато прогноз обнадеживающим: "Мигом исправим". Насупился, почертил на бумажке, развил деятельность…
И вот уже немец-столяр Цилих, которого разыскали в окрестностях Эль-Курны, стал приводить рули в желаемый вид.
Но дух "Ра" витал… Столько в прошлых плаваниях намучились мы с веслами, что ни в коем случае не хотели повторений печального опыта, жаждали обезопаситься — и, обжегшись на молоке, возможно, дули на воду. То вилка сконструирована неудачно, то видно было сразу, что и круглому стержню весла в квадратной уключине будет плохо.
Вскоре мы имели в сечении не круг, а — слава столяру Цилиху! — овал, то есть в квадратном отверстии находилась сплющенная жердь. А она, естественно, под напором воды норовила лечь на плоскую свою сторону. Не руль — автопилот какой-то. Куда же с ним в океан?!
И вот срок спуска настал. В шесть утра мы были у стапеля. Уточнили, кто чем будет заниматься и за что отвечать, и разошлись по местам. Надлежало срочно доделать все, без чего судно не могло быть спущено, а также хотя бы кое-что из того, с чем на суше справляться легче, чем на воде. Иными словами, предстояло бесконечное, кропотливое связывание дерева с деревом, каната с канатом — нудный, трудоемкий и, честно сказать, осточертевший процесс.
Работа, как всегда, шла медленно, а время летело гораздо быстрее, чем обычно. Тур с тревогой поглядывал на часы. К полудню стал собираться народ. Во дворе рестхауза, тихонько переговариваясь, в вежливом ожидании сидело приезжее начальство в парадных бурнусах.
Нам бы тоже присесть, перевести дух, осмотреться. Однако нас трясла церемониальная лихорадка. Мы больше не были хозяевами ни кораблю, ни себе: площадкой завладевал зритель. Зритель прибывал, шумел, радовался и призывал начинать спектакль.
Спектакль открылся торжественным прологом. Дочь бригадира арабов разрезала ленточку, сам же он обмакнул руку в кровь жертвенной овцы и шлепнул по борту ладонью. Прозвучало имя, давно нам известное. До сих пор мы в обиходе его избегали — странным казалось обращаться с ним к неуклюжей громадине, к чудищу на помосте. Но, видно, и впрямь настал срок соломе превратиться в корабль:
— Нарекаю тебя "Тигрисом"!
Тросы напряглись. Лодка пошла. Платформа, на которой она строилась и с которой скоро должна была расстаться, на прощанье служила ей санями. Сани же вели себя так, словно под их полозьями не рельсы, обильно смазанные солидолом, а скрипучий песок. Никакой инерции корабль не накапливал. Полз, пока тащили, и останавливался, едва переставали тащить.
У самой воды, там, где по нашей просьбе разобрали часть набережной, рельсы пересекали участок свежеутрамбованной земли — гора завершалась как бы трамплином. Подходя к нему и будто почуяв финиш, судно разогналось, заскользило, выскочило на уступ, зависло, сунулось в реку — ура! И тут же застыло как вкопанное.
Свежий грунт, как его накануне ни уплотняли, ни ровняли бульдозером, не выдержал тяжести, подался, просел, рельсы выгнулись, и лодка увязла кормой. Буквально в нескольких метрах от цели! Полкорпуса уже плавало. Лучше бы не плавало, потому что теперь против нас работал закон Архимеда: выталкивая из воды нос, вдавливал корму крепче и глубже.
Не знаю, сколько бы мы еще мыкались у проклятого стога. Ночь опускалась. Хейердал терял самообладание. Но случилось так, что ехал мимо двадцатипятитонный "КрАЗ" со щебенкой, а в кабине его находились советские шоферы, Владимир Носов из Иркутска и Владимир Митюк из Москвы.
Два Володи заметили, проезжая, нашу беду, притормозили, быстро разобрались в обстановке — и предложили пихнуть.
Предложение сперва повергло нас в замешательство — боялись за судно и за них самих. Но выбирать не приходилось. Вспыхнули и уперлись в корму лучи автомобильных фар, и кинооператоры получили новый выигрышный сюжет для съемок.
Мы сложили бревна Т-образно, поперечное прижали к корме, продольное уткнули в бампер "КрАЗ" а — не сколачивали, не связывали, а держали на весу, в опасной близости к радиатору. Бревна срывались, падали, мотор выл, дождь хлестал — кошмар!
Рыча и взвывая, нависая грозной громадой, то пятясь, то надвигаясь, "КрАЗ" пихал лодку. Пихал, пихал — и спихнул, с плеском, с брызгами, кажется, даже с куском берега.
Тем и завершился спуск.
До утра лило и грохотало, палатка наша содрогалась от ветра, и Ксюша волновалась, что ее сорвет, унесет.
А наутро взошло солнце, ветер утих, лужи высохли, и в реке — огромным золотистым лебедем — наша лодка. Сплошная идиллия. Кажется, и не было "вчера".
Глаза слипаются, зевота… Хоть за полночь, но чтоб не меньше страницы. Главное — себя пересилить, чтобы выработался стереотип. Потом дело пойдет само по себе, и ежедневные записи станут потребностью. Это было очень важно, ведь дневник — не прихоть, а часть программы. Михаил Новиков специально просил: регулярно, без пропусков, иначе снизится ценность.
Был не в настроении и понаписал чепухи: "По всей видимости, мы не отплывем никогда… Продолжим понемножку приобретать различные полезные навыки. Овладеем столярным, плотницким, шорным, малярным делом, далее кузнечным, ткацким, швейным, гончарным…
Пойдут по белу свету легенды о странном племени знатоков ремесла, основавших в нижнем Двуречье слободу Хейердаловку. Об их веревочно-консервной цивилизации. О ритуальных возгласах "Йелла" и о культе Августовского Камыша.
Гиды станут объяснять экскурсантам: "Справа Тигр, слева Евфрат, посредине — ковчег, знаменитый тем, что строится чуть не с прошлого потопа и, вероятно, опоздает к следующему".
Мирно, в неустанных трудах проживем свои дни. Уход на пенсию ознаменуем подъемом мачты. Оставим на память о себе изумленным потомкам пирамиду из продуктовых жестянок, обрамленную канатными бухтами, увенчанную якорем, так и не познавшим морского грунта.
Да, кажется, корпус корабля собирается пускать корни на дно…"
А назавтра вдруг повеяло ветром странствий. Во-первых, мы наконец-то получили от соответствующих инстанций разрешение выходить в эфир. Норман обрадовался, тут же развернул рацию, на пробу послал позывные… И почти сразу — "Юрий, твои!"
Наши сигналы принял Валерий Агабеков, радиолюбитель из Ессентуков. Слышал он нас прекрасно, мы его — тоже. Он произвел какие-то хитрые манипуляции, соединился с Москвой, попросил вызвать мой домашний телефон… И начало радиоконтактов "Тигриса" ознаменовалось тем, что я поговорил с тещей!
Спустив недооснащенное судно, мы многое себе осложнили. Не говоря о технологических неудобствах, связанных с достраиванием, прибавилась масса лишних хлопот: следить за ветром, за причальными канатами, а главное включился счетчик живучести нашего корабля. Со вчерашнего вечера камыш начал расходовать, и впустую, свой плавательный ресурс.
Зато в графике можно было поставить галочку — корабль на плаву…
Было парадоксальное чувство: старт чем ближе, тем дальше. Полоса забот неудержимо расширялась. Судовым работам, в основном такелажным и плотницким, не было числа. Параллельно разбирали складские залежи, сортировали продовольствие, делили его — весьма условно и приблизительно на суточные рационы. Одновременно запасали питьевую воду: тысячу двести литров разливали по канистрам, добавляли, чтоб не испортилась, консервант. А лекарств докупить! А фонари керосином заправить! А примусам горло прочистить! А…
Но наша запарка в принципе была добрым знаком. Если за вагонными окнами двоятся, троятся и четверятся пути, значит, скоро станция. Неудобно, конечно, прибывать по всем колеям сразу. Но в том, что мы выбивались из расписания, никто не был виноват, кроме нас…
Зато вскоре нас стало не одиннадцать. Не было бы счастья, да нахальство помогло…
Среди советских специалистов, работавших в Ираке, популярность "Тигриса" неуклонно росла: почти не было дня, чтобы нас не навестили сограждане. Наведывались из Басры, из Насирии, делали иногда четыреста пятьсот верст по пустыне, лишь бы полюбопытствовать, поснимать, подобрать у стапеля кусок камыша. Эти встречи были чрезвычайно приятны, только времени было в обрез, а посетители требовали внимания.
И вот однажды явились с визитом земляки-моряки — их лесовоз стоял в порту под разгрузкой, — отличные парни. Увидеть "Тигрис" для них было событием. Толпились, просили подписать открытки. У нас же в тот день дело не ладилось: сперва, мол, пахота, автографы потом.
— Что пахать? Да мы, да сейчас! — Засучили рукава и сделали столько, что даже невозмутимый Тору изумился и по-японски сказал "о-го-го".
За ужином Тур сиял:
— Нам бы и на завтра таких помощников.
— И на послезавтра! — подхватил Асбьерн.
— На неделю! — повысил ставку Детлеф.
— На месяц! — включился в игру Эйч-Пи. Здесь же, участвуя в трапезе, сидел Виктор Николаевич Герасимов, начальник строительства по советско-иракскому контракту.
— Виктор Николаевич, у нас идея — не одолжите нам в помощь человек двух?
— А трех не хотите?
Посмеялись и забыли. Но прощаясь, Герасимов произнес загадочно:
— Если не против профсоюз.
А к вечеру следующего дня обнаружилось, что профсоюз не против и что в Эль-Курну прибыли присланные в наше распоряжение — с контрактной стройки, где каждая пара рук дорога, — мастера Георгий Балаболик, Владимир Гаинцев и Дмитрий Кайгородов.
Встретили их с великой радостью, устроили с жильем, взяли на довольствие… И от наших плотницких затруднений только пух полетел!..
Норрис прокричал с берега:
— Юрий, тебе не кажется, что на "Тигрисе" пора поднять русский флаг?
Не кажется!
Вот неполный список советских граждан, посетивших в те дни Эль-Курну и отработавших на "Тигрисе" некое количество часов.
Руководитель иракского корпункта АПН Игорь Беляцкий.
Собственный корреспондент московского телевидения в Ираке Владимир Лепнухов.
Корреспондент ТАСС в Багдаде Станислав Корзелев с женой.
Журналисты-международники Фарид Сейфуль-Мулюков и Леонид Рассадин.
Пусть не введут в заблуждение их профессии. Ни микрофонов, ни блокнотов они на стройплощадке не вынимали. "Брали интервью" у веревок и деревяшек, углублялись в проблему посредством топора и сверла.
Слух о том, что "Тигрис" теперь сооружался методом народной стройки, широко распространился, и посетители хлынули по второму кругу. Кто только тогда не побывал у нас заново! Шоферы, те, кто при достопамятном спуске сталкивал лодку в воду: "Пока пересменок, не надо ли, ребята, круглое покатать, плоское покидать?" Компания знакомцев из-под Ура: "У нас выходной, а у вас, говорят, воскресник?"
Действительно, получался воскресник, почти как дома. Не было только транспарантов, лотков с мороженым да "Марша энтузиастов" из репродукторов…
Тур делал вид, что ничего неожиданного не происходит. Экспедиция интернациональная, так что вполне естественно, что ей помогают. А я ходил именинником и чувствовал себя немножко Томом Сойером, который подбил приятелей красить забор.
Мы находились в Эль-Курне почти месяц. По многим, пусть объективным, причинам спуск судна на воду не однажды откладывался. Теперь точно так же откладывался и старт. Недоделок была масса: для того чтобы стартовать абсолютно готовыми, на вылизанном, с иголочки, корабле, требовалось еще неизвестно сколько времени — работам не видно было конца.
Моральное состояние экипажа было не на высоте. Люди выкладывались до предела и не видели результатов своего труда. Дневной график не выполнялся, денежные фонды таяли — смета, и без того вдвое завышенная, была перекрыта тоже вдвое…
А корабль меж тем намокал, счетчик плавучести тикал: вторую неделю мы "плыли" в пресной грязноватой воде. Где же выход?
А выход был — надо было стартовать как можно скорее. Пусть недоставало комфорта на борту, но мачта была, весла были, парус хоть какой-то был. Крыша над головами тоже имелась, остальное — по дороге. Дима Кайгородов согласился плыть с нами до Басры. Его начальство не возражало, поскольку мы просто как бы доставляли Диму обратно на стройку, только не машиной, а по воде. В пути он должен был доделать, что сможет.
И вот 23 ноября, в среду, мы стартовали.
Самого момента отплытия никто из нас как следует не прочувствовал. Проверяли такелаж, привязывали окончательно рулевые весла, переносили из склада на лодку груз… И все казалось, что до старта далеко. А потом, примерно около часа дня, Тур приказал отправляться:
— По местам стоять! Отдать швартовы!
Течение понесло, и мы взялись за парус, но тут же заволновались, так как на верхушке мачты обнаружился наш отважный Герман. Он снимал удаляющийся причал, а мы дружно кричали:
— Вниз!
Причем Тур прибавлял:
— Быстрее!
А я кричал:
— Медленнее! — Я вполне серьезно опасался, что не привыкший к марсофлотству Герман загремит вниз.
Наконец он слез. Парус пополз к облакам, но на полпути застрял, никак нельзя было сдвинуть. Это мешал бакштаг; его отдали, рей освободился…
Лодка плавно набирала ход, стрелка у слияния Тигра и Евфрата была уже далеко позади. Вокруг нас на бешеной скорости сновали два маленьких катера с телеоператорами — дорвались парни до работы. Мы махали им руками: "Счастливо оставаться!"
А вот как выглядело наше отплытие со стороны, как описала его Ксана:
"Не спеша укладывала вещи на ярко-зеленом квадрате незатоптанной травы, где стояла палатка. Вдруг мчится гонец: "Ксана, стартуют!" Как стартуют?! Отплытие было назначено на сегодня, но час не был определен. Потом оно откладывалось трижды. У меня не было уверенности, что оно и сегодня состоится: о нем просто не думали за будничными хлопотами.
Бросила все — и к причалу. Успела, застала даже конец церемонии. Тур на сильнейшем ветру говорил прощальную речь, благодарил наших шефов из иракского министерства информации, бригаду арабов, советских специалистов — всех, кто помогал.
Народу собралось порядочно: официальные лица, жители Эль-Курны, кое-кто из наших с контракта взял отгул, приехал проводить.
Быстро-быстро убрали трап. Юра подтянул на лодку — простились. Полоска воды между судном и причалом стала расширяться сантиметр за сантиметром. И тут я поняла: все! Уплывают! Совсем уходят!
Стоп! Короткая заминка! На борту обнаружился "заяц": официант из бара объявил, что ему недоплатили за пиво. Совал Туру счет. Разбираться было некогда, и Тур вынул из кармана, сколько вынулось. Официант сказал, что не хватит, Тур добавил, опять не считая. Официант в последний момент перепрыгнул на сушу и довольный побрел к рестхаузу.
А я побежала назад, на нашу стрелку, и замахала картузиком. У меня и у Юры они были одинаковые, белые.
Он просил: "Не уходи, у нас сильная оптика, мы тебя будем видеть долго-долго". Лодка быстро удалялась, и вот уже исчезло белое пятнышко Юрин картузик. Вдруг с мачты сверкнул солнечный зайчик — это, конечно, Юра. Я все махала, махала и очень плакала…"
Мы были одни посреди широкой реки. Хотя нет, не совсем одни: прямо на носу фырчала моторка — знатоки фарватера Шатт-эль-Араба указывали нам путь. Имелся лоцман и у нас на борту — бравый Али высился на мостике и чисто символически подруливал. Соседним рулем владел Карло. Я ему слегка завидовал — шутка сказать, первая вахта!
По берегам, поросшим пальмами, толпились дети и взрослые, приветствуя наш славный ковчег. Тур сказал:
— Смотри, им приходится бежать, чтобы поспеть за нами, значит, мы идем довольно быстро.
— До сих пор не верю, что мы стартовали.
— Я тоже, — кивнул Тур.
Но путешествие вышло кратким. Мы проходили место, где Шатт-эль-Араб делает повороты, и нас стало ветром прижимать к левому берегу. Схватились за рули, резко повернули, их заело. К счастью, арабы на мотоботе оказались проворнее нас: они проскользнули между лодкой и берегом и буквально отпихнули "Тигрис" на свободную воду.
Одну излучину кое-как проскочили, в следующую не вписались совершенно — врезались в мелководье. Противно затрещало, упершись в грунт, левое рулевое весло. Кинулись к нему, пытались приподнять, но мешала путаница веревок. Все же мы его чуть-чуть приподняли, и весло тут же заклинило — оно село на одну из продольных ограничивающих балок. Люди, стоявшие на берегу, отталкивали нас. Тут же подоспел мотобот, взял на буксир, оттянул.
Надо было останавливаться и решать, что делать. Выбрали подходящий бережок, спустили парус, бросили носовой якорь, притулились с помощью арабов.
Грустное было положение. Казалось бы, все элементы экспедиции налицо лодка, река, экипаж, — но плыть не могли…
Рашад и Карло поехали в Басру за канатами, кухонной утварью и, главное, за кожей. Кожа была необходима, чтобы обить ею весла и уключины, уменьшить трение, хотя бы в качестве полумеры.
Кожу достать было трудно. Три недели назад мои земляки, руководители стройки в Насирии, Дмитрий Григорьевич Петровнин и Николай Петрович Павлов, презентовали нам кучу всякого полезного добра: матрацы, полотенца, одеяла, деревяшки… В числе прочего была и кожа, приличный кусок, толщиной в палец, но ее явно было мало.
Наши интенданты вернулись. Мы начали ставить на место весла — и сразу всем бросилось в глаза, что сечение их нисколько не изменилось. Да и как оно могло измениться? Овал есть овал.
Тур выговаривал Норману и Цилиху (заочно): "Обещали же, когда брались, что стержень будет круглым, а теперь как быть? Стесывать лишнее? Убирать толщину, к которой как раз и стремились?"
Норман отмалчивался — видно было, что он обескуражен и расстроен. Перепробовали два-три варианта, один другого оригинальнее. Я сказал Норману, что хоть я и не инженер, а всего-навсего лекарь, но изучал правила наложения повязок и знаю, что прочней крестообразной "восьмерки" ничего до сей поры не изобретено. Привязали весла "восьмеркой", подтянули винты, подняли якоря и парус и пошли.
Шли на привязи, но самостоятельно: мотобот держал буксирную веревку провисшей. Рулевые весла действовали плохо. Поэкспериментировали с ними приподняли: будут ли работать части лопасти? Будут, ничуть не хуже. Тогда зачем же мы их наращивали, уширяли?
— С такими рулями выходить в океан — идиотизм, — подвел категорический итог Тур.
Но мы сейчас шли вовсе не в океан. Мы совершали марш-бросок до бумагоделательной фабрики, расположенной в двадцати километрах ниже по Шатт-эль-Арабу. Там снова должны были стать на прикол — инженеры фабрики обещали помочь, чем смогут.
Едва пристали и закрепились, подъехал громадный кран, подцепил наши рули и перенес их, как две спички, на сушу. Там мы положили их на козлы, вырезали круглый шаблон — и Дима Кайгородов приступил. Когда он занес топор, Норман испуганно закричал: "Что он делает?! Нужен рубанок!"
Пришлось объяснять, что на Руси издавна строили избы и храмы, обходясь единственно топором, и что Дима не посрамит этой традиции. Однако даже после того, как Дима продемонстрировал свое искусство и все убедились, что топор в его руках строгает глаже, чем рубанок в наших, даже после этого Тур, Детлеф и Норман жаловались, что у них екало сердце при каждом его ударе.
А я в ответ рассказывал о мастере Нестере, который поставил на острове Кижи посреди Онежского озера двадцатидвухглавую церковь. Поставив же, молвил: "Нет и нигде не будет второй такой!" И швырнул в онежские воды топор, столь верно ему послуживший.
— Пусть не швыряет, — шепнул мне Тур. — Пусть подарит, я его с собой заберу.
Дима работал великолепно и быстро. Обтесал стержень по шаблону, оставалось прошкурить — и всё. Но открылась новая любопытная подробность. Лопасти рулей разбухли, вышли из пазов, стали непомерно тяжелыми. Оказалось, что хитроумный Цилих, надставляя их по нашему заказу, использовал казеиновый клей, который, как известно любому мальчишке-авиамоделисту, в воде растворяется!
Горячо поблагодарили хозяев и покинули территорию комбината. Ветра совсем не было, и нас тащил мотобот. Но все же для красоты подняли парус, хотя он был совершенно бесполезен и лишь тормозил наше движение.
Рули действовали хорошо. Проплывали мимо маленьких деревень, люди с берегов махали нам и что-то кричали. По обоим бортам — заросли камыша и прекрасные пальмовые рощи…
Стали в пяти километрах от Басры. Назавтра в восемь утра должны были пройти через город. Волшебная Басра, Басра из "Тысячи и одной ночи", с минаретами мечетей и куполами усыпальниц, с флотилиями разноцветных дау вдоль берега невероятно грязного здесь Шатт-эль-Араба…
От Эль-Курны до Басры шестьдесят километров, а ощущение было такое, будто у нас огромный этап пути за кормой. До Персидского залива предстояло идти еще дня три. За это время нужно было оснастить лодку для плавания в бурных водах, все как следует закрепить, принайтовать, добиться, чтобы парусная система служила безупречно. С рулями, похоже, теперь было все в порядке. Они отняли у нас целых пять дней, а всего лодка на воде семнадцать. Срок не маленький. За семнадцать дней можно уже было выйти в океан.
Дима нас покинул. Перешагнул на борт патрульного катера, оставив Туру на прощание свой чудо-топор и приняв в дар спальный мешок с надписью "Тигрис". Мы здорово его задержали: двухдневное плавание растянулось почти на неделю и, конечно, длилось бы дольше, если бы не его мастерство.
Ушел Дима, улыбчивый добродушный москвич, и теперь мне предстояло долго-долго не изъясняться на родном языке.
Чем ближе мы подходили к устью, тем больше в Шатт-эль-Арабе было кораблей. Одни нас обгоняли, другие — стоявшие на якоре — мы обходили сами. Если судно было советское, то обязательно с него нам вслед были три гудка и хоровое: "Счастливого плавания!" Детлефа этот салют слегка раздражал, а меня, признаться, раздражало его раздражение. Прошли мимо судна под флагом ГДР. Сказал Детлефу:
— Смотри, вон немецкий корабль!
— Нет, это корабль с вашей, русской территории.
— А тебе больше нравится, когда с вашей, американской?
Глупо было так пикироваться, но должен же я был что-то отвечать, когда меня задирали…
Фао — небольшой городок при впадении Шатт-эль-Араба в Персидский залив. Он при Басре примерно — весьма примерно! — как Кронштадт при Петербурге. В Фао мы распрощались с арабами-провожатыми и стали дожидаться попутного ветра.
Тур договорился на метеостанции, что нас будет сопровождать до залива портовый буксир. Теперь бы только ветер попутный, северный!
"Море, море!" — этим кличем, как повествует Ксенофонт, десять тысяч греков, отступая из Персии, приветствовали сверкающие просторы, к которым долго и самоотверженно пробивались…
2 декабря в пять часов утра портовый буксир потянул нас от Фао в залив узким судоходным каналом. Затем потащил фарватером, тоже узким, не дающим возможности лавировать, да к тому же забитым разными кораблями. Потому нам и требовался строго попутный ветер.
Около полудня, когда берег значительно отдалился и впереди совсем близко маячил выходной буй, буксир нас покинул и парус наш наполнился. И это действительно было начало — "Тигрис" наконец-то выходил на морскую волну.
Мы радовались и резвились, как мальчишки. Величали друг друга по-восточному витиевато: "Уважаемый натягиватель каната, не скажешь ли, когда мне сменить уважаемого поворачивателя рулевого весла?" Тур на мостике громко провозглашал дошедшую до нас из девятого века клятву арабских капитанов:
— Мы, члены братства судоводителей, связаны обетами и клятвами не дать кораблю погибнуть, пока его не настигнет предопределенное. Мы, члены братства водителей судов, поднимаясь на борт, берем с собою наши жизни и судьбы. Мы живем, пока наш корабль цел, и умираем с его гибелью.
— И да придет к нам возможно позже Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний, — вторил Рашад.
Суда, стоявшие вокруг на внешнем рейде, провожали нас гудками. "Славск", Одесса — прочли мы у одного из огромных сухогрузов на борту. Мы проходили с ним рядышком, бок о бок. "Привет, Юра! — кричали с палуб. Ура, Хейердал! Удачи! Счастливого пути!" А кто-то, видимо, судовой радист, попросил уточнить марку нашей радиостанции и используемые ею частоты.
Но затем ветер стих. И мы остались без хода, без управления, на оживленнейшем фарватере, который надо было покидать возможно скорее, — как пешеходы на перекрестке, прозевавшие свой зеленый свет.
Надеялись, что хотя бы течением дотащит нас до буя, к которому можно было бы привязаться и переждать затишье. Буй приближался, до него оставалось каких-нибудь два кабельтова, но тут начался прилив и "Тигрис" поволокло обратно к берегу, к Фао…
В волнах показалась странная посудина красного цвета, безвесельная. Люди в ней, в оранжевых спасательных жилетах, то привставали, то приседали, словно качали пожарную помпу: шлюпка была оборудована ручным приводом к винту.
Она шла точно на нас, и по поведению ее экипажа видно было, что смеяться над нами они не собираются. Без лишних слов они бросили нам буксирный конец и потащили к бую.
Так мы познакомились с командой "Славска" и его капитаном Игорем Антоновичем Усаковским. Он предложил нам отбуксировать "Тигрис", чтобы убраться с фарватера и поштилевать в тихом уголке.
"Славск", громадина водоизмещением 18 тысяч тонн, надвигался медленно, осторожно. С него подали конец на шлюпку, к шлюпке прицепились мы — и процессия, коей никогда до того не видел и впредь не увидит Персидский залив, с черепашьей скоростью двинулась в путь.
Около шестнадцати часов теплоход остановился, к нему подтянули и пришвартовали "Тигрис", и мы отправились на "Славск" с благодарственным прощальным визитом.
Капитан, однако, не был настроен на расставание. За ужином он осторожно намекнул, что время для выхода в залив выбрано не самое лучшее: в декабре норд здесь задувает редко. И предложил потянуть нас еще немножко, к маяку Шатт-эль-Араб. До него было примерно тридцать миль на юго-восток, и там все-таки легче ловить ветер и лавировать.
Тур колебался.
— Престижа вы не уроните, — настаивал Игорь Антонович. — Открытое море начинается за маяком. Я, в сущности, вывожу вас из района порта. Разве это предосудительно?
В общем, в двадцать один час с минутами винты "Славска" заработали, и караван тронулся в прежнем порядке: теплоход, шлюпка в качестве амортизатора, следом — мы.
Утром проснулись от качки. Маяк — вон он. По волнам гуляли барашки, ветер был свежий и до безобразия неподходящий, почти встречный.
Да, мы вышли в плавание чересчур поздно, на исходе сроков, в межсезонье, когда у ветров и течений в этом районе нет стабильности. Если следовать лоциям, то нам надо было бы стартовать в сентябре. Но кто же виноват, что для лодки был нужен именно августовский камыш, а климат ранней иракской осени тяжек для строителей лодки — индейцев с высокогорного озера Титикака?
Отшвартовались без блеска: крепко стукнулись носом о корпус "Славска", затем приложились еще раз, затем чуть было не попали под его винты. С большим трудом подняли парус, опустили оба выдвижных руля и пошли — не к Бахрейну, а скорее в сторону Кувейта. Сразу определилось, что под острыми углами к ветру "Тигрис" не ходит: для него предел — галфвинд, и то через силу, плюс еще снос течением. Практически нас волокло строго на запад.
Около двадцати трех меня разбудил крик Тура: "Все наверх!" На секунду почудилось, что ожили авралы "Ра": ветер свистит, бортовая качка, на палубе суета. Норман командует, Карло тянет канат… Нет, я был не на "Ра". Там, среди океана, мы были избавлены от мелей и рифов, а здесь — прямо по курсу — огни. Это был остров Файлака, и нас несло к его побережью, на камни.
Ветер крепчал, все вокруг трещало и ходило ходуном. Хорошо еще мы с Карло днем проверили и подтянули крепеж мачты. Берег приближался…
В четыре часа я принял вахту. Почти сразу же на мостик поднялся Тур:
— Дрейфуем?
— Дрейфуем. Парашют не держит.
— Может, попробуем поднять парус и обогнуть скалы? Хотя нет, понесет в щель между островом и материком, а там — рифы, отмели… Знаешь, что говорит об этом береге лоция?
— Нет, не знаю.
— Что на него не рекомендуется высаживаться без вооруженной охраны.
Он медлил, мялся и наконец предложил будничным тоном, словно речь шла о чем-то незначащем:
— Возьми прожектор, посигналь, как положено, три точки — три тире…
Я ушам своим не поверил. Тур приказывал дать "SOS"!
Ни на "Кон-Тики", ни на "Ра" до этого дело не доходило: ни разу в жизни Хейердал не подавал сигналов бедствия. Неужели нам сейчас настолько плохо?!
Зажег прожектор и стал мигать. С острова ответили миганием, но беспорядочным. Там, видно, не знали азбуки Морзе и не понимали, чего мы хотим.
— А радио?.. — начал я и осекся: сквозь свист и плеск слышалось тарахтенье генератора. Норман уже выходил в эфир…
4 декабря в пять часов утра начальник радиостанции "Славска" Роман Липский принял наш призыв. Палубной команде был немедленно объявлен аврал. "Славск" снялся с якоря и пошел к Файлаку.
Через несколько часов мы увидели их на горизонте — сначала теплоход, затем идущую от него шлюпку, на этот раз моторную. Столько знакомых было на ней: капитан, главный механик, боцман…
Игорь Антонович Усаковский и его первый помощник Гарас перебрались к нам на борт. Мотобот со спасателями гарцевал на волнах рядом. Договорились, что они выберут из воды наш тормозной парашют, ухватятся за его трос и оттянут нас кормой вперед к "Славску". Теплоход тем временем приближался чуть заметно, почти неразличимо для глаза.
— Не обман ли зрения, как считаете, Игорь Антонович, Григорий Григорьевич?
Усаковский и Гарас вгляделись.
— Нет, не обман. Тут другое…
Не "Тигрис" полз к "Славску" — "Славск" подбирался к "Тигрису". Старпом, оставленный командовать, на свой страх и риск пытался подойти поближе.
На лице капитана отразились весьма противоречивые чувства. Осадка теплохода — шесть с половиной метров; в любой момент спасатели могли превратиться в терпящих бедствие.
— К рации? — встревоженно предложил Тур и встал.
— Обождем. Не враг же он себе, застопорит.
Вероятно, это были не самые безмятежные минуты в морской практике капитана "Славска". Теплоход остановился, выбрав резервы глубины подчистую, когда не то что семи, а и трех футов под килем, наверное, не осталось.
Что же касается нас, то мы, увы, продолжали плыть, но не к теплоходу, а прежним дрейфующим курсом. Слабосильный мотобот не справлялся. Нас волокло на рифы, и они, согласно карте, находились уже в трех-четырех милях от нас, не дальше.
Вдруг из тумана выскочила дау. Стремительная двухмачтовая шхуна летела прямо на нас. Мы обрадовались, закричали, замахали, но никто на ней не обращал на нас внимания — не замечали, что ли? Неподалеку от нас она заглушила мотор, и ее матросы начали ставить сети.
Рашад и Детлеф сели в надувную лодку и погребли к дау. Минуло с полчаса. Наконец мы увидели, что дау трогается с места и направляется к нам. Ее шкипер произнес в мегафон что-то гортанное. Мы подумали, что он здоровается, и приветливо, вразнобой ответили. Однако переводчик Рашад прервал наши излияния:
— Пятьсот!
— Чего пятьсот?
— Пятьсот кувейтских динаров за буксировку.
— Сколько?!
Для нас цена была баснословной. Тур отказывался наотрез. Усаковский качал головой:
— Ну, синдбады, ну, мореходы!
Шхуна, независимо свистнув, умчалась так же стремительно, как появилась: никакая рыбная ловля ее не интересовала — специально наведались попробовать сорвать куш.
А мы продолжали дрейфовать в сторону рифов — об этом нам откровенно сообщали со "Славска", уточнив посредством радара нашу скорость и курс.
Подскочила шхуна, родная сестра предыдущей: они, похоже, вились поблизости, как коршуны в ожидании добычи. Теперь уже Тур был согласен на все. Рашад перепрыгнул на дау показывать направление (к тому времени теплоход исчез из виду). Опять составился диковинный караван: мы за шлюпкой, шлюпка за шхуной…
Игорь Антонович связался по рации со "Славском", объяснил ситуацию и приказал идти наперерез. До вероятной точки рандеву насчитывалось миль семь. Уже спускался вечер. Дау гнала вовсю, нас болтало, встряхивало. Оставалось надеяться, что камышовый корпус "Тигриса" как-нибудь выдержит рывки и качку.
Одновременно на мостике происходил разговор между Туром и Усаковским, очень для "Тигриса" важный. Реконструирую его так, как мне потом пересказал Тур.
— Ваше самостоятельное плавание по Персидскому заливу с точки зрения задач экспедиции было результативным?
— Разумеется. Мы испытываем образец шумерского судна и уже на основании дня пути пришли к кое-каким выводам.
— Что же выяснено?
— Что парус мал, что для лавирования наших подвижных килей недостаточно.
— Будете совершенствовать то и другое?
— Да, как запланировано, на Бахрейне.
— Значит, до Бахрейна пауза?
— Ну… Допустим, что так.
— Извините за расспросы, я не из любопытства. Раз определенный этап эксперимента завершен и дальнейший путь до Бахрейна ничего не убавит и не прибавит, не рациональнее ли, если "Славск" доставит вас туда на буксире? По времени — экономней, для "Тигриса" — безопасней, экспедиционным идеям ущерба нет…
— Я сам хотел просить вас об этом…
Тур распорядился, чтобы я переселился на "Славск" для координации действий и связи. Приказы не обсуждают, хотя уходить с "Тигриса" очень не хотелось. Подумал: если уж идти, то лучше с кем-нибудь вдвоем. С тем же Карло — пусть, коль представилась возможность, примет пресный душ и сменит повязку на больной ноге.
Тур согласился, и мы вчетвером — Усаковский, Гарас, Карло и я перелезли в мотобот. А между тем дау, приняв мзду и вернув Рашада, исчезла в ночной мгле.
"Славск" взял нас на буксир, и мы тронулись против течения в путь, к Бахрейну. Пришлось пережить и штормовой ветер, и "охоту" на "Тигриса", когда оторвался буксирный конец…
Они возились с нами уже третьи сутки, и неизвестно, сколько еще им предстояло помогать нам. Между тем, "Славск" был в живой очереди судов, ожидавших входа в порт Басры, и наверняка уже потерял из-за нас эту очередь. А ведь у них был план, график. Усаковский вежливо успокаивал: "Наверстаем".
И все-таки ради спокойствия в Москву ушла радиограмма:
"Министерство морского флота, министру Т.Б.Гуженко.
Уважаемый Тимофей Борисович! Лодка "Тигрис" с международным экипажем на борту испытывает большие затруднения в проходе Персидского залива из-за неблагоприятных метеоусловий. Приняв сигнал бедствия, к нам на помощь подоспел экипаж черноморского теплохода "Славск", что помогло избежать посадки на рифы. В настоящее время "Славск" буксирует "Тигрис" в безопасный район. Для его достижения требуется около двух суток — плавание осложняет сильный встречный ветер и волнение. Убедительно прошу Вас разрешить капитану теплохода "Славск" продолжить буксировку. Искренне Ваш Юрий Сенкевич".
Вскоре был получен ответ:
"Борт т/х "Славск", Усаковскому. В связи с просьбой экипажа "Тигрис" разрешаю продолжить буксировку до безопасного района. Желаю экспедиции во главе с выдающимся ученым Туром Хейердалом благополучного плавания, успешного выполнения задуманного эксперимента. Гуженко".
С Тимофеем Борисовичем Гуженко в то время я не был знаком. Уже после плавания на "Тигрисе" он бывал у нас на передаче в "Клубе кинопутешествий", рассказывал о походе под его руководством атомохода "Арктика" к Северному полюсу в 1977 году…
8 декабря "Славск" подтянул нас к северной части острова Бахрейн. Дальше надо было вызывать портовый буксир и идти за ним к островной столице Манаме. Там нас ожидали киносъемщики и эмиссары Би-би-си.
Я попросил корабельного радиста Романа Липского вызвать их в эфир и от имени Хейердала передал наши планы. Нас заверили, что все будет в порядке, и предупредили, что судам под флагом СССР вход в порт запрещен. Мне было стыдно глядеть в глаза Роману, как будто это я сам столь чудовищно негостеприимен и неблагодарен. Но ему и всем остальным было ясно, что экспедиция тут ни при чем. Опять жизнь напомнила нам, что мы — не в сказочном блистающем мире, где единственными определяющими категориями являются дружба и доброта.
Подошел катер береговой охраны. "Славск" остановился, спустил мотобот, и через десять минут мы с Карло были у себя дома, на "Тигрисе". Вернулись, как после долгой разлуки, даром что все эти дни терлись почти борт о борт.
А "Славск" стоял по-прежнему рядом, но был уже далек, недоступен и как бы чуточку уже нереален. На его палубах толпились, провожая нас, люди, и мне казалось, что я различаю знакомые лица.
Все… "Славск" погудел и стал удаляться. Катер потянул нас в гавань острова Бахрейн.
Позже я узнал, что произошло на борту "Славска" вскоре после того, как мы с ним расстались. Теплоход, лишенный права перевести дух в Манамском порту, спокойно осмотреться и проверить машины, собирался лечь обратным курсом на Басру. И тут капитану доложили: на судне у одного из членов экипажа тяжелое заболевание, желательна госпитализация.
"Славск" сообщил о несчастье на берег. С берега ответили: госпиталь Бахрейна, в крайнем случае, согласен принять больного, но чтобы не было никаких сопровождающих. Не могло быть речи даже о том, чтобы сам капитан лично отвез его в госпиталь. Отправлять члена своего экипажа фактически в неизвестность Усаковский не рискнул. Течение болезни позволяло потерпеть и "Славск" на полной скорости устремился к Кувейту, где местные законы были менее дискриминационны к советским морякам. В кувейтской больнице была сделана операция, и матрос вернулся на "Славск".
А в Манамском порту бедный наш "Тигрис" жался к огромному пирсу в окружении океанских гигантов. Нас волновало состояние подводной части его корпуса. Еще с палубы "Славска" мы с Карло заметили, что с носом лодки происходит неладное — при ударе о волну, когда нос задирался, были видны какие-то лохмотья.
Герман нырнул и надолго пропал, а вынырнув, поманил меня и шепнул: "Катастрофа". Я надел маску и ласты, прыгнул — и тоже в первый момент испугался. В носу, вернее, уже "груди" нашего корабля чернела ниша глубиной в локоть, а шириной и высотой — со шкаф. Вот что натворила бешеная гонка за дау, когда спасатели тащили нас, как чурку, не внимая просьбам быть осторожнее.
Спасибо машинистам "Славска": если бы не их старания, беда могла стать и вправду бедой. Однако паниковать не стоило. При ближайшем рассмотрении выяснилось: основные снопы не пострадали. Нарушился лишь верхний покров, "кубьерта", искусно сплетенный арабами камышовый ковер, — волны разорвали его и вымыли из корпуса камыш, проложенный между оболочкой и главными сигарами. Чисто поверхностное повреждение — можно лечить.
Наметили последовательность работ: уточнили объем ниши, из берди (у нас был ремонтный запас) навязали снопиков и заполнили ими расщелину, а сверху натянули брезент…
Говорил по телефону с Кувейтом. Советских журналистов, как и моряков, на Бахрейн не пускали, а читатели "Правды" и "Известий" хотели хоть что-то знать о нашем путешествии. Рассказал Владиславу Задяеву и Вадиму Кассису о благополучном прибытии "Тигриса" в Манаму, о ремонте промоины, о многострадальных рулях, о парусе, который шьют для нас в Гамбурге… Додожил, что настроение бодрое, и поздравил земляков с наступающим Новым годом. Где-то мы его встретим?!
Вечер был тихий, бездельный, благостный. Нынче — Рождество. Герман объявил, что на самом деле он не Карраско, а Санта-Клаус, и раздал подарки: специально вез из собственного музея в Мехико образцы керамики индейцев майя. Фрагменты рельефных табличек, детали амфор, изображения людей и животных… Подлинность всего удостоверялась документом — IV век н. э. Очень неожиданно и трогательно.
Я достал из космических рационов индейку, а из собственных тайников шампанское. Настроение у всех было лирическое и немножко грустное. Вспоминали рождественские обычаи у разных народов. Карло предложил:
— Оставим "на ночь на пирсе башмаки, пусть утром в них окажется сюрприз.
— Да, одиннадцать пар башмаков, и в каждом — лоцман, — ответил Тур.
Лоцманская проблема вроде бы была решена: отыскана дау, подписан контракт, большего не придумать и не сделать. А тем не менее было тревожно: слишком уж беспокойный впереди ожидался поход.
26 декабря. 10.30 утра. Прощай, Бахрейн.
При отплытии, как всегда, без приключений не обошлось. Прицепились к дау, вытащили якорь, а про кормовой швартов забыли — парень на берегу замешкался и не отдал конец вовремя. Хорошо, что Эйч-Пи подоспел выхватил нож и перерезал веревку, иначе бы оторвали буксир. На выходе нас едва не затащило на волнорез…
16.30. Дау продолжала буксировку. Там, на шхуне, нашим связным был Рашад. Мы великолепно могли бы идти и сами: залив на диво был пуст, ветер дул северный, лучшего и желать нельзя. Но мы как назло должны были держать курс на восток, поскольку путь на юг преграждал полуостров Катар.
Нам порядком надоело быть буксируемой экспедицией. Изменили немного позицию паруса, опустили гуару, опустили по правому борту вертикальные кили — и двинулись медленно сами.
На рассвете возникла проблема с дау. Ее капитан предъявил претензию: он-де подряжался нас буксировать, а не сопровождать. Наша малая скорость его не устраивала: двигатель перегревался, в трюме много воды, и вообще надо спешить…
Шел пятый день пути после того, как мы покинули Бахрейн. В полночь стоял на мостике. Вахта была тройная: двое рулевых и штурман. Извлекли из воды боковые кили, переставили парус, ибо теперь мы уже шли на юго-восток, следуя изгибу колена.
С правого борта были груды нагроможденных друг на друга камней, с левого — корабли, десятки кораблей, больших и маленьких. Стоит рулевому на одном из них чуть-чуть зазеваться, отвлечься, срезать угол — ни умение, ни интуиция, ничто не спасет, только случай!
А мы летели, как мальчишки по лестнице, едва касаясь ступеней, — не свернуть, не остановиться, лишь бы голова уцелела, а синяки сосчитаем потом! Славный ветер, славная скорость! Славная ночь!
Разбудила нас тишина.
Ветра почти не было, яркое солнце, горы отступили и приветливо желтели вершинами. Ормузский пролив остался позади. Мы были в Оманском заливе, то есть в Аравийском море, то есть в Индийском океане. Ура!
Последний день года был днем удач.
— Дау! — крикнул Детлеф.
И действительно, в утренней дымке виднелась шхуна. Она приближалась, неспешно постукивая мотором. Рашад махал нам с борта. Вскоре он был среди нас, и все очень радовались, а Рашад больше всех!
Хорошо, что экипаж "Тигриса" опять был в полном сборе. Хорошо, что дно лодки, гуары, носовая заплата в добром здравии — Герман и Тору сплавали в аквалангах и установили это с абсолютной точносгью. Хорошо, что в 15.00 Норман установил связь с моими земляками и я поговорил с Ксюшей!
Стемнело. Стали готовить праздничный ужин. Посреди стола водрузили Ксюшину елку, хранимую с Эль-Курны. Тур поднял бокал за уходящий год. Норрис оделил каждого смешной игрушкой — кого слоном, кого лягушкой, кого крокодилом…
Нам с Германом предстояла вахта с двадцати двух до полуночи. Это тоже было хорошо, потому что я должен был выпить под бой курантов, как мы условились с Ксюшей, и прочесть ее письмо, которое со старта берег запечатанным.
До половины двенадцатого было спокойно. Герман слушал по радио испанскую музыку. Возле нактоуза, освещенные керосиновой лампой, ждали своего часа два стакана и бутылка с коньяком.
Вдруг ветер окреп и парус заполоскал. Пока его укрощали, время шло. Глянул на часы — без пяти! Переключил приемник на Москву и услышал голос Левитана — последние торжественные фразы, сейчас ударят куранты… А парус вновь, как нарочно, требовал внимания…
В общем, Новый год для нас с Германом наступил минут семь спустя. Мы чокнулись, обнялись, пожелали друг другу счастья. После этого я растолкал Детлефа и Эйч-Пи: второй год стоим на вахте, мочи нет, сменяйте!
Спать пошел не сразу: посидел на завалинке, прочел милое Ксюшино письмо и погрустил немножечко о ней, о маме, о Коле с Дашей, о доме на Ленинском проспекте, на который сейчас, вероятно, падает снег…
Год был емкий, ничего не скажешь. Думал ли я в прошлом декабре, что буду сидеть здесь, на камышовой палубе, и внимать ее шуршанию и скрипу? А мимо бесконечной чередой шли корабли, ярко расцвеченные, неопасные, — у них своя дорога, у нас своя. Они шли быстро и деловито, нагоняя мелкую волну, которая ощутимо раскачивала "Тигрис". Пылала оранжевая луна, слева, где Иран, темнели горы… Фантастика, а не ночь…
Посещение Омана было запланировано Хейердалом с самого начала. Цель знакомство с памятниками древней арабской культуры. Археологические раскопки подтверждали: в древности, в третьем тысячелетии до новой эры и чуть позже, Оман являлся частью региона Макан, объединявшего Аравийский полуостров и долину Инда. Расположенный на ключевых позициях африкано-азиатских торговых связей, Оман торговал с шумерами и их индийскими партнерами, посредничал, перевозил и поставлял лес, медь, диорит.
Легендарные медные рудники Макана — о них масса упоминаний в шумерских документах — были почти наверняка в Омане. Мог ли Тур, готовя экспедицию, забыть про Оман? А тут еще наши уключины нуждались в срочном ремонте. Так что надо было идти к Маскату, в Оман.
4 января вскоре после обеда нас нагнал большой полицейский катер. Подошел близко и сопровождал минут пять, а потом ни с того ни с сего ударил нас носом. Перекладины затрещали, мы с проклятиями выскочили из хижин, стали отталкивать невежливую посудину и оттолкнули с трудом. Мы так и не поняли, чего им от нас было надо. Наверное, рулевой бросил штурвал от изумления, завидев в родных территориальных водах плавучий стог сена.
Хорошо, что мы и были стогом сена. Это нас и спасло, а то бы наверняка получили пробоину. Полисмены удалились. Да, негостеприимно встречал нас Оман. Он вообще был не расположен нас встречать.
Несколько раз Норман по рации запрашивал разрешения на заход "Тигриса" в порт. И каждый раз не было ни "да", ни "нет". Явно это все было неспроста.
Норман вновь вышел в эфир. Ему ответили наконец членораздельно: вопрос прорабатывается и решится завтра утром. И тогда я был вынужден поговорить с Туром напрямик. Сказал ему, что, видимо, из-за моего присутствия на борту планы экспедиции под угрозой и надо искать выход. Хватит дипломатических умолчаний. Тур, к моему удовольствию, и не собирался отмалчиваться. Я не застал его врасплох. Он ждал разговора и внутренне к нему готовился.
— Обсудим ситуацию спокойно. Самое худшее, что нам грозит, это запрещение лично тебе, Юрий, сходить на сушу. На борту же ты экстерриториален и защищен флагом ООН, а на берегу — увы. Давай думать, что делать.
— Известно — что. Надуем спасательный плот, вы меня отбуксируете в море за трехмильную зону. Там я и поживу на свободе, пока вы ознакомитесь с памятниками древней арабской культуры.
— Это бы можно, — задумался Тур. — Но там глубины около шестидесяти метров. Как стать на якорь? И кто гарантирует, что тебя не протаранит какой-нибудь корабль?.. — Заведомо ироническое предложение он рассматривал всерьез.
Мы взглянули в глаза — он мне, я ему — и расхохотались. Оба разыграли друг друга, причем он меня куда тоньше.
Через некоторое время я услышал, что Норман начинает очередной сеанс связи. Почему-то его голос доносился не из хижины, и я подумал — наверное, вытащил аппаратуру на палубу, так как вечерело и внутри кубрика было темновато. Голос Нормана звучал чрезвычайно отчетливо: "Итак, вы говорите, что сложность в русском члене экипажа?"
Ну вот и наступила полная ясность.
— Слышишь, Тур? — Тур был поблизости. — Определилось. Решай, капитан! Он ухмыльнулся:
— А ты пойди и посмотри, что они там делают.
Перед входом в хижину в наушниках, с микрофоном в руках расположился Норман. На него уставилась стеклянным глазом кинокамера Норриса. В общем, происходила обыкновенная съемочная показуха: Норман изображал радиоконтакт и болтал, что в голову взбредет, а Норрис его снимал.
Мне стало одновременно и обидно — нашли о чем трепаться, и радостно не пришло еще время переселяться на спасательный плот.
Как бы то ни было, положение мое оставалось щекотливым…
Не спалось. Включил приемник, настроился на московскую волну, и во владениях Его Султанского Величества вполголоса зазвучал наш "Маяк".
Весь следующий день прождали разрешения на визит в порт. Бумагу должен был подписать собственноручно султан, а Его Величеству было не до нас. У него был высокий гость из Сомали и неприятности на границе с Народно-Демократическим Йеменом. Поэтому получить пропуск для гражданина социалистической страны было особенно затруднительно.
В сумерках наконец пришла долгожданная весть: повелением султана нам было разрешено пришвартоваться у пирса, а также сходить на сушу, с семи утра до семи вечера.
Явился все тот же катер, привязался с правого борта и потащил нас к пирсу. И долго не мог выбрать, куда тащить. А когда выбрал, то на радостях так разогнался, что мы со всего маха ткнулись в бетон боком и кормой. Поперечина заскрежетала и сместилась вправо. Тур негодовал, полиция улыбалась…
Поздно вечером, когда мы ужинали на норвежском корабле "Тур-1", представитель опекавшей нас "Галф-компани" Лейв Торвелл сказал, что я, по-видимому, первый коммунист, который сошел на берег Омана не в кандалах. "И все еще живой", — в тон ему добавил я…
Тур разбудил нас еще в полутьме:
— Мы должны стартовать не позже восьми, пока безветрие или легкий бриз, потому что дневной ветер постарается прижать нас к берегу и помешает нам отойти.
Отходить решили на веслах — силы имеются, сноровка есть, покажем провожающим класс. Дружно в восемь пар рук навалились. Гребли стоя, как гондольеры. Делали кинематографические лица, мужественно улыбались. Весла были тяжелые, лодка — тоже, но мы двигались.
Проползли мимо кораблей. Они гудели, сигналили, на палубах были солнечные искорки от направленных на нас объективов.
Прошло тридцать минут. Гребли. Пот застилал глаза, руки деревенели но гребли. Поворот, другой, вон уже и выход из гавани. Справа — гористая гряда, слева мол: бетонные болванки выстроились на манер противотанковых ежей.
Наконец вышли. Быстро подняли парус. Порыв ветра, и нас понесло прямо на бетонные ежи. Что будет? Страшно представить! 40 метров, 30 метров, 20 метров… К счастью, буксирный катерок оказался рядом. Норман бросил им конец, взревел мотор, и мы вскоре были вне опасности.
Буксир оттащил нас метров на двести, а там мы пошли самостоятельно. Ветер был южный, слабый, ему помогало течение — берега медленно удалялись. Когда они покрылись дымкой, провожатые покинули нас, приняв на борт кассеты с отснятой лентой.
Все! Больше никаких лоцманов и буксировщиков не предвидится! Теперь мы действительно были в море одни.
От Маската взяли к северо-востоку. Направление, безусловно, было выгодное — уходили от суши и приближались к древнешумерским трассам. Предстояло, правда, пересечь трассу современную, столбовую дорогу танкеров и сухогрузов. Таково уж было наше везение — это должно было произойти ночью.
Подготовились к этому старательно — зажгли фонари и подняли на мачту мигалку. В разгар вахты Детлефа и Эйч-Пи нам наперерез выскочило судно. Близость его становилась угрожающей, Эйч-Пи отчаянно засигналил ручным прожектором. Они резко свернули, обогнули нас с кормы, долго держали "Тигрис" в луче, наудивлялись вдоволь и ушли.
Далее ночь нас щадила. На рассвете ветер переменился, изменили позицию паруса и двинулись на юг, а затем на юго-восток, как бы повторяя изломы береговой линии.
А одну ночь и одну вахту никогда не забуду. Случилось то, чего мы опасались, чего ждали и чего надеялись избежать.
Хлестал ливень, ветер усиливался, и мимо нас безостановочно, беспрерывно шли суда. Они проходили так близко, что нас обдавало теплом их машин. С них не отвечали на наши сигналы, на стальных палубах не было ни души, — огромные молчаливые роботы, летучие голландцы двадцатого века. Их форштевням было безразлично, что разрезать: волны так волны, "Тигрис" так "Тигрис". Тупой чудовищной механической силой веяло от них…
Два судна проскользнули буквально о борт с нами. Возникло третье и четвертое: одно слева, другое справа. Хоть бы проскочить! Но огни быстро перемещались, сдваивались: это не два судна, это одно — гигантский танкер с надстройками на носу и корме, и он пересекал нам дорогу.
Мы с Карло, не помня себя, завопили, что есть силы замахали фонариками. Из хижины выскочил полуодетый Тур… Гул двигателей, море света, надвигающаяся стена, жар и что-то чудовищное, пролетевшее в десятке шагов. Разминулись… И не потому, что кто-то там принял меры, — просто курсы чуть-чуть не совпали.
Потом уже, глядя на карту с навигационной обстановкой этого района, я понял, куда мы попали в ту ночь. Два узких коридора, и по ним круглосуточное движение, караванами, составами, по автоматически соблюдаемой колее. А мы — пешеходы между экспрессами. И ладно еще, что между!
Пять раз в ту ночь мы были на грани катастрофы! Пять раз! Извините за обилие восклицательных знаков…
А однажды за сутки мы трижды меняли курс, причем по собственной воле ни разу. 16 января 1978 года, через четыре дня после того как мы вышли из Маската, мы находились от него в двадцати милях. То есть фактически не сдвинулись с места, хотя все четверо суток двигались без остановки. За эти четыре дня мы описали в Оманском заливе петлю и вернулись в исходную точку.
Стихия есть стихия.
Но вот хвост "петли" стал удлиняться. Мы шли теперь курсом 120–130 градусов в направлении, примерно отвечающем нашим планам…
19 января 1978 года. Завтрашний день семидесятый с момента спуска лодки на воду. Около пятидесяти дней ушло на стоянки, ремонт и прочее. В общей сложности только три недели шли по маршруту…
Проснувшись, я узрел солнце в правом дверном проеме, где ему не полагалось бы быть.
— Мы свернули? — спросил я Тура. — Какой курс?
— Постарайся угадать.
— Неужели норд?
— Норд-ост. Держим шестьдесят градусов.
— Значит, и впрямь к Инду?
Океан наконец-то объявил свою волю. Не Мадагаскар, не Африка — нас ждала долина Инда. Тур сиял и важничал, словно это он сам заставил небесную канцелярию обеспечить нам выгодный маршрут…
Говорил с Москвой, давал интервью Вадиму Белозорову и предложил организовать радио-контакт "Тигриса" с орбитальной станцией "Салют-6". Это было бы прекрасно — беседа "прошлого" Земли с "будущим". Во мне зашевелился телевизионный журналист.
Наши радиомосты держали, как атланты, друзья-коротковолновики Валерий Агабеков в Ессентуках и Константин Хачатуров в Москве, мастера высокого класса, призеры международных соревнований. Схема связи была такая: борт "Тигриса" — Кавказские предгорья — столичный радиоклуб телефонная трубка в моей квартире.
— Юра, все у нас хорошо! Дома — хорошо, на работе — хорошо, у бабушек — хорошо!
Понимал, что Ксюша читает по бумажке, бережет эфирное время. Перечисляла знакомых: у того-то большой успех, у того-то большая радость. Привет от тех-то, тех-то и тех-то — целый список, как в деревенском письме: "А еще кланяется тебе…" Важно было никого не пропустить, чтобы человек знал, что его помнят. Совсем не смешной обычай.
— Звонили со "Славска" из Басры, интересовались делами на лодке, передали привет и лучшие пожелания. Не волнуйся ни о чем, у нас все хорошо!
— Прекрасно понял, прекрасно понял. Все хорошо. Шумы, трески.
— Юрий, ответьте на вопросы журналистов. Чем заниматься приходится? Кем себя больше чувствуете — врачом или матросом?
— Делаю то, что делают остальные. Все — матросы, включая Тура.
— Самое яркое впечатление со дня выхода в океан?
— Мы еще не в океане.
Мы шли из Омана к пакистанским берегам, и я конспирировал, связанный запретами консорциума:
— Шестьдесят три градуса восточной долготы! Как поняли? Идем по градусу и завтра-послезавтра упремся в берег!
"В Карачи идут, в Карачи идут", — делились догадкой Ессентуки и Москва.
— Лекарство получили?
— Да, получили, спасибо!
Заказать для Карло облепиху и мумие, уточнить метеопрогноз, переправить весточку на орбиту космонавтам, попросить помочь с транзитными визами… Как бы мы жили без Валерия и Кости? Просто не представляю!
— Тур и Карло просят позвонить в Италию и сообщить, что все хорошо. Ксюша, диктую номер. Лекко: Леонид — Елена — Константин — Константин…
Трески, шумы…
— Юрий, передайте Норману: тысячи людей каждый день просятся на частоту.
К концу плавания у нас насчиталось 350 собеседников из 43 стран. Не так уж мало.
— Семьдесят три, Юрий, от всех нас.
— Вас понял, семьдесят три. Будем заканчивать. Надо ставить парус, ветер поднялся. Все хорошо!
— Все отлично!
Как заклинание, как припев с обеих сторон…
26 января мы были на широте Карачи, в четырех-пяти десятках миль от побережья и шли вдоль него на восток. Тур послал радиограмму — через Бахрейн в Норвегию — с просьбой получить для нас разрешение на визит в Пакистан. Ответ пришел быстро. Нам дозволялось посетить любой пункт пакистанской территории.
Мы должны были ступить на землю близ устья великого Инда. Там, где причаливали некогда камышовые прапращуры "Тигриса", откуда стартовали, возможно, и прародители шумеров, отправляясь заселять и цивилизовывать Двуречье.
Далее наш путь должен был продолжиться посуху, в глубь материка, к занесенному песками, сенсационно обнаруженному, таинственному, когда-то многолюдному, доарийскому, протоиндийскому городу Мохенджо-даро (на языке синди — Холм мертвых)…
Я не археолог, не филолог и не очень-то разбираюсь в этнографических проблемах. Но увиденное там меня потрясло. Мы приехали поздно вечером, переночевали в гостинице — и на утренней заре увидели город.
Он огромен, прекрасно распланирован. Широченные улицы, мощенные кирпичом. Кирпичные дома. Бани, бассейны, почти под стать нынешним. В городе была даже подземная канализация и водопровод. И всему этому великолепию — пять тысячелетий! И одновременно — немногим более полувека. Потому что именно в 20-е годы начались сенсационные раскопки в этой местности.
В музее Мохенджо-даро собрано множество любопытного, добытого при раскопках. Блюда, кувшины, украшения, каменные гири, статуэтки, оружие… И сотни амулетов-печатей.
Тур шел по музею, как собака по следу. Потом он хвастался, что его вело предчувствие. И предчувствие не обмануло. В витрине под стеклом лежала печатка, на которой различалось изображение плетеной лодки, с хижиной на палубе, с загнутыми кверху носом и кормой, — вылитый "Тигрис"!
Тур, завидев кораблик, аж задрожал. Немедленно сфотографировать! Зачем же мы сюда ехали, если не за этим? Но тут возникли сложности: печатка лежала в витрине, под стеклом. А стекло бликовало, мешало съемке.
Мы попросили открыть витрину. Нам ответили, что это совершенно невозможно, категорически запрещено правилами. Санкционировать отступление от правил мог только лично министр туризма, и никто иной. Позвонили в министерство. Там не отвечали. Была пятница, выходной, о чем нам вежливо и напомнили.
Но ведь Хейердал в Мохенджо-даро — ситуация не совсем ординарная. И наши сопровождающие это прекрасно понимали. Они посоветовались и предложили такой план: мы выйдем на время из зала музея, а хранители откроют витрину и приблизят экспонат к ее стеклу. Затем витрину опять закроют, мы войдем в зал и начнем снимать.
Тур, ободренный частичным успехом, попробовал его развить: "Давайте мы заодно сфотографируем печать в ваших руках". Но здесь уж работники музея не уступили. Мы покинули зал и вернулись в него через несколько минут. Печать лежала теперь, прижатая вплотную к стеклу витрины. Видно ее стало намного лучше.
Карло вынул свои фотокамеры, специальные объективы, удлинительные кольца, фильтры для уничтожения бликов… Снимок был сделан. Тур торжествовал: одолел-таки бюрократизм.
Еще когда мы ехали в Мохенджо-даро из Карачи, то остановились — мало ли зачем — у какого-то болотца, заросшего камышом.
— Узнаете? — заулыбался Тур.
Действительно, в болоте рос иракский берди! Феноменально! Способность Тура натыкаться на искомое поистине внушала мистический трепет.
— А может, камыш здесь исконный житель?
— То-то и оно, что нет. Берди, насколько помню, в долине Инда не растет.
— Что ж, ты хочешь сказать, что…
— Именно! Его сюда завезли. Высеяли ненароком или намеренно, и он прижился!
— И пять тысяч лет дожидался встречи с нами, — пробормотал скептик Карло, но ввязываться в полемику не стал.
Корреспондентом советского телевидения в Пакистане был Александр Королев. Едва мы познакомились, он взял надо мной — следовательно, и над нашей экспедицией — действенное шефство. И — спасибо ему — предложил свою машину и себя в качестве водителя для поездки в нужный нам район. Этим он нас здорово выручил, потому что нанятый микроавтобус был совсем маленький и трястись бы нам в неудобстве и тесноте. А ехать в Мохенджо-даро ни много ни мало полтыщи километров в один конец…
У Саши были неотложные дела и, не дожидаясь остальных, пожелавших задержаться, мы вернулись с ним в Карачи. Я ночевал у него дома, а наутро, пригласив с собой телеоператоров, мы поехали к "Тигрису", отдыхавшему у пирса.
Репортаж для "Клуба кинопутешествий" снимался с разрешения Хейердала. Но все-таки, чтобы не дразнить гусей из консорциума, я на лодку никого не стал приглашать, да и сам не поднялся на борт, а стоял с микрофоном в маленькой лодочке на фоне "Тигриса" и рассказывал. Моим товарищам возвращаться в Карачи было еще рано, я это знал и не беспокоился, поскольку на нашей ладье виднелись фигуры караульных.
После съемки поехал в наше консульство, выступил там перед сотрудниками, встретился с работавшими в Карачи советскими специалистами, а вечером мы пошли с Сашей в гости к его приятелям…
Отходили от Карачи 8 февраля и, как всегда, с приключениями. Волочась на буксире, запнулись о буй, отпихивались шестами, ногами и ободрали корму. Потом около суток болтались, ловя ветер, на внешнем рейде и даже выбросили плавучий якорь, чтобы не затащило обратно в порт.
Заболел Тур: его свалил приступ почечной колики, третий за время путешествия и самый сильный из трех. Шприц он отверг категорически, лег с грелкой — авось к утру полегчает. Не полегчало. Анализ мочи показал кровь и белок. Видимо, зашевелился камешек.
Это было следствием берега: питались мы на стоянках кое-как, наспех, бесстрашно пробовали местную пищу. В результате, как минимум, — диспепсия.
Тур лежал в хижине, ничего не ел, только пил. Тревожил он меня крайне. Ведь обещал беречься — и сплоховал. К слову сказать, он был трудный пациент. Любую таблетку пробовал на зуб, выяснял, от чего ношпа, от чего бускопан и как он взаимодействует с левомицетином. Температура держалась 37,7. Я решил, если назавтра не спадет, — начну инъекции антибиотиков.
Вдобавок еще и Норрис гнусавил простудно (и не принимал таблеток), чихал Эйч-Пи. Океан же не сочувствовал нам, ярился, вбивал в нас моряцкий дух…
Ночью подул ветер, и к утру стихия разыгралась. Пробную оплеуху получили за завтраком: волна выдала добрых двести килограммов воды прямо на стол. Следующие, не менее полновесные, въехали "Тигрису" поочередно в обе скулы. Вахту несли по двое. Парус был на грани заполаскивания. Дважды за прошедшие сутки объявлялся аврал…
Господи, что была за ночка! Руль скрежетал. Лодка тяжело уходила вправо, затем, перевалив на 240 градусов, срывалась в запретные 270 градусов. Мы возвращали ее назад, не давая уйти за 210… Туда, сюда, слаломная гонка, бешеные качели!
Море являло собой зрелище фантасмагорическое: казалось, что оно горит. Причудливые светящиеся змеи на гребнях валов ползли на судно и разбивались о него миллиардами искр. Гигантские тусклые пятна возникали, взрываясь в глубине, меняли форму, мерцали, двигались. При вспышке зарницы мелькнул у борта зловещим призраком силуэт дау. Шлепанье, ворчанье, урчанье — "Тигрис" ворочался, как кит.
— Ветер очень сильный! — заорал я выглянувшему из хижины Норману.
— Ладно. — Он ушел на нос ослабить шкоты.
Держал руку на румпеле: 240, 250, 270, пора! Жал рукоятку внутрь, и она проваливалась, как в воздушную яму. Ветер изменил направление…
— Все наверх! Парус вниз!
Парус пополз не вниз, а вперед и вправо, сейчас вырвется, улетит… Страшный треск!
— Рей?!
Нет, это треснула верхушка мачты, самый кончик, трехметровый кусок.
Грот метался перед лодкой, как сумасшедший непогашенный парашют. Гасили его кое-как, прижимали к борту, комкали, втаскивали на крышу хижины. И все это в кромешной тьме.
Бросили плавучий якорь. Приладили на форштах брезентовое подобие аварийного стакселя. Потом сели и пригорюнились…
Опять огорчение: рецидив колики у Тура. Накануне он три часа подряд дежурил на мостике (согнав оттуда остальных) и откушал пряного за обедом. Пришлось снова объяснять ему, какой диеты следует придерживаться. Нарисовал картину: почка, мочеточник, пузырь, камень — и втолковывал, что к чему и какой может быть исход. В ответ — знакомые возражения: "Ощущаю себя лишним, если не работаю, как все".
Врач, исцелися сам! Ухитрился и я подцепить ОРЗ — не иначе от Германа. Голова была тяжелая, нос заложен… Единственной отрадой для глаз были рыбьи пляски. Ничего подобного никто из нас не видел. Корифены ходили косяками, взметывая тучи летучих рыбок, и дружно выскакивали из воды на огромной скорости, совершая каскады прыжков по семь-восемь метров.
Наблюдали двух барракуд сантиметров по восемьдесят каждая. Барракуда великолепна. Стремительная, похожая на стрелу, телом напоминает щуку, окраской — как булатная сталь.
Определили, что же это такое — луны-рыбки, которых мы поймали вчера. Тур порылся в справочнике и нашел: триггер-фиш. Живет обычно среди кораллов. На воздухе пойманная триггер-фиш потемнела, а когда ее пустили плавать в ванночку для мытья посуды, опять стала сиреневой с белесыми пятнами. На спине у нее триггер — шип, которым она при необходимости намертво цепляется к кораллу.
Ловили и едва не поймали акулу-молот, гигантскую рыбину в три с половиной метра от пасти до хвоста. Охотничьих переживаний хватило потом до ночи: вспоминали, как она атаковала наживку, как цапнула, попалась, ушла под "Тигрис", сорвалась, — и долго еще из-под лодки всплывали облака мути с ошметками камыша…
Проснулся оттого, что солнце светило в лицо. Зажмурился, отвернулся, но какая-то мысль мешала дремать, скользила в глубине сознания, пытаясь вынырнуть и напомнить о чем-то знакомом.
Вспомнил. Точно так же начиналось утро на "Ра" — солнце будило, и ветер на мостике обдувал справа и сзади. И компас показывал те же 260 градусов. Тогда мы пересекали Атлантику, теперь же всего-навсего стремились войти в Аденский залив…
Частенько беседовали с Карло, вспоминали с ним старое доброе время на "Ра". Воспоминания, естественно, были окрашены в розовый цвет. Однако, справедливости ради, нам и на "Тигрис" грех было жаловаться. Жили, в общем, дружно, последний отрезок маршрута нас особенно сблизил. Может быть, помогало предчувствие скорого окончания экспедиции, а может, легче было оттого, что теперь мы точно знали, куда идем. Да и быт наш наладился, стереотип поведения определился.
Было уже ровно три месяца с момента нашего старта. Повод? Повод. Карло приготовил дивные спагетти, Тур полез в личные закрома за икрой. И вот в центре стола появилось блюдо с пудингом. Эйч-Пи объявил: "Конечно, пудинг для одиннадцати человек маловат, но если в него добавить коньяк, он вырастет".
Он взял бутылку и полил пудинг. Тот начал приподниматься: из него показался воздушный шар, который рос, рос, стал огромным и лопнул со страшным треском. Эти разбойники, Эйч-Пи с приятелями, как выяснилось, просверлили в столе дыру, пропустили через нее трубку, соединенную с баллончиком со сжатым воздухом, и надули шарик…
4 марта. Разбудило пение. У моей постели ребята хором выводили "Многая лета" в весьма вольном переводе. Асбьерн держал поднос с двумя блинами и чашкой кофе. Все потребовали, чтобы я это тут же съел. Подсунули мне под спину свернутый матрац. Сидели вокруг улыбающиеся, я даже смутился: "Не по правилам!" И стал оделять всех кусочками блина с джемом.
Как выяснилось, Эйч-Пи стряпал со вчерашнего дня. Муки у нас не было, яиц — тоже, и он долго протирал овсяные хлопья, смешал потом их с яичным порошком. Поджарил все на противне, сбил что-то вроде крема с фруктовым сиропом, и к обеду был готов великолепный торт по случаю моего дня рождения. Кондитер-самоучка придал ему форму пирамиды, а на вершину ее водрузил щепочку с клочком бумаги, на котором было начертано "Русский флаг".
Рашад принес баночку маринованной летучей рыбы — невероятно нежная и вкусная получилась селедка. Я разрезал вяленую корифену, открыл коробку с марципаном, сбереженную с Рождества.
Не обошлось и без спиртного: "Столичная", виски, вино, бутылочка потрясающе вонючей китайской водки — дар Германа. Пели "Счастливого дня рождения". День получился прекрасным, поистине праздничным. Приятно, когда тебя любят.
А главного подарка — из эфира — я так и не дождался. Правда, то, о чем мечтал, сбылось на следующий день. Но лучше бы совсем не сбывалось, чем так. Слышимость была отвратительная, не разобрать и трети того, что Ксюша пыталась мне сообщить. Дальний-дальний родной голос — и никто был не в силах его приблизить…
Ночь наступила тихая, спокойная. Справа была Полярная звезда, слева Южный Крест, позади всходила луна, носатая, как наш "Тигрис". За кормой шел косяк корифен…
13 марта. Освободили стол для бумаг и разместились за ним все, кроме Германа, который нес вахту. Тур сформулировал преамбулу:
— Четыре месяца лодка на воде, состояние ее нормальное. Проделан интересный путь, и экспедиция идет к финишу. Отсюда — три подлежащих обсуждению важных вопроса. Первый — все ли намерены финишировать вместе или кто-нибудь желает покинуть судно до срока?
Карло первым отрицательно покачал головой, остальных не нужно было и спрашивать.
— Спасибо, — торжественно сказал Тур. — Вопрос второй. На нашем пути, близ входа в Красное море, государство Джибути со столицей Джибути. Разрешение на визит есть. Заходить или не заходить?
Мы принялись взвешивать "за" и "против".
Зайти, конечно, заманчиво: помыться, постричься, постирать, отдохнуть. С другой стороны, потеря темпа, лишние расходы, угроза заболеваний — лучше не заходить. Но, с третьей стороны, у нас отсутствовали навигационные карты района, кинопленка была на исходе, желательно было и закупить овощи, фрукты, обновить запасы воды… Значит, все-таки заходить?
Можно было, впрочем, выбрать среднее. Устроить рандеву с каким-либо зафрахтованным кораблем, милях в пятидесяти от Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы нам подвезли необходимое. А заодно бы и провели через пролив, ибо он узок, а судов в нем много и велика опасность столкнуться.
Пожалуй, это был оптимальный вариант. Было решено связаться с Би-би-си. Не помогут они — делать нечего, причалим в Джибути.
Заключительный пункт повестки нашего большого совета касался уточнения координат реального финиша. Пришла пора определить, в какой конкретной точке мы закончим свой поход.
Красное море на карте похоже на рыбу. Там, где у рыбы жабры, в пятистах километрах за проливом, на территории Эфиопии стоит приморский город Массауа. Неподалеку от него течет Нил; земли вокруг некогда входили в древнеегипетское царство. Именно на этих землях заготавливался не так уж и давно папирус для "Ра-1" и "Ра-2". Более подходящего места на побережье нам не найти: Массауа достаточно крупный транспортный центр, из которого удобно разъезжаться и разлетаться. Итак, решено? Все согласны?
Не все — Норман возражал: он требовал идти дальше, к нынешнему Египту. Приводил доводы: путешествие, начатое в стране зиккуратов, должно закончиться в стране пирамид, иначе кольцо маршрута не замкнется. Говорил об изяществе научной идеи и чистоте эксперимента. Похоже, он был уже больший ревнитель теорий Тура, чем сам Тур. И тут же проговорился:
— Если мы финишируем в Массауа, получится, что мы прошли всего три тысячи девятьсот миль, а нам нужны хотя бы четыре тысячи. Для круглого счета.
Вон оно в чем дело!
— Зря ты, Юрий, улыбаешься. Ты плохо знаешь психологию нашей публики. Недаром цены у нас никогда не бывают с нулями. Три доллара девяносто девять центов — это не четыре доллара, это, уверяю тебя, гораздо меньше!
— Правильно. Беспроигрышная система. Но мы же не спортивный рекорд ставим и не для будущих лекций стараемся. До Массауа, между прочим, еще добрая тысяча миль (простите, тысяча восемьсот пятьдесят два километра), и не рано ли делить шкуру неубитого медведя?..
18 марта показался маленький остров — скалистый бугорок посреди океана. Назывался он Каль Фарун. А острова Абд-аль-Кури мы не увидели, так как он остался южнее. В 17.30 нас нагнали два небольших одинаковых судна. Поняв, что рандеву неминуемо, Тур скомандовал:
— Снимите куртки!
Речь шла о подаренных мною куртках с московской олимпийской эмблемой. Суда проходили, одно по штирборту, другое по бакборту, — типовые советские СРТМ, "Анапский" и "Ачуевский".
— Наденьте куртки! — распорядился Тур. Потом попросил меня: — Если есть возможность, попробуй их остановить: нам нужны навигационные карты и овощи.
Я усиленно замахал "Ачуевскому". На нем застопорили машину, вернее, перевели на "самый малый" — и мы с Асбьерном сплавали к ним на "Зодиаке". Привезли, кроме карт Аденского залива, мешок картошки, несколько буханок хлеба, здоровенного морского окуня и огромный пакет замороженных шеек лангустов.
Тур и остальные только ахали, принимая подарки. Мне же было приятно, что снова наши моряки оказались на высоте.
В кубрике "Ачуевского" минут пятнадцать рассказывал команде о путешествии и поймал себя на том, что хотел бы рассказывать дольше. Мы ведь немало повидали за эти месяцы. Хотя приключений, таких, чтобы у слушателей дух захватывало, как будто и не было.
Ночью на мостике Герман с восторгом вспоминал встречу:
— Поразительно, лишь русские корабли останавливаются и помогают нам!
Ценное признание из миллионерских уст…
19 марта. Больных на борту нет. Вчера капитан нашего траулера предупредил, что в заливе нас ждет безветрие и влажная жара. Судя по всему, начиналось то и это: мы были уже совсем недалеко от Африканского Рога.
Скорость наша упала, и все же мы побили свой собственный рекорд! Прошли за минувшие сутки 65 миль: нас активно тащило течение. День был отмечен знаком обжорства. Рыбина и лангусты могли испортиться, а выбрасывать такое лакомство — преступление. Эйч-Пи зажарил шейки в масле и приготовил дивный соус. После обеда все едва двигались. На ужин предполагался жареный окунь с картошкой…
Был очередной радиоконтакт. Он меня расстроил — дети нездоровы, Ксюша, видимо, устала и нервничала. У меня было такое чувство, будто я позвонил с юга, с курорта, и не вовремя — дома забот полон рот и люди с ног сбились, а ты им про красивые восходы и закаты рассказываешь.
Действительно, если взглянуть со стороны, то мы здесь блаженствовали. Но ведь это было совсем не так. Нам бы лучше сейчас подошел крепкий ветер или шторм и тяжелый физический труд.
Вышли на траверз Рога. К утру 20 марта ветер усилился, и мы двигались довольно прилично. Соответственно нас и качало. Было окончательно решено остановиться в Джибути. Тур уже строил планы, как бы войти в порт Джибути поэффектнее. Его идеи крутились вокруг весел. Пусть бы Би-би-си пригласило человек двадцать гребцов, они бы разместились вдоль бортов, и зрелище получилось бы, как на древнеегипетских фресках…
Герман планировал слетать из Джибути в Мексику, привезти оттуда компрессор и подводные светильники, которые сам же с Бахрейна в Мексику и отослал…
Курс держали вест-зюйд-вест. Моя вахта была с двух до четырех ночи. Вместе с Карло. Мы поговорили мирно, спокойно, потом замолкли, каждый думая о своем. Звезды, луна, волны и парус настраивали на молчание, а скрипы лодки и стрекотание сверчков создавали музыкальный ненавязчивый фон…
Отчего нас упрямо сопровождали одни и те же рыбы? Мы уже знали их, как говорится, в лицо. Они пересекли вместе с нами Аравийское море, прошли около двух тысяч километров без отдыха, без сна — что их влекло? Непонятно…
24 марта в 17.30 стали свидетелями полного лунного затмения. Мы не знали, что оно предстоит, и поэтому, когда Герман заметил на луне странную тень, заспорили, что это. Споры разрешила лоция, в которой о затмении предупреждалось. Луна постепенно скрылась в тени Земли, и на ее месте образовался красивый красновато-коричневый шар. Он был особенно красив при наблюдении в бинокль.
Тур сказал: "Чего только мы с вами не насмотрелись! Арабский Восток, Индия и даже вот — лунное затмение!"
Все чувствовали, что путешествие близится к концу, и наша временная обитель от этого становилась нам дороже и дороже.
Стояли ночную вахту вместе с Эйч-Пи. Разговор наш был совсем уже сухопутный: кто чем будет заниматься после окончания экспедиции. Эйч-Пи собирался наняться на буровую установку в Атлантике:
— Там хорошо платят, а ведь я сейчас живу в долг: правительство дало мне кредит на время обучения, и я обязан вернуть эти деньги.
Слушая его, я думал: вот и разбегаемся кто куда и через какое-то время спохватимся — да полно, был ли "Тигрис"? А Эйч-Пи продолжал:
— Теперь я, наверное, плавать не брошу. У друга есть парусная лодка, а потом когда-нибудь куплю свою — и в море. Только нужна гипотеза. У тебя нет лишней гипотезы?
Мы рассмеялись. И оба знали, над чем.
Утром 27 марта нас посетил первый посланец суши. Забравшись на мостик, я увидел, что Карло фотографирует дивную тропическую птичку с длинным тонким носом и красивым гребешком-хохолком.
Утром же я наблюдал пиршество крабиков. На лодке их было множество, они совсем маленькие, 4–5 сантиметров в диаметре, очень шустрые и любопытные. Днем они обычно грелись на солнышке, выползали на палубу или сидели на борту. Двое жили на корме. Я прозвал их Федя и Маша, они были трогательно дружны и всегда вместе. За ночь на борт залетело не меньше десятка рыбок, и крабики с аппетитом их ели.
В хижину влетел Норман. Он совершал омовение и натолкнулся на что-то вроде медузы, и это "что-то" обстрекало его. Протер его нашатырем, заодно поврачевал и руки Рашада, который опять плавал у бортов и привязывал брезент. Ладони его были сплошь изрезаны. Обработал их спиртом и пластизолем, замечательным спреем, застывающим бактерицидной пленкой.
Тору стоял у борта и вглядывался.
— Не кажется ли тебе, что видна земля? — спросил он.
Я всмотрелся — да, земля. Это же подтвердил с мостика Норрис:
— Ура, Тору увидел землю!
— Не просто землю, — уточнил я. — Тору увидел Африку.
— Ха-ха! — не поверил Норрис. — Это не Африка, это Аравия.
Однако взяв азимут, мы убедились: исторический момент настал. 28 марта 1978 года в 12.40 "Тигрис" достиг берегов Африки. Вскоре мы увидели и соседнюю Аравию. И пролив между двумя материками. Теперь уже до Джибути было рукой подать…
Услышали шум мотора. С правого борта очень низко и на большой скорости приближался самолет. Он прошел бреющим полетом над самой мачтой. Лодка мгновенно стала похожей на муравейник — все бросились за камерами. Тур кричал: "Снимайте незаметно!" Самолет был военным, противолодочным разведчиком, с французскими опознавательными знаками. Он трижды облетел нас и скрылся в направлении Джибути.
Прострекотал вертолет, военный, американский, за ним — другой, французский, тоже военный. Выскочил из-за горизонта "Мираж", спикировал на "Тигрис" и буквально с трехсот метров взмыл свечой. Норман, бывший летчик с "Каталины", аплодировал: "Великолепно! Браво, пилот!"
Но мы не испытывали особой радости. Мы входили в зону, где выглядели так же неуместно, как скрипучая телега на военном параде. В Сомали переворот, в Эфиопии — революция. Конкретной политической обстановки мы, конечно, не знали. Знали только, что, несмотря на ее напряженность, нам надо где-то пристать.
В Народно-Демократический Йемен мы могли идти хоть сейчас, но Аден уже остался в стороне. Аравия не годилась — для завершения путешествия требовалась Африка. Значит, в соответствии с планом, — Джибути. Во всяком случае — как промежуточная остановка, на которой мы смогли бы оглядеться и что-то решить.
Под крупным дождем втягивались в заливчик Таджура (на карте Аденского залива он как щербинка). Слева вдали сияло зарево Джибути, справа — фонари города Обок. Они виднелись ближе, чем полагалось, — зюйд-ост, пусть и слабый, явно прижимал нас к противоположной обочине.
Неуютно было в этой дождливой ночи, среди проблесков, мерцаний и перемигиваний, между многих огней, на пороге чужого дома. Скользнули мимо тенями эсминцы, один, второй, третий, не обратив на штатскую букашку ни малейшего внимания.
В шесть утра показалась яхта. Встретились без сантиментов. Подали на яхту канат, подаренный нам "Славском", и спустили грот — на диво четко, со щегольством бывалых мореходов. Даже сами поразились своей сноровке.
Открылся порт, и мы поняли, что попали не куда-нибудь, а на военно-морскую базу, — корабли, плавучие доки… Все серое, стальное, устрашающее. Сновали рассыльные катера и десантные боты…
Официальных торжеств по поводу нашего визита не устраивалось. Пришвартовались у стенки, там, где нам указали. Гостеприимный норвежский консул забрал нас к себе. Вымылись у него по очереди в ванне. Потом стали размещаться на постой.
Фешенебельные отели были нам не по карману. Трое — Тур, Карло и Герман — поселились в небольшой гостинице, шестеро других — в местном спортклубе, в кирпичных одноэтажных башенках-бунгало. А меня и Нормана пригласил в свой дом Петрос Рейсян, армянин по рождению, здешний старожил, коммерсант. Он торговал здесь запасными частями к автомобилям и отводил душу в радиолюбительстве.
Рейсян был нам давно знаком по эфиру. Едва курс "Тигриса" пролег на Джибути, он вызвался представлять здесь наши интересы. Посредничал между нами и Би-би-си, помогал фрахтовать яхту. Гостей выбрал себе по корпоративному признаку: Нормана — как собрата-радиета, а меня — потому что собрат Агабеков просил: "Приедет мой друг, ты уж о нем позаботься". Нам было хорошо у Петроса.
Утром 30 марта я пришел на "Тигрис", залез в хижину и увидел Эйч-Пи. Он сидел и о чем-то думал. Я спросил:
— С чего начнем? С проверки веревок?
— Вряд ли мы в этом нуждаемся. Похоже, мы завершили экспедицию здесь.
— Не понял. Как завершили?
— Ни в Эфиопию, ни в Северный Йемен нас не зовут. Не могут гарантировать нам безопасность.
Позже, вспоминая все, спрашивал себя: явилось ли то, что я тогда услышал, неожиданностью для меня? Нет, не явилось. Изумление, растерянность были секундными. В сущности, мы ждали того, что произошло.
Отправились в гостиницу, где остановился Тур и где он назначил команде встречу. Но он задерживался — наш капитан был на приеме у президента Джибути. Появился он часов в одиннадцать. Нашли удобное место в тени под тентом, уселись вокруг стола, и Тур начал:
— Мы совершили большой путь, чтобы доказать, что в древние времена люди могли плавать из Месопотамии в Дилмун, Макан, долину Инда и оттуда в Африку, и готовы этот путь продолжить. Лодка наша в прекрасном состоянии, и пока мы в море, проблем у нас нет…
Действительно, с камышом берди проблем у нас было меньше, чем с папирусом, и "Тигрис" был не "Ра". У него и в момент прибытия в Джибути, через пять месяцев плавания, от воды до палубы было чуть больше метра. Его можно было бы поставить в док, на стапель, подремонтировать, подсушить, а там — плыви хоть в Австралию… Или вывезти "Тигрис" на каком-нибудь корабле из Джибути? Не оставлять же его гнить здесь в порту. Но куда вывезти? Лодка была большая, тяжелая. Если ее готовую с трудом сталкивали в воду мощные "КрАЗы", то за эти месяцы она намокла, ее вес увеличился во много раз. Для перевозки нужен был корабль, нужны были немалые деньги. А консорциум не был в этом заинтересован: фильм о плавании сделан, остальное их не касалось…
Тур продолжал:
— Стоит, однако, свернуть к берегу, как начинаются сложности. Мы вынуждены добиваться разрешения, власти не ручаются за нашу безопасность. Джибути — единственное более или менее тихое пристанище в огромной зоне. Но первое, что мы увидали здесь, военные геликоптеры, самолеты, суда, скопление вооруженных людей. Нам твердят об опасностях, которые подстерегают нас. И эти опасности особого рода: не штормы, не рифы, а угроза быть подбитыми снарядом или ракетой. Мы можем идти через Баб-эль-Мандеб в Красное море. Но что там делать? Где пристать? Где завершить экспедицию? Мы сейчас как бездомные бродяги, как изгои, которым нет места под солнцем. И все это устроили те, кто бесконечно разглагольствует о мире и одновременно разжигает войну…
В Джибути, где "Тигрису" нельзя было оставаться из-за очень сложной обстановки, французский адмирал предложил Хейердалу отбуксировать нас своим кораблем, что никак не вязалось с мирными целями нашей научной экспедиции. Когда адмирал предложил это, Тур возразил: "Да вы понимаете, что это такое?! Чтобы "Тигрис" пошел на буксире за военным кораблем?!!" И тогда у Хейердала возникла мысль о том, что необходима акция протеста против того, что мы увидели здесь. Он думал всю ночь и вот теперь, утром, мы услышали совершенно неожиданное:
— Я воевал с гитлеризмом и любую агрессию категорически не приемлю. Сегодня ночью, получив очередное сообщение из очередной страны о нежелательности нашего визита, я принял очень тяжелое для меня решение. Я решил закончить экспедицию здесь, в Джибути, и решил сжечь "Тигрис". Этот акт будет символизировать наш протест против варварства. Я хочу еще раз напомнить людям о том, что войны, убийства людей — противоестественны…
При речи Тура о сожжении "Тигриса" присутствовали представители Би-би-си. Они поставили условие: все до последнего момента должно остаться тайной. Консорциум не желал конкуренции. Закабалив "Тигрис" при жизни, он намеревался стричь купоны и с его похорон.
Нам надо было бы заупрямиться: путешествие кончилось, договор утратил силу, дальше мы можем действовать как хотим. Но мы не заупрямились — были слишком подавлены. Слишком свыклись с мыслью, что мы подневольны…
Я только смог предупредить Ксюшу по радио: "Будьте внимательны, завтра передам очень важное сообщение". И не имел права намекнуть, о чем.
Понедельник, 3 апреля 1978 года… Мы уже забрали с лодки свои личные вещи, выгрузили оборудование, предназначенное для музея "Кон-Тики". Весь день отдыхали, купались, но о "Тигрисе", как по уговору, не было сказано ни слова. Да и что мы могли сказать — нам ведь предстояло сжечь свой дом, и никто из нас не хотел поднести спичку…
Петросу сказали с чистыми глазами: "Идем на киносъемки". Подняли парус, отдали швартовы и пошли. Недалеко, за пять миль. К островам Аль-Муша, куда несколько дней назад так стремились.
Возле островов яхта, сопровождавшая нас, взяла "Тигрис" на буксир. Выбрали в заливчике место, поставили нашу ладью на два якоря…
Кинооператоры, Норрис, Герман и Тору, сошли на берег, заняли позиции каждый для своего ракурса. Изготовились. За фотографии отвечал Карло. Остальным заниматься съемкой Тур запретил…
Мы облили горючим палубу "Тигриса", разложили по ней тряпки, одеяла, полотенца. Времени потратили много — не хотелось спешить. Солнце уже садилось, когда мы переправились на островок и стали на самой его кромке…
Последним с "Тигриса" приплыл Эйч-Пи на "Зодиаке". Он выполнял обязанность пиротехника — закладывал в хижине взрывное устройство…
Мы стояли на берегу и ждали…
Через пятнадцать минут вспыхнуло, грохнуло. Поднялся огненный столб, и "Тигрис" запылал. Он горел долго, долго, долго…
Горел мостик, где мы сражались с веслами и компасом. Горела хижина, на потолке которой когда-то я прикрепил Ксюшин портрет. Горела корма обиталище крабиков Феди и Маши…
И обеденный стол горел, с вырезанной Рашадом доской для игры в нарды. Горела и завалинка, на которой Эйч-Пи рассказывал мне смешные добрые сказки…
Долго держалась мачта, непонятно на чем. Она рухнула, когда "Тигрис" начал изнутри светиться…
И вот уже не было ни мостика, ни хижин, ни мачты. Над водной гладью залива Таджура горел стог сена, ярко и жарко, как способна гореть сухая трава. Мелькнула мысль: Боже мой, а ведь мы ни разу не подумали, что на судне может случиться пожар!..
Понемногу огонь утихал, тьма сгущалась. Это к лучшему: нам всем в эти минуты нужна была темнота…
Потом мы сели на яхту и вернулись в порт. А там по пирсу уже метался Петрос. Он был вне себя:
— Юрий, что же вы со мной делаете? Я чуть не получил инфаркт! Это же ужасно! Почему вы ничего мне не сказали? Я сидел со своей Мими возле дома, любовался закатом и вдруг увидел этот огромный столб дыма. И какой-то взрыв и потом пламя! И сразу радио Джибути передало, что горит "Тигрис" и что судьба экипажа неизвестна! Представляете, что я пережил?!
Что я мог ему сказать?
Сели в машину, поехали к нему. Он говорил:
— Ты понимаешь, Валерий на связи, спрашивает, что у вас там и как, скоро ли приедешь? Ты же обещал дать ему какое-то важное сообщение, а я не соображаю, как ответить, тем более что на связи и твоя жена!
Немедленно вышли в эфир. Я сообщал о событиях, которые произошли, диктовал открытое письмо Тура Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму. Валерий в Ессентуках все это записывал, записывал и Костя в Москве, и Ксюша слушала. Они быстро обработали запись, так быстро, как могли, и Ксюша поехала в ТАСС.
А там от нее шарахались, прятали глаза, ибо версия джибутийского радио уже попала в агентство Франс Пресс, а оттуда — по всему миру.
Сейчас ясно, что мы совершили большую глупость. Нам надо было бы послать Би-би-си ко всем чертям. Широко разрекламировать нашу акцию: звать журналистов, трубить во все трубы, что мы идем сжигать "Тигрис", что мы против войны! Приезжайте, посмотрите!
Именно так надо было сделать! Тогда бы мир воспринял случившееся совсем иначе. Но мы, повторяю, были настолько растеряны, настолько потрясены прощанием с "Тигрисом"…
А консорциум не спешил раскачиваться. Дал себя обогнать и корреспондентам Франс Пресс, и какому-то расторопному репортеру, подскочившему на следующий день к Аль-Муше. Мы растаскивали остатки лодки, а репортер, оказывается, нас снимал. И продал пленку в двадцать стран, с текстом, что, мол, камышовая лодка терпит бедствие.
Получалась совершенная невнятица. Открытое письмо Тура так никто и не открыл. Когда я потом уже, несколько позже, приехал в Норвегию, обо мне в газетах писали: "Сенкевич прибыл защищать Хейердала". И допытывались, что я думаю по поводу бесславного финала экспедиции. Я отвечал: "Обо всем этом четко заявил Хейердал. Где у вас опубликован его документ? Где же ваша свобода печати?"
Чем мог выразить свое отрицание милитаризма Тур Хейердал, не государственный деятель, не официальное лицо, а всего лишь руководитель маленькой экспедиции? Он выразил его единственным доступным ему способом. Не оставил "Тигрис" гнить в окружении дредноутов на военно-морской базе.
Это был "протест по Хейердалу". Можно упрекать его в наивности, в идеализме, в прекраснодушии. Я не раз говорил и повторяю опять: если бы земля была населена Хейердалами, она была бы прекрасна…
Охрану аэропорта в Джибути осуществлял французский Иностранный легион. Мы сдали багаж, поехали на автобусе на посадку. Недалеко от самолета всех попросили выйти. В окружении легионеров в шортах, в камуфлированных куртках, касках с сеточкой пассажиры должны были опознать свои вещи. Опознанные погрузили в самолет. Это была предосторожность против воздушного терроризма. Таким и запомнилось мне расставание с Джибути: легионеры с каменными лицами, их взгляды поверх тебя, пальцы на спусковых крючках автоматов, направленных тебе в живот…
Промежуточная посадка была в Эфиопии — требовался ремонт отказавших двигателей. Через двенадцать часов наконец-то вылетели в Рим. Оттуда на поезде мы с Карло поехали к нему на север Италии, в Лекко. Погостив у него несколько дней, я через Милан вернулся в Москву: торопился попасть домой к дню рождения Даши, к 16 апреля…
ДВЕ ВЕРШИНЫ ПЛАНЕТЫ
В марте 1979 года с острова Генриетты, самого северного из группы Новосибирских островов, стартовала полярная экспедиция газеты "Комсомольская правда". Ребята во главе с Дмитрием Шпаро должны были на лыжах достичь Северного полюса. И наш Институт медико-биологических проблем принимал в подготовке этого перехода самое непосредственное участие.
С Димой Шпаро я познакомился задолго до этой экспедиции, еще тогда, когда выпускник Московского университета, его механико-математического факультета, был пока никому не известным энтузиастом, полным интересных идей о походах в Арктику. Он сам нашел меня: позвонил, пришел домой. Нам было о чем поговорить — ведь путешественник пришел к путешественнику, недавно возвратившемуся из плавания на "Ра". У меня тогда уже была определенная известность, а Диме требовалась помощь в осуществлении его арктических планов. И самой большой его мечтой было — достичь пешком Северного полюса.
Незадолго до встречи со Шпаро я познакомился со знаменитым нашим летчиком-полярником Ильей Павловичем Мазуруком, неоднократно бывавшим со своим самолетом на Северном полюсе, много лет работавшим в Арктике… Я позвонил ему и попросил разрешения прийти к нему в гости с Димой.
Они долго разговаривали, Дима рассказывал ему о своем намерении дойти до полюса автономно, объясняя все детали подобного похода. Мазурук терпеливо слушал его, а потом сказал:
— Дима, я долго жил и работал в Арктике. Я хорошо знаю то, что может вас ожидать в таком путешествии. Поэтому скажу тебе прямо — без поддержки извне пройти таким способом к полюсу невозможно.
В 1971 году при редакции газеты "Комсомольская правда" была создана полярная научно-спортивная экспедиция, готовившаяся осуществить лыжный поход к "макушке" Земли. Но до этого было еще далеко. Ребятам предстояло совершить несколько тренировочных походов в Арктике. Весной 1972 года они прошли от Чукотки до острова Врангеля через пролив Лонга; через четыре года прошли от острова Врангеля до дрейфующей полярной станции "СП-23"…
У них были интересные маршруты и интересные результаты. Мне же наиболее интересной кажется та их экспедиция, во время которой они сделали удивительную находку — продовольственные склады полярного исследователя Эдуарда Толля, погибшего еще в 1902 году.
Ученые вскрыли консервы тех лет — и супы, и каши, — шоколадные конфеты и еще многое другое, и после проверки оказалось, что продукты вполне сохранили свою годность. Часть найденных консервов оставили там, где их заложили когда-то полярники. Кроме того, решили в склады Толля положить и современные продукты, те, которые входят в рацион космонавтов, — для будущей проверки на сохранность. Договорились вскрыть все эти продукты через пятьдесят лет…
Когда пришло время готовить поход на лыжах к Северному полюсу, ученые нашего института много помогли группе Шпаро. Они разрабатывали для них рацион питания, в который входили белковые добавки и витамины. Кроме того, высококалорийные продукты должны были быть и облегченного веса, поскольку рюкзаки ребят имели определенные ограничения.
Наши сотрудники, в частности Михаил Алексеевич Новиков, который вел с группой Шпаро работу еще с 1971 года, помогали и при психологической подготовке. Разрабатывались также образцы походного снаряжения, продумывались различные его варианты. Так что это был не просто спортивный поход к вершине планеты, а настоящая научная программа медицинских и психологических исследований. Врачей, физиологов, психологов интересовали особенности приспособления человеческого организма к экстремальным условиям длительного лыжного перехода в Арктике.
Ребятам помогали не только мы, медики: готовилось авиационное, метеорологическое, штурманское обслуживание. Экспедиция была обеспечена радиосвязью. Каждые две недели к группе Шпаро вылетал самолет и сбрасывал им продукты, горючее. И не только это — им сбрасывали также и тесты, которые для них готовил М.А.Новиков.
И вот 1 июня 1979 года Шпаро сообщил, что они находятся там, где сходятся все меридианы Земли. Но еще задолго до этого дня в поселок Черский на Колыме съехалось множество людей — журналистов из газет, ТАСС, АПН, с телевидения, кинооператоров… Среди тех, кто жаждал попасть на "верхушку" Земли, чтобы запечатлеть торжественный момент, оказались и поэт Андрей Вознесенский, и знаменитый журналист из "Комсомолки" Василий Песков, и не менее знаменитый полярник Артур Чилингаров… От телевидения были и мы с оператором Юрием Чернятиным.
На двух самолетах "АН-2" вся славная команда вылетела на полюс. Приземлились. Людей никого не видно, стоит только палатка. Я пошел к ней. Вижу — палатка плотно закрыта. Подхожу и слышу в ней какой-то разговор понять нельзя, только звуки голосов… Открываю круглый "рукав", просовываю в него свою физиономию:
— Люди! — И слышу неожиданный по оригинальности вопрос:
— О! Юра! Откуда ты здесь?
Действительно, откуда? С неба упал!
После астронавигационных работ определили точное нахождение полюса. Состоялся торжественный митинг. Летчик одного из самолетов подарил ребятам, обожженным солнцем и ветром ("Лица людей, обугленные, как тигли…" написал Андрей Вознесенский), букетик подснежников, сорванных специально для этого случая на берегах Колымы. Я привез с собой для подарка "космические" тюльпаны, упакованные в специальные плексигласовые контейнеры и побывавшие на орбите. Как и все, я совершил за минуту "кругосветное" путешествие, обежав вокруг штыря, воткнутого в лед в точке Северного полюса. Конечно, дрейфом нас немного снесло от настоящей точки, но это уже не имело особого значения.
Затем все вернулись в Черский, где прожили несколько дней. Опять, как и перед броском к полюсу, мы питались в одном-единственном на весь поселок ресторанчике. Однажды Дима, глядя на команду "идеологического сопровождения", сидевшую за столом, бросил фразу: "Не слишком ли много знаменитостей на один километр Арктики?"
Естественно, у себя в "Клубе кинопутешествий" мы сделали целую передачу, посвященную лыжному походу группы Шпаро к Северному полюсу. Она вызвала тогда большой интерес у зрителей. Тогда — да! А сейчас подумалось: произойди все это в наши дни, вряд ли резонанс был бы подобен тому, что было в 1979 году. Теперь нас уже ничем не удивишь… Но мужество ребят от этого не перестало быть мужеством…
На следующий год ученые Института медико-биологических проблем стали участвовать в подготовке еще одной экспедиции — на этот раз в Гималаи. Советские альпинисты решили подняться на высочайшую вершину планеты Эверест. Директор института О.Г.Газенко вошел в состав оргкомитета экспедиции и стал научным руководителем темы "Эверест", предложив мне быть ответственным исполнителем этой темы.
К работе были привлечены многие наши сотрудники. Профессор Аркадий Сергеевич Ушаков вместе с Марком Белаковским занялись разработкой рациона питания спортсменов для разных высот. Работавший в моем отделе биолог Евгений Гиппенрейтер занимался солевыми добавками для питьевой воды. Наши специалисты по одежде создавали и испытывали образцы спортивного облачения альпинистов для таких больших высот. Геннадий Давыдов, тот самый, кто первым из нашего института побывал на станции "Восток", занимался подготовкой кислородно-дыхательной аппаратуры, с которой спортсмены должны были выйти на штурм Эвереста. Баллоны были сделаны из армированной пластмассы, маски делались по нашим эскизам. Аппаратура, созданная с учетом уже накопленного нами опыта, получилась легкой, надежной и ни разу не подвела.
Мы осуществляли программу отбора альпинистов, близкую к программе отбора кандидатов для полета в космос. В чем-то отбор спортсменов был даже сложнее и жестче. Проверяя их устойчивость к гипоксии, мы помещали альпинистов в барокамеру, где проверялся "высотный потолок" каждого из них. В барокамере их "поднимали" до высоты 9-10 тысяч метров, при этом усложняя задачу тем, что задавали разного рода вопросы типа "Сколько будет четырежды пять?" Дело в том, что по мере увеличения "высоты" человек начинает отвечать не всегда точно, путаться, ошибаться. Своеобразный рекорд установил во время таких испытаний алмаатинец Юрий Голодов, который "поднялся" в барокамере на высоту 11 000 метров без кислорода и выдержал.
Не довольствуясь такими исследованиями, мы решили усложнить эксперимент, связавшись с Институтом биофизики. У них были большие барокамеры, где можно установить велоэргометры. На них наши альпинисты "проигрывали" подъем на такую "высоту", на которую каждый мог подняться при большой физической нагрузке. Пока человек крутил педали, его Постепенно "поднимали". Кажется, выше 7500 метров никто уже не смог выдержать таких нагрузок.
Конечно, эксперименты были трудные, сложные, но альпинисты шли на них сознательно, поскольку каждый хотел попасть в группу тех, кто пойдет на штурм Эвереста. А стремились туда все альпинисты, мало-мальски известные. В конце концов была отобрана команда — 12 основных и 6 запасных участников.
Руководителем экспедиции был назначен Евгений Игоревич Тамм, известный альпинист (сын академика И.Е.Тамма, физика, лауреата Нобелевской премии). Старшим тренером команды был Анатолий Георгиевич Овчинников, доктор технических наук, а председатель Федерации альпинистов СССР, кандидат медицинских наук Б.Т.Романов был тренером. Борис Тимофеевич работал у нас, занимался физической подготовкой космонавтов.
Все эти отборы, проверки и исследования шли почти три года, и к весне 1982 года состав команды был ясен. За это время мы не просто обследовали спортсменов, но и выезжали с ними на тренировочные сборы. Однако на заключительном этапе формирования команды возникли сложности с включением в нее именитого альпиниста Эдуарда Мысловского.
Наша строгая комиссия не дала своего согласия на то, чтобы он участвовал в экспедиции на Эверест: у Эдуарда при нагрузках были признаки некоторой коронарной недостаточности. Но и Е.И.Тамм, и А.Г.Овчинников очень хотели, чтобы Мысловский шел с ними на Эверест. Овчинников приехал ко мне и стал просить, чтобы мы что-нибудь сделали для включения Мысловского в состав команды. Я был бы и рад дать разрешение, но ведь медики вынесли свое заключение. Тогда Анатолий Георгиевич предложил: "Ну разрешите ему хотя бы, чтобы он пошел с ограничением высоты".
Мы ухватились за эту идею. Я договорился с Юрием Мухарлямовым (вообще-то он был Нурмухамед Мухамедович, но мы звали его Юрой), привез Эдуарда к нему в Институт кардиологии, который тоже участвовал в подготовке экспедиции, и попросил обследовать альпиниста еще раз. В результате Мухарлямов скрепя сердце все же написал свое заключение, что до высоты 6000 метров спортсмен может подниматься… Эдика Мысловского удалось включить в группу восхождения. И так случилось, что именно он был тем, кто вместе с Владимиром Балыбердиным первым из наших альпинистов покорил высотный "полюс" Земли.
Для штурма Эвереста наши спортсмены выбрали самый сложный маршрут — по юго-западной стене, где еще никто из альпинистов до них не проходил. Это был сложнейший из возможных вариантов подъема. Для создания базового лагеря у подножия Эвереста на высоте 5640 метров экспедиция вылетела в марте 1982 года.
Я тоже очень хотел полететь вслед за нашими ребятами, и потому, что был ответственным исполнителем научной темы "Эверест", и потому, что хотелось сделать материал для "Клуба кинопутешествий". Директор института тоже был за это, но у нас не нашлось средств для такого рода командировки. А на телевидении у нашей программы тогда еще не было собственной съемочной группы.
И на помощь мне пришла главный редактор нашей редакции Нина Александровна Севрук. Вместе с ней мы пошли к самому главному телевизионному начальнику — Сергею Георгиевичу Лапину. Она убедила его послать ведущего "Клуба кинопутешествий" вместе со съемочной группой передачи в базовый лагерь экспедиции.
Это было тем более необходимо, что в нашей передаче мы уже не раз рассказывали зрителям об истории покорения Эвереста, полной драматизма и подлинного героизма. Зрители были уже как бы подготовлены к тому, что в заключительной передаче на эту тему мы расскажем о нашей гималайской экспедиции не с помощью чужих киноматериалов, а, как говорится, из первых рук, прямо с места событий…
Согласие мы получили. И это была, по сути дела, наша первая собственная группа и первые собственные съемки. Режиссером был Валерий Лещинский, а оператора искали долго: почему-то руководство решило, что он должен быть альпинистом, хотя ни я, ни Валерий таковыми не являлись. Искали, искали и все же нашли — у нас на телевидении оказался всего один оператор-альпинист. Это был Марик Трахтман.
Втроем мы вылетели из Москвы в Дели. Потом перелетели в столицу Непала Катманду. Отсюда нам предстояло добираться до небольшого поселка Луклы, расположенного на высоте 2800 метров. От него начинается дорога в глубь Гималаев, к Эвересту.
Но вылететь туда мы смогли не сразу, потому что погодные условия в Лукле не позволяли приземляться самолетам в течение нескольких дней.
Перед отъездом из Москвы кроме ограниченных средств меня снабдили указаниями, как надо собирать разного рода финансовые документы о наших тратах — для будущего отчета перед бухгалтерией. И вскоре я почувствовал всю муторность этой процедуры и проклял все на свете, поскольку за несколько дней вынужденной задержки в Катманду, кажется, только этим и занимался.
Каждый день с утра мы готовились вылетать: собирали свой багаж, аппаратуру, потом гостиничная обслуга все это спускала вниз, грузила в такси. Мы приезжали на аэродром, подбегали носильщики, все выгружали, заносили в здание, мы начинали сдавать багаж… И со всеми этими людьми я расплачивался, получая от них квиточки, квитанции, чеки или расписки…
Мы садились в ожидании рейса на Луклу, но выходил какой-нибудь работник аэропорта и сообщал, что сегодня рейса не будет, так как Лукла закрыта для самолетов. И процедура повторялась в обратном порядке: носильщики, такси, гостиничные работники, затаскивание нашего скарба в номер… И так несколько раз. Под конец я уже был на пределе выдержки…
Наконец-то мы вылетели. С нами в самолете был только наш багаж и никаких попутчиков. Подлетая к Лукле, я понял, почему полеты сюда так сложны и опасны. Перед самой Луклой самолет влетает в ущелье, поэтому здесь используются только небольшие машины. Летя по ущелью, самолет потом должен развернуться почти на 90 градусов, чтобы зайти на посадку.
Полоса в Лукле необычная — она начинается от края ущелья и упирается в скалистую стену. Идет она с небольшим подъемом вверх, поэтому при посадке как бы гасит скорость самолета, который и без того тормозит. А при взлете наклонная полоса "разгоняет" машину вниз. Точно попасть на начало полосы не просто важно, но жизненно необходимо.
Когда мы подлетали к Лукле, то видели, что внизу, в ущелье, лежат обломки самолетов — тех, кто не дотянул до начала полосы, а в конце ее, у скалы, и обломки тех, кто "перетянул", сел в середине полосы, не успел погасить скорость и врезался в гору. Что и говорить — увиденное не вызывало оптимизма. К счастью, наш полет закончился благополучно.
Вся экспедиция уже давно находилась в базовом лагере у подножия Эвереста. Ребята начали подготовку к восхождению, создавая на маршруте промежуточные лагеря на пути к вершине. Всего таких лагерей было пять. Последний, штурмовой, на высоте 8500 метров, был установлен 3 мая, а на следующий день начался штурм Эвереста.
Нам же еще предстояло за несколько дней пройти пешком 140 километров от Луклы до основного, базового лагеря, чтобы встретить там альпинистов, покоривших высочайшую вершину Земли, поднявшись на 8848 метров.
В Лукле нами занимался мистер Тава, заведовавший местной туристической службой. Поселили нас в какой-то домик, каких здесь было немало. Дома в Лукле устроены весьма просто: крыши у них приподняты, поскольку внутри находится очаг и дым от него выходит через крышу. По оживленному блеску в глазах нашего приветливого хозяина я понял, что с русскими мистер Тава уже успел познакомиться и расположиться к ним. Это и подтвердилось вскоре в нашем разговоре:
— У русских есть хорошая вещь, называется водка.
— Знаете, а у меня есть русская водка экстра-класса, только очень крепкая. Самая крепкая водка в России.
— Интересно было бы попробовать.
Так в чем же дело? Хочется тебе попробовать — попробуй! Проблем нет. У меня с собой был небольшой "жбанчик" с чистым спиртом. Из него я отлил некоторое количество универсального лекарства в свою "заслуженную" фляжку, с которой плавал еще на "Тигрисе". Правда, тогда я держал в ней питьевую воду. Сейчас она в мягком чехле была при мне. Из нее я и налил мистеру Таве полстаканчика.
Непалец хватанул чистого спирта… Ну, думаю, сейчас он тут же и свалится — Тава был небольшого росточка, на вид хлипкий. Ничего подобного! Выжил! Только крякнул с восхищением: "Да-а-а! Вот это настоящая водка!" И тут же предложил мне местного пива "чанг". Я согласился, чтобы поддержать компанию.
Принесли какой-то беловато-мутноватой жидкости. Я отпил из своего стакана незнакомого напитка, который чем-то напоминал по вкусу нашу брагу. Только нашу брагу делают где из хлеба, где из свеклы, а непальцы делают свое пиво из риса. Если бы я знал, ка-ак они это делают…
Оказывается, рис сначала варят до полуготовности, потом его жуют и выплевывают в бочку, где все это должно бродить. По мере готовности массы ее процеживают, сливают в кувшины и… приятного аппетита.
На этом мое знакомство с местной жизнью не кончилось. Вскоре после нашего приезда ко мне пришел один человек, как оказалось, англичанин, и спросил:
— Я слышал, вы врач?
— Да, а что случилось?
— Я себя что-то плохо чувствую, у меня кашель…
— Ну тогда давайте я вас прослушаю.
Я осмотрел его и обнаружил левостороннюю пневмонию. Воспаление легких да еще в условиях высокогорья — вещь малоприятная. Я сделал ему укол антибиотиков, дал отхаркивающее, сказал, чтобы он пришел на укол и завтра. Но при этом настоятельно порекомендовал завтра же и улететь из Луклы. Взяв рецепт и выслушав рекомендации, пациент ушел.
Наутро я сделал ему еще одну инъекцию антибиотиков и повторил требование улететь первым же самолетом. Через какое-то время он опять заявился, но уже с необычной просьбой. Оказалось, что чиновник из администрации аэропорта требует прихода врача, который должен подтвердить, что англичанину действительно требуется срочная эвакуация. Иначе он не соглашался пропустить его без очереди, поскольку в аэропорту скопилось немало желающих вылететь в Катманду.
Пошли с ним в аэропорт. Вижу, к администратору действительно стоит внушительная очередь и в начале ее возвышается убедительных размеров дама, как оказалось, француженка.
Я направился прямо к окошку, стал объяснять даме, что я врач, что должен срочно эвакуировать больного, что у него температура, что он может погибнуть, если не улетит из Луклы.
— Мадам, позвольте мне пройти без очереди. Этот мистер — англичанин, ему требуется помощь…
— Ах, так он англичанин! И я еще должна пропустить его!!! — Тут уж она дорвалась до возможности показать, как они, французы, относятся к англичанам. Нашла коса на камень! Хорошо еще, что не дошло до исторических претензий…
Я понял, что договориться с ней не получится, и решил, что здесь уже не до галантности. "Взяв ее на бедро", точнее, плечом я несколько отодвинул строптивую француженку, и мы прошли к местному чиновнику. Все уладилось, и незнакомый мне англичанин смог вылететь из Луклы…
Через какое-то время мы тоже стали собираться в путь, тем более что режиссер и оператор меня торопили. Но, как врач, я понимал, что нам нужно время на адаптацию к условиям высокогорья: маршрут предстоял многодневный и все время на подъем.
Мистер Тава всячески старался нам помочь, обеспечивая носильщиками и яками. Я попросил его достать еще и лошадь, чтобы часть пути проехать верхом. "Да-да! Вам хорошо иметь еще и лошадь, тем более что у вас такая хорошая водка". Яснее не скажешь: будет водка — будет лошадь. Если со спиртом проблем не было, то с лошадью приключился конфуз. Мистер Тава привел мне лошадь, но какую-то странную: такую низкую, что ни о каком сидении на ней не могло быть и речи — она свободно могла пройти между ног.
Пришлось налить еще стакан. Лошадь, уже повыше, появилась на следующий день. При этом мистер Тава предупредил, что лошадь может подниматься только до высоты 3600 метров, до Намче-Базара, столицы шерпов, где животное следует оставить.
Наконец мы тронулись в путь. Яки, носильщики и я во главе каравана на коне и под зонтиком. Зрелище — необычно красочное! Встречные непальцы, которые спускались по тропе, идущей из глубины Гималаев в Луклу, останавливались едва ли не с открытыми ртами, глядя на непонятное белое тело в шортах, верхом на странной лошади, да еще под зонтиком… Лошадь все-таки пришлось оставить после первого же дня пути и отправить назад. Решили, что собственные ноги надежнее.
Основными дорогами в этой части Непала являются тропы — они соединяют населенные пункты, по ним движутся и многочисленные туристы, посещающие этот удивительный край. Поэтому непальцы следят за тропами, по возможности благоустраивают их. По пути расположены "отели", своего рода сараи, хижины, где в одной комнате устроены полати, на которых спят путешествующие, а носильщики располагаются в другой комнате.
Грузы в основном переносят на себе, на спинах, в легких плетеных корзинах, сужающихся книзу наподобие кулька. Этот конусовидный кулек внизу упирается в нечто типа пращи, а сверху корзину с грузом держит кожаный ремень, который накинут на лоб. И все носильщики с палками, у которых странной формы ручка — она вроде буквы "Т". Мне очень хотелось заполучить такую палку, но сколько я ни торговался, никто из носильщиков не согласился ее продать. Потом я понял, почему они не хотели расставаться с ними.
Эти палки им необходимы для отдыха. Садиться каждый раз с грузом на землю и отдыхать нельзя — потом ведь предстоит вставать с этой тяжеленной корзиной. А если остановиться и подставить палку с ручкой под, извините, зад, то получается своего рода стул, на который можно опереться и немного передохнуть.
Меня удивляли наши носильщики, скромные, тихие и благодарные люди. И при этом поразительно неприхотливые. Их выносливость поражала.
По мере того как мы поднимались все выше и выше, становилось холоднее, а ночи здесь везде были холодные, несмотря на весенний период. Наши носильщики шли в тапках типа "вьетнамок", плохо одетые. Можно было представить, каково им приходилось. Потом мы отдали им кое-что из своей одежды, чтобы хоть как-то утеплить своих помощников.
Сам я перед отлетом на Эверест экипировался по первому классу благодаря заботам Карло Маури. Он снабдил меня альпинистской пуховкой, спальным мешком… Карло уже бывал в Гималаях, знал особенности здешнего климата, знал и местный комфорт на тропе, поэтому надавал мне массу полезных советов.
Первое время мы шли вдоль горной речки, берущей начало на Эвересте. Красота вокруг была невероятная. Невдалеке виднелись снежные вершины Гималаев, завораживающую магию которых не мог передать даже Рерих — мне кажется, никому из людей это не под силу. Дойдя до Намче-Базара, оставили здесь яков, потому что дальше животные идти уже не смогли бы. Поменяли носильщиков. Теперь нам помогали шерпы, жители этих мест.
Так мы поднялись до монастыря Тьянг-Боче, расположенного на высоте 3800 метров. И попали в райские кущи. Здесь, в Гималаях, в отличие от других гор на такой высоте росли деревья — елочки, сосны. И совершенно невероятно среди этих хвойных деревьев выглядели рододендроны. Причем не кусты, как у нас на юге, а самые настоящие деревья. Я нигде больше такого не видел. И при этом каждое дерево было сплошь усыпано цветами: одно белыми, другое розовыми, третье сиреневатыми… Освещенные солнцем, на фоне темной хвои, они производили незабываемое впечатление. Тут же бегали и фазаны разнообразной расцветки. Тишина стояла удивительная. Слышно было только журчание ручейков, вода которых крутила молельные барабаны. Но с заходом солнца ощущение, что ты в раю, исчезает — холодно.
Мы осмотрели монастырь, потрогали молельные барабаны, отдохнули и двинулись дальше. Тропа теперь не была столь благоустроенной, как между Луклой и Намче-Базаром, но все равно на ней нам встречались спускавшиеся со склонов Эвереста туристы. Встретили мы двух студенток-англичанок, совершавших путешествие по разным странам. Потом была пожилая дама, которая спускалась от подножия Эвереста в сопровождении двух носильщиков. Мы обратили внимание, что они несли некое сооружение, напоминавшее наш дачный "скворечник". Так и оказалось: дама путешествовала в горах со своим индивидуальным туалетом. Она рассказала нам, что бывает здесь регулярно, сначала приезжала с мужем, а теперь, после его смерти, решила побывать там, где они путешествовали вместе.
А потом мы встретили и нескольких человек из нашей экспедиции. После того как базовый лагерь был подготовлен и группа восхождения вышла на маршрут к вершине Эвереста, часть экспедиции была отправлена вниз, в Намче-Базар, для отдыха…
Наконец мы поднялись на высоту нашего базового лагеря и смогли приступить к тому, ради чего проделали неблизкий путь из Москвы. Здесь мы узнали о тех драматических обстоятельствах, которые сопровождали победу наших альпинистов.
Ребятам пришлось идти к вершине в тяжелейших условиях: в том году с погодой творилось что-то неладное. Восхождение планировалось проводить в предмуссонный период, наиболее благоприятный для этого. А тут как назло почти ежедневно шел снег, дули ветры, стояли морозы. Это внизу, на высоте базового лагеря. А наверху, на пути к вершине было намного сложнее.
22 марта команда начала подъем, создавая по пути промежуточные лагеря — на высоте 6500 метров, потом 7350 метров и далее, все выше и выше. Группа в два-три человека шла вверх, создавала очередной лагерь и возвращалась в предыдущий. Этот поэтапный подъем для создания промежуточных лагерей имел целью еще и акклиматизацию альпинистов к большим высотам. В такие походы вверх-вниз ходил и Эдуард Мысловский. Но ему по медицинским рекомендациям можно было делать это до высоты примерно третьего лагеря. Четвертый же лагерь был устроен на высоте 8000 метров, а пятый, который было поручено создать им с Владимиром Балыбердиным, был еще на 500 метров выше.
Те, кто выстроил этот график организации промежуточных лагерей, сами альпинисты-профессионалы, прекрасно понимали, что та группа, которая пойдет создавать последний перед вершиной лагерь, и будет первой штурмовой. Потому что, организовав лагерь на высоте 8500 метров, когда до вершины остается чуть больше трехсот метров, возвращаться вниз не имеет смысла. На это и был расчет.
Когда Мысловский и Балыбердин шли организовывать пятый лагерь, Эдика, видимо, уже уставшего, в какой-то момент перевернуло вверх ногами — тяжелый рюкзак перевесил его. Из рюкзака выпал кислородный баллон. Вернувшись в нормальное положение, он продолжил подъем к месту, где они должны были создать последний лагерь.
Доложив по рации, что лагерь заложен, ребята получили разрешение идти на вершину. И вот 4 мая, рано утром, в экстремальных условиях снегопада, ветра ураганной силы и очень низкой температуры Эдуард Мысловский и Владимир Балыбердин пошли на штурм Эвереста. При этом Балыбердин шел без кислорода, который он отдал Эдику, и первым из наших альпинистов ступил на высотный "полюс" Земли. Следом за ним поднялся Мысловский. Это случилось примерно в 14.30. А через час ребята начали спуск с вершины…
В это время на восхождение шла вторая двойка — Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Они достигли пятого лагеря, когда уже начинало смеркаться. Первой двойки там еще не было. Спуск всегда сложнее, чем подъем. Уставшие Эдик и Володя двигались очень медленно: за два часа они прошли вниз всего метров пятьдесят. Наступал вечер, и им грозила холодная ночевка на высоте 8800 метров. У Мысловского кончался кислород. Стало ясно, что до пятого лагеря им не дотянуть. И тогда навстречу им с горячим питанием, с кислородом стали подниматься Сергей Бершов и Михаил Туркевич. Была опасность, что в темноте, при вое ураганного ветра они не увидят и не услышат ребят. Но, слава Богу, обе двойки все-таки встретились.
Получив кислород, подкрепившись, Владимир и Эдуард теперь могли продолжить спуск к лагерю. А вторая двойка, находившаяся рядом с вершиной, попросила по рации разрешения начать подъем, так как к тому времени тучи рассеялись, появилась луна и ветер немного стих. Так состоялся уникальный ночной подъем на высочайшую вершину Земли… А первая двойка, обессиленная, двигалась очень медленно. Когда Сергей и Михаил стали спускаться с вершины, то догнали Эдика и Володю все еще на пути к лагерю. Они помогли им добраться до него, затащили в палатку, где вчетвером и переждали ночь.
С 4 по 9 мая на вершине Эвереста побывали одиннадцать наших альпинистов, причем был еще раз совершен ночной подъем.
Мы встречали ребят в базовом лагере, где брали у них интервью и проводили съемку для "Клуба кинопутешествий"… Подъем на Эверест обошелся Эдуарду Мысловскому дорого: ему пришлось ампутировать фаланги нескольких пальцев, которые он отморозил на вершине в тот памятный день. В разговоре со мной он сказал слова, которые я запомнил: "Нормальная цена за Эверест".
Вскоре после завершения гималайской экспедиции, в подготовке которой принимали участие сотрудники нашего института, у нас произошли некоторые изменения. Небольшие отделы, занимавшиеся отбором и подготовкой космонавтов, было решено реорганизовать и создать Центр медико-биологической подготовки космонавтов-исследователей гражданских ведомств. Заниматься организацией нового большого подразделения, в котором стало работать более пятисот человек, поручили мне. Я же и возглавил потом работу Центра.
Тот же 1982 год памятен для меня и очень печальным событием: экипаж "Ра" недосчитался еще одного из своих матросов… Скоропостижно скончался мой дорогой друг Карло Маури…
Недалеко от городка Лекко в северной Италии, где он жил, в горах есть специальная трасса, оборудованная для скалолазов. Трасса трудная, так что подняться по ней — достаточно большая нагрузка. Карло, чтобы поддерживать свою форму альпиниста, раза два в неделю приезжал сюда для тренировок.
И вот он пошел в горы в очередной раз, оставив машину внизу, на дороге. Поздним вечером один из жителей Лекко, проезжая мимо, увидел ее стоявшей на обочине и сразу узнал: в окрестностях все знали Карло Маури и его машину. Человек забеспокоился — почему машина стоит здесь ночью, а хозяина не видно? Он пошел вверх по трассе и через несколько сот метров наткнулся на лежавшего Карло.
Он отвез его в больницу, где установили диагноз — обширный инфаркт. Придя в сознание, Карло попросил, чтобы прислали русских врачей. После того как наш знаменитый хирург Г.А. Илизаров вылечил Карло поврежденную ногу, чего долго не могли сделать в других клиниках, Маури доверял только русским врачам.
Когда мне сообщили о том, что мой друг в больнице и что он просит о приезде врачей из Советского Союза, я тут же бросился к заместителю министра здравоохранения О.П.Щепину. Замечательный, отзывчивый человек, Олег Прокопьевич помогал мне и прежде — когда надо было направить Карло на лечение в клинику Г.А.Илизарова. Согласился он помочь мне и теперь. Но для этого требовалось лишь одно — официальное обращение итальянской стороны. Итальянцам надо было или срочно связаться с нашим посольством в Риме, или обратиться в посольство Италии в Москве, чтобы оно попросило Министерство здравоохранения СССР направить в Лекко группу врачей. Без официального документа, только лишь по просьбе Сенкевича сделать это было нельзя. Но итальянские чиновники непростительно все затянули…
Когда Карло умер, я решил тут же вылететь в Милан, но теперь уже наши чиновники посчитали, что мне нечего делать на похоронах. Страшно расстроенный, я рассказал все нашему главному редактору Нине Александровне Севрук. Она же рассказала о моей ситуации мужу, который работал в ЦК КПСС. В.А.Севрук сам позвонил мне:
— Юра, не расстраивайтесь. В конце лета наша делегация вылетит в Милан на ежегодный фестиваль газеты "Унита". Мы вас включим в состав делегации. Вы выступите там раза два, а потом я отпущу вас, чтобы вы смогли поехать в Лекко.
Так и вышло. Я прилетел в Милан, выступил на празднике газеты итальянских коммунистов, а потом на неделю уехал в Лекко. Побывал на могиле Карло… В Милан я вернулся перед самым отлетом нашей делегации в Москву.
ПУТИ И ВСТРЕЧИ
За прошедшие годы было немало интереснейших поездок в разные места нашей планеты. И о каждой можно рассказывать и рассказывать. Но особо стоит рассказать о моем втором пребывании в Антарктиде, правда, на сей раз намного более кратком.
В феврале 1990 года мы вылетели туда со съемочной группой нашего "Клуба кинопутешествий", чтобы встретить участников международной экспедиции "Трансантарктика". Планировалась прямая трансляция этой встречи посредством телемоста.
В состав международной трансантарктической экспедиции входили представители шести стран — США, Франции, Великобритании, Китая, Японии. От нашей страны в ней участвовал 39-летний Виктор Боярский, специалист в области радиогляциологии, кандидат физико-математических наук.
Они прошли на лыжах и собачьих упряжках более 6000 километров: пересекли ледовый континент от Антарктического полуострова через Южный полюс, нашу станцию "Восток" и финишировали в Мирном. И 221 день перехода они шли автономно, без чьей-либо помощи извне. Это был самый протяженный маршрут, когда-либо проложенный по Антарктиде. Как сказал потом Виктор Боярский (написавший впоследствии книгу об этой экспедиции), "одни из самых трудных дорог на Земле — дороги через Антарктиду".
Мы вылетели из Москвы на огромном "ИЛ-76", сделали промежуточную посадку в Мозамбике, в Мапуту, и через несколько часов приземлились на советской станции "Молодежная". Оттуда на другом самолете, знакомом мне по прежней зимовке "ИЛ-14", нас должны были перебросить в Мирный, который находится от "Молодежной" на довольно большом расстоянии — более 2000 километров.
Шел 1990 год, но в Антарктике все еще летали те же "ИЛ-14", давно выработавшие весь свой мыслимый и немыслимый конструктивный ресурс. И так случилось, что именно тогда, когда мы приземлились на станции "Молодежная", с одним из самолетов местной авиации произошло ЧП — пилот в условиях плохой из-за пурги видимости посадил машину "на брюхо", разбив очередной "ИЛ-14", пятый на его счету. Этот лихой летчик славился на всю Антарктиду тем, что каждый раз, совершая вынужденную посадку и разбивая самолет, оставался жив.
Это происшествие было только прелюдией к тому, что пришлось испытать нам во время перелета в Мирный, — Антарктида показывала свой нешуточный нрав.
Мы вылетели в Мирный на двух самолетах, где кроме нас были и другие, иностранные журналисты и съемочные группы. На полпути от "Молодежной" есть промежуточная посадочная полоса на законсервированной сейчас станции "Оазис". Мы сели там, чтобы дозаправиться, но вылететь не смогли: Мирный не принимал из-за плохой погоды. Пришлось оставаться на неопределенное время.
Относительно недалеко (учитывая местные масштабы) находились другие полярные станции, и мы решили навестить австралийцев. Сели на вездеход и поехали в гости. Но наша поездка не прошла без приключений: мы застряли по пути на станцию. Связи у нас не было, и мы просто потерялись. Ориентиров вокруг — никаких, одни снега. В конце концов нам удалось как-то выкарабкаться на своем вездеходе и добраться до австралийской станции.
Но нас ждало разочарование — людей на ней не было, видимо, они куда-то уехали. Зато в утешение себе мы нашли там апельсины. Съели по апельсину и двинулись в обратный путь, и опять едва не заблудились. С грехом пополам переночевали на нашей станции, ожидая "добро" из Мирного. Наконец оно было получено, и мы вылетели.
Мы были в воздухе достаточное время, когда пилот сообщил нам, что Мирный опять не может нас принять и что надо возвращаться на станцию "Оазис". Я сказал ребятам: "Возвращаться — плохая примета. Надо как-то отвлечься от этого". Мое замечание было принято весьма конкретно, и мы стали "отвлекаться" обычным русским способом. Самолет наш был далеко не новый, в нем все дребезжало, как в старом разболтанном такси. Летели мы почему-то долго, по крайней мере, нам так показалось. Но было до того хорошо в компании, что мы как-то не особо обращали внимание на это, пока не поняли, что заходим на посадку. Но почему заходим так долго, сообразили не сразу.
Мы оглянулись по сторонам только тогда, когда почувствовали, что уже сели. Открылась дверь пилотской кабины, к нам вышел командир экипажа. Смотрю, а тельняшка на нем — хоть выжимай. Я удивился и сказал:
— Ну, ты хорош! Что же это ты себе там такую температуру устроил?
В ответ я услышал весьма эмоциональное, выразительное, универсальное наше русское наречие, а потом и собственно объяснение:
— Ты бы хоть в окошко глядел, когда мы садились! Мы же заходили на посадку семнадцать раз!
Оказалось, что он посадил нас в условиях отсутствия видимости и что мы висели на волоске. Когда уже в полете нам сообщили из Мирного, что там не могут нас принять, мы пошли назад. В это время ухудшилась погода и в районе "Оазиса", и он тоже не мог нас принять. Но деваться было некуда — до "Молодежной" нам было не дотянуть, не хватало горючего. Был один выход снова лететь на станцию "Оазис", а там вокруг сопки, скалы… Как летчик нас посадил, как мы не разбились — одному Богу известно…
Погода все-таки вскоре установилась, шторм и пурга в районе Мирного прекратились, и мы добрались до своей цели. Конечно, через двадцать с лишним лет Мирного я не узнал — это был совершенно другой поселок. Теперь в нем стояли новые дома на сваях, поэтому их не заносило снегом. Те, прежние наши домики так и остались под снегом, и в них никто не спускался. Они теперь были там как память о былом Мирном. На месте были только знакомые ориентиры: сопки Радио и Комсомольская, островки в заливе Правды. Да бродили старые знакомцы — пингвины-симпатяги…
Антарктическое лето кончалось, погода была неустойчивой — то солнечно и даже тепло, то начинало задувать. Вот тогда-то я впервые по-настоящему и ощутил, какие здесь, на побережье бывают ветры, стекающие с купола Антарктиды к океану.
Ветры были страшной силы, такие, что, когда идешь и тебе дует в спину, на этот воздушный поток можно "лечь" под углом в 45 градусов и только переставлять ноги — тебя просто несет. Зато идти навстречу ветру было довольно трудно еще и потому, что в лицо летела снежно-ледяная пыль, мешающая дышать.
В Мирном со дня на день ждали появления международной трансантарктической экспедиции. Одновременно здесь же ждали и возвращения со станции "Восток" санно-тракторного поезда, отвозившего туда для зимовщиков необходимое оборудование, горючее и продукты. Они двигались к Мирному каждый своим курсом.
И вот 3 марта 1990 года члены экспедиции вышли на последний отрезок маршрута. Километров за пять до Мирного, когда ребята уже спустились к побережью, навстречу им вышел небольшой вездеход, на котором с нами была и жена Виктора Боярского Наташа. Увидев лыжников и собачьи упряжки, водитель вездехода остановился метрах в ста от них. Наташа выпрыгнула из машины и побежала по ледяным застругам. Навстречу ей уже мчался на лыжах Виктор… Мы засняли эту волнующую сцену…
Все шестеро членов экспедиции, преодолев за семь месяцев труднейшие 6000 километров, не потеряв ни одной из стартовавших с ними в июле 1989 года собак, финишировали в Мирном. Их встречали по русскому обычаю хлебом-солью.
Конечно, неизменную симпатию вызывали собаки, огромные ездовые эскимосские лайки, маламуты. Мохнатые, мощные, с добродушными мордами, раскосыми глазами, маленькими ушками — красоты необыкновенной…
Мы возвращались домой прежним маршрутом — из Мирного перелетели на "Молодежную", едва не опоздав на "ИЛ-76" из-за погоды, потом были Мозамбик, Аден, Москва…
В стране происходили большие перемены, ситуация осложнялась. Описывать события начала 90-х годов вряд ли стоит — они всем памятны. Менялась страна, менялось время, менялось и телевидение. Для нашей передачи (которая теперь называется "Клубом путешественников") тоже начался непростой период — возникали (и продолжают существовать до сих пор) немалые сложности. Уже не было проблем с выездом в разные страны, но реальными стали проблемы финансирования этих поездок, съемок там необходимого материала. У нас остро встал вопрос производства собственных фильмов.
Мы обратили внимание, что на телевидении все меньше и меньше становилось видеоматериалов о России. И тогда возникла мысль сделать телевизионный "Атлас России". К тому времени студии документальных фильмов начали испытывать всем понятные трудности, производство фильмов резко пошло на убыль, корреспонденты перестали привозить материалы о российских регионах — не потому, что кто-то не был в этом заинтересован, а по причине нехватки средств на такие съемки.
Вот для того, чтобы восполнить этот пробел, мы и начали договариваться с различными регионами нашей страны, чтобы в рамках большого и долгосрочного проекта вести там съемки. Мы уже сделали большие фильмы о Хакассии, о Горном Алтае, о Калмыкии, о Татарстане, о Вологодской области… "Подбираемся" к Рязанской, к Архангельской областям… Работа эта очень интересная и продолжится в будущем.
С еще одним проектом связаны и наши поездки в Португалию, где мы не раз проводили съемки. До какого-то момента у нас Португалию знали гораздо меньше, чем, скажем, Испанию, Францию или Италию. И напрасно — ведь Португалия пусть и небольшая страна, но удивительно интересная. Ей же принадлежат не менее привлекательные для туристов Азорские острова, остров Мадейра… Мы показали в своих передачах эту страну во всем ее разнообразии, и смею утверждать — содействовали тому, что как бы повернули наших туристов к Португалии.
Выше уже упоминалось о том, что в киноархивах мы нашли фильм В.А.Шнейдерова о Йемене, снятый им еще в 20-е годы, когда эта страна была для европейцев весьма загадочной. Мы давно хотели побывать в Йемене, сделать новый фильм о его теперешней жизни, о его истории, культуре, традициях… Страна того заслуживала — достаточно вспомнить легендарную царицу Савскую. Но долгое время нам не удавалось туда попасть — в Йемене были непростые времена: южная и северная части страны находились в состоянии конфронтации, и ситуация никак не способствовала тому, чтобы мы могли там спокойно работать. И все же мы осуществили свою давнюю мечту когда обстоятельства позволили, мы смогли поехать в Йемен…
Пожалуй, самым интересным из теперешних наших проектов является серия фильмов "Экзотические путешествия по планете Земля". Идея эта пришла после того, как известный музыкант Стас Намин пригласил меня с собой на международный фестиваль воздушных шаров в Альбукерке в США, штат Нью-Мексико. Этот фестиваль проводится ежегодно в октябре и собирает сотни владельцев шаров и тысячи зрителей.
В небо американского города взмывают шары не только обычной, традиционной формы, но и вызывающие особый интерес специально придуманные к фестивалю фантастические создания любителей летать на воздушных шарах. Что только не летает над головами зрителей — и диснейлендовские "замки", и "пивные кружки", и "мотоциклы Харлей Дэвидсон", и различные "животные" вроде коровы или белого медведя…
Один американец привез в Альбукерке воздушный шар в виде русской матрешки. А Россия впервые подняла в небо Альбукерке воздушный шар "Желтая подводная лодка". Необычные форма и название шара объяснялись тем, что его придумал Стас Намин, назвавший шар в честь композиции группы "Битлз".
После того как мы со Стасом полетали на воздушном шаре, он стал строить планы: "Может быть, еще кого-нибудь стоит пригласить на этот фестиваль? Например, Андрея Макаревича, Леонида Ярмольника, и делать съемки для других телепередач?.."
У меня тоже эта мысль засела в голове. В Москве мы встретились — Стас, Андрей, два Лени, Ярмольник и Якубович, Макс Леонидов — и решили: "Давайте сделаем серию экзотических путешествий…"
Кто-то взял на себя задачу найти спонсоров, а мне дали поручение:
— Юрий Александрович, а вы продумайте маршруты. Куда поедем?
— А что тут продумывать? Я уже давно наметил — куда… Для начала давайте полетим на "пуп Земли".
— А это еще что такое?
— Так аборигены называют свой остров Пасхи.
Стали разрабатывать новый совместный проект, и он обещал получиться очень интересным. Я связался с Туром Хейердалом, который еще в 1955 году проводил на острове Пасхи раскопки, много занимался его историей, культурой, написал немало работ, в которых обосновывал свою теорию заселения острова, появления на нем загадочных каменных изваяний…
Мы решили с ним соединить наши усилия и наметили совместную поездку на остров, подгадав встретиться в Перу, где должны были проходить торжества по случаю 50-летия экспедиции "Кон-Тики".
В столице Перу Лиме, в Национальном музее, по этому случаю открылась выставка, экспонаты которой были доставлены из Осло, из музея "Кон-Тики" и "Ра". Хейердала приехал поздравить президент Перу Альберто Фухимори. В Кальяо, где в 1947 году Хейердал и его экипаж стартовали на бальсовом плоту "Кон-Тики", была открыта мемориальная доска в честь этого события.
А потом мы должны были вылететь на север Перу, в местечко Тукуме, где Хейердал проводил в 1988–1994 годах археологические раскопки. Он нашел там целый комплекс пирамид, которые с течением времени под воздействием ветров и дождей так разрушились, что напоминали скорее холмы, чем творения рук человеческих. Тем не менее раскопки этих пирамид показали, что древние жители Перу возвели их по технологии, сходной с той, которую применяли древние жители Двуречья шумеры, строя свои ступенчатые пирамиды-зиккураты. Фантастическая, загадочная связь между столь отдаленными друг от друга точками Земли!..
Пирамиды не были разграблены, поскольку местные индейцы боялись этого места, обходили его стороной. Поэтому археологи нашли множество удивительных изделий из золота, серебра, полудрагоценных камней… Там же Тур нашел подтверждение связи Перу и острова Пасхи, заселение которого, как он считает, поначалу шло из Южной Америки. Он нашел рельефы с изображением людей с птичьими клювами — людей-птиц, а с ними — изображение тростникового судна…
Мы вылетели из Лимы в Тукуме, чтобы осмотреть раскопки вместе с Хейердалом, поснимать для нашей передачи. Летели мы на небольшом самолете местной авиакомпании "Кондор": Хейердал с женой, мы — всего 14 человек. Но снова начались приключения с самолетом, как это было со мной в Антарктиде.
В самолете Леонид Якубович сразу же пристроился около пилотской кабины. Это и понятно — Леня большой любитель пилотировать самолеты, он и меня научил. Поэтому я пошел к нему, и мы стали вместе наблюдать за работой летчиков. Смотрим, на приборной доске какой-то сигнал — моргает красная лампочка.
Второй Леня, Ярмольник, спрашивает меня:
— Юрий Александрович, куда мы летим — на север или на юг?
— Как — куда? Конечно, на север.
— Тогда почему океан у нас справа, когда он должен находиться слева?
Действительно, океан был виден справа. Выяснилось, что мы летели снова в Лиму. Сели там, вышли и увидели, что из нашего самолета что-то льется. Оказалось — масло: был поврежден маслопровод. К счастью, летчики обнаружили это вовремя и решили срочно возвращаться в Лиму… Пересели в другой самолет, полетели в Тукуме, сделали съемки…
На остров Пасхи мы вылетели из столицы Чили Сантьяго рейсовым самолетом. На остров летают только чилийские авиакомпании, их лайнеры делают там промежуточную посадку, направляясь дальше по маршруту. Остров Пасхи отдален от материка — лететь до него пять часов — и считается национальным парком. Посещают его в основном туристы. Постоянно на Пасхе живут около трех тысяч человек.
Мне было особенно интересно оказаться здесь вместе с Туром. Одно дело его книги, и совсем иное дело видеть, как местные жители встречают того, кого они считают "отцом" своего острова. Пасхальцы знают Тура давно и очень хорошо. Его встретили по местному обычаю гирляндами цветов, с оркестром. Весь остров знал, что прилетел Хейердал, их современный аку-аку.
Рассказывать об острове Пасхи можно без конца — настолько это интересно и все еще загадочно, несмотря на множество книг, публикаций, фильмов… Широко известна и теория Хейердала, который считает, что на остров пришли сначала выходцы из Южной Америки, а потом уже была волна заселения со стороны Полинезии.
В просторах Тихого океана остров Пасхи — крохотный плоский вулканический треугольничек, который по малости можно сравнить с песчинкой в пустыне Сахара. И эта песчинка переполнена загадками. Зачем на этом крохотном треугольничке его жители делали своих идолов, которых нашли на острове около тысячи? Это при том, что население его никогда не было многочисленным. Как делали — более-менее понятно, потому что были найдены и готовые изваяния, и незаконченные, оставленные в полуготовности на склоне вулкана Рано-Рараку, около каменоломен, где добывали вулканический туф. Но до сих пор не совсем ясно, как эти многотонные статуи перетаскивали к месту их установки на берегу океана? Когда жителей острова спрашивали об этом, все они в один голос отвечали: "Они шли сами".
Тур Хейердал, когда впервые посетил остров Пасхи, решил, что все-таки их передвигали, используя деревянные катки. Его оппоненты отвечали: "Но на острове нет деревьев". Когда Тур провел там археологические раскопки, то выяснилось, что прежде на острове были леса, просто жители извели их. (Сейчас на острове Пасхи много деревьев, особенно эвкалиптов.)
Через какое-то время чешский инженер Павел Павел предложил свою гипотезу перемещения исполинов острова Пасхи. Он предположил, что их передвигали, как двигают шкаф в квартире, — наклоняя сначала в одну сторону и поворачивая вперед другой стороной, затем ту же операцию повторяли с противоположной стороной… Получалось, что статуи действительно "двигались" сами…
В 70-х годах Хейердал вместе с Павлом Павелом снова побывал на острове Пасхи. Они хотели на месте осуществить то, что предложил чешский инженер. Тур показал нам ту статую, которую они тогда передвинули, следуя гипотезе Павела. И рассказал, как они с помощью растяжек, прикрепленных к голове исполина, передвигали его, слегка наклоняя в одну сторону, а другую потом поворачивая вперед… Как бы то ни было, но вопрос о том, как все же аборигены перемещали в древности своих каменных идолов, остается открытым…
На установленные статуи нужно было еще водрузить и многотонные "шляпы" или "парики" из красного туфа, который добывается в кратере другого вулкана, далеко от берега.
Как, когда, зачем?.. Загадок больше, чем ответов…
И хотя Хейердал рассказывал нам историю острова и его жителей вполне последовательно и логично, объясняя, что эти огромные скульптуры ставились в память того или иного вождя, имя которого присваивалось статуе, но все равно… Все равно остров этот вызывал не только у меня ощущение чего-то нереального, чего-то мистического. Словно над нами веял какой-то потусторонний дух… Впечатление осталось незабываемое. Все время я находился во власти странных ощущений.
А странностей там хватает. Почему аборигены до сих пор имеют свои родовые пещеры, в которые посторонним нет доступа? (Хейердалу, правда, удалось туда проникнуть.) Зачем они хранят там свои древние родовые реликвии? И все это окутано какими-то легендами, неправдо-подобными историями. Зачем они выбирали из своей среды человека-птицу, земного бога, Тангата-Ману?..
Во время нашего пребывания на острове Пасхи мы были свидетелями спуска на воду тростникового трехмачтового судна "Мата-Ранге", сплетенного теми же индейцами аймара, которые когда-то делали Туру "Тигрис". Этот корабль был больше нашего "Тигриса", и экипаж его состоял из двенадцати человек. Командир нового корабля, 38-летний испанец Кетин Муньес, последователь Хейердала, собирался дойти до Таити, потом до Японии, подсушить там тростниковое судно, а затем отправиться дальше… Идеи Тура завладели умами…
Корабль символически провожали и стоявшие на своих постаментах исполинские статуи острова Пасхи, пусть и повернувшись спиной к бухте Анакена…
На острове Пасхи мы расстались с Хейердалом и всей дружной командой вылетели на Таити. Самолет приземлился вечером, так что знакомство с мечтой своей юности, куда я хотел попасть, увидев в Эрмитаже картины Поля Гогена, пришлось оставить до утра. В гостинице я специально не зашторил окна своего номера, чтобы не пропустить рассвета. Как только начало светать, я встал, вышел на балкон и… Пожалуй, самое подходящее определение того моего состояния и впечатления от увиденного будет такое — о-бал-дел…
С балкона гостиницы, стоящей на берегу, открывался потрясающий вид пляж с черным вулканическим песком, яркая зелень и море цветов невероятной красоты. И еще — острые зеленые горы. Я впервые в жизни видел остроконечные горные вершины не со снежными шапками, а сплошь покрытые растительностью. Вдали просматривался коралловый риф, начинали щебетать птицы, над морем медленно поднимался солнечный шар… Земной рай…
Глядя на все это, я понимал, почему произошел знаменитый мятеж на судне "Баунти", когда матросы не хотели покидать Таити, называя его "последним раем на земле". Для них, уставших от тяжких морских переходов, здесь действительно был рай — и природа, и красоты, и необычные по внешности привлекательные таитянки. Хотя на европейский вкус их вряд ли можно назвать красавицами, но в них столько женственности, у них такая удивительная золотистая кожа, что нежелание тогдашних "морских волков" расставаться со всем этим вполне объяснимо…
Необычную красоту здешних женщин, золотистый отлив их кожи, пожалуй, смог передать в полной мере только Поль Гоген, чей музей мы посетили. Там я узнал для себя новое — оказывается, художник занимался еще и резьбой по дереву. Хотя дома Поля Гогена на Таити не сохранилось, но память о нем здесь живет. Могила французского художника находится в другом месте — на маленьком островке Хива-Оа, на Маркизских островах…
С острова Таити мы слетали на небольшой островок Бора-Бора. Это, по сути дела, зеленая скала с небольшим количеством земли вокруг, в кольце кораллового рифа. Самолет садится на небольшую площадку на этом рифе, а вместо автобуса подходит катер, чтобы отвезти пассажиров на берег.
В лагуне благодаря коралловому кольцу вода удивительно спокойная, и жизнь кипит там вовсю. Чего только там нет! Невероятное количество самых разнообразных рыб, и среди них скаты, песчаные акулы, которые, впрочем, на людей не нападают. Но подводная охота в лагуне запрещена, ловить там ничего нельзя, зато плавать с аквалангом, смотреть на всю эту живность и снимать сколько душе угодно… Для этого рыб даже подкармливают. На длинной лодке с балансиром, с бензиновым двигателем гид-красавец (их специально подбирают, чтобы привлекать туристов, особенно туристок) плавает по лагуне и бросает корм, который для этого всегда имеется в мешке на лодке. Подкармливают рыб и туристы.
Впечатление, когда ты под водой в маске смотришь на этих огромных скатов, акул, проплывающих рядом или у тебя под ногами, потрясающее…
С Таити мы возвращались, завершив как бы виток вокруг Земли: следуя расписанию и маршрутам самолетов, мы перелетели в Новую Зеландию, оттуда был бросок в Японию, а затем уже была Москва…
Побывав в Полинезии, я решил, что туда необходимо приехать со съемочной группой еще раз. И особый интерес для нас представляет архипелаг Туамоту. Причина в том, что первооткрывателями северной группы островов архипелага были русские мореплаватели, побывавшие здесь в первой четверти XIX века и назвавшие Туамоту архипелагом Опасным. Здесь есть острова Россиян, носящие имена Ермолова, Милорадовича, Волконского, есть даже остров Аракчеева. Среди восьми десятков островов архипелага двадцать были открыты российскими моряками, совершавшими кругосветные плавания под командой Ф.Ф.Беллинсгаузена, О.Е.Коцебу, других флотоводцев.
Русские имена есть и на Маршалловых и Каролинских островах: атолл Кутузова, остров Суворова, острова Сенявина… Сохранились документы тех лет — вахтенные журналы, записи того, как открывались острова в Тихом океане, как русские моряки встречались с местным населением, как островам присваивались имена выдающихся людей России. Мы можем гордиться вкладом наших соотечественников в книгу географических открытий.
Теперь, к сожалению, русские названия островов заменены, они сохранились только на старых морских картах…
Древние совершенно справедливо утверждали: для того чтобы увидеть, что же находится за горизонтом, надо плавать. И не только утверждали… Жизнь интересна еще и тем, что можно путешествовать. Via est vita. Дорога есть жизнь…






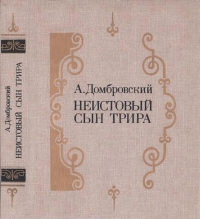

Комментарии к книге «Путешествие длиною в жизнь», Юрий Александрович Сенкевич
Всего 0 комментариев