Владимир Людвигович Дедлов Школьные воспоминания (К истории нашего воспитания)
I. Немецкая школа
Учитель — это штука тонкая: народный, национальный учитель нарабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом…
Положим, (в России) наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, научится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается,
(Достоевский. «Дневник Писателя». 1871 год).1
В августе 1865 года матушка моя повезла меня учиться в Москву. Мне шёл десятый год. Прощаясь с родными людьми и родной усадьбой, я горько плакал, но лишь только съехали со двора, сейчас же забыл все горести и с головой окунулся в новую открывавшуюся передо мною жизнь. А жизнь эта оказалась удивительно разнообразной.
Наш путь лежал по московско-варшавскому шоссе и продолжался трое суток. Ехали мы в старинной двуместной английской коляске, очень высокой, очень укладистой и необыкновенно легкой. Последнее обстоятельство было предметом удивления ямщиков, которые на каждой станции рассматривали экипаж с видом больших знатоков. Кроме того коляска была изумительной прочности. Куплена она была, уже в подержанном виде, в сорок третьем году, часто ездила из конца в конец России с моим отцом при его служебных командировках, отвезла меня в шестьдесят пятом учиться, да и потом не раз побывала в Москве. Это был почтенный экипаж. Я считал коляску едва не живым существом, чуть не членом семьи, родней, и когда старуху, наконец, разобрали, я как будто немного осиротел.
Три дня для девятилетнего человека большой срок, порядочный кусок жизни. Три дня в коляске были для меня светлой эпохой. Погода была хорошая. Учиться не заставляли. Мать была весела. Развлечений было множество, и чрезвычайно разнообразных. По сторонам шоссе были незнакомые поля, леса и усадьбы. На телеграфных проволоках сидели сивоворонки. В кучах щебенки попадались камни поразительной красоты. Засидишься, — мать позволяла выскакивать из коляски и бежать рядом с лошадьми. Пробежать так с версту было нипочем. В коляске тоже не было недостатка в занятиях. С нами ехала огромная семья, носившая фамилию почему-то Норышкинских, — должно быть, по пути попалась усадьба Норышкинских. Олицетворялись господа Норышкинские или стеблями подорожника или камешками. Они у меня женились, плодились, умирали, учились в школе, где их иногда секли, но умеренно (передо мной ведь тоже была школа). Одни поступали на службу, причем дослуживались до генералиссимуса и даже до царя. Другие избирали артистическую карьеру и становились клоунами, не хуже того, которого я однажды видел в нашем Могилеве, в цирке. Словом, я предвосхитил мысль Ругон-Маккаров Золя.
К концу третьих суток, с высокой горы, мы увидели Москву. Что такое Москва, какова эта Москва, я представлял себе очень определенно. Это была старая костлявая боярыня, в сарафане и кокошнике, сидящая под деревом и держащая на коленях, на огромном блюде, игрушечные дома и церкви, — Москву. Этим представлением я был обязан талантливым карикатурам Туркистанова во «Всемирной Иллюстрации» 50-х годов, называвшимся «Путешествие господина Незабудки в Пятигорск». Конечно, если бы меня спросили, что такое Москва, старуха или город, я ответил бы, что, разумеется, город, но всё-таки, увидев пред собою внизу множество домов, церквей и колоколен, я почувствовал, что чего-то тут недостает, — недостает старухи, которая держит на блюде чти игрушечные здания.
Въехали в город, и про старуху я позабыл навеки. Где же уставить на блюде эти огромные дома, башни, колокольни, мостовые, едущих нескончаемыми вереницами ломовиков и толпы снующего народа! Туркистанов должен был уступить Федору Глинке. «Кто царь-колокол поднимет! Кто царь-пушку повернет!», — и я, забыв дорогу, Норышкинских, оставленный дом, весь превратился в желание скорей увидеть пушку и колокол. «Шапки кто, гордец, не снимет у кремля святых ворот!» — Святые ворота вызывали в моем воображении представление о каком-то сиянии, о каком-то ярком свете, должно быть, о нимбе, а гордеца, который вздумал бы не снять пред воротами шапки, я считал самым скверным человеком на свете. Но особенно сильное впечатление производил на меня стих: «На твоих церквах старинных вырастают дерева». Это поражало. Церковь, а на ней дерево саженей четырнадцати вышины и в два обхвата толщиною. С жадностью я встречал и провожал глазами каждую церковь, мимо которой мы проезжали, — деревьев не было. Но не может же быть, чтобы Федор Глинка сочинил, — лгут только маленькие, и за что их ставят в угол и даже, если уж очень солгут, секут. А большие, да еще которых печатают на «Паульсоне», не могут лгать… Сомнения в правдивости «больших», Паульсона и Глинки начинали меня тяготить, — как, вдруг на карнизе одной из церквей я увидел березку, вышиной с пол-аршина. С меня этого было довольно: я увидел главное московское чудо, дерево на церкви, и, кроме того, идеал был спасен.
Остановились мы в Лоскутной гостинице, тогда только что открывшейся. Номер заняли на самом верху. Убранство номера произвело на меня сильное впечатление. Стол мраморный. Умывальник — не какие-нибудь кувшин с чашкой, а с педалью. Что-то надо надавить, надавить внизу, а вверху сейчас же брызнет вода из золоченого дельфина. После пристального изучения я открыл секрет этой механики, но на дельфина, который выбрасывал воду точно живой, я не мог досыта наглядеться. Кровать была до такой степени мягкая, что было удивительно, как это не проваливаются насквозь. Но поразительней всего была фотогеновая лампа, в то время в провинции неизвестная. Об этих лампах только читали в отделах «происшествий», а происшествия всё были страшные: взрывы, ожоги, пожары. Лампа Лоскутной гостиницы бережно и с опасением была отставлена в дальний угол и служила предметом только моего удивления пред её винтиками, решёткой, фитилем, таинственно выдвигавшимся и прятавшимся, и стеклом, трубочкою. Мне запретили «трогать» лампу, но, разумеется, я ее всё-таки трогал. Ведь, природа запретила вход к северному полюсу, а любознательный человек так вот туда и лезет.
Из окон нашего номера видны были фонтан на площади, Александровский сад, кремлевская стена и башня. Стена и башня — это было нечто совсем невиданное. Стена была забор, но какой колоссальный забор! Башня была колокольней, но какою толстой, внизу круглой, вверху острой и ужасно высокой! Окна были не окна, а щели. Крыша была чешуйчатая и зеленая. Кирпичные стены облупились. Это было какое-то архитектурное чудовище. Но, замечательное чудовище произвело на меня приятное и торжественное впечатление. О предвзятости, о надуманности в девять лет не может быть и речи. Значит, московская старина в самом деле красива, приветлива и оригинальна, национальна. Я благодарю судьбу за то, что раннее детство я провел среди неё и под её впечатлениями. Это прочно сделало меня русским, как московская речь сделала русским мой язык, вытравив из него белорусские примеси.
2
В Москву меня привезли, однако, для того, чтобы отдать в немецкую школу. И о ней я вспоминаю с благодарностью.
Пока я изучал устройство умывальника, трогал лампу и проникался национальным духом, глядя из окна на Кремль, матушка сговаривалась с начальством Петропавловской школы. Я мало интересовался этим. Наконец, однажды утром меня принарядили и повели в школу. Она помещалась в тихих переулках, около Маросейки, в двухэтажном небольшом флигеле, стоявшем на просторном дворе, из ворот налево. Прямо против ворот подымалась чистенькая готическая кирка. На дворе шумела толпа школьников, среди которой расхаживал высокий и толстый, хромой надзиратель, с длинными седыми волосами и в усах. Мальчуганы и надзиратель произвели на меня впечатление стада и пастуха. Сердце замерло: ни папаши, ни мамаши, ни их деточек, а стадо и пастух. Пастух покрикивает по-немецки и называет мальчуганов не по именам, а по фамилиям.
Мы вошли в дом, и нас провели к другому пастуху. Этот был тоже немец и тоже полный, но маленький и не седой. Пахло от него сигарой, лицо было тёмно-красное, добродушное. Круглые черные глазки бойко бегали за стеклами очков. На нём был гороховый пиджак, а под пиджаком ситцевая рубаха. Это был Herr Inspector школы, Зиллер. Зиллер слегка проэкзаменовал меня и принял в «септиму». Участь моя была решена, и с этого момента, течение нескольких дней, которые я провел с матерью в гостинице, я уже ни на одну минуту не забывал, что не воротиться мне домой, что попаду я в стадо, и чужие люди будут на меня, если захотят, кричать.
Наступила минута, когда мать вышла из подъезда школы, а я провожал ее глазами из окна. Ужас, настоящий ужас овладел мною, очень похожий на то ощущение, которое испытываешь, когда снится, что падаешь в пропасть. Я чувствовал, что стремглав падаю, и я кричал, вопил, плакал. Слез вытекло у меня тогда огромное количество. Это было в спальне. Следующая комната была столовая. За нею помещался тот высокий хромой надзиратель, которого я видел в первое наше посещение школы на дворе среди мальчуганов. Это был Herr Oberaufseher В. В своей комнатке он ютился с молоденькой и хорошенькой женой, доброй немочкой. В–ы услыхали мой плач, привели в свою конурку и, — дай Бог им здоровья, если это еще не поздно, — стали меня утешать. Я уткнулся в колени доброй немочки и на миг забылся, будто плакал на коленях матери.
— Однако, этот малыш испортит мое новое платье, — услышал я нерешительный голос немочки.
Я понял, что это не мать, и что я невежлив. Я перестал плакать.
Я попал в школу в самый переходный момент её строя, учебного и воспитательного. До того это была четырехклассная школа с довольно неопределенным планом. Читать, писать, считать, подготовить немчиков к конфирмации, дать им хороший почерк, — вот была задача Петропавловской приходской школы. К этому зачем-то были присоединены древние языки, география, история. Два последние предмета еще годились, чтобы понимать, что пишется в «Gartenlaube», но зачем понадобились латынь и греческий, — недоумеваю. Отношения воспитателей и воспитанников были патриархальные. Колотили ребят без церемонии. Секли. Разумеется, всем говорили ты. Словом, что была дореформенная, отсталая школа. В дореформенной России отставали даже немцы, как, впрочем, они отстают и в пореформенной. Например, немецкие немцы своих русских собратий, колонистов, и теперь считают столь же дикими, как и африканских единоплеменников, буров. Нравы учеников были грубоваты. Большинство школьников были детьми ремесленников и мелких купцов, — немецких и русских, наполовину: русский язык слышался так же часто, как и немецкий; русский даже преобладал, потому что все немцы говорили по-русски, а из русских по-немецки далеко не все. Немцы бегали в толстых серых блузах, русаки — в смешных купеческих черных сюртуках, в жилетах, застегивавшихся до самой шеи на стеклянные красные пуговки, или в засаленных пиджаках. Многие помадились деревянным маслом. Физическая сила, как это всегда бывает в эпохи варварские, находилась у школьников в величайшем уважении. О сильных учениках и учителях ходили легенды. Рассказывали про какого-то Канышова, который на пари перебивал камнем стрелки на часах кирхи. Какой-то терцианер, немец, которого и я застал еще, живший где-то за заставой и зимою приходивший из школы домой в темень, один избил и потом связал двух напавших на него жуликов. Рассказывали о силаче надзирателе, который иногда, в год, в два года раз, вызывал на борьбу всю школу и оставался победителем. В старших классах при мне был учитель латинского языка, Г. — человек черный и мрачного вида. Говорили, что он мрачен оттого, что уж слишком силен: хочет дать лентяю простой подзатыльник, а вместо того получается сотрясение мозга. Однажды кто-то рассердил его уж слишком, учитель размахнулся уже вовсю, школьник к своему благополучию увернулся, удар пришелся в стену и был так силен, что учитель больше месяца носил руку на перевязи. Этого силача за необузданность права и за частые членовредительства удалили при самом начале реформ. Ходили рассказы о драках на льду Москвы-реки с гимназистами, семинаристами, даже с фабричными. Но эти рассказы были смутны. Очевидно, что были давно прошедшие дела.
И однако же в школе было много хорошего, — хорошего больше, чем дурного. Самым лучшим — я рискую удивить читателя — были драки и борьба. Начальство их не запрещало, даже поощряло и было право; дрались и боролись не зря, а по правилам. Существовал целый кодекс этих правил, в подробностях известный каждому школьнику и каждому надзирателю. Вызовы были формальны.
— Выходи! — говорил один карапуз.
— Выходи! — смело отвечал другой.
— Драться или бороться?
— Бороться.
— Как?
— Подсилки (подмышки) не хватать и подножек не давать.
Если способом поединка избиралась не борьба, а драка, опять следовало условиться. Дрались «по-бокам» и «по-мордам». Последнее было, конечно, опасней, больней и часто сопровождалось кровопролитием. Если дрались «по-мордам», на кровопролитие не только не претендовали, но и не плакали от боли, а, нагнувшись, поливая землю кровью, взъерошенные, потные, красные, противники шли умываться к колодцу или в спальню. Начальство улыбалось и говорило: «Zwei Hähne, два петуха!» Нельзя было драться костяшками кулака, а только мякотью. Зажать в кулаке свинчатку было тяжелым преступлением. Бить лежачего считалось величайшей подлостью, и т. д., и т. д., — целый кодекс. И знаете, что из этого вышло? Полу-уличные ребята нашей школы твердо усвоили себе понятия права, чести, честности. Слово: право, das Recht, было на устах у самого маленького, из школьников. — lwanof hatte kein Recht mir auf die Nase zu schlagen; wir haben uns geschlagen по-бокам, — смело жаловался надзирателю мальчуган, и надзиратель подтверждал, что действительно Иванов hatte kein Recht, и ставил Иванова в угол. Мало того, если мальчуган находил, что надзиратель, герр Шульц или мосье Тюрель, незаслуженно оттаскали его за волосы или поставили на колени, он так же смело шёл к инспектору или директору и твердо, хотя и обливаясь от несправедливой обиды слезами и содержимым носа, заявлял, что герр Шульц hatte kein Recht подвергнуть его наказанию без вины. За вину — дело другое. Инспектор или директор, чтобы не потрясать авторитета власти; конечно, делал страшные глаза, грозил пальцем и выпроваживал жалобщика за дверь. Но директор знал, что воспитанник его школы, школы с традициями и правилами, не станет всуе поминать важное слово das Recht; он делал «негласное дознание», и мы часто видели, как где-нибудь в темном углу коридора или за выступом кирки Herr Director беседовал с Herr Schulz’eм, причем последний был красен и сконфужен, а первый делал страшные глаза и кивал пальцем. Это распекали герр Шульца за то, что он действительно hatte kein Recht. Замечательно, что я не помню ни одного случая, чтобы такие распекания вызывали у Шульцев чувство мести к мальчугану, который распекание на него навлек. Немецкие Шульцы не мстили. Иное дело французские Тюрели, или наши россияне, Фаддеевы и Пахомовы. Эти не были педагогами. Педагоги «вырабатываются веками». Да что педагоги, — даже школьники! Я отлично припоминаю, что право уважалось у нас немчатами без сравнения больше, чем русскими. Я боролся и дрался без устали, и решительно не помню, чтобы какой-нибудь немчонок нарушил условия поединка или пустил в ход нечестный прием борьбы. Русских же предательств, я и сейчас насчитаю несколько. Мой друг, московский купчик К., самой незаконной подножкой так хватил меня лбом о мраморный камин, что я не понимаю, как это не треснули ни камин, ни хоть бы мой лоб. К. чуть не надорвался от смеха. Донской казак У. во время борьбы хитростью оттеснил меня к глубокой яме, куда я и упал, как могут без смертельного исхода падать только мальчишки, перегнувшись через себя три раза и запихнув каблуки себе в рот. У. тоже надорвал себе животики. Белорусс О., когда я его одолел, до крови укусил меня за живот. Полячок Р. воткнул в меня булавку. О еврейчиках, гречонках, армянчиках я уже и не говорю. Немец же, даже самый злой, — а они, когда рассердятся, злы удивительно, упорно, как быки, — больше, — как кабаны, — никогда бы ничего подобного себе не позволил, и все мои синяки, шишки и ссадины немецкого происхождения были правомерными, честными синяками и шишками. Ими можно было только гордиться и чувствовать глубокое нравственное удовлетворение.
Я решительно за допущение в школе драк, как дуэли допущены в войсках. Во-первых, это прекрасная гимнастика. Во-вторых, борьба, драка, да еще общие физические игры — единственная сфера, где ребята живут вполне своей, самостоятельной жизнью, по своей инициативе и охоте. Это единственная сфера свободы школьников. Не трогайте же её, пусть мальчуган приучается жить самостоятельно. Пусть школа будет школой, а не учебной командой. Если ребята пользуются известной долей свободы, то и учебное начальство выигрывает. Надзиратель, учитель в такой «свободной» школе является не городовым, а руководителем живого школьного быта, судьей в случаях нарушения школьного права; не внешней гнетущей силой, а членом школьной семьи.
3
Петропавловская школа была хорошей, живой, свободной школой, но я попал в нее слишком рано для моих лет. Я был и слишком мал, и слишком легкомыслен, чтобы остаться без надзора и попечений близких и родных людей. Пока я пользовался вниманием В. и его немочки, я еще справлялся с новым положением, но скоро я этого внимания лишился. Случилось это так. Один дрянной мальчуган принялся меня, как говорится в школах, «просвещать», т. е. учить скверным словам. Одного из них я никак не мог постигнуть. Тогда скверный мальчуган посоветовал мне пойти к В. и сказать ему: «Правда, что ваша жена — такая-то» (следовало гадкое слово)? Я так и сделал. В то же мгновение В. сделался, не то что багровым, а синим, а я поднялся на воздух и некоторое время летал между двух рук В, подобно игле между двух очень сильных магнитов. После этого урока воздухоплавания В. не замечал моего существования. Я был предоставлен одному себе и быстро стал дичать. До этого В. следил за моими занятиями; теперь я мало-помалу перестал работать и обленился. До роковой минуты следили за тем, чтобы я мылся, чесался и аккуратно одевался; теперь я стал грязен, ходил в изорванном платье и растерял свои гребешки, что повлекло фатальные последствия для моей головы. Прежде, когда я мылся и чесался, меня иногда брали к пастору нашей кирки, приветливому джентльмену, жившему по-барски, говорившему по-русски как москвич и недавно женившемуся. У пастора я ел отличный обед, любовался удивительными вещами ироде музыкальной табакерки, живого попугая и фаянсовых китайцев, кивающих головами, слегка и в пределах приличия дразнил собачонок и маленькую воспитанницу пасторовой матери, а уходя получал фунт конфет. Теперь отпускали к пастору не меня, изорвавшего свои рубашки и растерявшего гребни, а других. Я быстро стал дичать и через какие-нибудь четыре месяца одичал так, что приехавшая к новому году матушка меня не узнала, а, убедившись, что этот грязный, взъерошенный, запуганный и вместе с тем дерзкий зверек — её сын, долго не могла осушить глаз.
Моему одичанию много способствовало то переходное время, которое переживала школа. Прежнее начальство было накануне ухода, новое еще не успело вникнуть в дела. Школа из четырехклассного церковно-приходского училища преобразовывалась в семиклассную гимназию. Был приобретен неподалеку от старого помещения трехэтажный дом, с довольно большим садом. Дом и сад казались мне верхом великолепия по сравнению с прежним тесным и грязным флигелем на церковном дворе. Хлопоты по переходу в новый дом тоже отвлекали внимание от учеников. Учителя и надзиратели набирались тоже новые. Изменялся и состав учеников. До того в школе преобладали и задавали тон дети ремесленников и торговцев, почти уличные ребята; теперь с расширением учебного курса и улучшением обстановки ожидалось поступление в школу более «благородных» мальчуганов, детей русских дворян и немецких богачей. Для проведения всех этих реформ кирхенрат, церковный совет, выписал нового директора, служившего до того в Биркенру, в остзейской, баронской, т. е. несомненно «благородной» школе. Новый директор приехал в ноябре. Однажды утром в школе, в сопровождении инспектора Зиллера, появился человек лет под сорок, выше среднего роста, плотный, немного сутулый, весь в черном и в белом галстуке, с косым рядом в темных волосах, с рыжими бакенбардами и зоркими, но спокойными большими темными глазами. В руках у него была табакерка, и красный фуляровый платок. Выражение лица уверенное, твердое, но благодушное. Это и был новый директор, доктор философии Рудольф Леш. Он обошел всю школу, всё внимательно осмотрел, и затем некоторое время мы его опять не видели. Говорили, что он принимает дела школы; когда кончит принимать, тогда и начнет «княжити и володети». Школьникам он внушил почтение уже одним первым своим появлением, почти безмолвным.
Между тем я дичал всё больше. Прежде всего я запутался в учении. Переводы с неизвестного латинского языка на язык почти такой же неизвестный, немецкий, приводили меня в отчаяние. Дроби смущали меня тем, что, будучи меньше единицы, они изображаются большим числом цифр: одна внизу, другая вверху, посередине черта, — и я не мог объяснить себе этого чуда природы. Французское правописание представлялось мне еще мудренее дробей. Что ни день, то я и не знаю урока. Как ни спросят, то и единица, занесение моей фамилии в Tadel, приказание стать в угол или на колени. Я видел, что одними своими силами я не выйду из этого положения, и стал просить помощи сверхъестественной. Я горячо молился о чуде, — чтобы я вдруг стал знать все уроки. Но уроков я всё-таки не знал: ясно, я получил отказ, я отвергнут, оставлен. За что?! Сначала я впал в отчаяние; а потом «закутил»: книжки изорвал, мыться перестал совсем, я грубил учителям и дрался с товарищами запоем. Иногда наступали минуты отрезвления, я ужасался, пробовал остепениться, но напрасно. Я чувствовал, что какая-то злая сила овладела мною. Эта сила был, конечно, чёрт. Я очень серьезно думал тогда о чёрте. Припоминая тогдашнее мое состояние, я понимаю средневековых ребят, которые летали на шабаш ведьм, предавались исступленным пляскам или шли в крестовый поход.
Однажды в классе, когда я по обыкновению ничего не делал, мой сосед по скамье предложил мне написать 22226022, уверяя, что я этого не сумею. Я однако написал. Сосед сказал, что написать-то я написал, но разделить это число на два не смогу; — я разделил, и очень успешно. Сосед сказал на это: «Молодец!» — и с видом доверия сообщил мне, что полученное частное можно превратить в прелюбопытное слово, если тут сверху приделать хвост, здесь прибавить черту горизонтальную, а там вертикальную. Я приделал указанные хвосты и черты, — и получилось неприличное слово. Слово было дрянь, но меня заняло совершенно неожиданное применение арифметики. Пока я созерцал необыкновенный результат, подошёл надзиратель и выхватил у меня бумажку.
— Кто это сделал?
— Не я, — говорит сосед, и говорит, по моему, правду; ведь писал не он, а я.
— Не я, — говорю и я, и тоже не лгу: выдумал не я, а сосед.
— Хорошо. Вас разберет директор.
Пусть разберет директор, — подумал я, — а я хорошенько не могу разобрать: не то я сделал, не то не я. Я уже привык к такой путанице в своей совести: ведь я ко власти злой силы, чёрта.
Прошло несколько дней. Однажды вечером я чувствовал себя особенно тревожно и тяжело. Когда легли спать, я долго не мог заснуть, а потом часто просыпался. Меня будили то какие-то стоны; я, холодея от страха, прислушивался, — бредил сосед по кровати. Кто-то страшным голосом кричал на дворе, — выла собака. Что-то стучалось в окошко. Наконец, мне стало казаться, будто в актовом зале, на другом конце дома, играют на органе. Это было ужасно: все спят, ночь, пожалуй даже полночь, в зале темно, и кто-то играет на органе. Этот «кто-то» был до такой степени таинствен и страшен, что мне казалось, я вот-вот сойду с ума. Я завернулся с головой в одеяло, крестился, молился, — и почувствовал, что одеяло с меня стаскивают. Стаскивает «кто-то!» Я вскочил на кровати и, ожидая, что сейчас умру от страха, взглянул на привидение. Передо мной стоял не «кто-то», а надзиратель, отнявший у меня бумажку с гадким словом.
— Как я испугался! — сказал я.
— Это оттого, что на совести у тебя лежит грех, — таинственно сказал надзиратель.
Я не возражал: я весь был в грехах.
— Сейчас кто-то играл на органе. Я очень боюсь.
— Видишь, тебя карает Господь; он наслал на тебя страх. Одевайся, и идем к директору.
Да, конечно, меня карает Господь; конечно, у меня грехов без числа. Но какой же совершил я особенно тяжкий грех, за который меня требует к ответу сам директор, совсем меня и не знающий, да и требует ночью, в полночь, когда привидения играют на органе.
Темная лестница, по которой мы спускались, темный двор, по которому шли к флигелю директора, опять темная лестница директорской квартиры настраивали меня всё суеверней. Я ждал чудесного и мрачного. И вдруг, когда отворилась дверь из передней в директорский кабинет, я увидел нечто действительно чудесное, но не мрачное, а отрадное. В полутени у письменного стола против директора сидела дама. Это мать! В груди у меня точно растаял тяжелый кусок льда. Вот кто защитит меня от злой силы, которая овладела мною! Но около матери стоит уже какой-то мальчик, а мать держит его за руку. Это мой двойник!.. А в двойников, прочитав какой-то рассказ, помнится, Подолинского, где действует двойник, я тоже верил и ужасно их боялся.
— Подойди ближе, дитя, — сказал директор, и сказал это печально и торжественно.
Я подошёл, не спуская глаз, с сидевшей в тени дамы — это была не мать, а незнакомая мне чужая дама. Стоявший, около неё мальчик был тот мой сосед по скамье, который научил меня написать гадкое слово. И опять в груди что-то застыло.
— Подойди, дитя, — продолжал директор, — и обещай мне сказать всю правду.
Я обещал.
— Дитя, это ты сделал! — сказал директор, подавая мне грязную бумажку с гадким словом.
— Нет, не я.
Директор тяжело вздохнул. Дама заплакала. Я заставляю этого незнакомого, важного директора вздыхать, а чужую даму, в богатом платье, с красивым, добрым лицом, плакать! Да, что-то нехорошее совершается со мною, и совершаю я.
— Подумай, — продолжал директор. — И помни, что в эту минуту сам Herr Gott смотрит на тебя.
Эти слова были сказаны так торжественно, темные большие глаза глядели на меня так проницательно и вместе с тем так печально, что я поверил, что на меня действительно смотрит сам Herr Gott, — смотрит и видит, какой я грязный, исцарапанный, ленивый, наказанный. Может ли такой гадкий мальчик, не быть не виноватым! И я с каким-то мучительным удовольствием сказал:
— Это я сделал.
Директор облегченно выпрямился. Дама обняла и стала целовать своего сына. А я чувствовал, что я как-то мудрено и запутанно без вины виноват, и что почему-то мне так и надо! И никому нет до меня дела, никто меня не замечает, никто не поможет…
4
Я ошибался. Меня заметил и мне помог превосходный воспитатель и человек, о котором я всегда сохраню благодарные воспоминания, — наш «новый директор», д-р Леш.
Мой ночной допрос происходил в начале декабря. Перед рождественскими каникулами, когда раздавали полугодовые свидетельства, я опять встретился с директором и опять увидел его темные глаза.
— Нечего сказать, порадуешь ты мать! — печально сказал он, подавая мне свидетельство.
В свидетельстве значилось, что я 53-й ученик из 54-х. Аттестации всё были удивительные и по-немецки выразительные: grässlich, schändlich niederrägtich, и только по чистописанию значилось: könnte mittelmässig sein, aber ist schlecht. Всё это очень естественно, но как узнал директор, что у меня есть мать, которую я боюсь огорчить? Почему он опечален тем, что я ее огорчу? Я забился в угол и плакал. Из угла меня добыла лазаретная дама, фрау Кронер, которая сказала, что директор велел меня вымыть в ванне и вычесать.
В сочельник для оставшихся в школе пансионеров была устроена елка. Лишь только мы вошли в комнату, где она стояла, я увидел на самом видном месте дерева пучок длинных розог. Ни секунды я не сомневался, что розги предназначаются для меня. И действительно, директор, раздав подарки всем, снял розги и, стыдливо потупив глаза, ни слова не промолвив, полуотвернувшись, вручил мне мой подарок. Я взял его, отошёл в сторону и с розгами на коленях издали смотрел на елку. Когда пришли в спальню, я спрятал розги в шкаф. Дождавшись, чтобы все уснули, я отворил шкаф и долго смотрел на розги и долго думал…
Около нового года в Москву приехала моя матушка. Случайно я увидал в окно, как она проехала по двору к директорскому флигельку. Как теперь помню пеструю ковровую спинку саней её извозчика. Я бросился к дверям, но швейцар, латыш Андрей Индрюнас, меня не пустил. Я метался от окна к окну в ожидании, что меня позовут к директору, но никто оттуда не приходил. Прошло полчаса, прошёл час, — не зовут. Наконец-то явился за мной директорский Якоб. Когда я входил в кабинет директора, мать была там и плакала. Директор сидел против неё и что-то тихо и успокоительно говорил. При моем появлении он отвернулся. Что произошло потом, я не помню хорошенько. Были пролиты реки слез, плакали с час времени, тут же в рабочем кабинетике директора, за его рабочим столом. Директор терпеливо ждал, а когда мы кончили, он положил мне руку на голову и сказал — «Вы видите, сударыня, gnädige Frau, что я сказал вам правду; ваш сын в сущности не дурной мальчик и непременно исправится».
В эту минуту я возродился. На другой день я уже забыл прошедшие мрачные пять месяцев. Я опять был с матерью, в том же номере Лоскутной гостиницы. Я опять смотрел на кремлевскую круглую башню, опять любовался дельфином умывальника; но лампы я уже не «трогал», потому что твердо, всеми силами души, с азартом решился быть хорошим мальчиком, да не просто хорошим, а таким, каких немного на свете, каких описывает в своих книжках и рисует на картинках М. О. Вольф, — а уж этот-то добродетельный человек знает толк в хороших мальчиках! Была и еще перемена. Я не мог спать на диване, около тяжелого мраморного стола: мне всё казалось, что он упадет на меня и задавит. Мое одичание не прошло даром для моих нервов.
Второе полугодие прошло отлично. Мальчиком на картинке я не сделался, достаточно дрался, стаивал в углу, сиживал в карцере, вступал в яростные препирательства с надзирателями, имели те Recht, или не имели, оттрепать меня за уши, но постоянный, неутомимый надзор директора поддерживал меня… Я превратился из 53-го ученика в восьмого и перешел из септимы в сексту. В начале июня ночной надзиратель, герр Гиронер, должен был отвезти меня в почтамт на Мясницкую и посадить там в дилижанс. Счастливей этого дня — говорю это серьезно — в моей жизни не было. Первые несчастья миновались, и наступило первое в жизни сознательное счастье, и какое чистое, какое полное! Другого такого счастья не было и не будет: кровь не та, душа не та…
В дилижансе для меня взяли внутреннее место, но уже в Подольске, куда в то время доходила начатая курская железная дорога, кондуктор продал мое место какому-то господину, который до Подольска предпочел прокатиться по чугунке, для многих представлявшей в то время новинку, — а меня посадил в огромный шкаф для багажа, сзади экипажа.
— Вам тут вольней будет, — сказал кондуктор.
Действительно было вольней, но было совершенно темно и страшно жарко, потому что шкаф был железный. И так нужно было ехать трое суток. Но стоило ли обращать внимание на такие пустяки, когда я ехал домой!
5
Доктор Леш был педагог, каких я потом не встречал. Два, три учителя из русских, с которыми я столкнулся, впоследствии, пытались копировать немецкого педагога, «выработанного веками, с бесчисленным опытом», они делали это добросовестно, старательно, но у добряков ничего не выходило. За ними не было «истории», «преданий».
О д-ре Леше начну с выписок из его писем, которые до сих пор хранятся у моей матери. В них речь идет, — разумеется, обо мне, но я имею в виду не себя, а моего воспитателя.
Письмо от 6 апреля 1866 года:
«Что касается прилежания и успехов Владимира, то учителя им довольны, но мне всё-таки кажется, что мальчик мог бы дать больше. Хотя тут всё зависит от настроения в данную минуту. Так, я часто замечал, что В. лучше и старательней учится, когда он находится в несколько угнетенном настроении. Тогда он удаляется от товарищей, не развлекается и, при его способностях, хорошо успевает. Другое дело, если он в хорошем расположении духа; тогда шаловливость берет верх, и с ним трудно справиться. Тогда голова набита вздором, и только настойчивые и строгие напоминания могут вернуть его к благоразумию. Надо потерпеть и подождать; окончательного исправления следует ждать от времени и от окрепшей воли мальчика. Излишняя строгость, беспрерывные порицания и выговоры вызовут в нём искусственное, а потому ложное настроение и лишат природной веселости, — или приучат к притворству.
Здоровье В. хорошо. Правда, часто он говорит, будто нездоров, но не потому, чтобы он действительно был болен, а потому, что на него находит упомянутое мною болезненное настроение. Вместо лазарета, я посылаю его играть, и это приводит к хорошим результатам. Понемногу он веселеет и даже начинает шалить.
В заключение, милостивая государыня, прошу вас обращаться ко мне без стеснения. Я не обращаю внимания на бессодержательные формы и так-называемые приличия. В то же время в деле воспитания я придаю большую важность — и думаю, что я прав — искренности и откровенности между родителями и воспитателями. Пишите и говорите со мной, как Бог на душу положит, не обращая внимания на изысканность выражений. Так и я буду вам писать».
27 октября 1866 г.
«В начале семестра течение нескольких недель успехи В. были совсем слабы: по географии он почти ничего не делал, из арифметики он имел в среднем 1, а из русского 2. Я смотрел на это с сожалением и несколько раз хорошенько его выбранил, но последствий это не имело. Я не придаю значения вынужденному прилежанию, потому что оно не приносит прочных плодов; если в ребенке не пробуждено стремление к деятельности, никакие наказания не помогут. Поэтому я оставил В. в покое, но не пропускал случая давать ему почувствовать, что его поведение всё больше отдаляет его от моего сердца, а родителям готовит одни огорчения. В. заметил это очень скоро и начал стараться наверстать упущенное; это ему удалось, и средние отметки за последние четыре недели у него четверки. Итак, в этом отношении я им доволен. С другой стороны, не всё с ним благополучно. Часто, как я уже говорил вам однажды, он бывает своеволен. Правда, это обычное явление у здоровых детских натур; правда, совсем подавлять это свойство в детях отнюдь не следует, — но В. иногда заходит слишком далеко, и тогда, конечно, его приходится бранить. Я очень бы желал, чтобы и вы, милостивая государыня, посоветовали ему быть скромнее. Я-то это делаю, но будет действенней, если то же он услышит и от вас. Пока В. ленился, он не получал по воскресеньям обычного гривенника. Теперь получает и лакомится».
Через некоторое время я получил от матушки письмо, которого желал д-р Леш, с укорами в своеволии. Письмо отдал мне сам директор, но не в школе, а у себя на дому.
«Я передал В. ваше письмо, — пишет матушке д-р Леш 10 декабря, — и наблюдал за впечатлением, которое оно на него произведет. Мальчик дважды прочел его с большим вниманием. Я вышел из комнаты и, когда вернулся, нашел В. плачущим в углу, лицом к стене. Я остерегся говорить с ним о его слезах, чтобы не помешать действию письма».
21 февраля 1867 г.
«Что касается одежды В., то она совсем не так износилась, как он вам пишет. Правда, серая рубашка загрязнилась, но я приказал ее вымыть. В другой, именно в красной, немного был разорван правый рукав, — это починили. С панталонами тоже не так уж худо. Зато сапоги действительно нуждаются в основательной починке, хотя без новых всё-таки можно обойтись».
20 ноября 1867 г.
«Вы выражаете сожаление, что в школе терпятся и дурные дети. Мне кажется, я уже говорил вам однажды, что великая польза общественной школы между прочим заключается в том, что при столкновении с толпой детей складывается характер мальчика. В родительском доме, где ребенок ни минуты не остается без надзора, зародыши дурного и хорошего дремлют одинаково, и присущие склонности просыпаются только тогда, когда к мальчику прикоснется сама жизнь. Тогда-то настает время, — дурное искоренять, хорошее укреплять. Мальчик, не видавший дурного, не может ему и противиться, потому что его не знает. Но свет населен не одними добрыми людьми: рано или поздно он столкнется и с дурными элементами, и горе ему, если он окажется безоружным. Из того, что В. видит и дурных детей, не следует, чтобы нужно и можно было беспокоиться. И где найдется школа или пансион без дурных субъектов? Вы скажете, что дурные элементы должно удалять. Нет! Мы, педагоги, заслуживали бы строжайшего порицания, если бы отворачивались от дурных детей. Ведь, мы — воспитатели. Мы дурных должны исправлять, заблудших выводить на дорогу. Не бродило ли в свое время и самое лучшее вино? И только тогда, когда безуспешно испробованы все средства, — только тогда школа имеет право исключить ребенка.
Далее, вы, по-видимому, самого дурного мнения о наказаниях, практикуемых гувернерами, если судить по тем, более чем колким выражениям, которые вы употребляете по отношению к этим господам. Побои мною строго запрещены; надзиратель или учитель, нанесший их мальчику, немедленно теряет место. Но и легкими ударами в школе не наказываются ни лень, ни шалости, хотя бы уже потому, что в противном случае битью не было бы конца. Однако, что будете вы делать с дерзостями? Слово на дерзких не действует; карцер, как опытом доказано, для дерзкого не наказание. Остается мальчика исключить? Вот мы и пришли благополучно к альфе и омеге здешней педагогики: мы выгоняем мальчика, который требовал от нас труда для его исправления, себя от этого труда избавляем, и наказываем родителей, вместо того, чтобы наказать ребенка. Я далек от отрицания гуманных основ современного воспитания, но я знаю также, что безусловное устранение ударов (не побоев) и розги невозможно. В то же время мое чувство восстает против телесного наказания в той форме, в которой оно практикуется в здешней стороне (hier zu Lande), причем ребенка сечет служитель[1]. Это по меньшей мере противно и кроме того непрактично и нецелесообразно. Наказание, раз оно признано необходимым, должно последовать немедленно; в таком случае оно действенно, иначе — нет. Я охотно развил бы вам мой взгляд на телесные наказания и на наказания вообще, если бы мне позволило место — это обширная и трудная глава педагогики; теперь же я должен удовольствоваться замечанием, что, если наказание умеренно и является не местью, но актом доброжелательства, оно всегда и во всякой форме у места».
26 октября 1868 г.
«Что касается прилежания Владимира, то, конечно, предвзятая идея, будто его оставят в кварте на другой год по причине малого роста и лет, не могла серьезно не отразиться на его работе, и он дает меньше, чем мог бы. Я несколько раз говорил, чтобы он выкинул из головы глупые мысли и учился старательней, но переубедить в подобных случаях очень трудно. Относительно посещения им ваших знакомых студентов я должен сказать, что не сочувствую этому. Я ничего не имею против молодых господ, которых мало знаю, потому что видел их лишь мельком, но думаю, что студенческие обстановка, отношения и взгляды — не для ребенка».
4 мая 1869 г.
«Мои опасения, что идея Владимира, будто он должен просидеть в кварте два года, повредит его успехам, к сожалению, оправдались. Внутреннее побуждение к работе ослабело, и мои настояния и объяснения, конечно, не могли его заменить. К этому присоединилось и еще обстоятельство. Ученики кварты, за одним только исключением, далеко превосходят В. летами и телесным развитием; их общество не по душе мальчику, он охотней сближается с учениками младших классов, а потому у него нет побудительной причины к соревнованию с товарищами. Я всё еще надеялся, что в последние минуты к нему вернется прежняя энергия, но ошибся. Правда, он был прилежней, чем до Рождества, но настойчивости и постоянства у него всё-таки нет. Мое убеждение — оставить его в кварте еще на год, несмотря на то, что совет учителей разрешил перевести его с переэкзаменовкой. Я советую вам не пользоваться этим разрешением. Опасно с недостаточными и отрывочными сведениями попасть в старшие классы, где к умственной деятельности мальчиков предъявляются уже значительные требования; кроме того, сознание, что ученик не может свободно следовать за преподаванием, обыкновенно ведет к упадку духа, а затем к апатии и равнодушию. Если вам угодно ответить мне по этому поводу, соблаговолите поспешить письмом, так как по совету врачей я должен выехать в Карлсбад около 16 мая».
Это письмо д-ра Леша было последним. Осенью 69-го года меня взяли из школы, и я стал готовиться к поступлению в гимназию. Сделано это было по желанию отца, которого беспокоило, что школа, несмотря на четырехлетние старания, не получала прав.
То, что я привел выше, составляет только небольшие выписки из писем д-ра Леша, которых у моей матушки хранится больше десятка. Каждое обыкновенно занимает четыре страницы почтовой бумаги большого формата, исписанные мельчайшим, но необыкновенно четким латинским шрифтом. Как успевал д-р Леш при своих бесчисленных административных и педагогических заботах следить за двумя сотнями одних только пансионеров, за всеми мелочами и подробностями вроде целости сапог и панталон, да еще писать родителям такие педагогические трактаты, это секрет прирожденного, всецело преданного своему делу педагога.
6
Доктор Леш в своем школьном мирке был вездесущ, всезнающ, а потому и всемогущ. Разумеется, это давалось не даром. В пять часов утра он был уже на ногах. Весь день в работе. Ложился в полночь. Ни карт, ни гостей, ни визитов. Трубка, кружка пива, сигара в виде лакомства, вот все его удовольствия и развлечения. Директор до такой степени жил для школы и школой, что с людьми внешкольного мира держал себя неловко, почти смущался, почти конфузился. Зато среди топота и гвалта мальчуганов, среди покрикивающих и зорко озирающихся надзирателей д-р Леш преображался и имел вид капитана на корабле во время бури. Станет в самой толчее рекреационного зала или садовой площадки, расставит ноги и стоит, — центром, точкой опоры, осью маленького школьного мирка. К нему подходят с просьбами и за разъяснениями мальчуганы, надзиратели, учителя, он всех выслушивает и всем дает обстоятельные ответы. Его темные глаза неизменно серьезны, иногда строги, редко страшны, — очень страшны! — но никогда никто не видел в них ни злости, ни раздражительности, ни какого-либо другого нездорового или недостойного чувства. Настоящий капитан в бурю. Когда он разговаривает с надзирателем о чём-нибудь важном, он прикладывает указательный палец к носу и нажимает так сильно, что сворачивает его на сторону. Но и сам директор, и его нос, и его палец так благообразны, что даже самому смешливому мальчугану это не кажется смешным; наоборот, все с уважением в эту минуту сознают, что директор решает какой-то очень важный вопрос. Иногда директор прикрикнет на чересчур расходившегося школьника, и тут-то его глаза делаются страшными, а голос превращается в бас, громкий как труба. Не только виноватый, но и вся толпа вдруг стихнет; — загремел громовержец. Но Юпитер благ, и через секунду, другую, опять всё шумит и вертится. Иногда громовержец усмехнется чьей-нибудь забавной выходке, какому-нибудь удивительному скачку, или сверхъестественному падению, или курьезному крику, — он любит этих шумящих мальчуганов, знает их мир, чувствует все оттенки его жизни, понимает все его стороны, хорошие и дурные, смешные и трогательные, — усмехнется, и серьезное лицо вдруг необыкновенно привлекательно просветлеет, и строгие глаза засветятся ласковым удовольствием. Через минуту он опять величаво спокоен, опять — Юпитер.
Вездесущность директора и теперь представляется мне непостижимым. Часто видишь его, проснувшись в глухую ночь, в спальне: ходит неслышно, как тень, всех осматривает, прислушивается, поправляет подушки и одеяла. Во время урока, лишь только заговоришь с соседом или займешься чем-нибудь посторонним, стук в стекло дверей, а сквозь стекло в темном коридоре различаешь рыжие бакенбарды и строгие глаза директора; грозит пальцем, а губы шепчут знакомое «Wart’du Knirps!» Вечером готовим уроки. Тишина. Надзиратель зазевался. Пользуясь этим, кое-кто занят не уроками. Одни потихоньку играют в перышки. Другой жует резинку, приготовляя снимку. Третий читает. Четвертый просто ковыряет в носу. И вдруг на плечо ложится чья-то рука. — Директор! Когда он вошёл и как вошёл, неизвестно. Ни дверь не скрипнула, ни шагов не было слышно. Мало того, никто не слышит, как попавшийся шалун отправляется к стене. — «Без шума!» — шепнет директор, и шалун точно по воздуху плывет в угол. Очередь за следующим, за любителем легкого чтения. Внезапный невольный удар по затылку, виновный вздрагивает и тоже плывет по воздуху к стене. И так наловит директор до десятка. Когда кончено с последними, только тогда директор возвышает голос и, сделав страшные глаза, начинает отчитывать шеренгу оштрафованных. Он говорит так строго, что душа в пятки уходит, но никогда не срывается с его губ ни грубое, ни обидное, ни бранное слово: Junge, Knirps, в крайнем случае Teekessel, — вот и всё. Другие употребляли выражения: Taugenichts, Kameel, даже Schaafsgesicht — директор никогда. Другие раздавали подзатыльники, драли за уши, иногда награждали хорошей пощечиной, — мы знаем, директор в некоторых случаях это допускал, но сам он никогда не дрался; только иной раз легонько стукнет табакеркой по голове или возьмет двумя пальцами за ухо. И это было страшней подзатыльников, иногда поистине колоссальных, вспыльчивого швейцарского итальянца Д. или трепок за волосы немца В., которые бывали жестоки во время мигреней, одолевавших бедного В.
Директор был везде, знал всё, поэтому он и мог всё. Самые неистовые драки, самые шумные бунты — конечно, по поводу пищи: других в пансионах и на русских фабриках, кажется, не бывает, — прекращались одним появлением директора; тогда как никакие крики и пинки надзирателей не могли укротить расходившиеся страсти. Повторяю, это давалось не даром. Из цитированных писем д-ра Леша видно, как пристально он следил за мной, а я вовсе не был каким-нибудь его любимцем. Я пользовался лишь вниманием педагога наравне со всеми остальными; педагог меня воспитывал, как воспитывал и моих товарищей. А это было трудной работой, требовавшей неусыпной энергии и полной преданности делу.
И действительно, где бы д-р Леш ни был, что бы ни происходило в его личной жизни, он никогда не забывал школы и её мальчуганов. Накануне выезда из Москвы к больному при смерти отцу, которого он очень любил, д-р Леш пишет моей матушке письмо, где говорит, что удивляется, почему она редко получает от меня известия, так как он заставляет меня писать часто и сам во время прогулки бросает мои письма в ящик. Когда он ездил за границу жениться, он привез оттуда вместе с милой молодой женой новое лекарство для упорно хворавшего пансионера. А ведь для этого он должен был, среди приготовлений к свадьбе, ходить по докторам и толковать с ними обстоятельно и подолгу, по-немецки.
Пока д-р Леш был холост, его маленькая квартирка принадлежала не столько ему, сколько школьникам. Всегда от раннего утра до поздней ночи можно было найти там несколько мальчуганов. Это были то сони, ленившиеся вставать, которым было приказано являться ровно в шесть часов утра; то ленивцы, которых надзиратели не могли заставить готовить уроки; то шалуны, от которых отказывалось прочее начальство; то слабые по латинскому языку из класса, в котором преподавал директор.
Во время эпидемий директорская квартира превращалась в больницу и бывала переполнена ребятами в кори и скарлатине. Директору оставались две крохотные конурки, спал он на диване, ел на письменном столе. И как трогательно он за нами ухаживал, вместе с своим лакеем (он же и переводчик в беседах с не говорившими по-немецки), колонистом Якобом. Баловства не было, никаких игрушек или лакомств он нам не дарил, — да из каких средств он бы это делал! — но уход был заботливый, почти женский. И д-р Леш как будто боялся, что, превратившись в сиделку, он всё еще слишком директор и недостаточно сестра милосердия. Пред капризами больного ребенка он робел, и у него капризничали больше, чем в лазарете у фрау Крокер, которая и вся-то была ростом с наперсток, чуть больше своей восьмилетней дочки, Ади. Выздоравливающие скучающие мальчуганы ходили по всем комнатам, рылись в книгах директора, мешали ему работать, надоедали ему болтовней, — он не останавливал, никогда не сердился, а только жалобно улыбался да вздыхал. Зато, когда мальчуган выздоравливал и возвращался в школу, на корабль, директор опять превращался в капитана, привычного к бурям и воплощающего в себе разумную, но непреклонную дисциплину.
Один из таких переходов от кроткой сестры милосердия к суровому капитану я испытал на себе, притом в очень резкой форме. Накануне я был еще в квартире директора и без церемонии рылся в его библиотеке, рассматривая иллюстрированную историю Греции; директор только просил меня не разорвать как-нибудь картинок, потому что книга дорогая и, главное, подарена ему в день окончания гимназии его матерью. На следующее утро меня выписали здоровым. Было воскресенье. Я имел право получить мой гривенник на лакомство, но так как я прохворал месяц и денег не брал, то я и думал, что могу просить не гривенник, а все накопившиеся сорок копеек. За подтверждением правильности моих соображений я обратился к одному из «больших». Тот, наперед расспросив, что именно куплю я на сорок копеек, получив обещание поделиться с ним гостинцами и заменив, имея в виду, конечно, себя, тянучки чайной колбасой, нашёл, что права мои на четыре гривенника бесспорны, и вызвался изложить мои требования в письме к директору, написанном по-немецки и по всем правилам вежливости. Письмо едва уместилось на четырех страницах, написано было с великолепными хвостами и завитушками; слог его, по моему мнению, был дивный. Было и обращение к «многочтимому и попечительному господину директору санктпетри-паули-кнабен-шуле», и заключение: «принимая смелость почтительнейше просить об удовлетворении вышеизложенного ходатайства о сорока копейках, имею честь и счастъе именоваться вашим, милостивый государь, искренним почитателем, учеником сексты таким-то». В самом письме почтительно, но неопровержимо доказывалось, что я имею право, ich habe das Recht, получить не один, а четыре гривенника. Подписался я с лихим росчерком и был уверен, что директор будет восхищен таким письмом. Вышло наоборот, да не просто, а сто раз наоборот: меня чуть не высекли, и никогда розга не была так близко от меня, как в этот раз.
Русский человек никогда не может предвидеть, когда немец засмеется и когда он рассердится. Это заметил еще Тургенев. Это заметил и я, слишком заметил. Лишь только директор прочел мое послание, громовым голосом приказал он Якобу подать шубу, шапку и калоши, быстрым шагом пришёл в школу, потребовал меня в приемную, маленькую, холодную, пустую комнату под сводами, оклеенную обоями под мрамор, — и я вместо вчерашнего смущенного добряка, жалобно просившего меня не портить его книг, увидел пред собою рыкающего льва. — «Это неслыханно! Это бесстыдно! Это невозможная дерзость! Этого я не допущу в моей школе!» Я был ошеломлен и стоял как каменный. — «Теперь ты должен быть высечен и будешь высечен сию минуту!» — Я безусловно верил директору в делах моей совести. Если он говорит, что я виноват, — значить, я виноват; но тут я решительно, как ни старался, виновным себя не считал и молчал, но молчал, должно быть, очень выразительно, потому что директор вдруг утих, повернулся, вышел, а дверь запер на ключ и ключ вынул. Мною овладело еще большее недоумение. От недоумения я заснул и спал, как что всегда бывает с осужденными пред казнью, крепко. Я проснулся от легкого прикосновения чьей-то руки к моей голове. Предо мной стоит директор. Час казни ударил!
— Ступай к моему Якобу, — вдруг слышу я ласковый голос директора, — и скажи, чтобы он дал тебе позавтракать. Ты проспал школьный завтрак.
Иду к Якобу и возвращаюсь.
— Якоб говорит, что от вашего завтрака ничего не осталось. Остатки съели он и ваш Дакс.
— Досадно, что Якоб и Дакс так прожорливы. Возвращайся к Якобу и скажи, чтобы он сварил тебе кофе, дал один — нет, два — бутерброда, а на бутерброды положил бы колбасы. Колбаса в верхнем правом шкафу буфета, на второй полке.
Никогда я так вкусно не завтракал. О розгах не было и помина, — я это понял сейчас же; но объяснить себе этого происшествия я и сейчас не могу. Это какая-то немецкая тайна.
7
Преподавателем д-р Леш был таким же искусным, как и воспитателем. Его уроки больше походили на игру, чем на ученье. В классе директор появлялся неизменно добрым, оживленным и веселым. Раздавалась команда: спрятать книги в сумки. Начиналась суета. Собирали книги, навешивали сумки, брали портфели подмышки. Казалось, собираются на веселую прогулку. — «Готовы?» — Готовы. Какой-нибудь нерасторопный мальчуган еще возится со сборами, директор над ним подшучивает, все смеются. Наконец, всё в порядке. Глубокая тишина. Пятьдесят пар блестящих детских глаз смотрят на учителя и ждут. Директор с лукавым видом нюхает табак. «Внимание! Aufgepasst! Doleo, третье лицо единственного числа plusquamperfecti conjunctive» Секунда молчания, директор смотрит орлом: ищет, кого спросить. Он глядит налево, на заднюю скамью, — у задней скамьи занимается дыхание. И вдруг директор вызывает мальчугана справа, с передней скамейки. Тот зевал и не может ответить. Директор не ждет — «Следующий!» — Не знает. «Следующий! Следующий!» Наконец находится мальчуган, дающий верный ответ. — «Молодец! Пересаживайся на место первого спрошенного». Мальчуган на несколько мест становится выше, чем был по окончании последнего урока, и расцветает. Лишь только совершилась пересадка, опять лукавое лицо, опять понюшка табаку, новое «Aufgepasst!» новый вопрос, новое напряжение со стороны мальчуганов, новое соревнование знаний, способностей, внимания, расторопности и, иной раз, новая игра случая и счастья. Этим путем поддерживались неослабевающие внимание и интерес. Никто никогда не скучал, не зевал, не занимался посторонним. Считывать и подсказывать было невозможно: у директора было точно сто глаз, и он видел не только впереди, но как будто и позади себя. Всё шло живо, быстро, оживленно. Директор ни на минуту не присаживался, сыпал шутками, замечаниями. Мальчуганы, беспрестанно пересаживаясь, перебегали с места на место прямо по столам, роняя книги и бутерброды. Что может быть скучнее спряжений и склонений! Вертеть и выворачивать одно и то же слово на тысячу ладов и без всякой надобности, — это мука и для школьника, и, кажется, для самого несчастного слова. А у нас эти уроки считались удовольствием, и успехи достигались блестящие. О переутомлении учащихся, несмотря на то, что во всё время урока учитель держал их в полном напряжении, не было и речи. Наоборот, по окончании урока мы бывали веселее и бодрее прежнего. Но как не утомлялся учитель, этого я не понимаю. Не может же быть, чтобы у него было какое-нибудь особенное гигантское здоровье — да он и прихварывал нередко, — какие-нибудь из особенного материала сделанные, немецкие, нервы. Должно быть, всё дело в любви к своему занятию и в выработанности приемов.
Доктор Леш был идеальным педагогом и преподавателем, но и остальные учителя, из тех, которых привлек в школу директор, — конечно, немцы, — приближались к идеалу. Таким был, например, инспектор, доктор Хенлейн, уже давно покойный. Это был тоже педагог по призванию. Маленький, розовый и белый, как барышня, совершенно лысый и беззубый, с веселыми добродушными голубыми глазами и огромной бородой, неумолчный и неистовый крикун, он был бы смешон, если бы в школе и в классе он не чувствовал себя как рыба в воде. И мы понимали, что он — часть школы, что он необходимая её часть, что он — Herr Inspector. Он играл с нами в чехарду и в мяч, и делал это с увлечением, точно мальчик, но в то же время ухитрялся оставаться властью, инспектором. Он был вспыльчив. Вспылив во время урока (он преподавал греческий язык, которого был знатоком), — он кричал так, что дрожали стекла в окнах и барабанные перепонки в ушах. Но мы не обижались, чувствуя, что это кричит и сердится не злой человек, а скрипит необходимое колесо школы, потому что ему недостает масла, — хорошего ученического ответа. Во время урока д-р Хенлейн жил уроком, — вопросами, ответами, удачами и неудачами. У него внимание учеников тоже не ослабевало ни на минуту, и тоже я не помню, чтобы утомляли, а тем более переутомляли вопли негодования, крики торжества, стоны изнеможения при тщетных усилиях и рев поощрения при одолении препятствия, неумолчно издававшиеся нашим крикуном и гремевшие по всем трем этажам школы.
Назову еще учителя латинского языка Г., у которого я учился в кварте. Переводили Саллюстия, его пресные рассказы, написанные словно нарочно для измора младших классов среднеучебных заведений. Саллюстий делался ученикам противен уже со второго урока, — какую же колоссальную оскомину должен он был набить учителю, который читает его из года в год! Но Г. не робел. В правой руке держит книгу, левую зачем-то зажмет под правую и так скрючивается, так жмется, так усердно везет урок, распутывая конструкцию фраз, что мы, словно прохожие к остановившейся ломовой лошади, подскакивали к нему на помощь и дружно подымали тяжелый воз конструкций в гору.
Почти все немцы более или менее приближались к описанным учителям. Совсем иначе было с соотечественниками, и русские преподаватели представлялись нам какими-то шуточными, не настоящими учителями.
Типы учителей старой, дореформенной, николаевской русской школы, будь то бурса, кадетский корпус или гражданская гимназия, хорошо известны: Это были или представители старого режима розги и самодурства, или тайные и полутайные протестанты против школьных порядков в частности, и тогдашних русских порядков вообще. Эти типы вы встречали у Помяловского, у Шеллера-Михайлова, у Писемского. Самодур порол и рычал. Он в школе был «бог и царь». Школьники были какая-то покоренная раса, а учитель — проконсул и сатрап, поддерживавший порядок и свой авторитет жестокостями и казнями. Протестант является у названных писателей нередко пьющим запоем, озлобленным человеком. Самодур торжествовал; протестант под гнетом окружающего был исковерканным, изломанным, злым и шипящим созданием. Он сознавал свое унижение и протестовал, но, конечно, не перед начальством, а перед учениками. Делал он это, разумеется, осторожно, даже трусливо, полусловами, намеками, ужимками. То он комментировал Гоголя, то он, выслушивая от учеников рассказы о подвигах самодуров, загадочно улыбался. Только с особенно доверенными учениками он пускался в полные откровенности и проповедовал им фурьеризм, подобно «хромому учителю» в «Бесах» Достоевского, или какой нибудь малороссийский сепаратизм, как учитель математики Дрозденко, в «Людях сороковых годов» Писемского. Старые учительские типы установились твердо — Аракчеевы и Эзопы; изредка к ним присоединялся какой-нибудь Рудин. Типы русских учителей времени реформ литературой не затронуты, может быть, потому, что они удивительно бесцветны. Впервые я познакомился с ними в немецкой школе.
Это были очень милые, воспитанные, образованные и гуманные, словом, пореформенные молодые люди. С учениками они были изысканно вежливы. Педагогии в свое время учились понятливо и прилежно, многие «с кафедры отлично ее преподавали», но мы, ученики директора Леша, инспектора Хенлейна и им подобных наставников и воспитателей, упорно отказывались видеть в них учителей, а не каких-то чужих господ, моривших нас скукой и вежливостью. И сами, эти господа смертельно скучали и утомлялись. Настоящий учитель должен вставать в пять часов утра и садиться за поправление ученических тетрадок; вежливый господин подымался только, чтобы не опоздать к уроку, и появлялся с заспанными глазами и неудержимой зевотой. Настоящий учитель никогда не сидит; вежливый господин, как вошёл в класс, так и прирос к стулу. Учитель должен знать всех учеников по фамилиям; вежливый господин вызывает мальчуганов так — «Господин, подпрыгивающий на задней скамейке! Господин, обходящийся без посредства носового платка!» — Учитель возвращает тетрадки аккуратно, по раз заведенному порядку, изучает ученические работы насквозь, так что сейчас видит, кто сам работал, кто списал, даже у кого списал, и уж не пропустит ни одной ошибки; милый и вежливый господин держит тетради по месяцу, иной раз их даже теряет, отличить списанного от самостоятельного не в состоянии, в тетрадках, которые у него побывали, — папиросный пепел, волосы, один раз нашлась женская подвязка! И ведь дельные были люди; кое-кто из них впоследствии сделались известными профессорами и солидными учеными, но в качестве педагогов они и в подметки не годились совершенно не известным и совсем не ученым Шульцам и Мюллерам. Шульц и Мюллер срослись со школой, стали частью её, жили учениками, тетрадками, успехами и ленью учеников, строптивостью и послушанием ребят, а главное, верили в свое дело и в те способы и приемы, помощью которых они его делали. Всё это создавало живую школу, а не «учебную команду»; педагогов, а не фельдфебелей. У вежливых и милых господь этой основы не было. У каждого, вероятно, был свой идеал школы и воспитания, даже наверно был (потому что уж очень развитые были господа), но у всех разный и у всех не соответствовавший порядкам данной школы. Поэтому никто из них и не заботился что-нибудь делать: один в поле не воин. И вот, воин поздно вставал, тетрадки терял, никого из ребят в лицо не знал, в классе полудремал, заносил с собою женские подвязки. Ученики отлично видели, как каторжно скучает учитель, и сами скучали бы так же каторжно, если бы не играли во время урока в перышки, не читали романы или попросту не спали. Всё это, благодаря «гуманности» учителя, делать было возможно, и это спасало.
Теперь представьте себе, что учитель — не гуманный молодой человек, занимающийся преподаванием в школе по вольному найму и лишь в ожидании лучших занятий, а господин с характером, на коронной службе, твердо решивший выслужиться в инспекторы и даже директоры. Представьте, что начальство учебного заведения не разделяет убеждения доктора Леша, что, если у мальчика нет внутреннего побуждения к работе, то внешние меры принесут ему только вред, и широко применяет эти меры в образе «железной дисциплины» и в видах выжимания хороших отметок, которыми можно щегольнуть и отличиться по службе. Представьте, что при таких условиях смертельно скучающий ученик не может ни спать, ни играть в перышки, ни читать романы, а должен во что бы то ни стало скучать, скучать пять, шесть часов в день, скучать сегодня, завтра, год, восемь лет, — и вы получите образцово «переутомленного» субъекта, которыми полны наши среднеучебные заведения, и о которых так хлопочут в газетах, педагогических обществах и комиссиях. Причина «переутомления» не в классицизме, не в обилии работы, не в пресловутой «неврастеничности» современного учащегося поколения, ни даже в сухости учебников, действительно плохих, а единственно в учителе и воспитателе, в том милом и вежливом господине, который не создан, не выработан для школы, который в её стенах скучает, авторитет которого поддерживается внешней дисциплиной, — который в русской школе известен под именем «начальства» — слово, совершенно непонятное для немецкого школьника, — и который школу превращает в учебную команду. Дореформенная русская школа была даже лучше реформированной. Там была, хоть, дикая, хоть контрабандная, но всё же свобода. Правда, за проявления свободы платились розгой, но розга была монетой, на которую покупалась свобода. В новой школе свободы уж ни за какую цену не достанешь: монета-розга изъята из обращения. Не подчиняется малый «железной дисциплине» — его исключают: ступай на пять лет в солдаты.
8
Были, однако, и исключения, как между русскими учителями, так и среди немцев. Я помню хорошего русского преподавателя и плохого немецкого. Первый — раритет; второй был курьезом в высшей степени. Поэтому я о них обоих скажу несколько слов.
Русский преподаватель, усвоивший себе бодрящую, устранявшую всякий вопрос о переутомлении манеру немцев, был законоучитель, батюшка Виноградов, серебряный, розовый, тучный и крепкий, как дуб, старик, преподававший в школе с незапамятных времен, с незапамятных времен, возившийся с немцами, но стойко не выучившийся ни одному немецкому слову, подобно тому как стойкие немцы в пятьдесят лет не выучиваются ни одному русскому. Д-р Леш и отец Виноградов питали друг к другу искреннее расположение; обменивались понюшками табаку, но объяснялись только дружелюбными кивками, широкими улыбками да приветливыми мычаниями. Для класса отец Виноградов был уже тяжеленек, — но превосходны были его ежедневные беседы с нами за общей утренней молитвой. Сначала прочтет. «Отче наш», потом интересно, поучительно и понятно расскажет что-нибудь о святом, памяти которого посвящен тот день, пожурит и даже прикрикнет, на того, кто невнимательно слушает, наконец скажет — «Ну, ребятки, теперь пойдем учиться, да хорошенько». — Мальчуганы с шумом окружат его и вместе, точно стадо цыплят, с огромной, широкополой, белоголовой наседкой посередине, болтая и шумя, выйдут из молитвенного зала. Я помню наше недоумение, когда сменивший отца Виноградова законоучитель, молодой, благообразный академик, вместо того, чтобы отечески побеседовать с нами, торопливо и смущенно вошел, стал не на кафедру лицом к нам, а впереди и спиною, торопливо начал читать молитвы и читал их полчаса. Мы не успевали следить за чтением, переминались с ноги на ногу, скучали, зевали и, когда он наконец кончил, почтительно дали дорогу его магистерскому кресту, и никто не решился заговорить с ним. Батюшка Виноградов иной раз добирался до ушей. Новый законоучитель всем говорил «вы» и, конечно, «господин». Какие мы — «господа», думали мы, которые дрались как петухи, гримасничали, как обезьяны, за что и получали нередко подзатыльники.
От реформ д-ра Леша, обновившего весь состав учителей, почему-то уцелел один обломок школьной старины, Herr Doctor К.
Кто был герр К, откуда, какое его прошлое, я не знаю. Помню только его рассказы, во время рекреаций, по поводу его золотых часов и большого перстня с красным камнем. Часы и перстень, по его словам, были ему пожалованы в конце царствования императора Александра I за преподавание при дворе немецкого языка. Эти рассказы производили на нас глубокое впечатление и внушали к рассказчику почтение. Рассказывал К. с величественным и многозначительным видом, задумчиво глядя в пространство своими мутными, выпуклыми, когда-то, должно быть, синими глазами. Величествен был его замечательно узкий горбатый нос, в табаке и красных жилках. Величественны были длинные сухие волосы, зачесанные назад с высокого выпуклого лба. Величава была его высокая широкоплечая фигура, вся в черном. На одну ногу он прихрамывал и внушительно опирался на костылек-палку. Зимою он носил бобровую шапку особой художественной формы и шубу, скроенную тоже как-то необыкновенно, каким-то «костюмом». Это к старику шло, но мех, и на шапке, и на шубе, был очень ветх, на вид старей самого К.
Учителем К. был невозможным. У старика была мания — ловить и наказывать невнимательных. Что поглощало всё время, и на урок почти ничего не оставалось. Все должны были сидеть истуканами и не спускать с К. глаз. Чуть кто-нибудь взглянет в сторону, К. уже зовет к себе, велит выставить ладони и пребольно начинает бить по ним табакеркой, плашмя или ребром, смотря по степени вины. При этом обязательно было плакать; покуда не заплачешь, старик всё будет бить. Чуть кто-нибудь возьмется без надобности за ручку, карандаш, ножик или часы, К. в ту же секунду увидит, сделает хитрейшее лицо и начинает манить к себе виновного пальцем, замечательно тонким и маленьким.
— Игрушкэ! Spielzeug! Пожальстэ! — говорить он — Gieb mal her!
Нечего делать, виноватый идет и несет с собой «игрушку». В таких случаях расправа табакеркой была уже варварская: старик бил по локтям; а игрушка отбиралась, и никакие слезы, никакие мольбы, ни даже вмешательство родителей и самого всемогущего директора не могли вернуть отобранной вещи, будь то хоть дорогие золотые часы. Сначала мы думали, что К. продает вещи, но товарищи, жившие у него на хлебах, передавали, что у К. целые сундуки отобранных предметов, целые вороха ручек, ножей, резинок, часов, карандашей, пеналов, линеек. Старик держал всё это в величайшем порядке, никогда ничем не пользовался и только время от времени открывал сундуки, любовался заключенными в них сокровищами и заставлял любоваться своих нахлебников. Это была какая-то мания.
Иногда К. вдруг начинал столоваться с пансионерами. Это была кара небесная. Все должны были есть молча и между кушаний сидеть неподвижно. При малейшем нарушении этого распоряжения, К. отымал у виновного его порцию чая, булки, супа, мяса и с величайшим аппетитом съедал. Аппетит у старика был чудовищный, и он мог лишить обеда десяток несчастных мальчуганов. По окончании обеда голодные горько плачут, а старый чудак величественно рассядется к рекреационной зале, сосет сигару, столь же огромную, сколь дешевую, и милостиво рассказывает обступившим его мальчуганам историю своих часов и перстня; ласкает маленьких, с интересом рассматривает карандаши и ручки, которые ему показывают, ничего не отымает, ибо теперь рекреация, и только предупреждает — как дядя Мазай зайцев, — чтобы во время урока эти вещи ему не попадались, — отымет.
Дома старик испокон веков занимался составлением словаря на четырнадцати языках, — старик говорил, что он все их знает. Мы верили, удивлялись, но словарь никогда не увидел света. Зато у составителя аккуратно каждый год рождались дети, и всё мальчики, о чём К. с гордостью и объявлял нам. Почему-то и это лишь придавало ему больше значительности в наших глазах.
Это был уж не дореформенный, а какой-то средневековой, до-Эразмовский учитель.
9
В Петропавловской школе я пробыл четыре года и во всё время не усомнился в моем руководителе, д-ре Леше, и только однажды вышел из послушания ему, да и то потихоньку, тайно. Уж очень это было соблазнительно, и очень искусен был соблазнитель. Расскажу об этом случае подробней: меня искушают сюжет, сам по себе довольно любопытный, и возможность заглянуть в жизнь школьного микрокосма.
Школы в самом деле, микрокосмы, маленькие мирки маленьких человечков (разумеется, если школы — школы, а не учебные команды), мало исследованные со стороны своей внутренней жизни. А между тем они очень интересны, эти общественные организмы ребят. В них есть герои и толпа. Есть право, публичное и частное. Есть свой кодекс нравственности. Есть общественные классы: пансионеров, полупансионеров и приходящих. Есть табель о рангах, — учебные классы. Есть правящие и управляемые. Микрокосм живет, — живет бойко, разнообразно, шумно и устанавливает свои порядки так же бессознательно, как муравьи в муравейнике и пчелы в улье. Строй школьного микроорганизма в принципе республиканский. Все равны. Но равенство, как и в настоящих республиках, частенько нарушается. Маленькое общество иногда выделяет из себя энергичные и честолюбивые личности, которые, подобно средневековым итальянским дюкам, подестам и капитанам, овладевают властью и начинают править деспотически, удерживаясь во главе отчасти суровыми репрессиями, отчасти ослепляя общество грандиозными и смелыми предприятиями.
Одно время таким деспотом был мой товарищ по классу, Т. По происхождению он был русским. Его внешность напоминала Мирабо. То же мощное телосложение, то же широкое лицо со следами оспы, такой же громовой голос. На политическое поприще Т. выступил в возрасте уже зрелом: ему было почти шестнадцать лет, и на верхней губе почти показалась растительность. Он уже достаточно познал сладкий яд страстей. Он курил. Однажды во время говенья он влюбился в незнакомую девушку, которую встречал в церкви. Кто она — ему не удалось узнать, но тем пламенней была его неудовлетворенная любовь. Помню, как он, не в силах более таить своей страсти, рассказал мне о ней и, сняв сапог, показал глубокий надрез на большом пальце, сделанный для того, чтобы боль постоянно напоминала ему о предмете его страсти. Помню, я тогда смотрел на него как на существо высшее, и с этой минуты началось его влияние на меня.
Вслед за личными страстями в Т. скоро пробудились и общественные: честолюбие и властолюбие. Как ни обширен был его ум, и как ни тверд характер, но едва ли он действовал по обдуманному плану. Скорее это были просто особые инстинкты честолюбца. Я даже склонен думать, что и настоящие, взрослые честолюбцы, вроде Наполеона, действуют по вдохновению, пользуясь случайностями и обстоятельствами, а «планы» уже потом придумывают за них историки. План нуждается в опыте и расчётах, а какой же опыт может быть у героя, который выкидывает штуки небывалые и не имеющие примера в истории? Пожалуй, теперь и я могу объяснить планы Г., что и сделаю, но настаивать на их существовании не стану.
Прежде всего Т. озаботился составлением преданной ему партии, с целью — приколотить меня: мы тогда за что-то поссорились. Партия состояла мальчуганов из двадцати. Это было серьезно, — быть приколоченным двадцатью мальчуганами. Я тоже набрал партию, — и возгорелось в микрореспублике междуусобие. Лишь только Т. заметит, что я один или с малыми силами, он подает сигнал, и на меня мчатся его клевреты. Я птицей лечу от них, даю свои сигналы, сбегается мое войско, окружает меня, и две рати стоят друг против друга, готовые вступить в бой. Однако, Т. не дал ни одного решительного сражения. Он объявил своим приверженцам, что предпочитает систему Фабия Кунктатора, медлительность, и Филиппа Македонского, подкуп. Т. несмотря на сходство с Мирабо, не был рыцарской натурой; это был интриган, которому нравились дурные хитрости. Был пущен в ход подкуп, в виде булок, перьев и «снимок», и часть моей партии растаяла. Медлительность, ложные тревоги, постоянное напряжение утомили остальных, так что и эти покинули меня. Я очутился один, подобно Марию в Понтийских болотах. Т. послал мне предложение сдаться на капитуляцию. Я отверг это, ибо знал, что последует за капитуляцией. Вместе с тем я объявил, что, так как шансы борьбы неравны, то я считаю себя свободным от всех условий правильной драки. Я буду давать подножки, хватать подсилки, драться «по-мордам»; мало того, буду носить с собой камни и лапту, т. е. палку для мяча. Т. скомандовал атаку, меня окружили, я прорвал круг и благополучно достиг стены. Тут я занял крепкую позицию и стал мужественно отражать нападение. Сначала я всё-таки не решался нарушить кодекс борьбы. Но меня теснили всё больше, страх быть избитым двадцатью человеками возрастал, и я пустил в дело лапту. Несколько врагов выбыло из строя, но остальные ожесточились. Конец лапты был уже в руках врагов… Но тут вдруг раздался сигнал к отступлению, ряды врагов расступились, и ко мне подошёл Т.
— Ты храбрый человек, — сказал мне Т. — Я только хотел испытать тебя. Помиримся.
Этим Т. окончательно покорил меня.
Всех подвигов, совершенных мною, под предводительством Т., не перечесть. Мы по два дня ничего не ели, чтобы развить в себе силу воли. Мы предпринимали опасные экспедиции на дикие страны. Этими странами были крыши школы и соседних домов. Путешествие на соседнюю крышу было сопряжено в самом деле с опасностью. Она отделялась от нашей промежутком аршина в три шириной. Нужно было разбежаться и перепрыгнуть. Как мы при этом не свалились вниз, причем, конечно, расшиблись бы до смерти, я не понимаю. Чтобы время на крыше шло веселее, мы за обедом ничего не ели, а, что было можно, завертывали в бумагу и съедали уже на крыше, откуда любовались Москвой, небом и летавшими в нём голубями. Это были очень приятные и поэтические минуты. Иногда Т. напускал на себя благочестие, и мы по ночам читали Евангелие и молились. Как-то Т. провозгласил себя диктатором школы. Он учредил администрацию, войско, суд и законодательный совет. Были чины и патенты на чины. Был свод законов, была тюрьма и, конечно, экспедиция заготовления государственных бумаг и деньги, в форме бумажек от карамели, снабженных подписями диктатора и министра финансов. Деньги серьезно ходили, в течении дней десяти; на них можно было покупать перья, карандаши, у приходящих — их завтраки. Я отлично помню, что первыми продали свои бутерброды два еврейчика, братья Л. Теперь они наверно где-нибудь уважаемыми банкирами (один из них еще при мне уехал в Нью-Йорк). Банкирами они были и тогда (и скупщиками заведомо краденых книг). Они стали покупать наши кредитки на настоящие деньги, по копейке за 10 000 рублей. Потом они продали их по полторы копейки за 10 000 рублей. Рынок был наводнен, кредитки упали в цене до нуля; владельцы и государство обанкротились, а банкиры братья Л. составили себе колоссальное состояние копеек в тридцать. Больше всех во время этого знаменитого краха пострадал диктатор, потерявший многие миллионы, но так как кредитки он сам делал, а не заработал, то и не тужил. Неприятность была в другом: именно, разоренная республика взбунтовалась и низложила диктатора. С тех пор, как завелись на свете деньги, даже величайшие события совершаются не по прихоти денег только в виде редких исключений.
Вскоре после крушения своей диктатуры Т. совершил дела, которые взволновали школу до основания, не исключая д-ра Леша, не исключая самого церковного совета, «кирхенрата», ведавшего школу; оберпастор и (захватите побольше дыхания, читатель) генералсуперинтендент, и те задумались. В школе, церковной лютеранской Санктпетрипауликнабенкирхеншуле, завелись московские черти. Как ни просвещены, как ни выше всяких суеверий немцы, но в Москве и они немного верят в чертей. Да и нельзя не верить. В Москве почти на каждой улице есть дом, в котором никто не живет, потому что там поселились черти. Московский немец слышит об этом с детства, можно сказать, всасывает чертей с молоком московской кормилицы, и потом, будучи банкиром, богатым фабрикантом, крупным купцом… членом кирхенрата, он не может вполне отрешиться от впечатлений детства. Московские немки идут дальше и, в то время как немцы верят только в русскую нечистую силу, немки, со свойственным женщине идеализмом, верят и в русских угодников. Нередко в трудную минуту жизни немка дает обещание, конечно, по секрету от своего немца, сходить к Троице-Сергию. И она идет, и случается, что после двух, трех паломничеств, она возвращается домой тайной православной. Я знаю одну немку, — Эмилию, которая была миропомазана по недоразумению под именем рабы Емели. По воскресеньям такая Емеля продолжает ходить в кирку, угрызается своим притворством и, глядя на пастора в черной блузе и с белым фартучком под бородой, с тоской вспоминает о величественных ризах и блистающих митрах у Троицы-Сергия.
Итак, в школе завелись черти. Это произошло, конечно, зимой, когда ночи длинны, воет в трубах ветер, половина дома стоит темной, и человек, склоннее верит в чудесное. Первым услышал чертей жеманный женоподобный мальчуган, страстный музыкант, по прозвищу Старая дева, или мамзель Фифи. Часов в восемь вечера он играл в актовом зале на фортепьяно и вдруг турманом слетел со второго этажа в первый, где пансионеры готовили уроки. Он просто прыгнул на надзирателя: — «Что такое?» — В классных комнатах, рядом, с актовой залой с страшным грохотом пляшут скамейки! — Пошли наверх, там всё тихо. Напились чаю, пошли парами в спальни. Мамзель Фифи повис на руке надзирателя и идёт зажмурив глаза. Лишь только поровнялись с коридором, который вел в классы, как раздался грохот скамеек, которые точно в чехарду играли, а из коридора вылетел с силою бомбы большой ком мела. Мальчуганы, которым он попал под ноги, запрыгали так, точно мел их кусал, а уж закричали — как зарезанные. Передние ринулись наверх, задние не хотели идти мимо коридора. Позвали сторожей, принесли огня, осмотрели классы, — нигде никого, но скамейки в беспорядке, некоторые перевернуты.
Ночь провели тревожно. В одной из спален разразилась паника: кто-то ходил по железной крыше и стучался в окно. Оказалось, однако, что это дворники считали снег. Пришло утро, ночной надзиратель свел нас вниз, и там мы застали дежурных надзирателей сильно расстроенными. Оказалось, что до нашего прихода они слышали какие-то стоны, вопли, хохот, которые раздавались по всему пустому нижнему этажу и выходили неизвестно откуда. Надзиратели были заметно бледны и делали догадки, которые казались нам натянутыми. Герр Вейс говорил, что не залетела ли в трубу ворона, и не она ли стонет так страшно в предсмертной агонии. Герр Нейман что-то ученое говорил о действии земных магнетических токов: он читал в «Гартенлаубе», что недавно нечто подобное магнетизм сшутил в Америке. Мы не верили ни вороне, ни магнетизму. В течение дня приходящие насказали нам пропасть страшных подробностей о московских чертях, каждый о чертях своей улицы, и к вечеру паника овладела уже всем пансионом. При малейшем внезапном шуме и стуке мальчуганы замирали от ужаса. По одиночке никто никуда не решался ходить. Пришлось осветить все закоулки. Пришлось расставить по всему дому сторожей и дворников. О спокойном приготовлении уроков нечего было и думать. За чаем никто не хотел садиться около камина и темных окон. То за одним, то за другим столом вдруг подымался вопль, и все, с бледными лицами и вытаращенными глазами, сбивались в кучу: одному показалось, что кто-то под столом схватил его за ногу; другому в окне померещилась страшная харя, разумеется, с рогами. Идти наверх мимо темных классов отказались и просились ночевать в столовой. Пришлось послать за директором. Директор пришёл, серьезнее обыкновенного, велел читать молитву, а сам стал впереди, лицом к школьникам, и пристально вглядывался в них, особенно внимательно останавливаясь на некоторых. Я видел это, и сердце во мне замирало. После молитвы директор сам отвел нас в спальни и долго там оставался. При нём было не так страшно, но мальчуганы всё-таки заметили, что и на директора эти происшествия произвели впечатление. Стало быть, это не ворона и не магнетизм.
На следующий день директор был в школе безотлучно, даже обедал с нами. Всё было тихо; черти, в которых никто уже не сомневался, присмирели. Кто-то из приходящих принес номер «Развлечения», в котором весьма юмористически рассказывалось о появлении в нашей школе чертей. По тогдашним обычаям, статья вместе с тем была и обличительной; писали, что немцы так бьют своих школьников, что те ходят все в синяках, что школа морит своих пансионеров голодом — на самом деле нас кормили гораздо лучше, чем впоследствии я ел в казенном пансионе, — что в школе ничему не учат и, о ужас, ученикам говорят: ты. За это-то, по мнению юмористического журнала, черти и карают немцев. Журнал пошёл по рукам, надзиратель его отнял и подал директору. Было это при всех, вечером, во время приготовления уроков. Директор велел статью себе перевести… Выслушав до конца, он пожаль плечами, сказал, что что ерунда, Strund, и бросил газету в угол. Это произвело сильное впечатление, и мы начали склоняться к мысли, что едва ли чертям сладить с директором; Но как раз после этого раздался грохот пляшущих скамеек, доносившийся сверху, снова с воплем влетел мамзель Фифи, и тотчас же пламя газовых рожков стало уменьшаться, рожки потухли, и только один еле мерцал крохотным синим огоньком. Можно себе представить, что тут произошло. Визг, плач, крики. Надзиратели растерялись. И только один наш капитан, директор, гремел своим басом, усовещевая, успокаивая и грозя. Через несколько секунд уцелевший синий огонек стал увеличиваться и мало-помалу разгорелся. Директор сам зажег остальные рожки. — «Это неисправность газового общества», громко сказал он, но был видимо взволнован. Паника, охватившая две сотни мальчуганов, не могла не отразиться и на его нервах. Я видел это, и меня мучила совесть.
Проделки чертей и вызнанная ими паника продолжались несколько дней. Плясали скамейки, по всему дому раздавались стоны, наводившие ужас не только на учеников, но и на надзирателей, сам собою потухал газ. Известие об этих, происшествиях из «Развлечения» перешло в другие газеты, оберпастор и кирхенрат встревожились и целой комиссией несколько раз подробно осматривали школу. Школа разбранилась с газовым обществом, подозревая, что то привозит ей в своих дилижансах — тогда газ шел не по трубам, а развозился по домам в огромных колымагах — не газ, а просто воздух… Общество обижалось, предлагало нюхать свой газ, чтобы убедиться, какой он великолепный, разбирало газовый резервуар, помещавшийся под лестницей в карцере, осмотрело и перечистило все газовые трубы в здании. Ничто не помогало. Конечно, это были черти!
Главным чёртом был Т. В числе подручных чертей находился и я. Скамейки плясали под нашими руками: достаточно нашумев, мы прятались на самую верхнюю полку огромных классных шкафов, затворялись и закрывались географическими картами. Стонали, хохотали и вопили тоже мы, пользуясь для этого трубами воздушного отопления, расходившимися по всему дому. Газ потухал от того, что мы забирались в соседнюю темную комнату, брали в рот газовый рожок и изо всех сил начинали в него дуть. Воздух по трубке проходил в комнату, где рожки горели, и, конечно, тушил их.
Я пустился в эти приключения с увлечением, потому что, согласитесь сами, это было занимательно. Но когда я заметил, что мы начинаем дурачить д-ра Леша, я объявил, что выхожу из чертей. Т. дал мне искусное объяснение наших проделок. К этому времени он объявил себя атеистом. — «Вот видишь ли, мой друг, — сказал он мне, — теперь ты сам можешь убедиться, как рождаются человеческие суеверия: все уверены, что в школе завелись черти». — Я был поражен: каждый шаг этого Т. обдуман и имеет глубокий смысл; а я-то думал, что мы просто шалим! По счастью, я не долго дружил с Т. Директор, скоро приметивший эту дружбу, посоветовал мне не водиться с малым. И за это тоже спасибо директору: Т. кончил в школе дурно.
10
Таковы были школа, где я начал свое ученье, и её руководитель. О той и, в особенности, о другом я сохранил самые благодарные воспоминания. Когда я бываю в Москве, я непременно захожу взглянуть на школу, и при виде её во мне пробуждаются хорошие чувства.
Жалеть ли о том, что я оставил школу? И да, и нет. Школа была слишком хороша для русской жизни; а сам же д-р Леш говорил, что нужно познавать и зло, чтобы уметь ему противиться. В ту пору учебные заведения стали предметом особой заботливости так называемых пропагандистов. Немцы на людей, решавшихся мешать в политику детей, смотрели с суеверным ужасом и вполне законным отвращением и тщательно оберегали свою школу от их посягательств. Но ведь впереди был университет, с его «политикой», и я попал бы туда, не зная зла и не подготовленный ко встрече с ним. Между тем в гимназии я ко времени окончания курса был, так сказать, уже с привитою политической оспой. А совсем уберечься от «политики» в школах было нельзя. Это было поветрие, корь или скарлатина детского возраста пореформенной России. Рано или поздно всё равно пришлось бы перенести эту болезнь; и лучше, когда это случалось рано, потому что в таком случае форма болезни была легче, способы лечения были не столь героичны, а иногда болезнь проходила сама собой, без лечения.
Затем, школа не была национальной школой. А вне национальности нет ничего прочного и полезного, в малом точно так же, как и в великом. Так оно в искусстве, в науке, в философии, в политике; так и в существовании заурядного человека. В русском человеке и до сих пор много национального утеряно, или не приобретено, или заменено подражанием… Чужая школа только усиливает эти недостатки, делает человека менее приспособленным к жизни, делает его менее сильным для управления этою жизнью. Идеал — в полной гармонии отдельного человека с его страной. Чем гармония полнее, тем плодотворней и энергичней работа нации и государства. Чем дальше от идеала, тем большие вялость, неуверенность и безрезультатность царят в частной и общественной жизни. Мы, русские, кое-как уж выбрались на национальную дорогу. Чтобы составить себе наглядное понятие о том, чем были мы еще недавно, нужно взглянуть на молодые народы, на сербов, болгар, румынов, — или перелистать историю Польши.
Как, — же быть, когда национальной школы нет? В таком случае приходится прибегнуть к единственному остающемуся средству: предоставить воспитание детей жизни. Это для ребенка и юноши трудная школа, опасная, несовершенная, но единственная, в том случае, если нет национальной, так сказать, школьной школы.
Так я думаю теперь; тогда, оставляя школу, я был очень огорчен: рушилась моя заветная мечта, — в день окончания школы выпить с д-ром Лешем брудершафт. Таков был обычай: после последнего экзамена новорожденные студенты собирались к директору, приносился рейнвейн, и ученики с наставником пили на ты. Эта минута мне даже снилась нередко. Ей не было суждено осуществиться.
II. Русская школа
Какое наследие оставила нам школа пореформенного периода? Где громкие имена и великие характеры, выработанные ею? Кого выдвинула она нам на место славных деятелей старого закала?.. Картина общественных явлений, участниками которых являются люди новейшей формации, не более утешительна: кафешантаны с опереткой, зрелища сенсационных процессов, нигилизм и неврастения, — вот главные приобретения пореформенной общественной жизни, характерные её недуги, которыми в большей или меньшей степени, заражены люди, взрощенные на новых педагогических началах.
Из статей «Московских Ведомостей».1
Покинув немецкую школу, я вступил в школу русскую. Первое, что она мне дала, это было знакомство с тем, что такое протекция. Дальше пошли другие интересные вещи, как-то: начальство, титул «ваше превосходительство» (этот громкий титул даже пугал меня на первых порах), форменная одежда, экзамен, обращение ко мне начальства, не только простого, но даже превосходительного, на «вы», и несмотря на то враждебное отношение к этому начальству и ко всем его действиям со стороны учеников, с которыми разговаривали так вежливо. Всё это было для меня ново, дико и «нехорошо».
Осенью меня не приняли в четвертый класс, а посоветовали сначала подготовиться и держать экзамен в январе. С осени до января я ничему не научился, экзамен сдал плохо, но меня всё-таки приняли. Я был этим удивлен, но потом мне объяснили, что я принят «по протекции», так как меня готовил студент, которому протежировал его превосходительство, т. е. директор. Когда я это узнал, я почувствовал, что и это «нехорошо». Когда студент, не без иронии в тоне и в словах, подтвердил, что его учеников не проваливают, потому что его превосходительство (титул был произнесен с явной иронией) просто-напросто принимать их велит, эта ирония произвела на меня тоже дурное впечатление. При этом экзамене присутствовал инспектор, человек крутой и бесцеремонный, с большими и круглыми злыми глазами. Особенно плох я оказался по славянскому языку. Мне велели написать юсы, большой и малый. Малый кое-как удался, но вместо большого я с трудом начертил какую-то каракулю.
— Это что за штука? — спросил меня инспектор, с злыми глазами, одетый в невиданной мною до того наряд, называвшийся вицмундиром.
— Это юс большой.
— Нет, батюшка, это ухват, а не юс большой.
Инспектор вздохнул, учитель вздохнул, оба переглянулись, но всё-таки поставили мне тройку.
— И лентяй же ты, батюшка, будешь, — не удержавшись, сказал инспектор и так на меня взглянул своими злющими глазами, что как будто стегнул меня ими.
— Я буду стараться, — сказал я, оробев, но — помню это отлично — мне были приятны суровые слова инспектора: это была всё-таки правда, а не «протекция».
Когда экзамен был кончен, меня, вместе с отметками, отправили к директору.
— О, да вы язычник! — сострил директор. — Прекрасно, прекрасно. Поздравляю вас: вы наш!
Из французского и немецкого языков у меня было по пятерке; потому-то я и был назван «язычником».
При этой остроте все окружающие — учителя, надзиратели, какие-то канцелярские чины — с увлечением рассмеялись. Инспектор снова стегнул злыми глазами, и меня, и его превосходительство. Я чувствовал, что не хорошо всё это: похвала директора, который, ведь, знает, что меня принимают по протекции, угодливый смех окружающих; не хорош и я, поступающий по протекции. Прав был один злющий инспектор, но нехорошо, что он — злющий, и нехорошо, что он злится и на меня. Я-то тут причем? Да и кроме того, почему инспектор молчит и не скажет директору: «Вы ошибаетесь, господин директор, это — лентяй, и его совсем не стоит поздравлять с поступлением в нашу гимназию?» Вокруг меня были не педагоги, а самые заурядные русские чиновники, служившие по учебному ведомству, с их чинопочитанием, протекциями, титулами, подавленной иронией и сатирой, ожидающей своей очереди стать деспотизмом. Инспектор, с сердитыми глазами, был таким сатириком. Когда он сделался у нас же директором, он показал себя очень удовлетворительным деспотом.
Как бы там ни было, я был принят и был этому рад. Когда мы осматривали осенью с моим отцом гимназию, я был поражен её великолепием. Громадное здание, в которое влезло бы десять Петершулок. На фасаде — орел. Перед фасадом тенистый садик, отделенный от улицы чугунной решёткой художественной работы. Громадные сени, не в два, а в четыре света. Лестница — чугунная, великолепная, до блеска натертая графитом, с бархатной дорожкой на ступенях. С великолепной лестницы, во втором этаже, не менее великолепный актовый зал. В зале «золотые доски», на которых записаны окончившие курс с золотою медалью. Рядом с залом изящная домовая церковь. Перед церковью — приемная с мягкой мебелью, вся уставленная вдоль стен книжными шкафами. Я был в восхищении. В зале великолепно играть в мяч и в чехарду. Книг для чтения неисчерпаемое количество. В саду много тени и цветов. На гимназии орел. Меня нарядят в форму. Я казенный человек, почти чиновник, чуть не офицер, не то что какой-нибудь мальчуган петершулист, в фланелевой рубашке.
Когда меня приняли, и я в качестве пансионера вступил в стены гимназии, меня постигло разочарование. Зал открывался только раз в год во время акта. В сад не пускали никогда. Приемная открывалась только для посетителей. По великолепной лестнице ходили только генерал-губернатор, попечитель, да архиерей. Форменная одежда, о которой я мечтал, оказалась лохмотьями, притом археологического характера. Приходящие давно уже нарядились в голубые мундирчики, с серебряными галунами, а пансионеры всё еще донашивали черные сюртуки с синими петлицами. Пальто были и того древнее, — николаевские, с красными петлицами и золотыми орлёными пуговками. Скроена эта одежда была удивительно. Последний петершулист, какой-нибудь сапожничий сын, одевался не так мешковато и безобразно, как были одеты мы. Сапоги имели вид лаптей, а калоши были лаптями для лаптей. Когда нас, так наряженных, водили по улицам, на нас смотрели с изумлением и принимали, кто — за певчих, кто — за малолетних преступников. Правда, можно было получить обувь и одежду пофрантоватей, дав гардеробщику взятку, но, по счастью, о взятках знали немногие из нас; те, кто знал, были дурные малые, а тот, кто узнавал, становился хуже. Я первую взятку дал кондуктору на железной дороге, чтобы он устроил мне удобный ночлег. Ночлег я получил, но заснул не скоро, под тяжелым впечатлением совершенного мною и кондуктором. Первая взятка — хорошая тема для рассказа в манере г. Чехова. А то, всё пишут про первую любовь, как будто в жизни взятки меньше, чем любви.
В Петершуле все самые просторные и светлые помещения принадлежали школьникам. В гимназии двести мальчуганов и молодых людей были заперты в двух сравнительно небольших комнатах, на три четверти заставленных скамьями. Тут готовили уроки, тут же проводили свободное от занятий время. Ни воздуха, ни простора. Шум и беготня были строго запрещены. В моих письмах того времени, сообщая родителям распределение времени, я писал, что в такие-то и такие часы мы готовим уроки, пьем чай, обедаем, а в такие-то «расхаживаем». И действительно, всё, что нам дозволялось, это — ходить взад и вперед по душной комнате или по узкому коридору. На двор нас выпускали только в теплое время, т. е. в течение двух, двух с половиной месяцев из десяти — по той причине, что не имелось теплой одежды и не было особых «сумм» для расчистки снега на дворе. По случаю крайней уродливости нашего наряда, гулять по улицам нас водили редко. В результате получались зеленые, вялые мальчуганы, неказистый вид которых приходящие приписывали порокам, в действительности в пансионе не существовавшим. Разумеется, мы мучительно скучали.
2
В пансионе мы могли хоть «расхаживать». Во время уроков мы должны были только скучать. Скука поддерживалась всею властью, которою были вооружены надзиратели, учителя и инспектор. Я не упоминаю о директоре, потому что мы его видели очень редко. Он пребывал где-то в отдалении, в пышной казенной квартире, и к нам не столько заходил, сколько ниспускался, подобно небожителю. Что он делал на своем Олимпе? О, он был по горло занят. Он подписывал, изучал бумаги, поступающие от начальства, и составлял на них артистические ответы. Затем — просители, затем гости, затем визиты, затем карты. Нельзя же. Ведь, он не кто-либо, а действительный статский советник, а жена его генеральша. Однажды генеральша везла на извозчике пятерых своих генералят. Два пузыря-первоклассника спросили извозчика: почем везешь с пуда? Пузырей немедленно исключили за оскорбление «начальницы гимназии». Совершались же этакие варварства! Директор трудился неустанно, результаты его трудов были блестящи, впоследствии он далеко пошёл по службе, — но мы видели его очень редко.
В Петершуле был надзиратель, герр Шварц. Всякий раз, когда он ждал, что придет директор, он впадал в нервную тревогу. Он бледнел, глаза его делались круглыми, он начинал без нужды кричать на нас свирепым полушепотом, вынимал из жилетного кармана зеркальце и поправлял пред ним прическу парика и чистил вставные зубы. Наконец, он смахивал носовым платком пыль с сапог и застывал на месте, поедая глазами дверь, в которую должен был войти д-р Леш. За этот непонятный для нас страх пред директором мы совершенно серьезно считали Шварца немного помешанным. Я так и писал матери: «а то у нас есть еще один надзиратель, немного сумасшедший; он ужасно боится директора». Потом оказалось, что герр Шварц совсем не сумасшедший, а прослужил тридцать лет в той гимназии, куда я поступил из школы.
Во время редких появлений его превосходительства все делались немного помешанными. Сначала на носках вбегал сторож и с круглыми глазами, шептал на ухо надзирателю, что сейчас «будут генерал». Надзиратель, у которого глаза мгновенно делались тоже круглыми, начинал на все пуговицы стягивать свой толстый живот вицмундиром. Застегнувшись, он обегал все скамьи и заглядывал, все ли занимаются тем, чем заниматься положено. В отдалении хлопала дверь инспекторской квартиры, и по длинному коридору, на пути его превосходительства, начинал нервно шагать инспектор. Тишина воцарялась мертвая. Наконец, его превосходительство появлялся. Он идет, позванивая пуговками на хвосте вицмундира, а рядом с ним и за ним, в позах амуров, на старинных виньетках рококо, несутся надзиратели, инспектор, эконом, сторожа. А мы все замерли, с круглыми глазами, в приступе шварцевского помешательства.
Вошёл. Мы с грохотом встаем и вытягиваемся в струнку.
— Здравствуйте, дети!
— Здравия желаем, ваше превосходительство!
— Печка, кажется, дымит? — обращается генерал к надзирателю.
— Никак нет, ваше превосходительство.
— Чем вы занимаетесь, господин, кажется, Иванов?
Кажущийся Ивановым — на самом деле какой-нибудь Крестовоздвиженский, но он остерегается обнаружить ошибку генерала и отвечает:
— Алгеброй, ваше превосходительство.
— Прекрасно, господин Иванов. Ученье свет, а неученье тьма… Господа!..
— Шт! шт! — свирепо шикает надзиратель, хотя и без того тишина мертвая.
— Господа! Э-э… математика, господа, конечно, э-е… прекрасная наука, но, господа, налегайте на древние языки. М-де-э… Ничто так не благотворно для юных умов и сердец, как древние языки. Вы поняли меня, господа?
Молчание.
— Что же вы не отвечаете? Это невежливо.
— Поняли, ваше превосходительство.
— Прекрасно. Я рад, что вы разделяете мое мнение… Вы, кажется, господин Дедлов?
— Да, господин директор.
Его превосходительство неприятно удивлен слишком простым титулом, который я ему даю по немецкому школьному обычаю.
— Как здоровье вашего батюшки?
— Благодарю вас, господин директор, хорошо.
Генерал изумлен еще больше. Надзиратель, сзади меня, шипит: «Говорите: ваше превосходительство! ваше превосходительство!» Я даю себе слово не забыть этого длинного превосходительства».
— Кланяйтесь ему от меня.
— Хорошо… — И мимо воли у меня срывается опять: — господин директор.
Генерал уже с видимым неудовольствием отворачивается, делает несколько шагов, смотрит на потолок, произносит, обращаясь к эконому: «Побелить! Побелить!», снова поворачивается ко мне и с раздражением говорит:
— Вы бестактны, господин Дедлов.
— Что, получили! — шипит надзиратель, когда генерал уходит, и свирепо грозит пальцем. Товарищи смотрят на меня с иронией. Я еще не успел заразиться шварцевским помешательством. Потом, конечно, заразился, притом настолько основательно, что и до сих пор не могу от него совсем освободиться, и утешаю себя примером кого-то из энциклопедистов, кажется Дидро, который в присутствии Людовика XV превращался от смущения в соляной столп и объяснял это навязчивой мыслью, что вот этот человек, если захочет, может велеть его повесить, не спустя с места. Это не мешало энциклопедисту подготовлять революцию. Мы, гимназисты, довольно скверно робевшие начальства, еще сквернее его не любили и тоже не прочь были от революций. Две такие бунтовские вспышки я припоминаю и сейчас. Одна была направлена против самого «генерала». Его превосходительство был некрасноречив и скрывал этот недостаток разными приятными звуками, вроде: э-э, м-де-э и т. п. Однажды после речи генерала, речи весьма важной, направленной против нигилистов, игравших в то время видную роль, выслушанной нами в почтительном трепете, когда высокий оратор, удаляясь, был уже на пороге соседней комнаты, вдруг среди гробовой тишины откуда-то из середины пансионеров, уже склонившихся над учебниками, громко и удивительно похоже раздалось:
— Э-э!.. М-де-э!..
Надзиратель потом сознавался, что в то мгновение ему показалось, будто провалился пол, посыпались вниз парты, пансионеры, лампы, печи, сам он, его жалованье, его формуляр, его пенсия… Что оставалось делать его превосходительству? Оставалось показать вид, что он ничего не заметил. Так он и поступил, с удивительным самообладанием произнесши, указывая на потолок: «Побелить! Побелить!»
Другой бунт был еще хуже. Злющего инспектора перевели в провинцию директором. В день отъезда ему давали прощальный обед. Собрались учителя и надзиратели, говорили тосты, сердечно прощались, глубоко сожалели, искренно желали. Ходили к инспектору и представители пансионеров и тоже прощались, сожалели, желали… Когда смерклось, инспектор вышел садиться в экипаж. Пансионеры бросились к окошкам, растворили все форточки, и всё время, пока экипаж не съехал со двора гимназии, из окон неслись самые площадные ругательства и самые жестокие пожелания отъезжавшему начальнику. Надзиратели, тоже не любившие крутого инспектора, не только не останавливали, но еще ухмылялись. И поплатились же за это бунтовщики! Не прошло и полугода, как инспектор вернулся к нам директором. Можете себе представить, какие установились отношения между ним, учащимися и учащими. Страх, ложь, фальшь. Но, подите же, разберитесь в противоречиях русской жизни, — этот директор был и умен и в сущности хорошая натура. Об этом я узнал впоследствии от товарища, к которому, когда он, окончив гимназию, поступил в университет, его бывший директор вдруг стал частенько захаживать и беседовать по душе. Тут он раскрывался и обнаружил свою истинную суть. Это был попович, семинарист. Он знавал нужду, знал суровую русскую действительность и сам был суров. В университете он учился прекрасно, был отличный лингвист и увлекался философией. Он был умен и отлично понимал, что и его педагогическая деятельность, и весь склад русской школы — вздор, не то. А необходимость заставляла тянуть лямку. Науки он бросил давно. Конечно, он пил, и тосковал, и отводить душу ходил к своему воспитаннику, которого он еще на днях гнул, как и всех, в бараний рог, но в котором отличил чистого, умного и талантливого человека. Умер злой директор рано, и, конечно, от водки. Интересный тип, знакомый русский тип, но — не педагог.
3
Таким же противоречием, как злой директор, только менее ярким, представляются мне теперь и наши учителя. Сколько я их ни припоминаю, ни одного я не могу назвать дурным человеком. Не было среди них ни деспотов, ни развращающих «протестантов», ни подхалимов пред начальством. Напротив, всё это были, за ничтожными исключениями, учителя новой формации, молодые люди хорошего тона и в щеголеватых вицмундирах. Вне стен гимназии многие были людьми душевными, отзывчивыми, разговорчивыми. Даже в гимназической курилке они держали себя как живые люди, — громко беседовали, оживленно жестикулировали, спорили, рассказывали анекдоты, смеялись; но, как только учитель попадал в класс, он превращался в куклу, в машину, в аппарат, изготовляющий скуку. Это были не люди, а какой-то «мертвый инвентарь», наряду с партами, досками, картами и кафедрой. Доска; пишут на ней мелом; а инструмент для писания мелом на доске, это — учитель; а учителя изготовляются для каждого предмета особые: кто для арифметики, кто для латыни, кто для русского.
Идеалом «мертвого» педагога был учитель греческого языка, родом болгарин. Пластически это была великолепная голова. Матовое лицо, черные как смоль волосы, волнистые на голове и в мелких завитках в бороде, а лицо — смесь древнего эллина и татарина. Это была музейная голова классического варвара. К сожалению, вместо музея она попала на учительскую кафедру, причем ничего не утеряла из своей статуйной мертвенности. Бедняга был чахоточный, у него всегда болела грудь, и он боялся пошевельнуться, боялся громко сказать слово. Всё время урока он не изменял своей слегка сгорбленной позы, поворачивал не голову, а только печальные черные эллинско-татарские глаза; говорил он одними губами. Я учился у него два года. Сначала я не мог оторвать глаз от его великолепной головы, но скоро его уроки стали доводить меня до бешеной скуки, от которой даже ноги тосковали. Надо как-нибудь поддерживать нормальное душевное состояние, и я читал «посторонние» книги, проектировал новые железные дороги, которые чертил на карте «Крестного календаря», лепил из черного хлеба котов и свиней, наконец… бился головой об стену. Уроки грека часто совпадали с уроками в соседнем классе учителя, который имел, привычку стремительно шагать взад и вперед по комнате. И вот, в такт с его шагами, я незаметно начинал колотить затылком в стену.
— Что это стучит? — медленно, мертвым голосом спрашивают мертвые губы «грека».
— Это Иван Иванович ходит в соседнем классе.
— Как он твердо ступает!
У грека я не выучился ничему. В пятый и шестой классы я перешёл больше по протекции; в шестом читали Гомера, а я забыл и то, чему меня выучил в Петершуле крикун д-р Хенлейн.
Почти таким же мертвецом был и учитель русского языка, с тою разницей, что «грек» был бледен как воск, а «русский» отличался розами и лилиями, которым завидовали даже московские барышни. Пока мы учили стихи и басни, да писали сочинения, дело у меня еще ладилось, но как, только начались муки изучения Буслаевской грамматики и Стоюнинской теории словесности, учитель меня уморил. Мои Буслаев и Стоюнин дальше первых страниц остались даже неразрезанными. Помню, какое трогательное усилие сделал учитель, чтобы заставить меня быть прилежным. Однажды, когда я по обыкновению не знал урока, учитель, краснея и запинаясь, меня спросил:
— Скажите, отчего в четвертом классе вы учились весьма удовлетворительно, а теперь, если не ошибаюсь, совсем оставили занятия?
— Потому что скучно это ужасно, — ответил я с полной откровенностью.
Учитель опустил глаза, покраснел еще больше, опять взглянул на меня, опять стыдливо опустил глаза.
— Садитесь, сказал он. — Господин Алексеев, потрудитесь отвечать.
Я сел. Мой друг, милый, умненький, покорно старательный мальчик, Коля Алексеев, начал отчеканивать какое-то: бых-бы-бысть-бысте-быша… И у русского я ничему не выучился.
Это были мертвецы сидячие, но были и стоячие. Стояли те, которые были постарше, по случаю геморроя. Таким был, например, латинист, учитель отчасти старой школы. Он брился, был холост, попивал, но тихо и секретно, и имел манию подбирать на улицах искалеченных или просто заблудившихся собак. У него на квартире была настоящая собачья богадельня. В классе этот чудак присутствовал только телом, а дух его пребывал в его собачьей богадельне, где кстати стоял и заветный шкафчик с графинчиком. Слышал ли он, что отвечают ученики? Вероятно, слышал, потому что довольно удачно их поправлял и довольно правильно ставил отметки. Иногда он выходил из своего мечтательного настроения, проявлял некоторую распорядительность и тогда делал глупости. Одна из таких глупостей заставила меня покинуть гимназию. Но об этом дальше.
Познакомился я в гимназии и еще с типом учителя, столь же далекого от идеала, который я вынес из моей немецкой школы. Это — рубаха-парень, веселый, бесцеремонный после выпивки, накануне зевающий во весь рот, ставящий отметки зря, говорящий всем ученикам «ты», в младших классах забавляющийся тем, что щиплет мальчуганов за уши или дергает их за волосок-«пискунчик», причем спрашивает: «А ну-ко, скажи, где живет доктор Ай?» Из себя такой учитель веселый, румяный, с блестящими глазами. Насчёт своего предмета он довольно беззаботен, а учительствует только впредь до женитьбы на богатой купчихе или до получения места в каком-нибудь выгодном промышленном предприятии.
Такой учитель вызвал меня к доске в первые же дни моего поступления в гимназию. Я отвечаю, а он сверлит кулаками глаза и зевает так, что виден в глотке язычок.
— Святители московские, башка-то как трещит! А-а! А-а-а!.. Что ты буркалы на меня таращишь! Знай, отвечай: нечего делать, слушаю.
Я отвечаю, с трудом собирая мысли при виде учителя, похожего на актера, представляющего на сцене пробуждение пьяного. Учитель дозевывается до чихания и кашля. Чихал, кашлял — и препротивно плюнул на пол около доски.
— Разотри, — говорит он мне.
Я смотрю на него с изумлением.
— Свинья, не хочет оказать почтения учителю! — говорит он. — Ну, если не хочешь, так я сам разотру.
Я долго пребывал в недоумении. Никогда ничего подобного не позволил бы себе самый распущенный немец.
4
Так существовали мы в гимназии. Шесть часов скуки в классе, а остальное время — сиденье в душных репетиционных или расхаживание взад и вперед по коридору. Всякое отступление от этого порядка немедленно подавлялось железной дисциплиной, увенчанной угрозой исключения, простого и «с волчьим паспортом». Такие педагогические условия выработали типы мальчуганов, которых в немецкой школе не было и быть не могло. В общем, это были какие-то маленькие старички, в мешковатых длиннополых сюртуках, сползавших панталонах, в черных галстуках и с мундирными отличиями на одежде и головных уборах. Недоставало только чинов и прав на пенсию. Эти гномы мало шумели, почти не шалили, очень редко дрались, но еще реже дружили друг с другом. Пансион был постылым местом, а потому были постылы и товарищи по заключению. Каждый жил в себе, исключительно внутренней жизнью, а она при данной обстановке не могла быть веселой и жизнерадостной. Вырабатывались меланхолики, злецы, «подлизы» и отчаянные. В немецкой школе для образования таких типов не было почвы. Там подлиз не терпели не только ученики, но и воспитатели. Злеца быстро укрощали основательными общими взлупками. Непокорных не доводили до отчаянья. Меланхолики рассеивались общими играми и живым течением школьного быта. В гимназии все эти дурные свойства развивались, и вырабатывались те безвольные, распущенные, злые неврастеники, которые являются, по мнению литературы и публицистики, самыми характерными представителями современной русской интеллигенции.
Вот мой друг, С., чудесный человек тогда, и еще лучший, по слухам, теперь. Это совсем старичок в шестнадцать лет. Он первый ученик, он всегда на золотой доске, у него из поведения пять, но он ненавидит и гимназию, и начальство. У него слаба грудь, а его держат круглый год взаперти в пыльных комнатах. Он ни в чём не погрешает против дисциплины, но начальство иногда подмечает яростный взгляд его добродушных черных глазок при какой-нибудь несправедливости или глупости, видит, что от негодования его и без того острый нос делается еще острее, и начинает преследовать за то, что С. «дурно смотрит». Приходится улыбаться, — а чего это стоит раздражительному шестнадцатилетнему старичку! Старичок честолюбив: ведь, вся школа построена на чинопочитании. Поступает учеником в класс С–а московский барчук, с протекцией. Положим, барчук хорошо подготовлен, положим, он милый малый, но кроме того начальство начинает явно тянуть его на первое место, а С–а так же явно стягивает на второе. Одно время С. серьезно носился с планом жаловаться на это «на Высочайшее имя». Как-то я встретился с моим тогдашним другом. Он по-прежнему добр, по-прежнему раздражителен, но уж совсем мрачно, настроен: читает Шопенгауэра и серьезно, хотя и с раздражением, говорит, что человечество вырождается и будущее на нашей планете принадлежит в воде — акулам, а на суше — крысам.
Вот другой мой друг — из старого дворянского рода, родня Тургеневым, Шеншиным и Толстым, смешливый как девочка, богомольный как старая дева, с лица, правда, больше в Шеншиных. Через несколько лет, в университете, он атеист и революционер, притом не какой-нибудь легкомысленный и забубенный, а глубоко перестрадавший перелом, который совершился в его мысли и чувствах. Всегда невеселый, всегда нездоровый, он отрицал Бога и участвовал в разных пропагандах и бунтах с видом мученика.
Вот Т. В младших классах это был лентяй и негодный малый, даже воришка, но в четвертом классе он уже превратился в старика и сознательно и настойчиво стал делать карьеру. Он прилежно учился, но еще удачней «подлизывался». Злющий инспектор любил покорность, — Т. перед ним был покорен с преданностью. Надзиратель, по прозвищу Галка, не любил надзирателя, по прозвищу Ворона, — Т. целыми часами мог нашептывать Галке неодобрительные сплетни про Ворону. Латинист был смешлив, Т. усердно смешил его во время уроков. Немец любил серьезное отношение к делу, Т. сидел пред ним насупив брови и требовал самых глубоких комментариев к Шиллеру.
Вот красивый черноглазый мальчуган З., вспыльчивый как порох. Он ужасно тосковал в пансионе, особенно в первые дни по возвращении с каникул. Ходит по коридору и плачет. Чем сильней текут слезы, тем быстрее он ходит; чем быстрее ходит, тем больше плачет. Намочит один платок, сходит к гардеробщику за новым и опять плачет. Никаких утешений ни от кого он не принимал и только злился, когда с ним заговаривали. Настоящий зверек. Такому бы больше движения, шума, суеты, гимнастики, ежедневно по хорошей драке «по бокам», раз в неделю — «по мордам», — и перестал бы сумасшествовать малый. В нашем же пансионе кончилось тем, что беднягу исключили с волчьим билетом. Сколько помню, дело произошло так. Мальчик ходил по коридору и плакал. Надзиратель велел ему идти готовить уроки. Мальчик не слушается, ходит и плачет. Надзиратель настаивает кричит, грозит, грозит и кричит, конечно, на «вы», но обидно оттеняя «железную дисциплину», которой он вооружен. Вспыльчивый мальчуган обезумел и ответил надзирателю, тоже на «вы»:
— Отстаньте! Я вам рожу разобью! — и прибавил, закричав на весь дом: — С–н сын!
Этот крик мы, уже сидевшие за приготовлением уроков, слышали, но самого З. с той минуты никто из нас больше не видал, точно его в мешке в реку бросили. Это исчезновение произвело на нас угнетающее впечатление. Вот она, железная дисциплина! И ничего подобного потом не повторилось. Только раз мой приятель А., снимая в спальне сапоги, пустил ими в надзирателя. Он тоже мгновенно исчез, точно сквозь землю провалился: устраивалось это с совершенно полицейской ловкостью. Через месяц к величайшему удивлению гимназии, А. вернулся. Оказалось, что у него была нервная горячка.
Железная дисциплина исключала всякую жизнь. Приходилось заменять ее воображением, и поэтому весь пансион всё свободное время проводил за чтением. Читали запоем. Читали наедине, читали парами. Устанут читать, начинают рассуждать о прочитанном. Ничего хорошего из этого не выходило. Все, разумеется, бросались на беллетристику, а о выборе книг никто не думал и не заботился. Детям давали любовные повести Тургенева и «Детство и отрочество» Толстого, вместе с другими его рассказами того же характера. Тургенев великий поэт, Толстой великий психолог и анализатор, но оба на детей действуют как гашиш, как на грудного ребенка соска из мака. Это чтение доставляло невыразимое наслаждение; книга была точно окно, в которое видел всё счастье, какое только можно собрать на земле, среди её светлых радостей и поэтических горестей, — и не хотелось отрываться от этого окна. Но это — вредное наслаждение в четырнадцать, пятнадцать лет. Это развивает мечтательность и созерцательность в ущерб энергии, не говоря уже о том, что пробуждаются инстинкты, которые в этом возрасте должны покрепче спать. Это дает превратное понятие о жизни, которую привыкаешь считать состоящей из одной поэзии и пафоса. Художник развивается в мальчике в ущерб работнику. Хорошо, если в ребенке кроется действительно художник, тогда еще куда ни шло: пусть этою ценою будет куплен новый поэт, писатель или артист; но и тут должно иметь в виду, что крупная, действительно ценная художественная сила разовьется без искусственных мер, а о том, что несколькими сочинителями средней руки стало меньше по той причине, что их способности не подогревались, жалеть не стоит. Что же сказать о натурах просто мечтательных, с воображением всего лишь раздражительным? Для них раннее чтение без разбора только вредно. Для них полезней драться, получать синяки, разбивать носы, хорошо уставать, плотно есть и крепко спать.
5
От чтения к авторству — один шаг. Читатель ведь тот же автор, только сочиняющий в компании с автором. Насочинявшись вдоволь в сотрудничестве, читатель начинает пробовать свои силы самостоятельно. Пансионская скука способствовала этому занятию в высшей степени, потому что причина сочинительства в конце концов — скука, в её разнообразных видах: неудовлетворенных желаний, несбывшихся мечтаний, сожалений о прошлом, тоски по идеалу, наконец, просто скуки от бездеятельности или от недостаточной деятельности. Потребность в творчестве приходит уже потом, когда человек привык к нему. Тургенев с такой охотой и поэтической силой описывал любовь, потому что он не любил счастливо. Толстой писал свою эпопею, где действуют народы, герои, цари и провидение, будучи чиновником уездного по крестьянским делам присутствия и среди идиллической семейной и деревенской обстановки. Свободный человек не станет писать пламенные дифирамбы свободе — он займется её исследованием, — какие сочинит раб или запертый в тюрьму. Мы в пансионе всегда были голодны и потому самыми высокими местами «Мертвых Душ» считали сцены у Петуха и завтрак Чичикова у Коробочки.
Меня на сочинительство натолкнул учитель немецкого языка, который нашёл, что я настолько владею языком, что, не в пример товарищам, могу писать Aufsätze. Правда, мы писали «сочинения» и по русскому языку, но там темы задавались, тогда-как у немца я выбирал их сам и «шёл дорогою свободной, куда влечет свободный ум». Из этой свободы чуть не вышло беды. Немного спустя я, конечно, основал журнал. Еще через год я учредил литературное общество, навлекшее на её членов уже настоящую беду, а для некоторых и непоправимую.
Немец был хороший человек, но угнетенный атмосферой казенной русской школы. Литературу, в особенности немецкую, он любил со всем жаром немецкого сердца и упорством немецкого темперамента. Шиллер, Гете и Шекспир — это были его земные боги. Но своей страсти он давал волю только у себя дома, в кабинетике, заваленном роскошными изданиями любимых поэтов. Там он предавался восторгам и парил своим немецким духом. В гимназии же он появлялся с неизменной грустно-иронической обиженной улыбкой. Кто тут занят Шиллером и Гете! Кто тут исполнен постоянного восторга пред Шекспиром! Тут властителем дум является не бессмертный Вильям, а «его превосходительство». Здесь трепещут не тогда, когда раскрывают «Фауста», а когда вбегает сторож и шепчет: «Попечитель приехал!» И немец улыбался обиженно-иронической улыбкой. Посвящать в свои восторги учеников? — Этого нет в программе, а за исполнением программы строжайше «следят». Свои обязанности немец исполнял добросовестно, но без всякого воодушевления. Идеально мертвым учителем он, однако, всё-таки не сделался. Он отличал Иванова от Крестовоздвиженского, видел, что Иванов — подлиза, и питал к нему презрение; понимал, что Крестовоздвиженский, хоть и шалун, но честный мальчуган, и выказывал ему расположение. Но и расположение и презрение были сдержанные, с оттенком грустной иронии, всё равно, из них ничего не выйдет; нужно быть казенной машиной, а не живым человеком. Дисциплину немец понимал тоже по-человечески, а не как машину. Помню такой случай. Немец иногда со мной шутил, и я с ним однажды расшутился, но неудачно и чересчур. Перед его приходом в класс я во всю доску нарисовал рожу, единственную рожу, которую я, при полной неспособности к рисованию, умел чертить. В ту минуту, когда немец уже входил, я с ужасом заметил, что рожа совершенно случайно представляет явную карикатуру на учителя. Немец посмотрел на доску, обвел глазами класс, заметил краску на моем лице и сказал:
— Ничего характерного. Удивительно бездарно. Да, да, и бесхарактерно, и бездарно!
Тем дело и кончилось. Воображаю, какую историю сделал бы из этого на месте немца всякий другой учитель нашей гимназии!
В шестом классе я сделался приходящим. Первым делом было, конечно, одеться, как можно франтоватей. Денег, однако, было немного, и, купив лаковые бальные ботинки, я уже не был в состоянии запастись калошами и, вместо них, приобрел на толкучке огромные синие, самые настоящие нигилистические очки, в которых мог щеголять, разумеется, только вне гимназии. Сам себе я необыкновенно нравился, рассматривая свое отражение, за неимением большого зеркала в квартире, где я жил, в зеркальных стеклах магазинов. Особенно хороши были ботинки, очки и саркастическая улыбка, которую я, в качестве «нигилиста» и «молодого поколения», выработал при помощи тех же магазинных окон. И, вот, однажды я встретился на улице с немцем.
Дело было зимою, в мороз. В моих лакированных ботинках были куски льда, а не ступни. Холодные очки жгли переносицу. Саркастическая улыбка переходила и сардоническую, точно я позавтракал стрихнином. Мы встретились, раскланялись, и вдруг лицо немца выразило неизъяснимое блаженство. Когда мы разминулись, он окликнул меня. Я обернулся.
— Бальные ботинки? — спросил он, утопая в блаженстве.
— Лакированные. Их не нужно чистить, — ответил я.
— И синие очки?
— Синие очки. У меня слабое зрение.
— Ступайте, ступайте! — заторопился немец, и на его лице блаженство сменялось ужасом. — Ступайте! Вы умрете от холода! Трите нос, трите нос!
Моими вольными сочинениями я занялся у немца с великим увлечением. «Грудь моя ширилась, я чувствовал: я мог творить», — мог бы я воскликнуть вместе с Пушкиным. Замыслы, один грандиозней другого, теснились в моем воображении. Я изобразил наступление великого поста в городе, я описал поездку на луга в деревне, я написал юмористический рассказ, как я с лошади вверх ногами упал в корыто, из которого поили лошадей. Мне всё было мало, и я приступил к творению на трех четвертушках, имевшему сюжетом эпизод из последнего польского восстания, о котором у меня сохранились смутные детские воспоминания. Сюжет был обработан, конечно, по пятнадцатилетнему, романтически. Шайка из дюжины человек, бродившая по нашему уезду, подвиги которой кончились тем, что мужики загнали и заперли ее в хлев, превратилась у меня в целую армию. Ома сражается с русской армией, притом по всем правилам пушкинской «Полтавы». — «Бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон» и т. д. Победили мы, — и следует лирическое место в патриотическом духе, вроде Карамзина, только еще лучше. Предводителя шайки расстреливают. Предводитель, чтобы не нарушить высокого строя моего повествования, ведет себя геройски. Выходит картина вроде гибели Тараса Бульбы, но опять-таки еще лучше. — «Так погиб храбрый поляк, боровшийся за свою отчизну!» — кончает автор и старается написать эту сильную фразу как можно каллиграфичней. Для возможного усиления эффекта она была написана латинским шрифтом, тогда как остальное сочинение было писано готическим.
Я сдал сочинение учителю и предвкушаю новый литературный успех в виде пятерки. Однако, учитель держит мою работу что-то дольше обыкновенного, мне ничего о ней не говорит, а только тревожно и испытующе поглядывает на меня во время уроков. Наконец, однажды, встретив меня в коридоре, он отводит меня в сторону и, сильно покраснев и озираясь, говорит:
— Я ваше сочинение сжег.
Я изумлен. Вдали показывается надзиратель. Немец, ни с того, ни с сего, начинает мне объяснять, когда в конце слов ставится ss, и когда sz. Надзиратель прошел.
— Фуй, как это противно! — восклицает немец. — Да, да, противно! — он краснеет сильней и торопливо продолжает: — Я вам поставил пять, но сочинение сжёг. Было бы очень худо, если бы оно попалось на глаза начальству…
Надзиратель опять приближается. Немец краснеет как кумач, до слез, и снова начинает говорить о секретах ss и sz. Надзиратель удаляется.
— На! Это невыносимо! — восклицает немец. — Я вам скажу коротко, — сердито говорит он. — Ваше сочинение сочли бы непатриотичным и неблагонамеренным, нашли бы, что вы восхваляете польское восстание.
Очевидно, немец сильно был напуган. Теперь он напугал и меня. Оказывается, можно быть без вины виноватым; оказывается, меня окружают неведомые опасности. Чтобы избежать их, надо быть осторожным, хитрить, подлаживаться и трусить. За тобой следят, шпионят. С этой минуты многое мне открылось, многое очень нехорошее. До того я часто слышал от товарищей, что время от времени в наших ящиках делают «обыски», и что производит их надзиратель Ворона, служащий в сыскной полиции; но я пропускал это мимо ушей. Обыски представлялись мне просто чудачеством со стороны начальства. Обыскивать начальству самому, — представлялось мне, — лень; вот оно и приказало Вороне быть тайной полицией и делать обыски. Теперь всё это получило в моих глазах иное значение. Ворона стал тайным зложелателем, опасным врагом. За то, что мое сочинение было сдано учителю в промежуток между двумя обысками, я благодарил Бога.
6
Пятнадцать-шестнадцать лет — критический возраст. Тут человек-бутон почти мгновенно раскрывается и превращается в цветок, — в розу, фиалку или какую-нибудь собачью ромашку, — что кому предназначено. Он раскрывается всеми своими лепестками, и счастье, если его встречает солнце. Да, удивительно быстро совершается этот важный процесс. Несколько месяцев, — и я и мои сверстники изменились и физически и умственно до неузнаваемости. Всё, что будет рассказано ниже, произошло в течении какого-нибудь года. До того мы были совсем дети, год спустя мы стали чересчур взрослыми. События, внутренние и внешние, бежали точно взапуски.
В одно время с упомянутым Вороной нас «воспитывал» другой надзиратель, сеявший семена совершенно противоположных «учений». Это был молодой, здоровый и ограниченный малый. Держал он себя рубахой-парнем, грубовато, но простодушно. На самом деле, несмотря на ограниченность, он был очень себе на уме и впоследствии сделался любимым адвокатом у купцов, — публики, как известно, простодушия сомнительного. Семена свои надзиратель сеял не в качестве серьезного пропагандиста, на каких я наткнулся вскоре, а больше от скуки, да потому еще, что начальство — «стервецы». Инспектор на него кричит, а он его — отрицает. Делал он это, однако, осторожно, прямо никаких революций не проповедывал, а только сеял семена сомнения. Падали же они на почву подготовленную. Ходит с мальчуганом по коридору и беседует.
— Вот, господин Иванов, вы человек развитой, — говорит он, причем у развитого господина Иванова делается от удовольствия щекотно в животе, — а читаете вы такие пустяки, как Алексей Толстой. Это вздор-с! Эстетика! А ты бы, — надзиратель переходит на сердечно-грубоватое «ты», — ты бы, когда в отпуск пойдешь, достал Писарева, да его бы почитал.
— А что Писарев пишет? Стихи?
— Почитай, так увидишь. Только, брат, его начальство не любит, и ты про мои советы не болтай. Одно скажу: он, брат, эти авторитеты отрицает. Человек должен быть свободен и сам себе голова. А меня, вот, директор ругает, а я молчу, потому что он генерал, а я губернский секретарь. Вот у нас какие порядки. Только ты помалкивай, брат!
Польщенный доверием «брат», конечно, молчал как могила.
Так потрясался авторитет начальства. Другому надзиратель от скуки закидывал словечко насчет существования Бога. Третьему, которого родители не хотели перевести из пансионеров в приходящие, надзиратель говорил: «Да, брат, дурашное это старичье», и мгновенно превращал тем в глазах собеседника недавних «папашу с мамашей» в чудаков-стариков. Со мной надзиратель беседовал больше по поводу моего журнала:
— Хорошо, брат, хорошо ведется твой орган, но, брат, чистого искусства слишком много. В наше время нужно не то-с. Нужны, брат, боевые статьи, публицистические. Вот, эконом кормит вас плохо, а деньги себе в карман кладет, — так его обличить. Вот деспотизм начальства разоблачить… Да только невозможно это, за это тебя из гимназии по шеям турнут.
— Так что же делать? — спрашиваю я, к огорчению убеждаясь, что мой журнал совсем пустое дело.
— Гм… Что делать? Этого я сказать не могу.
— Скажите! Отчего не можете?
— Не могу, да и шабаш. Писать не пиши, а пока что, в душе затаи.
После этого разговора мой журнал изменил направление. Прямые обличения были, конечно, невозможны, но стали появляться, хотя и туманные, зато горячие статьи о розни среди пансионеров, о «бесплодной борьбе партий» в их среде, о необходимости сплотиться в видах дружной борьбы со злом. Подразумеваемое зло были эконом, злющий инспектор, Ворона. Партии были: фискалки, «развитые господа» и равнодушные.
Начистоту объяснился со мной надзиратель-рубаха тогда, когда он покинул гимназию. Однажды я встретился с ним на улице, и он зазвал меня к себе. Оказалось, он жил в компании с несколькими студентами, которые только прошлой весной окончили нашу гимназию. Представившаяся мне картина дружеского общежития была обольстительна. Один из студентов спал. Другой в одном белье сидел у стола и набивал папиросы. Третий в туфлях ходил по комнате. Все трое имели видь угоревших или слегка отравленных: лица бледны, взгляд тусклый, язык заплетается, выражение лиц апатичное.
— Выпили, брат, вчера, — объяснил мне состояние студентов надзиратель. — Ну, и женский вопрос разрешали. Что ж, брат, ничего худого нет, самая естественная потребность.
По правде сказать, всё это было мне противно и даже немного страшновато, но я всё-таки заставлял себя находить это обольстительным. В самом деле, еще прошлой весною надзиратель был начальником этих молодых людей, а теперь они сидят и стоят пред ним в одном белье. Еще недавно, чтобы выйти из комнаты, они должны были спрашиваться у него, притом не иначе, как вставши с места, а теперь они с ним на — ты. Вот это настоящие отношения между воспитанниками и воспитателем! Вот бы такие порядки завести у нас в гимназии!
— Опохмелимся, ребята! — обратился надзиратель к студентам.
Они опохмелились. Предложили рюмку водки и мне, совершенно на товарищеской ноге; но я до того водки не только не пробовал, но даже и не видывал, как ее пьют, а потому отказался под предлогом, что «сегодня мне что-то не хочется». Смотреть, как глотали водку, мне было тоже противно и страшновато, но я заставил себя думать, что и это великолепно.
Когда опохмелились, особенно после пятой рюмки, отравленные молодые люди ожили и со смехом стали вспоминать вчерашние веселые приключения, а мой бывший начальник в какие-нибудь полчаса объяснил мне всё, а я всё понял.
В России и в нашем гимназическом пансионе жить невыносимо, потому что в пансионе и в России господствуют деспотизм и тайная полиция (я вспомнил Ворону и согласился). Народ раздавлен тяжестью податей. Интеллигенции нельзя свободно вздохнуть, потому что, осуди, например, действия городового на улице или надзирателя в пансионе, сейчас тебя обвинят в политической неблагонадежности и посадят в крепость (я вспомнил мое сочинение, сожженное немцем, и опять согласился). Пансионеры и русские граждане живут не так, как им хочется, а как угодно деспотизму. Это очень нехорошо. Хорошо будет тогда, когда мужики не будут платить податей, а начальствовать станет парламент, где будут заседать мой учитель, я, его ученик, и опохмелившиеся студенты. В полчаса всё было со мной кончено. Сгоряча я не заметил, что ничего не было сказано о Боге, а также не объяснено, какими путями и способами достигнуть того, чтобы мужики не платили податей, а управлял бы парламент. Во всяком случае, вышел я от надзирателя цветком, тогда как входил бутоном.
Теперь я шучу, но тогда это было и серьезно, и тяжело. Начались мечты, мечты до бессонницы, до изнеможения. Зародилась ненависть, тоже утомлявшая и омрачавшая душу. Начинала развиваться хитрость, понадобившаяся для того, чтобы, скрывать от кого следует свои мечты и свою ненависть. Явилось сознание опасности, — и стало знакомо чувство страха. Страх развивал мнительность и трусливость… Но эти мечты, фантастические и яркие как бред! Мерещились парламенты, мальчуган видел себя в этом парламенте оратором, героем, вождем. Чудились какие-то несметные толпы, на какой-то площади, при ярком солнце, какие-то колокола, какая-то музыка, какие-то клики, — это была картина нового счастливого порядка вещей, когда всем будет «хорошо». А теперь всем — нехорошо. Потому и погода пасмурная, и извозчик дразнит тебя красной говядиной, и надзиратель Галка на тебя кричит. И голова у тебя болит не от того, что ты до полночи ворочался в постели, волнуемый сумасбродными мечтами, а от огорчений и забот, причиняемых судьбами России и человечества. Развивается сомнение. Мальчуган уверен, что все эти необыкновенные мысли доступны только его учителю да ему самому. Он начинает считать себя гением, начинает думать, что он, выражаясь скромно, не пройдет над миром без следа. Этого не признают представители «царящего зла», надзиратели и директор, — глупцы! И мальчуган начинает пред магазинными окнами вырабатывать саркастическую улыбку. И нигде никакого руководителя, ниоткуда никакой помощи. Снизу тебя тайно поджигают, а сверху прихлопывают железной дисциплиной. Конечно, это было не хуже дореформенных порок.
Разрешения задачи о способах водворения в России всеобщего благополучия мне пришлось подождать довольно долго, несколько месяцев; но вопрос о Боге был поставлен на очередь вскоре. Разрешился он тоже очень быстро, при содействии того студента, который готовил меня в гимназию и у которого я поселился, когда сделался приходящим. К чести студента должен сказать, что «развил» он меня не намеренно, а «в запальчивости и раздражении».
Студент, человек вообще хороший, был истинным детищем гимназического пансиона, где он воспитался. В продолжение всего семилетнего курса он ни разу не был дома, на другом конце России, не имевшей тогда железных дорог. В отпуск брать его тоже было некому. Человек он был добродушный, но, будучи взращен безвыходно в пансионе, — очень болезненный. С лица он походил на больного козленка, — худой, с бородкой хвостиком и выпуклыми большими черными глазами. Он часто прихварывал, кашлял и лежал в постели. Из дому выходил редко, а в свободное время топтался по комнатам, шлепая туфлями, обирая сухие листья с цветов, которые любил, покуривая папироску да отмахивая от лица косицы жиденьких волос. Ни выпивок, ни женского вопроса, вообще никакого дебоша он не знал; да это было ему и не под силу. Сходит в университет — и вернется бледный, в испарине, расстроенный от физической и нервной усталости. Типичный русский интеллигент. Голова он был хорошая, способная, но слабая. Житейски это был тоже настоящий интеллигент, совсем ребенок. Пансион, конечно, в этом отношении ничего ему не дал; покинув пансион, он сейчас же попал под новую опеку. Студентом он снял комнату у какой-то старушки, у которой была дочка, немолодая, некрасивая, но весьма энергичная девица, по профессии акушерка. Не прошло и нескольких месяцев, как почтенная старушка превратилась якобы к тетушку студента, а её дочка в кузину. Еще немного погодя студент женился на кузине. Тетушка и кузина заменяли интеллигентному молодому человеку житейскую опытность, а он был среди них троих самым «развитым» и этим довольствовался.
Ученики студента звали старушку бабушкой. Вот с этой-то бабушкой студент и препирался о Боге. Бабушка пьет чай, держит блюдечко на растопыренной пятерне, как будто загораживаясь от нечестивца, дует и на чай и как будто и на искусителя, сердито откусывает сахар, а студент ей — из Дарвина да из Бюхнера. Бабушка не пикнет, лицо у неё делается каменным, а студент ее — Штраусом да Фохтом.
— Я этаких богохульных речей не слушаю, — скажет, наконец, бабушка и опять окаменеет.
Студент возмущен. Как не слушаете! Да ведь это величайшие вопросы века! Ведь, не разрешив их, жить нельзя! Да после этого вы не человек, а моллюск, растение, бузина, хрен! — И ну — из Бюхнера да Молешота.
— Сонечка, что сегодня на обед готовить? — прерывает бабушка.
Тут оратор, начавший разговор только для того, чтобы посердить бабушку, сам начинает сердиться, раздражается, волнуется, наносит бабушке личные оскорбления и выражается уж в самом деле богохульно. Я и говорю: типичный русский интеллигент, который буянит больше от раздражительности, от нервного расстройства, чем по надобности. Нет сомнения, что студент не так бы жестоко отрицал Бога и не так демонстративно приписывался в родню обезьяне, если бы к этому не примешалось желание рассердить бабушку. Бабушка была консерватор, студент — либерал. Многое в истории борьбы русских либералов и консерваторов, в жизни и литературе, необъяснимое реальными причинами, может быть объяснено «нервами».
Вот я и наслушался — о Боге, о происхождении человека, о материи и силе, и в два-три сеанса стал совершенно свободомыслящим человеком. Происходило это при типичной московской обстановке. Кривой переулок; деревянный двухэтажный флигель во дворе; двор порос травкой; конура с цепной собакой; водовозка; куры; петух кричит на заборе. А в верхнем этаже флигеля, в крохотных, кубической формы комнатках, холодных и душных вместе, живут смелые отрицатели, отважные новаторы. Отважный новатор-учитель пройдет две версты по улице — и болен от усталости; ночью с ним жар, и, несмотря на то, что он смелый отрицатель, ему страшно оставаться одному в комнате, и с ним должна ночевать бабушка, на полу, на тюфяке, за ширмой. Даровитый ученик, отринув Бога, родителей, начальство, душу, честь, долг, любовь, нравственность и весь прочий «романтический сор», тайно, но по уши влюблен в соседскую кухарку, Василису, толстомясую веселую молодуху; спрятавшись за дровами, секретно курит сигары, которые сам делает из пропускной бумаги, за неимением денег на табак, и обманным образом, вместо того, чтобы идти в гимназическую церковь говеть, убегает на огороды кататься по замерзшим лужам на одном коньке, привязанном к сапогу сахарной бечевкой.
7
Бутон раскрылся в цветок. Цветку надо было цвести, — законченный человек должен был начать действовать.
К тому времени, когда я понял все и стал законченным человеком, мне было пятнадцать лет, шестнадцатый. Я был дома на каникулах, действовал и в то же время вел оживленную переписку с моим другом, Колей Алексеевым, по разным важным вопросам теоретического и практического свойства. Действия же заключались в усиленной пропаганде новых идей. Родители до слез огорчались, когда я объяснял им, что любовь родительская и детская совсем не любовь, а эгоизм, и начинали думать, не тронулся ли я в уме. Кучер Алексей при каждой встрече просил меня еще порассказать о происхождении человека от обезьяны, усердно хохотал и жалел, что этакая занятная история не изложена, подобно Коньку-Горбунку, в стихах. Мой младший брат и его приближенные из дворовых мальчишек не знали, куда деваться от моих рассуждений, прятались в кусты и на сеновалы, я их там находил, они начинали плакать и убегали вновь.
Однажды я, брат и его адъютанты в молодом березнике строили землянку. Теперь этот березняк — довольно почтенный дровяной лес, но яма нашей землянки еще видна, и я иной раз отыскиваю ее в лесу и размышляю о прошлом. В самый разгар нашей работы к нам подошёл мужик, Михалка Жёлудь. — «Куда идешь?» — В лес, пчел посмотреть. — «Много ли от пчел выручаешь?» — Немного. — «Много ли податей платишь?» — Много. — «А ты не плати. Ты сам посуди: если ты не станешь платить податей, если деньги останутся у тебя, и ты можешь на них что-нибудь себе купить. Правда, хорошо?» — Очень хорошо. — «Ну, вот, ты и не плати, если хорошо. Это очень просто».
Михалка Жёлудь ушёл, а я принялся за рытье землянки, в приятном сознании, что вот я и вступил в непосредственные сношения с народом, открыл ему глаза на его положение и указал средство выйти из него. Еще две, три такие беседы, — и дело будет кончено, Россия процветет. Но Жёлудь оказался предателем и при первой же встрече в корчме с жандармским унтер-офицером сообщил ему, что вот какие речи ведет Дедловский паничишка. Конечно, в ту же минуту возникла переписка, от унтер-офицера к обер-офицеру, от этого к штаб-офицеру, от последнего еще дальше. Всё за номерами, входящие, исходящие, рапорты, запросы. Кончилось предписанием и сообщением. Предписание было отправлено унтер-офицеру: следить. Сообщение получило мое гимназическое начальство: для сведения. Обо всём этом я узнал позднее; тогда же всё происходило тайно, ужасно тайно. За мной следили мужики, унтер-офицеры, обер-офицеры, штаб-офицеры, надзиратели, его высокородие инспектор, его превосходительство директор, работали канцелярии и почтовые учреждения; может быть, даже посылались шифрованные телеграммы, — всё с жадным желанием выследить нити и корни, дать время развить мою преступную деятельность вполне и тогда накрыть, Россию спасти, а меня, потрясателя её основ, сокрушить. Превосходный, хотя несколько и сложный педагогический прием, и отличные воспитатели, не щадившие трудов и забот.
С Колей Алексеевым мы переписывались о многих важных вещах, но, в качестве присяжного пансионского сочинителя, я напирал преимущественно на литературу. Помню, я, между прочим, находил, что «Война и мир» роман очень глупый, потому что там кроме светских любовных интрижек да светских сплетен ровно ничего нет. «Вешние воды», появившиеся тогда в «Вестнике Европы», были аттестованы как противное и пошлое проявление старческого бессилия. Я очень одобрял Решетникова, но верхом совершенства признавал роман Омулевского — «Шаг за шагом». Мои письма были целые критические трактаты.
Занявшись критикой, я очень естественно пришел к мысли, что, для того, чтобы быть в этой области полным хозяином, следует изучить историю литературы. История словесности проходилась в гимназии, но какой же порядочный гимназист верил в гимназию. Надо приняться за дело самим и изучить — всё. Тогда это казалось очень легким — постигнуть всё. Следовало запастись памятниками всей русской литературы и прочитать их от доски до доски, начиная с Нестора. Прочли Нестора, — подавай что там за ним следует, былины, что ли. Кончили их, — клади на стол Кантемира. Одолели Кантемира, — приступим к Третьяковскому. Третьяковского никак нельзя пропустить, потому что, ведь, надо знать — всё. Делать дело, так делать как следует. Правда, некоторую трудность представит перевод Третьяковского «Древней истории» Ролленя, тридцать томов которой валялись у меня дома на чердаке, неразрезанные со времени их появления в свет в 1749 году, — но что же делать, взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Так постепенно мы дойдем до наших дней, до Омулевского, и будем знать — всё. Конечно, я мог бы заняться этим и один, но я не хотел таить моей удачной мысли для одного себя, я желал, чтобы «развивались» и другие; кроме того, было приятно развивать, как было приятно «пропагандировать» Михалку Жёлудя. В конце концов, я изложил моему, другу план основания литературного общества. Желающие досконально изучить русскую литературу соберутся, изберут «президента», составят «общество», соберут «капитал» для покупки книг, учредят «заседания» и станут в заседаниях «читать, спорить, рассуждать».
Мой друг всё это очень одобрил и, так как он лето проводил в Москве, стал вербовать членов общества, а я, несмотря на то, что и дома было пропасть дела в виде «пропаганды» и постройки землянок, начал рваться в Москву.
8
Вот, я и в Москве. Вот, наше «учредительное собрание». Выбрали «президента», моего друга Колю. Президент делает строгое и внушительное лицо и начинает говорить. Чем дальше он говорит, тем больше я изумляюсь его уму, которого он набрался, неизвестно откуда, и тому неожиданному обороту, который приняла моя затея.
Президент начал с того, что первоначальная программа деятельности нашего общества, выработанная одним из членов (при этом он взглянул в мою сторону), при ближайшем рассмотрении, оказалась неудобной. Литература, от Нестора до Омулевского, слишком обширна, чтобы изучить ее всю. Кроме того, она, за исключением самых новейших писателей, каковы, например, Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Зайцев, не представляет ничего интересного, и будет достаточно, если мы займемся только названными писателями. Затем, свет не в одной литературе; в литературе даже мало света. В наше время главная сила в естественных науках, а потому наше общество должно налечь преимущественно на них. Следует завести не литературную библиотеку, а физический и химический кабинеты и заняться «опытами». Из четырех заседаний три должны быть посвящены естествознанию и только одно — литературе. Президент кончил и пустил вопрос на голоса. Все согласились с ним. Затем президент сделал сообщение, столь же интересное, сколь и важное. Слава о нашем обществе распространилась далеко, и его членами желают быть не только гимназисты других гимназий, но и один кандидат университета, который посвятил себя пропаганде здравых идей среди рабочих. Кандидат предлагает себя в руководители физических и химических опытов и при выборе чтения, но совершенно на товарищеских началах, при условии, что его изберут членом общества. Опять произошло голосование, и опять единогласно было постановлено: кандидата университета, развивавшего фабричных рабочих, в члены принять. Заседание было закрыто, напились чаю и разошлись по домам.
Останавливаться ли подробно на последующей судьбе нашего общества? Читатель, конечно, предвидит, как пошло дело дальше. Явился развиватель фабричных, переходная ступень от нигилиста к народнику. Длинных волос и синих очков у него уже не было, но плед и мягкая шляпа еще сохранились. Одежда потертая, смазные сапоги, косоворотая рубаха. Форса он, как бывало нигилисты, не показывал, а скромно занял место среди других членов. Первое очередное заседание было посвящено литературе, к которому я представил два произведения. В одном я описывал, как я на летательной машине будто бы ездил из Москвы в Америку; в другом очень живо изображалось, как доисторический человек поклонялся своему деревянному идолу. Сначала прочли путешествие. Развиватель не обругал меня, как это сделал бы нигилист по выслушании такого вздора, а просто промолчал. Остальные молчали, глядя на него. Моя летательная машина, очевидно, провалилась. Прочли о том, как доисторический человек поклоняется идолу. «Члены» и тут молчат, но развиватель, против всякого моего ожидания, объявляет — что это «замечательно».
— Конечно, это аллегория? — обращается он ко мне.
«А ну-ка, что выйдет, если это аллегория?» думаю я и отвечаю:
— Да, отчасти и аллегория.
— Что же хотели вы ею сказать?
Автор, хоть убей, не мог бы объяснить, что он хотел сказать, и чувствовал себя в положении ученика, не знающего урока и ожидающего за это единицу. Но единицы ему не поставили. Вместо того, развиватель сам стал объяснять смысл аллегории. Доисторический человек, это, вне всяких сомнений, — народ. Деревянный идол, конечно, — предрассудки, политические, религиозные и нравственные. От этого-то доисторический человек так и дик. Отрешись он от своих заблуждений, разрушь идола, и дикарь вступит на путь сознательной жизни и прогресса. Я слушал и недоумевал: что же это за литературная критика? Аллегория, — пусть себе и аллегория, если это считается нужным; но скажите же и о художественной стороне произведения. А его художественностью я втайне гордился: очень уж прочувствованны были картины доисторической природы и описание страшной рожи идола. Но лучше всего удалось мне изображение дикой внешности идолопоклонника (у него был хвост, небольшой, но всё-таки хвост) и его первобытных манер (он ходил, то на ногах, то, когда нужно было куда-нибудь поспешить, бежал на четвереньках). Я было попробовал обратить внимание моего комментатора на эту сторону дела, но он, правда без резкости — это был уже не нигилист, — но с глубоким убеждением, сказал, что эстетика по-прежнему признается ненужной, даже вредной, и не ею следует заниматься современному человеку. С этим я в душе не согласился, но промолчал.
Итак, мы начали с аллегорий. Очень быстро затем мы перешли и к прямым речам, сначала словесным, потом печатным, как дозволенным, так и не дозволенным цензурою. Три-четыре заседания, — и мы еще раз поняли всё, всё окончательно. Два-три месяца, — и мое невинное литературное общество превратилось в кружок народников — пропагандистов и революционеров.
Я еще ранее окончательного «преобразования» общества оставил Москву, но думаю, что и без этого я не был бы увлечен новым направлением нашей деятельности. И тогда, и потом, — тогда в особенности, — наши революционеры наводили на меня уныние. Я не верил, что у них есть силы сладить с их задачей, я убеждался в ошибочности их надежд, унылую тоску на меня наводило наглядное несоответствие их самомнения с их действительной ролью. А эта роль всегда представлялась мне очень жалкою, горькою. Всегда в моих глазах на этих людях лежала какая-то печать слабосилия и роковой неудачливости. Я не помню среди них, ни после, ни в то время, бодрых людей. Были возбужденные, раздраженные, ожесточенные, доведенные до отчаянья, но не бодрые. Изнуренные лица, вялые тела, скудные мысли, а действия — с отпечатком или мелкой хитрости, или аффекта. Позднее я это понял, тогда только чувствовал, но тем сильнее было впечатление. Уныние, даже хандру нагоняли на меня и их обычные беседы, — об арестах и обысках, о фальшивых паспортах и книжной контрабанде, об убийствах и казнях, о предстоящей революции, когда будут вешать на фонарях, разрубать головы топорами и прокалывать животы вилами. Предметы для разговора — вообще мало приятные, но говорить об этом шестнадцатилетним мальчуганам могли только люди свободные от всякой культурности. Эти речи и эта обстановка, как ни заставлял я себя думать, что всё это очень хорошо, как ни должна была льстить самомнению роль народного борца, как ни волновали меня картины всеобщего счастья, всё носившиеся пред моим воображением к образе площади, толп, колоколов, ясного солнца, — эти речи и обстановка были мне противны, угнетали меня, доводили до хандры. Это — «прививали мне политику». Прививка прошла сравнительно удачно и легко.
Припоминая теперь судьбу членов кружка, я вижу, что уцелели все те, кто был поумнее. Погибли или глуповатые люди, стадо, «попихалки», которые идут туда, куда их толкнут, или такие, о которых говорят: он умный человек, только ум у него дурацкий. Эти последние — аффектированные люди, с несдержанными рефлексами, с расположением к навязчивым идеям. К таким принадлежала и особенно отличалась одна барышня. Всей Москве она была известна своим колоссальным ростом, — и этот колосс нарядился крестьянской девкой и занялся тайной пропагандой по деревням и на фабриках. Ее арестовали чуть не в первый день её деятельности, и не столько в качестве революционерки, сколько по подозрению, что это беглый гвардейский новобранец, переодевшийся женщиной. Даже «свои» советовали барышне не ходить в народ, но она заявила, что не может рисковать судьбою святого дела по той случайной и глупой причине, что выросла немного выше остальных людей. Тайком она наверно не раз и поплакала: ведь, вот, и Пескарева, и Воробьева, и Сапогова — вылитые куцые деревенские бабенки; одна только она вытянулась до шести вершков!..
9
Мне было двенадцать лет. Я был в квинте немецкой школы. К Рождеству приехали мои родители и привезли с собой моего маленького брата. На время их пребывания в Москве директор разрешил мне жить у них. Я блаженствовал. Спать мягко и тепло. Утром вкусный кофей с плюшками. С братом бесконечные разговоры о лошадях, собаках и шалашах, оставшихся дома. Мать выслушивает мои такие же бесконечные рассказы о школе. Отец вслух читает газету, громовые статьи Каткова; а я положу ему голову на колени, и мне под катковские громы хорошо, потому что я чувствую, как люблю и отца, и мать, и брата. Из окон нашего номера — дивный вид: гастрономический магазин Генералова.
Однажды в субботу, на последнем уроке, во время которого я мечтал о целом завтрашнем дне, который я буду блаженствовать у своих, я нашалил. Учитель пожаловался директору. Директор, когда мы выходили из класса, остановил меня и сказал, что за шалости я должен просидеть час в классе. Час не дома, не со своими! Я стал отпрашиваться, — директор прибавил еще час. Я залился слезами и стал уже кричать, прося прошения, — директор сделал страшные глаза и оставил до завтрашнего утра, а пока поставил к стене. Тут у меня прямо-таки помрачился ум. Я просил, кричал, директор ставил меня в угол, а я вырывался, брыкался. Никто никогда ни позволял себе ничего подобного с директором. Это была неслыханная дерзость, бунт. На нас в изумлении смотрели ученики и надзиратели.
— А, когда так, — страшно сказал директор, — иди и в школу больше не возвращайся. Марш!
В нашу гостиницу я явился без шапки, в одной калоше, в слезах, которые обмерзли у меня на лице и даже на шубе, крикнул: «Меня выгнали из школы»! — и начал колотить затылком о печку.
Через четверть часа матушка была у директора, и директор с полным спокойствием объяснял ей, что он совершенно меня понимает, что исключать меня он и не думал, но и поступить иначе не мог. «Ведь я директор школы, — говорил он, — все на нас смотрят, а я вступаю с мальчуганом чуть не в драку. Преступления мальчик не сделал, но он сильно погрешил против дисциплины и потому должен быть наказан… Пусть он придет и попросит прощения. Дня два-три мы продержим его в школе, а потом присылайте за ним».
Я пришел, просил прошения, просил не по принуждению, а с раскаянием, с сознанием вины. Прощенье я получил и был этим растроган. Два дня, которые я провел наказанным в школе, я был воодушевлен желанием загладить свою вину и быть образцовым мальчиком. На третий за мной пришел брат, восьмилетний карапуз в заячьей шубке, и серьезно объявил директору, что «мамаша приказала вам отпустить Володю». Директор улыбнулся так, что его бакенбарды приняли горизонтальное положение, и отвечал, что если мамаша приказала, то, нечего делать, приходится отпустить.
Прошло неполных четыре года, но я из ребенка превратился в политического злодея. Каким меня сделали, таким я и стал. Не хватало одного, — сослать меня в Сибирь или исключить из гимназии, умыть руки. Произошло последнее. Предлогом послужило тоже нарушение дисциплины.
Шёл урок латиниста. Царила обычная тоска. Учитель был краснее обыкновенного; вероятно, накануне он выпил в обществе своих собак больше, чем следует. Даже шутки подлизы Т. на этот раз не имели успеха. Латинист на Т. огрызнулся, и тот покорно замолчал. Потом учитель сказал, что мы не в том порядке сидим. Я подымаюсь и говорю:
— Так нас рассадил господин Ч–ский.
Латинист багровеет.
— Кто это такой господин Ч–ский? — кричит он и этим криком оскорбляет меня, политического злодея.
— Это наш классный наставник, — резко отвечаю я.
— Кто такой господин Ч–ский? — впадая в непонятное и несвойственное ему бешенство, кричит латинист.
— Я вам сказал, кто.
— Это не господин Ч–ский, а Петр Иванович, Петр Иванович!
Дело в том, что я еще не оставил своей петершулистской привычки называть учителей по фамилии. В гимназии же полагалось начальственных лиц, ниже действительного статского советника, величать по имени-отчеству, с «вичем». Это должно было сделать отношения питомцев и воспитателей «интимными»..
— Это Петр Иванович! Петр Иванович! — кричит учитель. И он неожиданно для самого себя прибавляет. — Станьте в угол.
Я, политический злодеи, должен стать в угол? Никогда! Да и кроме того в шестом классе в угол уже не ставили. Учитель, вероятней всего, сболтнул зря, забыв, в каком он классе. Разумеется, я ответил отказом.
— Тогда уходите из класса, — значительно понизив тон, сказал учитель.
Я с достоинством удалился: изгнание приличней для политического злодея, чем стояние в углу.
Я хожу по коридору, горжусь одержанной победой над латинистом, рассматриваю свои лакированные ботинки, возмущаюсь «деспотизмом начальства», время от времени мысленным оком созерцаю картину всеобщего счастья: площадь, народные толпы, народные клики и проч., и проч.
— Вы что это тут фланируете, господин в бальных башмаках? — спрашивает меня Злющий инспектор, превратившийся в еще более злющего директора.
Я объясняю, в чём дело. Директор думает. Во мне рождается что-то вроде надежды, что директор, пожалуй, найдет меня правым. В самом деле, разве это вина, что я назвал учителя по фамилии? Разве шестиклассников ставят в угол?
— Следующий урок тоже латынь? — спрашивает директор.
— Да.
— Очень хорошо. На этот урок Иван Михайлович вас выгнал из класса, так что до звонка продолжайте беспечно фланировать. Но на следующий урок извольте стать в угол. И на уроках Ивана Михайловича вы по моему приказанию будете стоять до рождества, а потом до тех пор, пока это будет угодно Ивану Михайловичу… Советую вам запастись для предстоящих стояний другими сапогами, попросторней.
Я чувствовал, что если я дам себе волю, то выйдет сцена, вроде той, после которой сумасбродный З. бесследно исчез из гимназии; вместе с тем я понимал, что если я не дам отпора директору, я буду «подлец». Это была важная минута и тяжелая минута. Тут впервые был серьезно поставлен вопрос о моем достоинстве.
— Я не стану в угол, — сказал я спокойно, но внутренне обмирая.
— Да? В таком случае нам придется расстаться, — с официальной вежливостью и с официальным прискорбием сказал директор, поклонился и даже шаркнул ногой.
Я тоже поклонился, тоже шаркнул, повернулся и ушел с тем, чтобы больше не возвращаться в гимназию.
Началось мучительнейшее время моей школьной жизни, — для шестнадцати лет слишком мучительное и не могшее не оставить дурных следов. Утешение, что все мои сверстники выросли и воспитались при подобных же условиях, — плохое утешение. Зато этим многое объясняется в характерах и судьбе нашего поколения, столь жестоко забракованного «Московскими Ведомостями», как это видно из эпиграфа к настоящим статьям. Я был в очень тяжелом состоянии. Меня удалили из гимназии, и я останусь недоучкой. Меня удалили из гимназии несправедливо. Я могу остаться в гимназии, если подчинюсь несправедливому наказанию. Но ведь это было бы позорно. Худо и тяжело так; худо и тяжело было бы и иначе. Со мной повторилось то, что я испытал в первый год моего пребывания в немецкой школе: я одичал, я чувствовал себя во власти какой-то злой силы. Но тогда я одичал, так сказать, наивно, как брошенный в лесу котенок, а теперь — с сознательной злобой против несправедливого начальства. Тогда я подозревал, что мною завладел просто-напросто чёрт; теперь это были статский советник Иван Михайлович и действительный статский советник Дмитрий Иванович. И никакого выхода впереди. Правда, выход был, и очень просторный: стоило только предложить свои услуги развивателю фабричных; но я уже сказал, какое впечатление производили на меня он и ему подобные. Кроме того, вступив на этот путь, я причинил бы смертельное горе родителям, а я их очень любил.
Огорчение родных мучило меня еще больше, чем собственная неудача. Я был старший, на меня возлагались надежды, — и вот я всего только выгнанный гимназист. Родные были мнительны, — и им казалось, что я погиб навеки. Много слез было пролито матерью, много бессонных ночей провел отец. И я не спал, и я по секрету плакал. Пока меня бранили, пока грозили, — а это продолжалось целых три месяца, — я оставался тверд в моем решении. Но когда угрозы прекратились, и осталось одно непритворное, хотя и преувеличенное мнительностью горе, когда мне стало «жалко», я уступил и, замирая от стыда, пошел к злющему директору — с повинной.
Пришел, явился к его превосходительству, заставил себя пробормотать, что было нужно.
— Очень хорошо-с. Такого рода вопросы подлежат рассмотрению совета. В настоящее время господа преподаватели все в сборе, и я спрошу их мнения. Потрудитесь подождать.
Через четверть часа директор вернулся.
— К сожалению, совет не находит возможным принять вас, так как со дня нашего неприятного расставания прошло более трех месяцев, и вы не будете в состоянии следовать за курсом. Очень жаль. На прощанье позвольте предостеречь вас от опасностей, которым вы себя подвергаете. Вы, как это дошло до сведения гимназии, заражены вредными идеями и даже, прошлым летом, делали попытки к их распространению среди крестьян. Здесь в городе вы устраиваете какие-то общества, с целями тоже едва ли соответственными. Всё это и не дозволено и отвлекает вас от занятий. Наконец, вы или кто-то из окружающих вас пустились в газетные обличения вашего бывшего начальства. Конечно, лично мы относимся к этому с полным равнодушием, но в интересах истины мы были вынуждены напечатать опровержение. Вам оно, разумеется, известно?
— Нет.
— В таком случае прочтите. — Директор назвал мне журнал, в котором было напечатано опровержение. — А за сим, желаю встретиться с вами при лучших обстоятельствах.
Он поклонился, конечно, не подал руки, повернулся и ушел.
Я был опозорен. Я был испуган, каждый мой шаг, оказывается, известен, и, нет сомнения, меня не приняли назад в гимназию не потому, что я отстал в учении, а именно по причине этих «шагов». Но, чёрт побери, я попал в литературу! О каких это обличениях и опровержениях директор говорит? Что он к обличениям равнодушен, это он врет. Как-то его обличили? Как-то они там оправдываются? Оказалось следующее.
Вскоре после моего удаления из гимназии мой отец в Петербурге, в одной знакомой семье, рассказал о причинах этого удаления. Тут же случился господин, не то что пописывавший в газетах, но знакомый с другим пописывавшим. Время, было такое, что пописывать можно было еще довольно энергично. Борьба против «классического образования» была в полном разгаре. И вот, на другой день после рассказа моего отца, в одной из газет появилась коротенькая, но горячая заметка о «классическом наказании» в одной из московских гимназий: воспитанника шестого класса, юношу на пороге университета, на целый год поставили в угол, а юноша, возмущенный этим диким распоряжением, стоявший уже на пороге университета, должен был оставить гимназию. Эта заметка попалась на глаза внутреннему обозревателю одного из толстых журналов, который по этому поводу и обрушился на «классическое образование». Обличаемые были задеты, и в следующей книжке поместили официальное опровержение, которое, по странному канцелярскому обычаю, не столько опровергало, сколько размазывало и замазывало канцелярскими фразами факт. При этом я был прописан полными именем и фамилией, тогда как обличения об этом умалчивали.
10
После того, как опровержение распубликовало на всю Россию мои имя и фамилию, поступление в казенную гимназию стало невозможным, несмотря на то, что я был уволен по прошению, а не исключен. Это была плохая услуга обличителей, и всё-таки я им и до сих пор благодарен. Они очень облегчили и мое горе, и горе родителей: общественное мнение, печать за нас! Однако благодарность эта совершенно частного характера. Вообще же, способы и манера русских обличений, дух наших партийных распрей, а затем и весь ход нашей общественной жизни внушают мне недоверие. Характерными признаками этой жизни являются неумелость, сварливость и геройничанье. Стараются не выяснить дело, которое обыкновенно мало и разумеют, а, в запальчивости и раздражении, заругать противника, себя же самого выставить героем. Это я наблюдал во время голода, когда «крепостники» голодных недокармливали до тифа, а «либералы» перекармливали до неоплатных недоимок, — и, конечно, ссорились и нервничали до неприличия. Это я видел во время холеры, когда консерваторы били больше, чем лечили, а либералы развели холерные бунты, так что и им пришлось потом не только бить, но и застреливать из ружей. То же выходит с нашими переселениями: один порет, чтобы и за ворота не выходили; другой готов пороть, чтобы вся Россия ушла в Азию. Земля нужна мужикам, — фаршируй ею не того, кому она действительно нужна, а того, кому её просто «хочется». Кредит для дворян, так утопить их в кредите. Какой другой вопрос может быть нейтральней, чем устройство земского сумасшедшего дома, а и тут сейчас являются консерваторы и либералы и подымают ругань на всю Россию и хвастовство на весь свет. Как будто сумасшедшим не всё равно, какой эконом их кормит: который вопрос об отмене розог считает местным, или такой, который полагает, что это дело общегосударственное. Всё делается наскоро, кое-как, с раздражением, но зато эффектно и геройски. Поэтому наши деятели, чиновные, земские, литературные и просто партикулярные, производят впечатление карьеристов, а не серьезных деятелей.
Дело «классического образования» шло обычным русским путем. Нет сомнения, что люди, проводившие и защищавшие эту систему, саму по себе очень почтенную, были теоретики и не педагоги. О Леонтьеве, например, его бывшие воспитанники говорят, что, как воспитатель, он был тяжел и деспотичен. Катков, всегда утомленный газетной работой и литературной борьбой, появлялся в своем лицее редко и обращал внимание больше на форточки, не дует ли из них. Устраивалась система из кабинета, о её результатах устроители судили по канцелярским бумагам, о невозможной воспитательной обстановке училищ не знали, — а вся беда была в ней, а не в латыни и греческом, и не в том, что Катков и Леонтьев с единомышленниками якобы были «злодеями».
Литература — если говорить о литературе — прежде всего должна была ополчиться против воспитания, а не против классических языков. Нужно было указывать на тесноту и духоту пансионских помещении, на недостаток теплой одежды, на дурную пищу. Это, должно быть, казалось слишком мелким. Следовало обличать неумелость надзирателей и педагогическую бездарность учителей. Следовало ополчиться против канцелярщины и мертвой формалистики в деле воспитания, ослаблявших и уродовавших душу и тело подраставшего поколения. Вместо того обличители стали на геройскую почву. «Классики» — злодеи: они хотят своей латынью всех гимназистов превратить в идиотов, не отличающих правой руки от левой. «Реалисты» — герои, спасающие Россию от неминуемого идиотизма. Классики, такие же грешные русские люди, разумеется, впали в раздражение и обвинили противников в том, что те хотят не реализма, а непременно революции. И вышла великая путаница. Латынь, скромная латынь семинарий, аптек и журнальных эпиграфов, в глазах одних превратилась в средство сделать Россию дурой, а по убеждению других в радикальное лекарство против революции. Замешалась революция, — пошли сыски, сыщики, дружеская переписка жандармов с воспитателями, железная дисциплина, не только для учеников, но и для учителей, и действительно одуряющие, героические, лошадиные дозы спасительного лекарства, латыни. Вдобавок доктора-учителя оказались не докторами, а ветеринарами. Паны дрались, а у хлопов чубы трещали.
Оканчивая эту часть моих записок, я вижу, что она вышла отрывочной, сухой и производит тяжелое впечатление. Вина в этом падает не на одного меня. Гимназия не дала мне ни одного отрадного воспоминания, а время, которое я в ней провел, два года, прошли быстро, как в тюрьме. Несмотря на то, что я много испытал, я в это время не жил. Все рассказанные мною события были не по моему возрасту, и потому или прошли бесследно — и это в лучшем случае, — или оставили дурные следы, как тяжелая болезнь. Иное дело немецкая школа. Там был живой школьный организм. Там действительно воспитывали. В гимназии же были не воспитанники, а какие-то подследственные арестанты. Удивляться ли после этого вместе с «Московскими Ведомостями», что такая школа не выработала «великих характеров», и что наиболее характерные общественные явления, участниками которых являются люди новейшей формации, исчерпываются «опереткой, сенсационными процессами, нигилизмом и неврастенией?..»
И всё-таки скажу, что лучше было воспитываться, — хоть и с трудом, с опасностями, с препятствиями — да в русской школе. Почему? Да хоть бы потому, что этою ценой всё же осмыслишь ту жизнь, от которой не уйдешь, для которой создан и живешь, для которой по мере сил должен работать.
III. Как мы «созревали»
…Все вдруг и с классицизмом. Постепенность не была соблюдена вовсе. Произвели классическую реформу отвлеченно. За насаждение великой мысли спасибо Каткову и Леонтьеву, ну, а в применении мысли нельзя похвалить. Ввели дубиной.
(Из записной книжки Достоевского).1
Идеи так называемого классического воспитания действительно великая идея, — идея воспитания духа, а не одного только рассудка. Но введена идея действительно дубиной. Эта дубина висела надо мной в течение трех с половиною лет, пока мои искания «зрелости», после многих неудач и испытаний, не увенчались успехом, и временами доводила меня чуть не до горячки, до кошмара.
Итак, я исключен из гимназии, хоть не формально, но зато весьма фактически. Формально мне не дали и волчьего паспорта, но фактически сделали еще хуже: опубликовали на всю империю. Куда теперь деться? Начались тысячи-тысяч думушек. Поступать в юнкера рано по летам, в гражданской службе без образования далеко не пойдешь, к преступной пропаганде я не чувствовал призвания, просто проживать при родителях не позволяло самолюбие. Оставалось поступить куда-нибудь вольнослушателем. Доступней всего для вольных слушателей была тогда Петровская академия, и я отправился к её начальству. Академия мне понравилась. Отличный дом с какими-то удивительными, выпуклыми стеклами в окнах. Отличные коровы, лошади и свиньи в хлевах. Красивый парк. Жить приходится за городом, почти в деревне. Те два часа, которые я провел в Петровском-Разумовском в ожидании директора академии, были приятными часами мечтаний о студенческой жизни при деревенской обстановке. Но пришел директор и сообщил, что на днях последовало распоряжение не принимать в академию, с деревенской обстановкой, вольнослушателей. — Как же быть? Подготовьтесь к экзамену при реальной или военной гимназии, сдайте его и поступайте уже настоящим студентом. Это гораздо лучше. И я стал готовиться. В то время крутого введения в школу классицизма, из жертв реформы образовался многочисленный класс жалких и отверженных существ, именовавшихся «готовящимися к поступлению в учебные заведения». Я вступил в их печальные ряды. Готовящиеся к поступлению были в то время настолько многочисленны, что вызвали появление другого класса людей «приготовлявших к поступлению». Более ловкие из этих последних, угадав потребности времени, не ограничивались тем, что ходили по урокам, а учреждали «заведения для приготовления к поступлению в заведения». Самые ловкие открывали настоящие гимназии, с правами, полными или ограниченными. Это был целый промысел, довольно неопрятный, но выгодный. Я прошел через несколько таких заведений.
2
Первое заведение, куда я попал, не помню уж, по чьему указанию, принадлежало педагогу, только еще начинавшему свою полезную деятельность. Денег у него, по-видимому, было немного, так что помещение для своего пансиона он нанял на самом краю Москвы, среди пустырей и огородов, в одном из тех домов, которые пустуют по причине поселившихся в них чертей. Педагог сумел войти с чертями в соглашение, поправил крышу, ремонтировал верхний этаж, оставив нижний во владении чертей, с тем, однако, условием, чтобы они вели себя пристойно, нанял в надзиратели какого-то жалкого офицерика, принужденного выйти в отставку по близорукости; для прислуги взял пьющего солдата, — и заведение было готово. Начальник его служил где-то учителем и в заведении не жил. По происхождению он был из духовного звания. Обращение имел задушевное, елейное. Педагогия, по его словам, была его страстью; молодежь он любил, как собственных детей. Плату брал высокую. Жалованье офицерику и солдату платил неаккуратно. У него была франтиха-жена, а сам он любил карты. Впоследствии я имел случай убедиться, что большинство директоров этих заведений для приготовления в заведения брали много, платили мало, любили карты и имели франтих-жен.
Директор заведения, помещавшегося в доме, обитаемом чертями, сразу же очень обласкал меня. Он выразительно пожал плечами и вздохнул, выслушав историю моего удаления из гимназии, он прямо высказал, что сразу понял, что я способный и развитой юноша с самолюбием. Когда я сообщил ему, что я «пишу», он сказал, что это великий дар небес, талант. Подготовить меня к окончательному гимназическому экзамену он взялся без колебаний и посоветовал прежде всего запастись небольшой химической лабораторией. Для гимназического курса лаборатория, правда, была не нужна, но ведь я готовлюсь в сельские хозяева, а основа современного земледелия — химия. Узнав, что у меня решительно нет в виду продажной лаборатории, он сначала потужил, а потом взялся отыскать таковую. И, действительно, через несколько дней мне привезли какой-то грязный шкаф; в шкафу были грязные бутылки, наполовину пустые, несколько стеклянных трубок, колб и реторт; отдельно доставили огромную бутыль с купоросом, в корзине. Лаборатория стоила 300 рублей. Мои занятия химией ограничились тем, что из стеклянных трубок я стрелял в воробьев жеванной бумагой, а купорос вылил в сажалку соседнего огорода, причем было занимательно наблюдать, как серная кислота прожигала лед, как нагрелась вода и подохли микроскопические караси, водившиеся в сажалке.
Воспитанников в заведении было немного, человек десять, двенадцать. Из них особенно припоминается мне один, малый лет двадцати, готовившийся в кавалерийские юнкера. Отец его был чуть не на днях только разбогатевший на каких-то подрядах полуграмотный крестьянин, разбогатевший основательно, до миллионов. Младшие дети, родившиеся, когда отец был уже в достатке, учились в гимназиях, у гувернанток и гувернеров, а старший, которого вовремя не учили, оставался деревенским парнем и служил на отцовских работах. Вдруг ему стало обидно, что он необразованный, и он запросился в науку. Отец и отдал его в науку, — готовиться в юнкера. Когда дочки запросили, чтобы их учили музыке, тятенька купил им шарманку.
Будущий юнкер был добрый и простодушный малый, искренно огорченный своим невежеством. Учился он усердно, целые дни не подымая головы от книги, заучиваясь до лихорадки и нервного блеска в вытаращивавшихся глазах. Так проходила неделя, другая, и вдруг мужичка охватывало непреодолимое желание «погулять». Однажды ночью я почувствовал, что меня будят. Я открыл глаза, — передо мной стоял будущий юнкер.
— Что такое!?
— Тише! Поедем со мной погулять.
— Да ведь теперь полночь.
— Ничего. Меня в Ливадию пустят. Знакомые.
— Что это за Ливадия?
— Трактир.
Я никогда еще не «гулял», никогда не бывал в трактирах; даже в гостиницах мне не случалось выходить в ресторан, а обед всегда приносили в номер; но нельзя же было это обнаружить! И я сказал:
— Отличное дело! Только как же мы удерем?
И я сделал вид, что обдумываю какой-то гениальный план удирания, тогда как на самом деле я трусил.
— Уж удерем. У меня это давно налажено, да одному скучно гулять.
Мы оделись и потихоньку вышли в коридор. Там дожидался наш солдат, с шубой будущего кавалериста.
— Принеси и им шубу, — указал юнкер на меня.
— За ихнюю шубу тоже рубль давай, — ответил солдат.
— Больше полтинника не дам, — сказал юнкер.
— А я шубы не дам.
— Бери семь гривен.
— Нет, рубль давайте.
Мужичок вдруг освирепел.
— Морду всю разобью! — зашипел он. — Чтоб была шуба за семь гривен!
Солдат оробел, и моя шуба была подана. Одевшись, мы прокрались на черный ход, вышли на деревянную «галдарею» и отворили окно. К окну солдат заранее приставил лестницу, по которой мы спустились вниз. На улице за углом нас ждал лихач, который и помчался во всю рысь в Ливадию. Мужичок всю дорогу ворчал:
— И народец же нынче! Шубу дает — рубль ему; назад в окошко впускает — опять рубль. И за вас ему рубль! Шалишь, брат, бери семь гривен, достаточно!.. Ну, ты, морда, пошевеливай! — крикнул он на извозчика и ткнул его кулаком в спину.
— Шевелимся, Иван Савич, — нимало не обидевшись, а напротив, как будто польщенный, ответил извозчик.
Все эти действия, речи и манеры были до того для меня новы, что я только изумлялся, не в силах отнестись к ним критически. Трактир Ливадия и то, что там произошло, уже совсем ошеломили меня. Это был дрянной трактиришко, где-то в переулках около Николаевского вокзала. За поздним временем он был уже закрыт, но на голос моего спутника дверь отворилась тотчас же. Через двери нас опрашивали грубые и заспанные голоса, но, когда мы вошли, поднялось радостное смятение. Половые кланялись в пояс. Буфетчик улыбался и пенял, что давно не бывали. Откуда-то выскочила недурная собою черноглазая бабенка, в ситцевом платье, с папиросой в зубах, сразу повисла на шее моего спутника и хохотала от радости, что «пришел Ванечка».
Спутник потребовал водки, вина и ужин. Комната, которую мы заняли, оказалась крохотной конурой. Ситец на стульях и на диване был противный, засаленный. По стенам бегали тараканы. Ужин состоял из солянки, а на десерт — мармелад и мятные пряники. Водка была померанцевая. Вина — кагор и рогом. Немного погодя явилась еще женщина, тоже с папироской в зубах и тоже в ситцевом платье, из себя тощая, в веснушках, с волосами пыльного цвета. Она села неподалеку от меня и хладнокровно смотрела на меня круглыми глазами, с большими зрачками и в припухших веках. Мне стало страшно; под предлогом внезапного нездоровья, я запросился домой, но мой спутник, уже выпивший несколько рюмок водки, так рано покинуть очаровательную Ливадию не согласился и заставил пить и меня. Я выпил порядочно, но от страха и ошеломления не захмелел. Время для меня тянулось невыносимо медленно. Наконец, часа в четыре ночи мы отправились в обратный путь. Мой спутник, бывший в отличном настроении в Ливадии, теперь стал сердит.
— Эх, не умеете вы гулять! — с упреком сказал он мне и затем всю дорогу молчал, кутаясь в свою дорогую кунью шубу.
Дома нас ожидал сюрприз. Окно в галерее было накрепко заперто. За окном стоял наш пьяный солдат.
— Пусти.
— Дадите за обоих по рублю, пущу.
— Рубль семь гривен за двоих.
— Нет, два целковых.
— Рубль семь гривен.
— Ну, и ночуйте на дворе.
Мой спутник пришел в ярость, выбил стекло, откинул крючок и отворил окно. Шум разбудил нашего офицерика; он конечно, понял, в чём дело, но не подал вида: мужичок был слишком прибыльной статьей для заведения. А солдат так и не добился двух рублей, получив всего рубль семь гривен.
Отгуляв, мужичок с новым азартом погружался в науку. Труднее всего давались ему «ѣ» в правописании, вальс в танцах и значение иностранных слов. Он замучил весь пансион просьбами диктовать ему и репетировать с ним легкие танцы. Помню, каких каторжных усилий стоило ему запомнить и различить значение слов: капитуляция, капитализация, компенсация, колонизация, канонизация и канализация. Упорный и настойчивый был мужичок.
В курьезном заведении я пробыл недолго. Через несколько недель заглянул ко мне отец и сразу же понял, куда я попал. Мне велено было собирать вещи. В напряженном молчании рассчитался отец с содержателем, причем содержатель тоже напряженно молчал, открывая рот только для диктования цифр (стоимость знаменитой химической лаборатории при этом как-то нечаянно возросла с двухсот до двухсот пятидесяти рублей). Отец отдал деньги, взял подписанный счет и пошёл к дверям. В дверях он обернулся и с оживленным видом спросил:
— Скажите, пожалуйста, вы не были аптекарем?
— Нет, не был, — так же оживленно ответил содержатель.
— Странно. Ваш счет совершенно аптекарский.
Когда мы ехали в гостиницу, отец мне объявил, чтобы я выбирал одно из двух: либо идти в солдаты, либо ехать в губернский город, близ которого отец в то время жил, и готовиться там к выпускному экзамену при классической гимназии, с тем, чтобы поступить в университет, и никуда больше. Никогда еще отец не говорил со мною так сурово и так лаконически. Несмотря на свою вспыльчивость и горячность, со мною он всегда был мягче, чем следовало бы. Я почувствовал себя виноватым (одна Ливадия чего стоила; недаром она меня ошеломила!) и глупым (как это я не понял, что наше заведение было дрянь, а не заведение!) и ответил, что выбираю подготовку к экзамену зрелости. Тут-то и начались мои страдания искателя зрелости.
3
Однако, судьба ввергла меня в пучину забот и тревог не сразу. На прощанье с душевным спокойствием она устроила мне настоящую идиллию.
Город, куда я попал, был небольшой и тихий. Поселили меня у отставного чиновника, старого холостяка, — немца и чудака. Чудак большую часть дня занимался гимнастикой, для чего раздевался до фуфайки, да растирался холодной водой, причем снималась и фуфайка. Чудак сначала попытался и меня склонить к гимнастике и холодной воде, но встретив несочувствие, оставил меня в покое. Сначала он следил и за моими занятиями, но потом, убедившись, что это довольно беспокойно, сложил с себя и эту обязанность. Покончив с уроками, я был совершенно свободен и старался уходить из дому как можно чаще и как можно более надолго, потому что с чудаком мне было скучно. Однажды, бродя по городскому бульвару, я встретил молодого человека, лицо которого мне показалось знакомым. Вглядевшись, я узнал своего товарища по немецкой школе, классом старше меня, Э. В самый день поступления Э. в школу, я, находившийся тогда в состоянии одичания, ни с того, ни с сего разбил ему нос, и Э., хоть и поколотил меня, несколько дней ходил с распухшей и синей переносицей. Теперь Э. был красивый, высокий молодой человек в очках и с порядочной бородкой. Я смотрел на его нос и колебался, подойти к Э., или нет. Наконец, я решился и подошёл. Э., казалось, совсем не помнил о нашем столкновении, признал меня, сказал, что он здесь готовится к экзамену зрелости, потому что в провинции экзаменуют легче, и повел к себе на квартиру. Там я нашёл другого своего товарища по школе, уже одноклассника, П. Оказалось, что и П. теперь же весною будет держать на зрелость. Это сконфузило меня: когда буду готов к экзамену я, я и предвидеть не мог. Впрочем, тотчас же нашлось и оправдание. По недавнему распоряжению, я не имел права сдать окончательного экзамена раньше моих товарищей по казенной гимназии, а тем до окончания курса оставалось еще два года. Я ободрился и напал на «правительство». По моде того времени, мы ругнули начальство и пригрозили ему революцией, — и почувствовали себя друзьями. Мои новые друзья были с бородками; у меня бороды не было. Чтобы показать им, что не в бороде дело, я рассказал, что в Москве есть очень хорошие трактиры, в особенности Ливадия, и в привлекательном и даже отчасти в эмансипированном свете изобразил тех двух особ в ситцевых платьях, которые на самом деле ввергли меня в ошеломление, смешанное с ужасом. Мне ответили, что у них тут есть прехорошенькие знакомые, две сестры, Марья Сергеевна и Татьяна Сергеевна, и предложили, не теряя золотого времени, идти к ним в гости и познакомиться. Внутренне я опять исполнился ужасом и ошеломлением, но наружно с развязностью и удовольствием согласился. — «Это, брат, девушки совсем тургеневские!» говорили мне мои новые приятели. «Ладно, думал я, моих ливадийских знакомок я вам описал тоже вроде жоржзандовских типов!»
Но девушки оказались на самом деле тургеневскими, из его простеньких, мещанских или мелкопоместных героинь. Это были хозяйки прежней квартиры моих приятелей, швеи. Жили они в крохотном деревянном флигельке, выкрашенном в розовую краску, о двух окнах на улицу. Настоящей хозяйкой была третья, старшая сестра, пожилая девушка. Во флигеле всё было тургеневское. Было очень чисто. На маленьких окошках стояли герани и фуксии. Был любимый кот, которого нещадно тормошила Марья Сергеевна, то повязывая его по-бабьи платком, то закручивая ему усы, то надевая ему на нос очки Э. Кот царапался, иногда пребольно, до крови. Маша сердилась и давала коту пощечину, а потом просила у него прошения. Маша была стройная худощавая девушка с византийским личиком. Эти русские лица, с византийским пошибом, с большими правильно очерченными темными глазами, тонким носом, благородным овалом лица, по мнению некоторых, обязаны своим происхождением византийским иконам, которым молились многие поколения русских матерей. В теперешнее время гипнотизма, внушения и самовнушения, это объяснение не покажется очень натянутым. Маша была красотка, добрая, но в капризе иногда и злая, прямая, но иной раз по прихоти и лукавая, с большим запасом нежности, но и недотрога. Я помню по-кошачьи ловкую, грациозную, быструю и пребольную пощечину, которую получил от девушки гимназист из местных барчуков, к тому же сын семьи, на которую шили девушки, за излишнюю вольность обращения. Словом, это была женщина, тургеневская женщина, хорошенькая и поэтическая маленькая загадка, составленная из противоположностей и неожиданностей. Младшая её сестра, Таня, была тоже тургеневская, но из героинь второго плана. Эти второстепенные героини у Тургенева любят покушать, любят поспать. Они сидят у окошка, смотрят на улицу и сами себе говорят: вот офицер прошёл; вот черный пудель бежит. Совсем такою была и Таня, простодушная, толстенькая и мягкая, как пуховая подушка, шестнадцатилетняя девушка. В розовом флигельке о двух окошках жила тогда самая настоящая тургеневская поэзия. Много прелести вносил в нее и мой друг Э., теперь давно и слишком рано умерший. Он был тем, что называется чистою душой. Бескорыстный, бесхитростный, добряк, азартный спорщик, вспыхивавший при всякой неправде или нелепости, хороший музыкант и не без композиторского таланта, нежно любивший женщин и имевший у них успех, он был, конечно, обрусевшим немцем. Такие прозрачно чистые люди в России отрождаются только среди немцев, да еще между евреями. Чисто русский хороший человек всё-таки, хоть немного, да с кваском, — с кваском практичности, без которой при лукавых и жестких условиях нашей жизни прямо-таки просуществовать нельзя, или с кваском не совсем здоровых капризов и причуд избалованной дворянщины, вроде Тургенева, известного «хрустально-прозрачного» человека. Немцы же и, как это ни странно на первый взгляд, евреи могут быть совсем без кваска. Немцы рождаются такими от своих немецких матерей, предоставляющих борьбу за существование мужьям и замыкающихся в чистой святыне семьи. Чистые евреи походят на отцов, каких-нибудь раввинов или просто богомолов, не пекущихся ни о чём мирском, всю жизнь проводящих за святыми книгами, в созерцании величия Бога и его праведников. Одному такому созерцателю жена послала к обеду в синагогу по ошибке вместо горшочка с едой горшок с водой, в которой мыли посуду, и даже с мочалкой, которою ее чистили. Созерцатель, не отрывавшийся от книг даже во время обеда, ничего не заметив, всё это на здоровье скушал.
Была весна, и чудесная весна, солнечная, теплая, дружная. Яркое солнце будило рано, насылая веселые сны, от которых сердце билось быстрее и не давало спать. Я, с каким-нибудь Кюнером или Рудаковым в руках, выходил в сад. В саду нежная, мягкая трава росла по часам, листва дерев с каждым утром становилась гуще, зацветала сирень. Я, со своим Кюнером, взлезал на забор и усаживался на нём верхом. По соседству тоже был сад. В нашем саду в беседке обыкновенно сидела жившая на нашем дворе молоденькая барышня и читала Лассаля. По ту сторону забора часто появлялась другая барышня и читала Вундта. Скоро я свел знакомство с обеими и, неизвестно зачем и почему, дразнил их, иногда доводя до слез, так что, наконец, они пожаловались на меня моему чудаку. До обеда ходили ко мне учителя, больше инородцы, — чехи, болгары, француз с бельмом на глазу, хромой немец. Учителя сдерживали зевоту, подо мной горел стул, потому что солнце и весна вызывали усиленное сердцебиение. После обеда я уходил за город.
Сердце всё билось, надо было его заставить замолчать. Я лазил в загородной роще по деревьям, рассматривал вылупившихся из яиц галчат, дразнил старых галок и вдруг, от избытка сил и чувств, вниз головой, зацепившись ногами, повисал на самой макушке старой березы и болтался так к великому изумлению галок, старых и молодых. Я уходил далеко в степь и лежал там, рассматривая то травы под моим лицом, то безмолвно живущие и бесшумно движущиеся облака над головой. Когда и это не помогало, я выходил к полотну железной дороги и, завидев поезд, клал голову на рельсы. Машинист начинал неистово свистать, я сто раз умирал со страха и вскакивал на ноги. Проезжая, машинист ругался до хрипоты, а я показывал ему язык.
К вечеру я заходил к моим друзьям, которые отдыхали от работы. Обыкновенно я заставал там обеих их знакомок. Э. импровизировал на фортепьяно, с застывшей улыбкой, потемневшими глазами глядя куда-то вдаль. Добряк П. сидел неподвижно, теребя часовую цепочку. Таня кушала плюшки с чаем. Маня то забивалась в угол дивана, кутаясь в платок, то, порывисто распахнув окно, глядела на зарю и вздыхала, то начинала разрывать только что набитые папиросы моих приятелей, высыпать из них табак и крошить в него стеарин от свечки. За это ее целовали, а она царапала нападавшим руки. Когда стемнеет, отправлялись на бульвар. Тепло, звездно, пахнет сиренью, в ветвях тьма и соловьиные песни. Внизу, в реке хохочут-надрываются лягушки. За рекой расстилается степь. Там полутьма ночи. Оттуда ветер наносит весенние сладкие запахи. Всем нам, вместе взятым, всего одна человеческая жизнь… И солнца нет, а сердце не хочет угомониться.
— Марья Сергеевна, — говорит Э., — сколько у меня спичек в руке, чет или нечет?
— А что будет, если я отгадаю?
— Я вас поцелую.
— А если я не угадаю?
— Тогда вы меня поцелуете.
— Ну, чет.
Я иду сзади с толстенькой Таней, вволю накушавшейся плюшек и чаю со сливками.
— А вы что же не заставляете меня угадывать? — говорит она, как попугай подражая старшей сестре.
— Угадывайте. Как зовут мою бабушку?
— А что будет, если я не угадаю?
— Вы меня поцелуете.
— А если угадаю?
— Я вас поцелую.
— Почем же я знаю, как звали вашу бабушку!
— Вот, и угадайте.
— Нашу бабушку звали Макридой. Может, и вашу так?
— Нет, мою — Катериной.
Незамысловато, а как было хорошо! Хорошо, но и тревожно. Помню, я тогда всё добивался, как бы передать на бумаге то, что я видел и испытал, совсем так, как оно было в действительности. Хорошо пишет Тургенев, еще лучше Толстой, но всё-таки и они не передают во всей полноте, глубине, силе и невыразимой сложности трепета и дыхания жизни человеческой и жизни природы. Вот плывет облако, я начинаю описывать, как оно плывет, исписываю страницу, другую третью, — и всё таки мое описание неполно, всё-таки неверно. Вчера Марья Сергеевна проиграла мне пари и поцеловала меня. Что я при этом чувствовал? Опять исписываются страницы, опять я напрягаю все свои способности выражаться точно, целыми часами перебираю слова и выражения, которыми можно бы передать мои ощущения, и опять ничего. Вот я смотрю просто на темный куст, на освещенной луною лужайке. В кусте мрак, но особенный, с каким-то цветом, с какою-то темною прозрачностью, мрак воздушный, мрак, освещенный луною. Пишу, пишу, выходит даже хуже, чем у Тургенева с Толстым. А где же описать то счастье, которое дают шестнадцать лет, здоровье и весна! От этого счастья и в унынии, что я его не могу ни выразить, ни осмыслить, я снова уходил в рощу и снова вешался вверх ногами на березе, повыше, которая посильней раскачивалась от ветра…
Ученье подвигалось, разумеется, плохо. Меня за это бранили, но я чувствовал, что виноват-то я виноват, но не совсем. Гимназический курс, конечно, вещь важная, но в глубине души у меня было сознание, что весна, пари на поцелуи с Машей и Таней, благоухание сирени, импровизация милого Э., теплые вечера, ясные дни, даже висенье вниз головой на березах — неизмеримо важнее. Курс классических гимназий придумали Катков с Леонтьевым, а меня создал Господь Бог. Он же подарил мне шестнадцать лет и тревожную и сладкую жажду жизни. Эта жажда, сменившая собою мечты о подвигах, преимущественно революционных, и еще года два мешала мне вникнуть как следует в курс классических гимназий…
4
Весна прошла. У моих приятелей начались экзамены. В это время я виделся с ними только урывками, потому что экзамены были страшные. Несчастные посторонние молодые люди, для того, чтобы получить свидетельство зрелости, в то время должны были получить на экзамене не менее четырех с половиною, в среднем. Приятели получили на одну десятую меньше, и двери университета, куда они стремились, закрылись перед ними навсегда. Выданное свидетельство давало право на поступление только в специальные школы. П., мечтавший о карьере юриста, поступил в институт инженеров путей сообщения, которого, конечно, не кончил. Желавший изучить языки и историю Э. определился в технологический институт и тоже скоро оставил его. Экзамены кончились, мои чехи и болгары уехали отдыхать на свои родины, уехал из города и я, с приятными воспоминаниями о прошедшей весне и довольно неприятным сознанием, что в курсе классических гимназий я не сделал никаких успехов.
Во время каникул сложился новый план достижения мною зрелости, — было решено отправить меня на попечение родственников в Петербург. У родственников были дочь и сын, мои ровесники, оба отлично учились, и их пример должен был повлиять на меня благотворно. Осенью я был уже в Петербурге. Родственники были хорошей, доброй, честной семьей; но Петербург мне не понравился. После Москвы он поразил меня только, своей прямолинейностью. В струну вытянутые улицы, по линейке отчерченные тротуары, дома все одного роста, параллельными рядами уложенные на мостовой камни, прямыми вереницами едущие экипажи, плоская, как бильярд, местность, неосторожно налитая до самых краев Нева. Это был какой-то шкаф, комод, а не город. Конечно, это европейского типа город, но эти европейские города наводят на меня уныние своими заборовидными улицами; мне всегда представляется, что я хожу между перегородками тюремного двора для прогулок. То ли дело Москва, с её пригорками, садами, домами-особняками, стариной, уютными церковками таких же причудливых, живых, индивидуальных форм, как окружающие их кусты и деревья, с её извилистыми улицами, прудами, речками, тучами голубей и стадами галок, образующими над городом в воздухе другой город, такой же оживленный и шумный, как и нижний. Ужасный петербургский климат тоже скоро дал себя знать. У меня начались, головные боли, постоянное лихорадочное состояние, и я применился к климату только через несколько лет, пройдя через всевозможные катары и «нервы». Нервы пострадали, конечно, и от нравственных мытарств во время искания зрелости, но петербургский климат действительно ужасен и особенно разрушительно действует на приезжую молодежь. Стоит только сравнить больничные физиономии молодежи петербургских высших учебных заведений с сравнительно цветущими лицами студентов других городов, чтобы прийти к мысли, что перенесение этих заведений из Петербурга в центр и на юг России было бы великим благодеянием для наших подрастающих поколений. Особенно плохо приходится уроженцам сухих востока и юга, которых много умирает в столице.
Мои добрые петербургские родственники в свой черед озаботились моим положением. Попробовали сунуться в казенные гимназии, но там я после моего пропечатания был известен, и ответы начальства были уклончивые и двусмысленные. Готовиться самому я не решался, потому что по опыту знал, что из этого ничего не выходит. Уроки у учителей были неприступно дороги: тогда драли с живого и мертвого. Репетиторы-студенты были плохи. В довершение всего, в одно прекрасное утро явился околоточный надзиратель и пригласил меня следовать за ним в полицейскую часть.
— Не знаете ли, зачем?
— Вероятно, изволили потерять какой-нибудь документ.
— В таком случае зачем же я должен идти непременно под вашим конвоем?
— Уж, право, не знаю. Такой приказ. Извольте прочесть бумагу.
В бумаге действительно значилось, что околоточный должен доставить меня в часть самолично. Нечего делать, к огорчению дядюшки и тетушки и возбуждая зависть в кузене и кузине, которые, как тогда и следовало, были большие либералы, иду с околоточным в часть. Прохожие, несмотря на то, что я стараюсь беседовать с моим провожатым по возможности оживленней и партикулярней, принимают меня за жулика, и кто жалеет, кто презирает за столь раннюю испорченность. В части меня вводят в мрачную комнату. Сидящий у стола мрачный человек начинает отбирать от меня самые подробные сведения биографического характера за время от удаления моего из гимназии и по сей день. Сбоку и в отдалении стоит субъект с пронзительными глазами и смотрит мне, казалось, в самую середину мозга и внутренностей. Предлагаемые вопросы окутаны таинственною непоследовательностью и неопределенностью, но один из них, сделанный с неосторожной ясностью, открывает мне глаза: это отрыгается моя пропаганда Михалке Жёлудю. Потом меня отпустили. Испуганные родственники, порасспросив опытных и понимающих жизнь людей, узнали от них, что нет сомнений, я состою под негласным надзором полиции.
Итак, я не только «готовящийся», но и «состоящий». Последнее с одной стороны, было лестно: всё же я не кто-нибудь, а сила, но, с другой, тягостно. В гимназии я был под надзором Вороны, в деревне за мной тайно смотрел жандармский унтер-офицер, теперь мне смотрит прямо в мозг субъект с пронзительными глазами. Это начинало действовать на нервы. Еще несколько лет, прожитых при таких условиях, — а время было тяжелое, конец семидесятых и начало восьмидесятых годов, и я до сих пор испытываю нервную тревогу, когда при мне начинается разговор о надзорах, унтер-офицерах и субъектах с пронзительными глазами.
После путешествия в часть, мы с родственниками уж совсем поджали хвост и не знали, как быть. В это время один практический и житейски-опытный человек посоветовал отдать меня в частную гимназию, «с правами». Мы не решались: ведь я опубликован и, кроме того, состою под негласным надзором. Практический человек сказал, что это пустяки, и вызвался переговорить с почтенным директором рекомендуемого, заведения. Переговоры быстро окончились тем, что и директор сказал, что это пустяки. Тогда практический человек повел меня определяться в гимназию. Пришли мы часу во втором, но директор еще спал. Когда он, наконец, к нам вышел, он имел измятый и только что умытый вид, и пахло от него вином: накануне до самого утра он играл в карты. Квартира у него была хорошая, просторная. В соседней комнате играла на фортепиано франтиха-жена. Между нами начался странный разговор.
— В какой класс хотите вы поступить? — спрашивает меня директор, испытующе заглядывая мне в глаза и вслед за тем смущенно отворачиваясь.
— Я надеюсь, что выдержу экзамен в предпоследний класс, — говорю я и трушу, ибо чувствую, что не гожусь в этот класс.
— Зачем же вам держать экзамен! Ваши товарищи в котором классе?
— В предпоследнем.
— Ну, вот видите! Чем же вы хуже их!
Не мог же я сказать, что я хуже потому, что пока те учились, я вешался вниз головой по березам. В разговор вмешивается практический человек.
— Он усиленно занимался по выходе из гимназии, — говорит, указывая на меня, практический человек. — Не лучше ли для него поступить прямо в последний класс?
Я краснею. Директор понятливо смотрит на практического человека и с уверенностью отвечает:
— Конечно, лучше поступить в последний.
Я не верю своим ушам. Ведь это значит, что я кончу гимназию через год, меньше — через девять месяцев я уже студент! Нет, это невозможно! Эти добрые люди преувеличенного мнения о моих знаниях. Я не могу злоупотребить их доверием. И я отвечаю:
— Я опасаюсь, что не выдержу выпускного экзамена.
— Это вы про какой экзамен говорите? Про казенный или про мой? — спрашивает директор.
Я не понимаю разницы между экзаменом казенным и «моим», но, желая выказать себя с лучшей стороны, отвечаю:
— Я говорю про экзамен вообще. Если вы допустите меня к экзамену, а я не выдержу, то пострадает мое самолюбие, и, конечно, будет неприятно вам, господин директор. Я чувствую, что не подготовлен в последний класс.
— Да отчего же вы чувствуете? Может быть, вы подготовлены. Хотите, мы сделаем вам экзамен.
Тут я окончательно трушу. Покорно благодарю за экзамен! Еще окажется, что и в предпоследний-то класс я не гожусь.
— Нет, говорю я, — уж позвольте мне поступить в предпоследний.
Директор вздыхает. Начинает говорить практический человек. Он говорит дело. Он объясняет, что экзамен при казенных гимназиях действительно невозможно труден, что цель этих экзаменов, очевидно, не допускать молодежь к высшему образованию, что положение молодежи было бы безвыходным, если бы не благодетельные частные гимназии, где экзаменуют «гуманно». Правда, выпускные свидетельства частных гимназий не дают права на поступление в университет, но открывают доступ во все остальные высшие учебные заведения. Даже есть возможность при некотором терпении попасть и в университет. Для этого вы поступаете в медицинскую академию. Там переходите на второй курс и увольняетесь. У вас в руках свидетельство академии. С ним и, конечно, не показывая вашего гимназического свидетельства, вы являетесь в университет, и вас принимают на второй курс естественного факультета на основании забытого правила, что первые курсы естественного факультета и академии приравнены, и вы студент. Если естественный факультет вам не правится, вы, раз вы студент университета, на другой же день вольны перейти на какой вам угодно факультет. Всё это было очень резонно. Все эти хитрости, подобные шахматной игре, в обширных размерах употреблялись тогда практическими молодыми людьми; но я не был практическим молодым человеком и повторял:
— Я опасаюсь, что не оправдаю ваших надежд и не буду готов к экзамену.
— Да ведь у вас целый учебный год впереди!
— Нет, господин директор, я очень опасаюсь.
— Чего же вы опасаетесь? Не выдержите, так не выдержите. И отчего бы вам не выдержать?
— Нет, господин директор, уж позвольте мне поступить в предпоследний класс.
Директор вздохнул и позволил поступить туда, куда я так усердно просился.
Практический человек повел меня домой и дорогою опять начал что-то о том, что экзамены вовсе не так страшны, как о них рассказывают, что директор гуманный человек и экзаменует без драконовских жестокостей казенных гимназий. Я не слушал и не понимал. Он говорил, но не договаривал; эти практические люди — мудрые люди, но и очень осторожные люди. Смысл его речей и странного поведения директора я разгадал только год спустя.
5
Гимназия, в которую меня занесла судьба, была очень многолюдная. Помещение было обширное, но грязное. Общее впечатление — подозрительное. Грязные, плохо метенные, в паутине классы. Грязные, темные лестницы. Давно немытые стекла в окнах. Прислуга, шустрая и наглая, имела вид «вышибал» в трактирах сомнительной репутации. Один из сторожей, Мишка, в своей каморке держал тайный кабак, с закусками и водкой, усердно посещавшийся великовозрастными учениками последнего класса. Воспитанники в большинстве были из весьма демократических слоев общества. Учителя были под стать ученикам, прислуге и помещению, всё больше молодые люди явно неправильного образа жизни, с одутловатыми лицами и пухом в волосах. Странное впечатление производил среди них известный Платон Васильевич Павлов, профессор университета бывший, и профессор впоследствии. Этот безобиднейший ученый тогда только что вернулся из административной высылки, куда мог попасть только по недоразумению. Пред тем, он только что перенес тяжелый тиф и еще более тяжелую оспу, сразу. Можете себе представить этого «жестоко ушибленного мамкой», едва оправившегося от болезни; дошедшего до нищеты ученого, принужденного добывать кусок насущного хлеба уроками в нашем «заведении». Но это был человек не от мира сего. Он жил только головой. Только бы работала голова, а там пускай желудок пуст, пускай ноги мерзнут в дырявых сапогах, пусть не на что купить свечей, и работать головой приходится в темноте. Чего только не знала и не помнила эта обезображенная оспой голова! Его уроки истории были лекциями энциклопедии. Тут были и естественные науки, и философия, и филология, и теория искусства (специальность Павлова), и политика, и медицина. Голова была уже не совсем свежа, мысли, хотя еще и не исказились, но уже перепутывались; речь перескакивала с одного предмета на другой, терялась основная нить мысли, — но от слов ученого веяло таким богатством знаний, главное, такой жаждой знания, что мало-мальски развитые ученики слушали его как пророка. Своего положения ученый не чувствовал, а только иногда понимал его, одной головой. Говорит, говорит, переходит от одной темы к другой, нечаянно дойдет до самого себя и вдруг сам себя заметит. Остановится подумает и скажет: «А ведь я несчастный человек!» — и сейчас же позабудет и продолжает свою лекцию. Однажды он как-то заговорил о вредном влиянии на организм алкоголя и вдруг задумался, и на этот раз встревожился.
— Знаете ли, я, кажется, попивать начинаю! — с испугом сказал он.
— А чертиков еще не ловите? — спросил его негодяй, дремавший на задней скамейке.
Ученый вздрогнул. Взялся за голову и вышел из класса.
Негодный малый был силен. Мой товарищ и новый друг, Г–в, а глядя на него и я, вынули наши перочинные ножи и объявили негодяю, что мы его зарежем, насмерть зарежем и в Сибирь пойдем, если он позволит себе еще что-нибудь подобное с Платоном Васильевичем. Потом мы, с гордым видом, героями, отправились в учительскую и объявили Павлову, что отныне он в безопасности. Платом Васильевич с жаром рассуждал с учителем математики о новой геометрии. — «Сейчас! Сейчас приду!» торопливо, отмахиваясь рукой, ответил он нам, вернулся в класс и окончил то, что хотел сказать о вредном действии на организм алкоголя.
О серьезном учении в нашей гимназии не могло быть речи. Не было простого порядка при полном отсутствии надзора и дисциплины. Я помню, как однажды, соскучившись во время пустого урока, наш класс выстроился гуськом, каждый взял переднего за фалды, и мы прошли через все классы, приплясывая и хором распевая из «Прекрасной Елены»: «Птички в мире проживают», и т. д. Другой раз мы посадили на высочайшую печку нашего класса вновь поступившего товарища, теперь известного адвоката, тогда добрейшего юношу, имевшего, однако, слабость считать себя, духовно и физически, вылитым Фердинандом Лассалем. Как Лассаль, он был радикален; как Лассаль, франт; как Лассаль, любил драться на дуэли, хотя и не дрался ни разу. Его кто-то из товарищей задел, Лассаль вызвал на поединок, а мы за это посадили его на печку. Невыразимо презрительным взглядом окинул нас Лассаль с высоты печи и с сарказмом сказал: «О, пошлое стадо!» — но слезть не мог и просидел наверху, пока не пришёл учитель и не приказал нам спустить Лассаля.
Такого рода проделки проходили даром. Директор, человек в сущности не дурной, был занят картами, долгами, но не гимназией. Придет, седенький, старенький, с красными от бессонных ночей глазами, видимо с головною болью, видимо с угрызениями совести по поводу своего стариковского беспутства, хочет выбранить и наказать — и не может. Только твердит неуверенным голосом — «Что же это! Как же это! Как же вы смеете! Ведь вас наказать нужно! Что? Не будете? Ну, смотрите же, а то я вас накажу!» — Запутавшийся был человек, ослабевший.
Я упомянул о моем новом друге, Г–ве. На нём я должен остановиться подробней, потому что дальнейшая наша судьба до окончания гимназии была общая, да и сам Г. заслуживает внимания. Кроме того, многое из гимназического времени уцелело в моей памяти благодаря моему приятелю. Дело в том, что Г. вел подробнейший дневник, начатый в детстве и доведенный до конца восьмидесятых годов, когда мой бедный друг, переплывавший в своей жизни моря и океаны, утонул в Невке у Новой Деревни. Приятели называли дневник Г–ва «ремарками» и утверждали, что он, подобно ремаркам старого князя Николая Андреевича Болконского, хранится в куверте с надписью: «После смерти Государю». Конечно, столь государственной важности дневник не имеет, но очень ценен как документ, относящийся ко времени нашего учения и воспитания. Автор его был будто нарочно создан для ведения дневника. Это была удивительно непосредственная и легко возбудимая натура. Небольшого роста и с забавно глубокомысленным лицом, с узкой грудью, из которой исходил однако голос необыкновенной зычности и силы, задира, спорщик и крикун, в то же время весельчак и забавник, он был всюду, увлекался всем, и, хотя ни в чём не отличился, но и нигде не был лишним. Он был и актер, и чтец, и дирижер танцев в клубах, и фельетонист, и сотрудник ученых журналов, и адвокат, и чиновник. История его чиновничества ярче всего характеризует моего друга.
По окончании университета Г–в зажил недурно. Ему повезло в адвокатуре, и была выгодная работа в газете. Но скоро колесо фортуны обернулось. За какую-то дерзость Г–в закатил своему клиенту здоровенную пощечину, да еще и самом святилище правосудия, в здании судебных установлений, — и ему на год запретили практику. Вслед затем была закрыта газета, где он сотрудничал. В довершение беды, в одно прекрасное утро судебный пристав опечатал всё его скудное имущество за долг фотографу, который снимал «группу» выпускных студентов нашего факультета. Господа студенты снимались очень охотно, но потом три четверти не уплатило денег. Г–в был поручителем и пострадал. Сначала он не унывал, строил себе, из пятидесяти полученных от фотографа групп шалаш, забавно симулировал помешавшегося от несчастий, встречая гостей словами — «Скажите, пожалуйста, отчего до сих пор нет депутатов из Испании? Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов!» — приписал под своей фамилией на дверной доске — «Он же Фердинанд VIII Испанский», — но шутки шутками, а надо было и есть. Недолго думая, Фердинанд VIII взял казенное место — во Владивосток. С дороги Г–в прислал приятелям несколько длинных писем, в которых восторгался тропиками, океанами, колонизаторскими способностями англичан и даровитостью японцев, которым предрекал блестящую будущность. Было еще письмо с места, из Владивостока, а потом продолжительное молчание. Приятели посылают телеграмму — «Что с тобой?» — Ответ — «В отставке, под следствием за покушение на убийство, подробности письмом». — Приходит письмо. Сварливый Г–в кого-то оскорбил, его оскорбили в ответ. Г–в вызвал, но вызов принят не был. Г–в взял револьвер, подошёл с улицы к окну квартиры обидчика и выпалил тому прямо в голову. В комнате кто-то завопил, кто-то упал, и всё было кончено. Убийца сел на извозчика и поехал отдаться в руки правосудия. Правосудие, конечно, его приняло и бросилось производить дознание. О, счастье, убийца никого не убил! По близорукости он принял за голову своего оскорбителя круглый кактус, стоявший на окне. Кактус оказался простреленным навылет. Вопила горничная, убиравшая комнату, у которой над самым ухом раздался внезапный выстрел; она же и упала, чтобы забиться под диван: ей представилось, что на Владивосток напали китайские хунхузы. — «Как бы там ни было, — кончалось письмо, — вашему приятелю улыбается Сахалин. Не поминайте лихом и не забывайте присылать калачики». — Приятели в ужасе, но ничем не поможешь: покушался, судят и засудят… Прошло несколько месяцев. Однажды я возвращаюсь к себе домой и нахожу на столе записку. Читаю и не верю глазам: «Дружище, приходи в Малый театр. Мое место в третьем ряду, налево. Идет премилая новинка, «Цыганский барон». Отрывки я уже слышал на пути, в Сингапуре. Лобызаю». Подписано: «Твой Г–в, он же Воскресший Рокамболь». — Конечно, я лечу в Малый театр. Театр еще пуст, а в третьем ряду сидит мой Г., в черном сюртуке; белый галстук, через плечо огромный бинокль к футляре, вид важный, — кругосветный путешественник по всей форме. Мы расцеловались: я — с горячностью, Г. — сдержанно. Я не удивлялся этой сдержанности, потому что знал, с какой непосредственностью мой друг входит в роли, которые дают ему случай и судьба. Теперь он в роли кругосветного путешественника. Я засыпаю его вопросами о его необыкновенных приключениях. Он отвечает с видом человека, для которого не существует необыкновенного.
— Не засудили?
— Нет, засудили.
— Что же, ты с Сахалина бежал?
— Нет. Меня судили за неосторожное обращение с оружием и приговорили на два месяца домашнего ареста.
— На какие же средства ты приехал?
— Разумеется, на собственные. Кстати, я привез тебе премилые японские безделушки… Да, собрал денег и приехал. Сначала я служил на маяке, потом чертил лоционные карты, давал литературные вечера, писал в газете, наконец, разыграл в лотерею индейские вещицы, которые купил на пути во Владивосток. Вот и средства.
— И хватило?
— Н-не совсем. В Одессе я высадился с одним полтинником в кармане. Еду в гостиницу и встречаю на улице петербургского коллегу, присяжного поверенного. Ну, и взял у него сто рублей. А теперь, брат, за адвокатуру. И в бюрократию ни ногой! И я покажу этим чинопушам!..
Я понял, что мой друг сегодня не только кругосветный путешественник, но и «в оппозиции».
Г–в, при его впечатлительности, сегодня был ярый радикал и революционер, завтра ретроград; сегодня он ходил в смазных сапогах, назавтра наряжался франтом; сегодня сочинял бунтовскую сказку, под заглавием «Фея Либертэ», на другой день писал в книге замечаний студенческой библиотеки обличения библиотечных распорядителей, под титулом: «Жандармам радикализма»; висевший на стене портрет какого-нибудь Рауля Риго вдруг сменялся лубочной картиной «Монархи всего света».
Таким образом, дневник писался как будто не одним человеком, а десятерыми, и с замечательной полнотой отражал гимназическую и университетскую жизнь того времени. Дневник, вероятно, сохранился у родных Г–ва и со временем будет интересным документом.
Я и Г. жили в большой дружбе. Гимназия была плохая, работать мы не умели, кроме того мы умничали, а потому учились плохо и лениво. Дело не в зубрении, а в развитии, говорили мы себе, поэтому к урокам относились пренебрежительно, а больше читали умные книжки и занимались умными разговорами. Единиц мы, однако, по старой памяти боялись и, когда чувствовали, что уж совсем не знаем урока, то вместо гимназии отправлялись в публичную библиотеку. Это были приятные часы. Огромный зал, стены которого сплошь одни книги. Два ряда столов с газовыми лампами. Зал теплый, просторный. За чтение платить ничего не нужно. Пускают всех. Вот, сидит профессор, вот журналист; священник, а рядом с ним раскольник, углубленный в старопечатную книгу; студент и оборванец, зашедший сюда больше для того, чтобы погреться; мальчуган, рассматривающий картинки в прошлогодней «Ниве», и хорошенькая студентка. Здесь все равны, как в церкви; библиотека принадлежит всем, как церковь. Равенством и братством веяло от доброжелательно-важного зала. Воздух был наполнен не суетностью повседневной жизни, а величавым спокойствием слова, уже сказанного, мысли, уже выработанной. Сильное впечатление произвел на меня этот зал, и первое время я чувствовал себя старым, лет этак около ста, мудрым, бесстрастным ученым. Потом очень скоро я стал заглядываться на хорошеньких студенток. В библиотеке я занялся эстетикой. Мой друг ничем посторонним не развлекался, ссорился с соседями за громкий разговор и штудировал политические и экономические сочинения, делая из них огромные выписки. Одно время политика и экономия сменились литературой о Швейцарии: мой друг решил эмигрировать в это свободное государство и стал изучать французский язык, начав зубрить словарь Рейфа, с буквы А. Меня политика не интересовала, заглушаемая литературными упражнениями, чтением стихов и беллетристики, да еще упомянутой «жаждой жизни».
Нашей гимназии мы не посещали и не интересовались ею. Предстоящий экзамен нас еще не заботил: ведь он должен быть только через два года. Один из наших товарищей, малый практический, не смущаемый нм жаждой жизни, ни политикой, ни эстетикой, ни тому подобными глупостями, однажды, придя в гимназию вместе с нами, сел не на старое место, а в последний класс. Объяснил он это тем, что ему любопытно послушать, как учат там. Ему понравилось, как там учат, и он там остался совсем. Мы нашли, это очень легкомысленным. Он знал еще меньше нас; а затем он променял, наше, мое и Г–ва, общество — а о себе мы были очень лестного мнения — на учеников последнего класса, которых мы не одобряли. Когда мы высказали это нашему приятелю, он ответил, что мы вечно будем милы его сердцу, что новые товарищи его совершенно не интересуют, а в классе он «вроде вольнослушателя». Потом мало-помалу он к нам охладел и разошелся с нами.
Последний класс гимназии представлял любопытное зрелище. Он был очень многолюден. Большинство учеников были в годах, лет далеко за двадцать, с бородами. Вид имели все солидный, вид людей, живущих уже весьма сознательно. Было несколько вольнослушателей высших учебных заведений, которым был нужен гимназический аттестат для зачисления в настоящие студенты. Эти ходили в форменных фуражках своих училищ, угрюмо сидели на уроках, презрительно смотрели на учителей и брезгливо на учеников. Многие принадлежали к национальностям, отличающимся практическим складом ума, к евреям, полякам, армянам, даже был один японец. Были евреи-радикалы, в смазных сапогах, карбонарских шляпах и пледах, смотревшие на мир с ненавистью и презрением, и евреи-франты, с усиками в виде стрелок, кольцами на руках и обольстительно светскими манерами. Поляки, как и везде на чужой стороне, держались своей мнительной кучкой, не были ни карбонарами, ни, по недостатку средств, франтами, шептались между собою по-польски и обдумывали свои польские дела. Армяне соединяли жизнерадостность с практичностью и франтовство с радикальными убеждениями. Русаки придерживались больше тайного кабака сторожа Мишки, чем уроков, но были тоже малыми не промах и отличались физиономиями, кто вызывающими, кто чересчур ласковыми, но одинаково смышлеными. Почти все — я и молодые люди поступали прямо в последний класс. Будь мы с Г. порасторопней и непрактичней, мы заметили бы, что тут кроется какая-то загадка.
И вдруг загадка и обнаружилась, и была разгадана одновременно.
Учебный год прошёл, нас проэкзаменовали, мы оказались плохи, но нас всё-таки перевели. Минули каникулы, мы с Г. вернулись в Петербург и вместе шли в гимназию. Наступал решительный год, в будущем мае нам предстоял экзамен зрелости. Мы давали друг другу обещания бросить политику и эстетику, не посещать публичной библиотеки, не заглядываться на хорошеньких студенток, не развлекаться ни литературой, ни жаждой жизни, а учиться изо всей мочи. Становилось страшно: мы знали очень мало.
Вот и гимназия, но вывески на ней почему-то нет. Мы звоним, — отпирает какой-то столяр, а не сторож Мишка. В комнатах пусто, — ни парт, ни досок. Полы взломаны, переклеивают обои, мастеровые стучат и поют песни. Где же гимназия? — Гимназии нет, гимназия закрыта по распоряжению министерства. — За что? — За торговлю свидетельствами об окончании в ней курса. Нам всё стало ясно: и моя загадочная беседа с директором при поступлении, и многолюдность последнего класса, и странный состав его учеников, и необъяснимый переход нашего товарища в «вольнослушатели» последнего класса. Этот товарищ был мудрый человек. Когда мы только еще добились до университета, он уже был адвокатом.
6
Как ни были мы с Г. легкомысленны, однако поняли, что положение наше становится серьезным. Закрытие гимназии составило большую потерю. Тогда частные гимназии имели некоторые права. Их свидетельства, как я уже сказал, открывали доступ в специальные заведения. На зрелость их ученики экзаменовались хотя и казенными учителями, но в присутствии своих преподавателей; последние даже имели голос при оценке ответов. Державшие при казенных гимназиях должны были получить не менее четырех с половиною, причем ни одной тройки, — для частных гимназистов достаточно было трех. В качестве постороннего можно было экзаменоваться не раньше товарищей по оставленному заведению, — к воспитанникам частных гимназий это не относилось. По мере того, как мы всё это узнавали, разузнавали и соображали, тревога наша росла. Как быть? Как поступить? Мы чувствовали себя так, точно сбились с пути и заблудились. Выберемся ли на дорогу? Или нам так и пропадать? Настоящей жажды знания мы не имели, ни тогда, ни после, но мы раздразнили себя чтением, разговорами, публичной библиотекой, и думали, что нам ужасно как хочется науки. О карьере, которую открывает университет, мы не помышляли, тоже ни в то время, ни впоследствии, но страдало наше самолюбие, и мы завидовали. Сидеть в публичной библиотеке в качестве студента или просто «готовящегося» — неизмеримая разница. Идешь по улице, на ногах у тебя высокие сапоги, на плечах плед, — как есть студент. А на самом деле ты обманщик: не студент, а готовящийся. Знакомые студенты в своих рассказах изображают университет какою-то свободною страной, где шумят сходки, обсуждаются вопросы первостепенной важности, где студенты экзаменуются сидя, где неизвестно еще, кто важней: ректор, тайный советник с двумя звездами, или первокурсник естественного факультета, Овечкин; где еще на днях этот Овечкин, замечательная личность и выдающийся оратор, ответил ректору, тайному советнику с двумя звездами, просившему сходку, обсуждавшую преимущества анархии перед монархией, разойтись — «Знайте, ректор, что это собрание уступит только силе штыков»! — «И что же ректор»? спрашиваем мы рассказчика. — «Ректор? Ректор знает историю, а стало быть, ему известно и то, что штыки бессильны против великой идеи». Г–в десятки страниц своих ремарок наполнял рассуждениями об ужасном гнете классицизма, о свободных американских университетах, о необходимости нового 1789 года. Для разнообразия он обдумывал планы и способы самоубийства. Однажды мысль о самоубийстве созрела. Ложась спать — я тогда ночевал у него — он вручил мне свой револьверишко и попросил, когда заснет, застрелить его. Чтобы избавить меня от ответственности, он написал записку, что застрелился сам, но записки мне не отдал, а положил себе под подушку. Я с самым серьезным видом соглашаюсь на последнюю просьбу друга. Легли, потушили свечи. Проходит полчаса, час; мы оба молчим, но не спим. Я подымаюсь, крадучись иду к Г–ву и вдруг слышу его голос, испуганный, но вместе с тем и сконфуженный:
— Ты, слушай! Как честный человек на всякий случай предупреждаю: я мою записку съел.
Я начинаю хохотать. За мной хохочет и Г–в. Проходит еще полчаса, я начинаю дремать, — и опять голос Г–ва:
— Эх, даже и умереть не умею! — с горечью и презрением восклицает мой друг, повертывается на другой бок и сладко засыпает.
Тысячи-тысяч думушек вертелись у нас в голове. Не поступить ли в самом деле в юнкера? Говорят, есть какое-то военно-аудиторское училище; куда принимают чуть не кантонистов, но которое дает совершенно университетские права. Где-то, — не то в Херсоне, не то в Керчи, есть боцманская или лоцманская школа, тоже с какими-то правами. Рассказывают, будто существуют особенные казачьи и кавказские гимназии, где гимназисты ходят с красными лампасами и в папахах; там экзамены будто бы совсем легкие, но зато надо уметь джигитовать. Не начать ли на всякий случай изучать джигитовку? Ходят слухи про какую-то захолустную гимназию, где зрелость можно купить; но цена дорога, полторы тысячи. В нашей закрытой гимназии свидетельство стоило, говорят, втрое дешевле. Дураки мы, дураки, что не купили! «Это нечестно!» — «Расперенаплевать мне на честность! — гремит мой друг. — Разве при буржуазном строе может быть честность? Надо быть мошенником, мерзавцем. С меня довольно этой честности! С этой минуты я — буржуа, сытый буржуа; герои «Брюха Парижа» — мой идеал. Плутовство, плутовство-с, вот мой девиз отныне… Я плут. Уж мне эти либералишки, радикалишки, социалистишки! Попадись они мне! На свете борьба за существование, и ничего больше. Да здравствует Дарвин, я становлюсь пройдохой!»
И мой друг с самым пройдошным видом рыскал по городу и искал выхода из положения, в которое мы попали. Недели через две поисков он является ко мне. Лицо пройдохи. Манеры величественные. Относится ко мне с презрительным покровительством. Велел одеваться, взял за руку и повел, точно пятилетнего ребенка. Дорогой он много говорил о том, какой сам он хитрый и практический человек, и какой я размазня и тюфяк; о том, что я без него пропал бы, и что он, Г–в, пробьет себе дорогу и сделает великолепную карьеру, — буржуазную, конечно, но ведь иной и быть не может: борьба за существование! — Мы шли поступать в отысканную Г–вым новую частную гимназию. Г–в совсем вошёл в роль моего опекуна и, представляя меня директору гимназии, сказал:
— Вот тот молодой человек, о котором мы с вами говорили.
Директор схватил меня за обе руки, с жаром пожал их, усадил нас в кресла и предложил по сигаре, очень скверной.
Наш новый директор был старый, тощий, бестолково торопливый немец, с растерянными глазами. Когда-то он был гувернером в знатном доме. В свое время это был, вероятно, бойкий, недурной собою, с приличными манерами и прилично одетый молодой немец. Вероятно, он умел забавлять и сумел понравиться. Когда кончилась его менторская роль при знатном Телемаке, ему дали денег и устроили разрешение на открытие гимназии. В то время, когда мы к нему поступили, немец был стар, бестолков и начинал выживать из ума; кроме того, дела шли худо, были долги, а от таких забот немец, конечно, не умнел. Усадив нас в кресла, он заболтал без умолку, но толка от него добиться было нельзя. Сначала он запросил с нас по триста рублей, потом согласился на двести, расписки написал на двести пятьдесят, а когда стал считать деньги, спутался и думал, что согласился на полтораста. Когда мы стали его спрашивать, какие же права даст нам его гимназия, он сначала сказал, что даст все права, а потом понес околесицу о распоряжениях министерства, о том, что он этих распоряжений не одобряет, о том, что теперешняя система долго не просуществует. Немец был слабоумен, но и плутоват, и даже настолько плутоват, что умел слабоумием маскировать свою плутоватость. Когда-то у своих знатных патронов он, надо полагать, был немного и шутом, — немного шутом оставался он и до сих пор. Нередко он приходил к нам в класс и по часам говорил речи на ломаном русском языке. Это был совершенный и болезненный вздор, с плутоватым и шутовским оттенком. Он что-то бормотал о нигилистах и кричал «ура». Он говорил, что граф Толстой немного слишком строг, но что классицизм спасет Россию. Граф Толстой строг, но он, Густав Васильевич Шмерц, — самый хитрый из всех директоров частных гимназий, и что кончить курс легче всего в его гимназии. — «О, я очень хитрый человек! — болтал немец. — Я говорю министерству: хорошо, очень хорошо; но я со своими воспитанниками всё-таки пройду через, ich komme durch! Деликатно, вежливо, не горячась. Как вальс в три па!» И немец, в своем не по летам щегольском пиджаке и в лакированных ботинках, с деликатными ужимками и с лукавым лицом, начинал танцевать перед нами вальс.
Прежняя гимназия была плебейская; новая имела претензии на аристократичность. И там и тут собрались одинаково отбросы, — «готовящиеся», удаленные из казенных заведении, кто за дурное поведение, кто за неуспех в учении, кто по действительной негодности, кто за проступки против «железной дисциплины». Содержатели частных заведений этими отбросами кормились, и только: ни о воспитании, ни об учении серьезно говорить было нельзя. Создался этот почтенный промысел теми крайними мерами, которыми вводились классицизм и благонамеренность, и процветал несравненно пышнее, чем благонамеренность и классическое образование.
Аристократизм отбросов новой нашей гимназии был очень условный. Десятка два мальчиков и молодых людей были действительно из знатных семейств; остальные были просто богатенькие шалопаи. Тон этой компании был еще противней плебейства прежней гимназии. Задавали тон аристократики или мнившие себя таковыми, остальные ему подражали. Я не знаю ничего глупее тона и манер нашей золотой и золоченой молодежи. Припоминаю, что Мицкевич с ужасом говорит о цинизме и грубости светского кружка Пушкина. Противна, говорят, прусская знатная молодежь, но ту развратили солдатчина и бисмарковщина. Циничны и грубы англичане, но они огрубели в своих колониях, где держат себя укротителями зверей. Грубы новейшие французы, но это можно объяснить влиянием разбогатевшей буржуазии. Наши русаки грубы неизвестно отчего и для чего, и в особенности в Петербурге, в центре культуры. На всё им плевать, ко всему относятся с кондачка, все у них дураки, все женщины распутницы, всё им можно и позволительно, не говорят, а сквернословят. Положим, они баловни судьбы, т. е., дядюшек, тетушек, протекций, богатства, чаще больших жалований своих папаш, но зачем же и баловаться в дурном тоне, от которого отдает выездным лакеем, приказчиком французского магазина и вахмистром, в весьма непривлекательной смеси. Выездной презирает всю вселенную, приказчик франтит, а вахмистр через два слова в третье ругается «по-русски». Среди золотой молодежи есть очень хорошие натуры и очень умные люди, но тон у всех, особенно на школьной скамье, одинаковый. Что в нём хорошего и откуда он идет, не понимаю.
При этаком тоне в новой гимназии порядка было еще меньше, чем в прежней. Барчуки не учились, за ними не учились остальные; учителя, видя, что ничего не поделаешь, махнули рукой и не учили и тех, кто хотел бы учиться. Кто желал, сидел в классе и дремал или занимался чтением. Кто не желал, «делал визиты» пансионерам, из которых несколько молодых людей имели отдельные комнаты. Хозяева принимали гостей любезно. У одного накрывался завтрак, конечно, холодный, из гастрономического магазина, но с достаточным количеством вина и водок. Другой был охотник играть на кларнете и угощал, кроме вина, еще и музыкой, раздававшейся по всему дому. Третий был картежник и всегда был готов помочь скоротать скуку пребывания в гимназии, заложив банчишку.
Когда пред нами раскрылись все эти бытовые подробности, мы с Г. почувствовали ужас. Вот тебе и последний год пред экзаменами! Попробовали мы заикнуться о возвращении наших денег, которые с большей пользой могли бы пойти на приватные уроки, но наш слабоумный немец при этой просьбе даже поумнел и сухо и толково сослался на правила, напечатанные на обороте наших квитанций, гласившие, что раз внесенные деньги ни под каким видом не возвращаются. «Были случаи, что со мной даже судились, — прибавил на всякий случай немец, — но я всегда выигрывал». Что делать?! Ведь до экзамена всего несколько месяцев! Становилось страшно, и мы совсем сбились с толку. То мы прилежно ходили в гимназию, причем мой беспокойный друг делал учителям сцены, требуя, чтобы его учили; то, еще и еще раз убеждаясь в негодности гимназии, мы с утра до ночи сидели за книгами дома. Оказывалось, что мы знаем на удивление мало, что приходится всё учить чуть не с самого начала, — а поди-ко, выучи! Сколько теорем в геометрии Давидова, сколько текстов и молитв в «Катехизисе» и «Богослужении», что за толщина этот Буслаев и этот наполненный исключениями Ходобай! Учимся, — и вдруг нас в жар бросит, буквально ноги, руки отымаются. А тут еще стеснительные распоряжения сыплются как из рога изобилия. Мой друг со свойственным ему пылом вошёл в роль искателя зрелости и узнавал все новости чуть не в час их появления. Встречаемся в гимназии. Г–в бледен, глаза горят, руки дрожат. — «Поздравляю, вышло распоряжение — никуда не принимать по свидетельствам частных гимназий!» И действительно, случай торговли свидетельствами в нашей прежней гимназии вызвал, эту меру, обрушившуюся наряду с бесчестными заведениями и на вполне благонадежные, — а такие, конечно, были. Через некоторое время прихожу к моему другу, в его крохотную конурку, «со светом из коридора», с платой по восьми рублей в месяц, с горничной Пашкой, хозяйкиной собачонкой Пешкой и хозяйкой, чрезвычайно гордившейся своим жильцом, сыном «генерала», статского советника. Мой друг, несмотря на позднее время, лежит в постели.
— Что это ты валяешься?
— Размышляю о нирване.
— Зачем?
— С целью выработать равнодушие к бытию. Да, брат, бытие, — это вздор. Слышал о новом распоряжении? Чтобы держать экзамен с учениками частной гимназии, надо пробыть в ней не меньше трех лет. Вот, брат, каково оно нынче, бытие-то!
Проходит еще неделя-другая в бестолковом учении и в приступах отчаяния. И новый удар, еще более жестокий, а для Г. роковой. Ранее товарищей по казенной гимназии можно было кончать курс только держа экзамен в качестве ученика частной гимназии. Г–в по последнему распоряжению учеником частной гимназии не считался, бывшие его товарищи кончали курс только в будущем году, а потому и мой бедный друг в этом году не мог быть допущенным к экзаменам. Тут Г–в освирепел. Его ремарки заполнялись с лихорадочной быстротой. Громы и молнии сыпались с их страниц на виновников его неудач. Счастье, что ремарки не попали в руки кого следует, или, вернее, кого не следует, а то не миновать бы их автору, при тогдашних обстоятельствах, больших неприятностей. Он собирался фабриковать взрывчатые вещества, мечтал о приобретении отравленного кинжала, вклеил в тетрадь дневника портрет Бакунина, а о существующем строе выражался так, что волос подымался дыбом. Мало того, мой друг серьезно был озабочен, как бы ему найти «конспиративную квартиру», поядовитей, и предложить ей свои услуги. Случилось даже, что на одной студенческой вечеринке он напился с известным Кибальчичем, с ним вместе ворвался из буфета в зал и стал танцевать мазурку. Танцоров вывели, а Кибальчич признался Г–ву, что он социалист. Всё это Г–в подробнейшим образом заносил в дневник. Прочтите воспоминания г. Л. Тихомирова о его революционном прошлом, как велись тогда следствия по политическим делам, и что тогда между прочим причислялось к политическим преступлениям, и вы согласитесь, что моему другу могла грозить серьезная опасность. По счастью, ничего страшного не произошло, а мой друг через какой-нибудь месяц, с блаженным выражением лица, сознался мне, что он влюблен.
— Мы катались на чухонце, — рассказывал он мне. — Чухонец вывалил нас в сугроб, и я ее в это время поцеловал. А она, брат, она на это — ничего! Ясно, она меня тоже любит. Боже мой, как хороша жизнь! Как жалею я тебя, что ты не влюблен. Влюбись, брат!
Всякие кинжалы и конспирации были забыты. В любовном чаду Г. примирился даже с тем, что его экзамены отсрочены еще на год, и задолго до окончания учебного года уехал домой.
Я остался один со своими тревогами, страхами и надеждами. В одиночестве они переносились еще тяжелей. Я чувствовал, что не готов к экзаменам и не в состоянии подготовиться в остающееся короткое время. В гимназию я не ходил, потому что там занялись своими учениками, а на подобных мне не обращали уж ровно никакого внимания. Приходилось работать одному. Способности мои были далеко не блестящие, механической памяти, для заучивания наизусть, у меня никогда не было, склонность к литературным упражнениям, мечтательность и жажда жизни всё возрастали. Вместо того, чтобы учиться, я уходил к моему другу Э. и просиживал там дни и ночи до утра, заслушиваясь его задушевных импровизаций и проводя время в обществе новых тургеневских героинь. По правде сказать, героини эти были далеко менее тургеневскими, чем два года тому назад, в провинции, но недостающее дополнялось воображением. Вернешься домой, ляжешь спать, — не спится: всё играет музыка, а музыку слушают героини. Поутру нападает ужас: еще день потерян, экзамены еще ближе, а успехов никаких.
Настали и экзамены. Чем они кончатся? Ум говорит, что самым несомненным провалом, но мечтательность спутывает этот безошибочный приговор рассудка; недаром она женского рода. Музыка, тургеневские героини, — и вдруг единица из какой-нибудь арифметики! Не может быть! Повторилось нечто похожее на то состояние, в котором я находился, девять лет тому назад, когда, в немецкой школе, чувствуя себя во власти чёрта, я молился о том, чтобы вдруг чудом знать все уроки. В чёрта я уже не верил, знал, что чудес не бывает, и всё-таки втайне надеялся на них, ждал их, если не рассудком, то «нутром», которое, как видно, не совсем еще переродилось со времени детства, и в котором еще остались следы чёрта и чудес, — душевное состояние не лишенное интереса. Эту черту у женщин одни называют женским упрямством, другие — женской логикой и даже логикой чувства.
На экзаменах я был довольно спокоен: я производил опыт, — есть чудеса или нет. Я решал математические задачи, делал латинский перевод и писал русское сочинение в состоянии похожем на то, в котором вертят столы. Сядут к столу, положат на него руки и ждут, — остальное, что там нужно, сделает уж стол. Я решал задачи как Бог на душу положит, не заботясь о том, так ли я решаю, я ждал, что из этого выйдет; — а вдруг, выйдет как раз то, что нужно? Я делал перевод и думал: ну-ка, есть чудеса или нет? Если есть, я через месяц студент! А студенчества я ждал с таким же чувством, с каким влюбленный едет в церковь венчаться…
Моя свадьба расстроилась в самой церкви. Чудес нет. Женская логика чувства осрамилась. Из математики единица, из латинского другая, за сочинение — третья. Попросил я позволения взглянуть на свои работы, проверил их потом с книгами в руках: оказалось, что сделать их хуже невозможно. Отнесся я к этому довольно хладнокровно: опыт доказал, что чудес не существует, — так и запишем. Обидела меня только единица за русское сочинение, поставленная за то, что сочинение было написано не по хрии и «вольным слогом», которым я по наивности думал щегольнуть.
Чудес нет, — но не совсем. Только чудеса-то делаются просто. Одновременно со мной экзаменовался очень знатный и богатый молодой человек. Во время письменных экзаменов от волнения он часто удалялся из класса, надо думать, за медицинской помощью. Когда он возвращался, у него в рукавах появлялись какие-то бумажки, а на манжетах рубахи какие-то надписи и знаки. Ученики это видели, а надзиратели как-то нет. Однако, на одном из экзаменов чуть не произошло странное недоразумение. В то время, когда в классе остался только один учитель, подготовлявший, как оказалось впоследствии, молодого человека к экзамену, барчук подошел к учителю со своим черняком, и между ними начался оживленный разговор, — чтобы не мешать остальным, разумеется, шёпотом. В это время отворяется дверь, появляется другой учитель и с видом и быстротою тигра бросается на беседующих. Учитель бледнеет. Молодой человек стремительно оборачивается и, вытаращив глаза, садится на стол, на свой черняк. Конечно, тотчас же выясняется, что молодой человек не понял вопроса письменной работы и всего только просил разъяснить вопрос. Экзамены молодой человек сдал успешно. В университете я видел его недолго. Оттуда он перешел в кавалерию, стал сильно кутить, года через два я встречал его совершенной развалиной, а еще немного спустя он умер. Это был большой богач и очень знатный молодой человек. Для таких чудеса были возможны.
Забыл сказать, что и в этом году я «вероятно потерял документы», был приглашаем в часть, и там мне снова смотрели прямо в мозг и во внутренности.
7
Дела принимали всё более дурной оборот. Мы с Г. уже влюбились в университет, влюбились по уши, со всеми крайностями и чудачествами настоящей влюбленности. Как все влюбленные, мы думали, что жить нельзя без предмета нашей страсти, что мы зачахнем, умрем, если не соединимся с ним, что и солнце перестанет светить, и аппетит пропадет, и весь мир будет огорчен нашей неудачей. Начиналось предэкзаменационное помешательство. Во время каникул мы с Г. переписывались. Я жил в деревне, Г. в городе и мог следить за дальнейшим ходом учебной реформы. Ход этот был по-прежнему зловещего свойства. Вышло распоряжение, чтобы до испытания зрелости не допускать более двух раз, — значит, я могу попытать счастья еще только один раз, последний раз, — а там померкнет солнце. Сделано распоряжение, чтобы свидетельства зрелости без греческого языка были выданы в последний раз только в будущем году, — а мы греческий язык, конечно, забросили. Правда, Г–в сообщал, что в астраханской гимназии калмыки и впредь будут освобождены, по случаю природной неспособности к древним языкам, от греческого, и что, кажется, как-то можно поступить в калмыки, предварительно записавшись в казаки астраханского казачьего войска, в калмыцкую его станицу, но что и тут замешалась эта проклятая джигитовка… Теперь всё это отзывается забавным анекдотом, а тогда от таких тысячи-тысяч думушек мы не спали ночей, худели, бледнели, то впадали в отчаяние, то предавались фантастическим мечтам вроде поступления в калмыки, нервозились, слабели волею, приучались трусить и заражались трусливостью, приучались хитрить, привыкали бессильно злиться, словом, в нашем лице росли современные «интеллигенты».
8
Каникулы во всех этих тревогах пролетели быстро, мы с Г. снова в Петербурге, — и новый удар падает на наши головы. Мы решили вернуться в нашу прежнюю гимназию. Это будет третий год нашего пребывания в частных учебных заведениях, гимназию мы переменили не по своему произволу, и, авось, нас допустят к экзамену с учениками нашего немца, чёрт его, впрочем, побери! И мы понесли немцу наши двести рублей. Приходим. Гимназия стоит как стояла, двери не заперты, отворяет их знакомый швейцар, а не столяр, но едва мы вошли в сени, как наш слух был поражен грохотом барабана, дружным шагом маршировки и командой — «Ря-ды вздвой! В ря-ды стройсь»! Мы не верили своим ушам… И потом неистовые, фельдфебельские крики — «Как стоишь! Подбери живот!» — и затем совершенно бешеный, казалось, облитый пеною вопль — «Во фронте не разговаривать!» — Оказалось, наш немец свою гимназию продал какому-то военному человеку, который превратил ее в частный военный корпус.
Я не стану описывать новых припадков уныния и неосновательных надежд, новых планов и предположений, новых тысячи-тысяч думушек, новых поисков какого-нибудь заведения. Повторилось всё то, что было в прошлом году, и окончилось тем же — новое заведение было найдено.
Умудренные горьким опытом, мы и к новому пристанищу вначале отнеслись скептически, но на этот раз судьба над нами сжалилась. Гимназия оказалась толковою и добросовестной. Содержатель её не жадничал, не гнался за количеством воспитанников. В последнем классе мы застали всего пять учеников. Они все оказались вполне хорошими молодыми людьми, так что мы с ними скоро сошлись, а с некоторыми и подружились. Работали новые товарищи усердно, и это было для нас хорошим примером. Учителя относились к делу как нельзя более внимательно. Но, несмотря на всё это, настоящего учения и тут было не больше. Нас всего лишь дрессировали, как дрессируют собачонок, складывающих слова и делающих сложение и вычитание.
Новые учебные планы вводились, по выражению Достоевского, «вдруг». Сегодня приказано, — завтра же должны быть готовы нравственно зрелые, воспитанные в классическом духе молодые люди. Что это за классический дух, знали Катков с Леонтьевым, да может быть, еще десяток-полтора педагогов на всю Россию. Для остальных весь дух заключался в учебных планах да в министерских циркулярах. Выполняй их, и будешь образцовым «классическим» педагогом. Огромное большинство наскоро испеченных, «сделанных деньгами», как говорит Достоевский, педагогов, наверно и в планы с циркулярами не вникали, а ограничились тем, что усвоили себе формальные приметы новой учебной системы. Тот, кто на выпускном экзамене получит не меньше тройки, нравственно зрел. Чтобы получить тройку из русского, должны написать сочинение по хрии, выразить в этом сочинении мысли, которые указаны в учебных планах, и без запинки просклонять: езеро и аггел. Из латинского надо знать Горациевы размеры, столько-то сотен грамматических правил, столько же исключений и тысчонку латинских слов. По математике надо вызубрить решения указанных в программах задач, причем указаны не только задачи, но и самые решения. Классическое воспитание выродилось в руках равнодушных наемных, а не «выработанных веками» педагогов в зубрежку и дрессировку. Объем зубрежки и отчетливость дрессировки растяжимы. Поэтому практика немедленно выработала целый кодекс ученических преступлений и учительских наказаний, кодекс тоже чисто формальный, основанный на совершенно внешних приметах. Экзаменующийся мог написать блистательный философский трактат, но, если он два раза ошибся в букве «ѣ», ему ставили двойку и признавали нравственно незрелым. Наоборот, ученик мог написать шаблонно, «по-телячьи», как выражался наш учитель словесности (и прибавлял: иначе, как по-телячьи, избави Бог, не пишите!), но если орфография и хрия были в порядке, теленку ставили пять и, в качестве дееспособного бычка, пускали в стадо. По латинскому языку идеалом был тот, кто назубок знал грамматику Ходобая, где были указаны не только исключения, но исключения из исключений, до седьмого колена. Однако, как ни прямолинейны были педагоги, они понимали, что Ходобая могла вызудить только исключительная память, а потому в учебном кодексе преступлений и наказаний были указаны ошибки, наказываемые простой сбавкой балла до трех, без лишения зрелостных прав, и ошибки, влекшие за собою лишение оных. Кто знал всего Ходобая, получал пять; кто половину, — четыре; кто знал только Кюнера, получал тройку. Кюнер был минимум. На эти-то минимумы и «натаскивали» молодежь, и в казенных гимназиях, и тем более в частных, где за то и деньги большие платили, чтобы полегче было учиться и поскорей можно было выучиться.
В той гимназии, куда мы поступили, искусство дрессировки было доведено до совершенства, а дрессируемые оказались замечательно понятливыми. Бывало до восьми уроков в день. Латинист, математик и учитель словесности, преподаватели главных предметов гимназического курса, сидели часа по три подряд и посвящали нас во все тонкости «отвечания» на экзаменах. Нас учили писать сочинения так, как это «любят» экзаменующие. Мы заучивали те оды Горация и те главы Тита Ливия, которые пользовались наибольшей склонностью учебных планов. Мы вызудили решения всех наиболее употребительных на экзаменах задач. На нас наводили лак и блеск, рекомендуя заучить несколько десятков латинских пословиц и афоризмов. Нас предостерегали от цитат из Тургенева и Толстого, рекомендовали с разборчивостью пользоваться Пушкиным и Гоголем и ввериться только Кантемиру, Ломоносову и Державину. Новая всеобщая история, особенно «беспорядки, происшедшие в царствование Людовика XVI и окончившиеся лишь при Наполеоне I», была опасным подводным камнем, и тут мы получали подробную лоционную карту. Словом, нас учили обманывать. И от нас этого не скрывали. Учитель старого закала, тип из «Гнилых болот» или из романов Писемского, шипел, иронизировал, смеялся и презирал себя и нас, — и всё-таки, нет-нет, да и вздохнет или несколько мгновений смотрит в окно и невесело качает головой. Учитель из постороннего ведомства, в генеральских эполетах, обучавший нас второстепенному предмету, вместо урока устраивал настоящие митинги протеста, обличал, кричал, плевался, стучал кулаками по столу. Я заметил, что особенно пылкими либералами у нас бывают образованные генералы и образованные дамы, может быть потому, что вопрос этот относится к ведомству, постороннему для обоих. Остальные учителя ограничивались намеками и экивоками, которые тем не менее были ясны. Мы готовились к обману вполне сознательно, и именно в то же время мы приучились, если не к обману и хитрости, то к мысли, что без окольных путей, без себе на уме, без расчёта на чужие слабости и недостатки не проживешь. Мы никогда не доходили до того, чтобы считать такие средства дозволительными в личных и низменных целях, но как тут отделить, что — личное и ничтожное, а что — возвышенно и относится к общему благу? Впоследствии нужно было немало времени и опыта, чтобы смыть с себя эту, если не грязь, то пыль.
Дрессировка, в которую мы попали, сначала показалась нам чем-то нелепым и диким. До сих пор мы полагали цель учения в «развитии»; сочинения писали по совести, с увлечением, с цитатами из Писарева, Луи-Блана и Вокля; к науке, конечно, нам неизвестной, относились с благоговением, причем к науке причисляли и все предметы гимназического курса, до географии Смирнова включительно; историю словесности изучали по критикам; историю, с легкой руки Павлова, обожали и вникали в нее с трепетом. Мы не умели работать, способности наши были посредственные, мы были ленивы и мечтательны, наше штудированье подвигалось плохо, но мы всё-таки хотели штудировать, а не дрессироваться. Оказалось, что с нашим штудированьем мы во веки веков не выучим гимназической программы, а дрессировкой нас доведут до зрелости в девять месяцев. Как это просто и легко! Это обман, — но без обмана нам никогда не соединиться с университетом, в который мы влюблялись всё больше и больше.
8
Девять месяцев, с августа 1874 года по май 1875-го, были сплошной неистовой зубрежкой, днем, а часто и ночью, потому что мы расстроили себе нервы, и плохо спалось. Зубрежка разнообразилась изучением всё новых и новых распоряжений начальства. Проходил слух, что греческий язык будет обязателен; мы обмирали и начинали бегать по канцеляриям, — слава Богу, спас Господь, еще не обязателен! Содержатель нашей гимназии подал прошение о том, чтобы нас допустили к экзаменам вместе с его учениками, и надеется на благоприятный ответ, — мы не спим ночей от радости. Содержатель получил отказ, мы мучимся бессонницей под влиянием мрачных опасений. В начале учебного года прошел слух, что на экзамене достаточно будет тройки вместо четырех с половиною, как это было до сих пор; справки в канцеляриях подтвердили это с несомненностью, даже сказали, что распоряжение в этом смысле последует на днях; но время идет, распоряжения всё нет, — и нами овладевает отчаяние, опускаются руки. Распоряжение опубликовано, — мы не верим своим глазам, изучаем каждую букву, сомневаемся в каждой запятой, наконец, убеждаемся, что это не галлюцинация, — и нет пределов нашему восторгу. Волнения и напряжение последних девяти месяцев, с прибавкой тревог двух последних лет, к концу учебного года превращают нас не то во вдохновенных, не то в сумасшедших. Способности временами изощряются до того, что за один присест выучиваешь всего Белоху, а на другой день не в силах припомнить таблицу умножения. Сегодня тебя наполняет странная веселость, тела у тебя как будто нет, а осталась только одна веселая душа, ты не ходишь, а плывешь по воздуху, на пятый этаж взбегаешь не запыхавшись; а назавтра голова тяжела и тупа, все мускулы щемит, время от времени тебя с головы до пяток пронизывает точно электрическим ударом, на ровном полу оступаешься, когда закроешь глаза, в них вспыхивают какие-то молнии, вылетающие как будто из самого мозга. Врачи должны знать, как называются эти явления… Наступает день подачи попечителю прошения, решительный день! Потом появляется в газетах публикация о распределении экзаменующихся посторонних по гимназиям, — я попадаю в сравнительно «легкую» гимназию. Наконец, начинаются четыре ужасных недели экзаменов.
Эти четыре недели прошли как в бреду, как в горячке. Жил я тогда в маленькой комнате в шестом этаже, во дворе… Этажом ниже, как раз против меня, проживал молодой человек, к которому по вечерам приходила его невеста. Случайно я знал, кто такие эта парочка. Влюбленные иногда забывали опускать на окошке штору, и я бывал свидетелем нежнейшей и чистейшей любовной идиллии. Была весна, петербургские светлые ночи, бессонные, мечтательные, влюбленные. Пахло весной даже на нашем глухом дворе. Молодой человек был студент и кончал курс. Его невеста была студентка. Всё вокруг меня было тем счастьем, о котором я мечтал и от которого меня отделяла невидимая, но непреодолимая преграда экзаменов. Если я их выдержу, весна, мечтательные ночи, университет, студенчество — мои. Не выдержу, — у меня нет права законно пользоваться всем этим. Как сюда приплетались женская любовь, любовные свидания, не знаю, но и они зависели от успешности экзаменов. И вот, эта невидимая преграда довела меня до бреда. Часы совершенно исступленного зубрения сменялись часами мучительно сладкого созерцания чужого счастья, этажом ниже, и, казалось мне, тоже чужой красоты весенних ночей. В эти часы я бывал в кого-то безумно влюблен, строил гордые и счастливые планы или впадал в отчаяние. Возможная удача на экзаменах и еще более возможная неудача, с их последствиями, рисовались с отчетливостью галлюцинаций.
У меня есть приятель, талантливый художник, которого картины на фантастические сюжеты пользуются успехом. Одно время он был глубоко несчастен, заброшенный за границу, без друзей, без знакомых, без денег. Единственное живое существо, которое любило его и к которому он был привязан, была маленькая гибралтарская обезьянка. Обезьянка заболела чахоткой и умерла на руках своего хозяина. Одичавший в своем одиночестве художник плакал, точно хоронил лучшего друга. Ночь. Мертвая обезьянка лежит на столе, а художник при лампе кончает заказ, который должен быть готов к утру; иначе нечего будет есть. Картина почти окончена, но остаются две человеческие ступни, которые никак не удаются. Натурщика нанять не на что, да и поздно, ночь. — «Мне стало страшно, — рассказывает художник, — и вместе с тем злость меня взяла, особенная злость, которая заключалась в злобном желании непременно поставить на своем, — написать ступни. Нет натурщика, — «назло» напишу без натурщика. Стану смотреть в темный угол, — и назло увижу там ступни, и назло спишу с них ступни на картине!.. И увидел, и написал, и, как оказалось на другой день, хорошо написал! Но, — прибавил художник, встревоженно расширяя глаза, — но часто таких вещей делать не следует», — Почти с такою же реальностью, как художнику ступни в темном углу мастерской, рисовались мне картины, то счастья после удачных экзаменов, о котором я намечтался до одурения, до несчастий, которые я навоображал себе до болезни. А «делать таких вещей не следует». Не следовало их делать со мною, с моими сверстниками, с целым поколением.
Страшные четыре недели прошли. Экзамен сдан успешно. Я хочу радоваться — и не могу. Вместо радости меня мучит мнительность. Мне всё кажется, что меня задавят на улице, или я утону, переезжая на ялике Неву, и даром пропадет мое свидетельство зрелости. Доходит до того, что я пересылаю его домой по почте, на случай крушения поезда, на котором я поеду, и моей гибели… Я — дома. Темная звездная ночь, которая прежде действовала на меня после светлых петербургских ночей успокоительно и отрадно. Весна, благоухания, тишина, родные люди, я — студент. Я хочу быть счастливым, — и не могу. И я вдвойне несчастлив: потому что я не могу быть счастливым, и потому что меня пугает, огорчает и обижает это состояние.
9
Прибавить к рассказанному, кажется, нечего. Университетское время не изгладило дурных следов нашего воспитания, а еще усилило их. Да иначе и быть не могло. Одни стены университета не могли изменить нас, две с половиною тысячи молодых людей, прошедших описанную мною школу, а воспитания в университете не было. Нравственной связи между студентами и профессорами не существовало, не было даже внешней, инспекторской, дисциплины, — и мы делали что хотели, а так как ни к чему путному мы приучены не были, то мы ничего не делали, кутили, мечтали, буянили на сходках и учились только для отметок на экзаменах. Тяжкое время конца 70-х и начала 80-х годов делало университетскую атмосферу совсем нездоровой.
Смешно сказать, наибольшее и наилучшее влияние на меня и на моего друга Г–ва в последние два года нашего гимназического воспитания и в первое время университета оказал больной человек, больной не только физически, но отчасти и душевно. Это был некто Г–ий, неудавшийся ученый, когда-то богатый человек, а в то время раздавший и пропутешествовавший свое состояние бедняк, не то чтобы озлобленный, но огорченный идеалист и мечтатель, в качестве, хохла большой юморист и лентяй. Впрочем, лень, как оказалось впоследствии, была расположением к параличу, от которого Г–ий потом и умер. Это был человек очень образованный, очень самолюбивый, очень обидчивый, бесконечно добрый и еще более раздражительный. Жил он частными уроками, на которые ходил с проклятиями и стонами, а всё остальное время лежал на кровати в своей каморке на шестом этаже. Эта каморка всегда была полна гостей, добрую половину которых составляли тогдашние революционеры и революционерки, большого и малого калибра. Время обыкновенно проходило в «собеседованиях» с революционерами, — как бывают собеседования с старообрядцами. Препирался с ними главным образом Г–ий, причем громил их всячески. Г–ий был очень образованным человеком и его переспорить противники не могли.
Тогда они угрожали при первом же бунте повесить Г–ого. Г–ий в ответь пискливым от негодования голоском начинал молить небеса, чтобы они поразили этих нечестивцев, этих новых варваров, этих современных гуннов молнией и громом и тем спасли бы цивилизацию. Воцарялось молчание. Революционеры, всё больше бледные, худые люди, в ярости ходят взад и вперед по комнате и курят крученые папиросы. Г–ий, лежа на кровати, толстый красный, теребит бороду, а его маленькие зеленоватые глазки мечут искры. Проходит несколько минут. Г–ий успокаивается, начинает пристально рассматривать своих неистовых гостей, глаза из злых делаются смеющимися и, наконец, он восклицает:
— Боже мой, что за забавное существо человек!.. Хотите, господа, еще чаю?
В то время, когда только что прорывало нарыв всего русского невежества и всего русского насильничества, накопившегося в дореформенной России, масса только и света видела, что в революционном окошке, а потому, просвещенные и гуманные речи Г–ого были для нас очень полезны.
Революционерами мы, — как и всё наше поколение, когда возмужало, — не сделались, но всё-таки нашего поколения никто не хвалит. Каково оно стало после университета, когда вступило в жизнь, читатель может узнать из сочинений г. Чехова, историческое значение которых, — помимо их выдающейся художественности, — заключается в замечательно меткой характеристике современного действующего поколения. Отсутствие воли и просто трусливость, непривычка подчиняться и неуменье подчинять, лень, прикрывающаяся философской безмятежностью, к практической жизни распущенность и лукавая хитрость, больное тело и нездоровая душа, — вот его характерные черты. Конечно, было бы нелепостью утверждать, что виною этому только школа и одна школа. Конечно, надо принять в расчёт много и других условий русской жизни, физических и нравственных. Конечно, наша интеллигенция давно уже хворая. Возьмите героев ранних произведений Тургенева, Писемского и в особенности Толстого, не говоря уже о Достоевском, возьмите эту молодежь сороковых и тридцатых годов: тоже порядочная золотуха. Но много виновата и школа. Мы были в неустойчивом равновесии, школа должна была его поддержать, а она, наоборот, нарушила его, — и мы повалились.
Примечания
1
Тогда в гимназиях и корпусах еще секли.
(обратно)


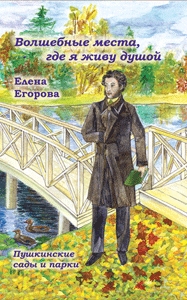


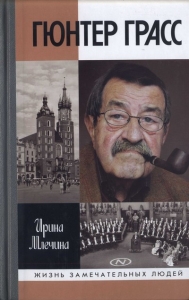
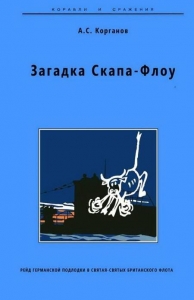

![Состав преступления [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/529202/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Школьные воспоминания», Владимир Людвигович Дедлов
Всего 0 комментариев