ВОСПОМИНАНИЯ О ЕВГЕНИИ ШВАРЦЕ Составление, статья, подготовка текстов и примечаний Е. М. Биневича
Евгений Биневич Такой многоликий Шварц
Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“»[1].
Мне думается, что Шварц преуменьшал свою известность. Уже при жизни его детские пьесы шли во всех ТЮЗах и кукольных театрах страны, на утренниках многих драматических театров. Несколько спектаклей по его пьесам были поставлены в Европе. Почти всё, что им было написано, даже «Дракон», за исключением «Голого короля» да нескольких драматических опытов, вроде первой пьесы, которой он даже не дал названия, или «Острова 5-к», «Нашего гостеприимства», «Телефонной трубки» и некоторых других, более мелких, уходило в печать чуть ли не сразу по написанию. Его повести и сказки переводились на многие языки, в том числе китайский. Когда эти книжечки доходили до него, он дарил их с автографами, написанными латинскими буквами. Например, Владиславу Михайловичу Глинке — на «Snehova kralena» (Прага, 1948): «Slavnomy Glinke ot slavnogo Jeni Svarca. 29.IV.54.», или первому исполнителю Дракона Льву Колесову — на «Первокласснице», изданной в Праге (1953): «Dragoi Leva! Budь zdorova! Igrai mnogo, Esh minoga, Pei, no w meru. Kak podobaet pionera. Daru eto proiswedenie w denь waschego porfennogo, Zoi denigoi. E. Swarz. 15.11.53» и т. д.
Но не случайно Жан Виллар заметил, что «слава венчает драматурга посмертно». И как Евгений Львович удивился и обрадовался бы всемирной славе, которая пришла к нему посмертно. Сейчас его имя встало в один ряд с именами Перро, братьев Гримм, Андерсена. В последние годы вышло довольно много его однотомников, в которых появляются забытые его пьесы, и даже четырехтомник (а еще в 1996 году — на его 100-летие — нам не удалось «пробить» даже трехтомник).
Вышла на экраны «Марья-искусница», поставлены его «Голый король», «Приключения Гогенштауфена» и «Одна ночь». Пьесы «Снежная королева», «Тень», «Сказка о потерянном времени» и «Дракон» экранизированы. Причем «Обыкновенное чудо» — дважды: в кинематографическом и телевизионном вариантах, а «Сказка о потерянном времени» — в игровом и мультипликационном. А киносценарии «Золушка», «Первоклассница» и «Дон Кихот» играют на сцене.
В Остраве (Чехословакия) «Обыкновенное чудо» превратили в оперетту, а в Польше «Тень» — в мюзикл «Человек и Тень». Опера Анат. Бычкова по «Голому королю» была поставлена в Академическом театре оперы и балета им. Абая (Алма-Ата, 1980), Тихона Хренникова — в петербургском Театре оперы и балета им. М. Мусоргского (1981), а мюзикл О. Хромушина был показан по питерскому телевидению в 1992 году и т. д.
Но более других привлекала композиторов «Снежная королева». М. Раухвергер по ней написал балет-оперу, который в 1969 году был поставлен Большим театром; оперы по этой пьесе напишут А. Флярковский и Г. Портнов, назвавший свою оперу «Вы проиграли, Советник!». Но больше всего по «Снежной королеве» появилось балетов — В. Берянкова (1967), Ж. Колодуба (1985), Т. Мансуряна, поставленный в Донецке (1990), К. Тушенка (Душанбе, 1990) и С. Баневича (1991). Операми стали «Красная Шапочка» (М. Раухвергер), «Тень» (Ф. Гейссер), «Обыкновенное чудо» («Повседневное чудо» Г. Розенфельда) и т. д.
Еще в июле 1961 года в Народном театре Новой Гуты режиссер Ежи Красовский поставил «Дракона» «в соответствующем ему подчеркнуто антифашистском духе, а Мариан Гарлицкий создал очень интересное декоративное оформление»[2]. А в 1965 году итальянский режиссер Бенно Бессон осуществил постановку «Дракона» в Берлине. Этот выдающийся спектакль имел громадный успех и сохранялся в репертуаре долгие годы. Смотреть его приезжали зрители со всей Европы и даже из Советского Союза. Манфред Нёссиг, информировавший читателей СССР о днях советского театрального искусства в ГДР 1973 года, писал: «Большим успехом пользовалась у нас и драматургия Евгения Шварца. Его сказки, полные глубокого человеческого содержания, во многом совпадают с немецким складом мышления. „Дракон“, поставленный в 1965 году Бенно Бессоном на сцене Немецкого театра, и по сей день идет с большим успехом. На основе этой пьесы написана опера Пауля Дессау „Ланцелот“»[3]. Мне об этом спектакле рассказывали многие, кто-то даже подарил вышедшую в Лейпциге (1971) уникальную в своем роде книжку-альбом с эскизами декораций, костюмов и бутафории художника Хорста Сагерта к этому спектаклю. А в 1972-м в Берлине вышел сборник «Евгений Шварц — человек и тень», куда вошли воспоминания о нем и советских литераторов, и Акимова, и немецких театроведов, рассказывавших о спектаклях, поставленных в ГДР по пьесам Шварца, и где опубликованы фотографии из спектаклей «Дракон» Н. П. Акимова и Бенно Бессона.
Через два года после немецкой премьеры Бессон поставил «Дракона» и у себя на родине. «Творчество советского драматурга Евгения Шварца продолжает привлекать внимание итальянских актеров и режиссеров, в том числе молодых, — отмечал журнал „Театр“. — Последнюю постановку „Голого короля“ осуществил коллектив „Театральная группа“ Джанфранко Мадзони. Теперь римский коллектив „Группа ТС“ показал „Дракона“, которого итальянцы увидели впервые в 1967 году в „гениальной“ постановке Бенно Бессона, после чего антифашистскую сказку Шварца поставил Генуэзский Стабиле на сцене и по телевидению. Авторы нынешнего спектакля — молодые режиссеры Джованна Буфалини и Джанкарло Кортези (играющий Бургомистра)»[4].
Наконец, в 1976-м «Дракон» вернулся в СССР оперой Э. Лазарева, поставленной в Молдавском театре оперы, балета и драмы им. А. С. Пушкина. Но спектакль особой популярностью не пользовался, хотя в нем выступала Мария Биешу, и в репертуаре не сохранился. Другие музыкальные театры страны не заинтересовались оперой Н. Э. Лазарева, ни немецкого композитора П. Дессау («Ланцелот»). Как известно, в 1962 году Н. П. Акимов вновь поставил «Дракона», но уже через два года спектакль был изъят из репертуара. В 1967 году Олег Николаевич Ефремов говорил мне, что тоже хочет поставить «Дракона», «но не в юбилейном году». Да так и не поставил. Наконец, в 1977 году отважился поставить «Дракона» Р. Стуруа в Тбилисском академическом драматическом театре им. Ш. Руставели (художник Г. Месхишвили, композитор С. Барданашвили, хореограф Ю. Зарецкий).
В 1980 году «Дракон» объявился в кукольном варианте. У Сергея Образцова (премьера 25 октября) пьеса была чересчур адаптирована, вроде «Библии для детей», хотя шла на вечерних спектаклях, и потому была несколько примитивна. Через два месяца премьеру показал Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» в постановке Виктора Шраймана. Спектакль уральцы привозили в Ленинград. Играли куклы в человеческий рост и живые артисты. Один и тот же персонаж выступал в обеих ипостасях, а иногда они даже существовали на сцене одновременно. Спектакль был очень злой, и впервые мы увидели не оптимистический финал. Мне казалось, что это не по-шварцевски, но авторы спектакля убедили, что все это есть и у Шварца. Еще через несколько лет — в 1983-м — «Дракон» в Тбилиси стал мюзиклом (Грузинский театр музыкальной комедии им. В. Абашидзе; композитор Е. Адлер, постановка Г. Мелива). 13 декабря 1981 года показал премьеру «Дракона» московский Театр-студия на Юго-Западе (режиссер Валерий Белякович). А в 1982-м сыграла премьеру спектакля «Дракон — сказка 1943» ташкентская Экспериментальная студия театральной молодежи (режиссер Марк Вайль), где канонический текст «выправлен» самыми ранними вариантами Шварца. То есть более всего «Дракон» привлекал молодых композиторов и режиссеров.
И вот теперь, когда, горестным образом опоздав, всемирная слава все же явилась к нему, как бы она удивила, поразила и порадовала самого Шварца, замечательного сказочника, гениального, по оценке Н. П. Акимова, драматурга и человека!
А в последние годы, когда в нашем государстве отпали различные цензурные ограничения (но возникли новые препоны — денежные), его пьесы идут по всей стране, правда, меньше всего в Петербурге.
Вступил в литературу Евгений Львович Шварц по тем временам довольно поздно. Ему шел двадцать восьмой год, когда в тоненьком детском журнале «Воробей» появилась его сказка — «Рассказ старой балалайки»[5], рассказывающая о наводнении в Петербурге 1824 года и вскоре Ленинград пережил очередное наводнение, случающееся раз в 100 лет.
А до того он успел побывать в студентом юридического факультета Народного университета им. А. Л. Шанявского, потом Императорского московского университета, а еще позже — Варшавского, который в связи с империалистической войной был переведен в Ростов-на-Дону. Но курс наук так и не окончил. Пришлось ему послужить в царской армии в Первую мировую, где он наскоро закончил школу прапорщиков. Освобожденный революцией от армии, пришел в ростовскую Театральную Мастерскую, на сцене которой исполнил несколько интересных ролей: Священника в «Пире во время чумы» и Сальери в «Моцарте и Сальери» А. С. Пушкина, Пилата в «Иуде, принце Искариотском» А. Ремизова, рыбака Симона в «Гибели „Надежды“» Г. Гейрманса, Снорре в «Гондле» Н. Гумилева и некоторые другие.
Так Евгений Шварц стал артистом.
Но в 1921 году Мастерская переехала в Петроград и, не отыграв сезона, благополучно скончалась. Однако еще некоторое время Шварц выступал на сценах небольших театриков, которых в те годы было великое множество; потом грузил в порту уголь, торговал книгами, одно время был секретарем у К. И. Чуковского. И хотя тогда Шварцем еще не была написана ни одна строка, «он как-то сразу, с первых дней, стал своим во всех тех петроградских литературных кружках, где вертелся и я, — вспоминал Николай Чуковский. — И у серапионов, и в Доме искусств его признали своим, привыкли к нему так, словно были знакомы с ним сто лет»[6].
Писатели прекрасно чувствовали его великолепный дар рассказчика и советовали поскорее сесть за письменный стол. «Если у человека есть вкус, то этот вкус мешает писать, — объяснял он наиболее настойчивым. — Написал — и вдруг видишь, что очень плохо написал. Вот если вкуса нет, то гораздо легче — тогда все, что намарал, нравится. Есть же такие счастливцы!»[7].
Весной 1923 г. Шварц с Михаилом Слонимским, «серапионом», с которым подружился более других, поехали в Донбасс, где при соляном руднике служил врачом отец Евгения Львовича, — отдохнуть и подкормиться. Слонимский, уже «опытный» литератор, пошел в бахмутскую газету «Всероссийская кочегарка», и их со Шварцем пригласили поработать у них.
Шварц и сам не заметил, как стал писать. Вначале то была обычная обработка читательских писем. Вот где ему пригодился вкус. Некоторые сочетания стали складываться в стихотворные строки. И наконец до него дошло: ведь это же он пишет… Писать приходилось много и оперативно. Но особой популярностью у читателей пользовался субботний раешник Шварца «Полеты по Донбассу». А начиналось это так: «В прошлую субботу закончил я редакционную работу и пошел на чердак. Посмотрел — и прямо остолбенел. Сидит на полу домовой, довольно молодой, у отдушины, поближе к свету, и читает старую газету. Мы с ним разговорились и сразу подружились… Тут мне пришла идея. „Хотите, — говорю, — в газете служить, себя не жалея?“ — А он говорит: „Ну да“. А я говорю: „Тогда пойдемте сюда. Вы по воздуху летать можете? Если да — вы мне поможете“. — А он говорит: „Могу быстро и ловко, на это у меня особая сноровка“. — „Сколько времени нужно, чтобы полетать по всему Донбассу?“ — А он мне: —„Не более часу“»[8].
Так Евгений Шварц стал журналистом и редактором.
«Рассказ старой балалайки», как и некоторые другие его произведения для детей — «Два друга — Хомут и Подпруга», «Война Петрушки и Степки-Растрепки», тоже написан раешником. И начиная с 1925 года в издательствах «Радуга» и ГИЗ вышло более десятка книжек с картинками для самых маленьких. Среди них «Вороненок», «Шарики», «Рынок», «Зверобуч», «Кто быстрей?», «На морозе», «Петька-Петух деревенский пастух» и т. д.
Так Шварц стал детским писателем.
Но он мечтал о большой, «станковой» работе. И вскоре он ее напишет. Вероятно, потому, что в прошлом он был актером, ею стала трехактная пьеса о молодежи 20-х годов. «Вчера я эту пьесу закончил, а сегодня прочел с ужасом и отвращением, — запишет он 27 августа 1927 года в толстой тетради сразу после текста пьесы. — Еще недавно — как легко мне было мысленно закрутить любой тугой узел. Мозги слушались, волнение заражало, а теперь я в отчаянии, из суеты выкарабкивался на недолгие минуты к столу и писал, торопясь, не думая, что будет дальше… И вот моя неудача, моя бедная пьеса, о которой я столько мечтал…»[9].
Следующей своей пьесой Шварц был доволен и отдал ее в ТЮЗ. «Ундервуд» был поставлен А. Брянцевым и Б. Зоном в 1929 году. За «Ундервудом» последовали «Клад» и «Брат и сестра». Когда Борис Зон в 1935 году организует Новый ТЮЗ, эти спектакли он перенесет на сцену своего театра. Для Нового ТЮЗа Шварц напишет «Красную Шапочку» и «Снежную королеву». В 1932 году в журнале «Чиж» — «чрезвычайно интересном журнале» — начали печататься картинки А. Успенского «Приключения Петьки Доценко и гуся Барбоса» с анонимными подписями. И в том же году театр марионеток, которым руководил Евгений Деммени, поставил пьесу Шварца «Пустяки», главными персонажами которой стали Петька Доценко, гусь Барбос и прочие герои «Приключений». Постановка автору не понравилась. И, тем не менее, вскоре он напишет еще две кукольные пьесы — «Красная Шапочка и Серый волк» и «Кукольный город». В постановке Центрального театра кукол последняя пьеса получит название «Лесная тайна».
Так он станет детским драматургом и обретет свои театры.
К этому же времени относится и обращение Шварца к кинематографу. Он делал надписи к немому фильму Н. Лебедева «Настоящие охотники» (1930), с будущим режиссером В. Петровым написал сценарий «Товарный № 717», а с А. Михайловым — «Детство большевика». С Н. М. Олейниковым после успеха картины «Разбудите Леночку» (1933) с Яниной Жеймо в заглавной роли они задумали целый сериал о Леночке, но снят был еще лишь один фильм «Леночка и виноград». О сценарии последнего Сергей Юткевич говорил на одном из худсоветов Ленфильма: «Мое затруднение заключается в том, что, читая этот сценарий, читая его не один раз, я никак не мог освободиться от исключительно радостного ощущения от этой вещи, а поэтому не могу придираться к авторам так, как мне, как докладчику, полагается. Глубоко положительное отношение к данной вещи вызывается еще и тем обстоятельством, что ее рассматриваешь не только с точки зрения сценария детского жанра. Я считаю, что это один из лучших вообще сценариев фабрики… Западный опыт говорит, что комедийный сценарий, иллюстрирующий трюки, никогда не делается одним сценаристом или одним режиссером, а делается так называемой компанией выдумщиков, которые накапливают определенное количество смешных вещей. Этот сценарий резко отличается тем, что мы здесь имеем сценарий, придуманный двумя выдумщиками… Но в основном это не просто некоторое написание, чрезвычайное по ценности художественное произведение, очень смешное не только тем, что построено на литературных остротах и каламбурах, а смешными положениями, в которые они попадают, со смешными трюками и пластическими приемами кинематографии. Это делает данное произведение выдающимся совершенно сценарием и образцовым не только для детской кинематографии, но и вообще одним из чрезвычайно важных опытов в области создания советского комедийного жанра»[10].
Однако, к сожалению, режиссер А. Кудрявцева не совладала с материалом, или, как подметил А. Пиотровский на обсуждении картины, «главная беда Кудрявцевой в том, что она не охватывает картины в целом, что она запуталась в жанре, — это производное отсюда. О маленьких проходных вещах она говорит, а о существенном говорит мельком»[11]. Дальнейших «Леночек» не последовало. Шварц и Олейников написали еще для Ленфильма кинокомедию «На отдыхе», поставленную Э. Иогансоном в 1936 году.
Так Евгений Шварц стал сценаристом.
В ранних произведениях Шварца, рассказывающих о самых «реальных» событиях, критики, тем не менее, сразу почувствовали сказочный настрой. «Шварц — он сказочник. Сказочность есть в каждой его пьесе — и „Ундервуде“, и в „Кладе“, и в „Приключениях Гогенштауфена“», — замечала Алиса Марголина[12]. «С его творчеством связана борьба за современную театральную сказку, элементы которой он несомненно внес в детскую драматургию, — подводил некоторые итоги начала творческого пути Шварца Леонид Макарьев. — Современная тема в его пьесах всегда является поводом для построения острого действия, разворачивающегося в неожиданном сцеплении событий и образов. Его люди и их поступки так же правдоподобны, как и фантастичны». — И дальше, вновь: «Сознательно ли стремится Шварц к сказке или нет, но по существу он является для театра драматургом-сказочником»[13].
Сказка была большой любовью писателя, но и великой его болью, ибо долгие годы она была «так называемым запретным жанром» (из одного высказывания Шварца на бюро секции драматургии). А в 1934 году, уезжая на съезд писателей, он сказал корреспонденту «Красной газеты», что «съезд разрешит давно уже дискуссированный вопрос о фантастике, о приключенческом рассказе для ребенка, и надеюсь, что сказка, фантастический и приключенческий рассказ станут, наконец, полноценным жанром детской литературы».
И, быть может, потому вначале сказка робко еще вплеталась в ткань реального повествования его первых пьес — «Ундервуд», «Клад», сценариев о Леночке. Но уже «Приключения Гогенштауфена» он определил как «сказку в 3 действиях». А в совершенно «реальном» сценарии «Леночка и виноград» вдруг появлялся медведь, который не только понимал, но и сочувствовал героине, попавшей в беду.
Ребят за отличную учебу награждают поездкой на виноградник. Там они узнают, что кто-то постоянно ворует виноград. Повар — добряк, с открытой душой и простодушным лицом, — закармливает ребят вкусными вещами, водит купаться, учит их нырять. Делает все, чтобы те не заподозрили его в воровстве. Однажды он, чтобы не мешали его подпольной профессии, увел отряд в лес и бросил там. Леночка пошла искать дорогу.
«Вдруг слышится треск сучьев. Прямо на нее из-за деревьев выходит медведь. Останавливается. Подымается на дыбы, смотрит с интересом.
— Здравствуйте, — говорит Леночка. Зверь молчит. — Нечего пугать, я про вас довольно читала. Летом вы сытые.
Медведь наклоняет голову. Прислушивается, вопросительно рявкает.
— Очень тебя прошу, уйди! — говорит Леночка. — Я тебя хотя и изучила, а все-таки неприятно. Ты можешь лапищей своей корову убить. Довольно без тебя дел. Воры. Заблудились мы… Ну, пожалуйста, очень тебя прошу: пошел вон.
Удар грома. Оба — и медведь и Леночка взглядывают наверх.
— Сейчас дождь пойдет, — говорит Леночка. Медведь смотрит на небо. — Правду говорю.
Страшный удар грома. Молния. Ливень.
Леночка бросается под дерево. Медведь тоже. Сидят, прижавшись друг к другу, со страхом поглядывая вверх.
Молния. Леночка со страха закрывается лапой медведя. Медведь и вторую положил на нее. Леночка выглядывает, чтобы посмотреть, кончился ли дождь. Медведь машет на нее лапой, чтобы она спряталась…
Стало светлее. Дождь перестал. Со всех сторон послышалось: ау… Медведь отвечает на это „ау“ громким рявканьем на весь лес.
Медведь побежал, оглядываясь. За ним бежит Леночка. Она вопросительно смотрит на него. Медведь кивает головой, рявкает и убегает».
А Леночка обнаруживает, что она на дороге, которую ребята потеряли и на которую ее вывел медведь.
«Медведь все понимает и молчит, — говорил Шварц на заседании режиссерской секции Ленфильма, обсуждавшей сценарий. — Они встречаются лицом к лицу в лесу, их там застает гроза. Это ссылка на сказку. Это дает некоторую романтику. Все это — и пейзажи и песни — все это создает слегка сказочную обстановку. Эти события указывают на то, что здесь происходит не то, что мы можем встретить каждый день. А кроме того, сказочность в развитии событий легче увязывается с комедийной стороной картины»[14]. Этот эпизод в картину не вошел. То ли режиссеру не нужно было ничего сказочного, то ли Кудрявцева не сумела с ним справиться.
Сказочные мотивы, сказочное настроение, тональность даже в самых «реальных» проявлениях нужны были Шварцу, чтобы показать не ежедневность, исключительность происходящего. К тому же сказочность придавала занимательность повествованию, что он считал обязательным в писательстве. Особенно для детей.
В 1933 году Шварц напишет чисто сказочную пьесу «Принцесса и свинопас», в 1937-м — «Красную Шапочку», в следующем — «Снежную королеву» и сценарий «Доктора Айболита», и, наконец, в 1940-м театр Комедии ставит его «Тень». Если выделить пьесы «Принцесса и свинопас», «Приключения Гогенштауфена», «Наше гостеприимство» (еще не названная и не увидевшая света рампы) и «Тень», то, мне кажется, мы имеем право сказать, что так Шварц стал драматургом драматического театра.
А потом пришла война, самая кровопролитная война в истории человечества. В первые же дни Евгений Шварц пошел записываться в народное ополчение. Стоя перед столом военкома, который заполнял его карточку, руки он держал за спиной. Но следовало расписаться, а руки предательски дрожали от волнения еще сильнее, чем обычно. Он получил отказ.
Тогда он весь ушел в работу. Радио нужны были сатирические материалы на Гитлера и его клику, и он писал их чуть ли не ежедневно. Н. Акимов попросил его и М. Зощенко оперативно написать комедию, которая поднимала бы дух зрителей. И они написали «Под липами Берлина» чуть ли не в месяц. Написав первый акт, авторы тут же отдавали его в театр, который сразу приступал к репетициям. Сдав второй, тут же садились за правку первого. Не пропускали ни одной репетиции и многое меняли в пьесе тут же.
В дневнике Федора Никитина, бывшего новотюзянина, игравшего в пьесах Шварца, а в то время — актера Театра народного ополчения, есть интересная запись: «23 сентября 41 г. Писатель Евгений Шварц дежурит во время воздушных тревог на чердаке писательского дома на углу канала Грибоедова. Кто бы мог представить себе Ганса Христиана Андерсена на противопожарном посту МПВО?»[15] Но и на крыше, сбрасывая зажигалки, он оставался сказочником. Вокруг свистели снаряды, сыпались бомбы, вылетали стекла, рушились дома, а он слагал сказку о бомбе-созидательнице.
11 декабря Шварца, находящегося уже в критическом состоянии дистрофии, чуть ли не силой вывезли из осажденного города. Потом были физическая немощь и писательский подвиг. За годы войны им написаны «Одна ночь», пьеса о жизни блокадного Ленинграда; «Далекий край», пьеса и сценарий, которые рассказывали о ленинградских ребятах в эвакуации; кукольная пьеса «Сказка о храбром солдате», ставшая позже сценарием «Марья-искусница»; «Принцессу и свинопаса» он переделал в «Голого короля»; и написал самую великую свою пьесу — «Дракон». Но с «Драконом» была связана и самая трагическая история в жизни Евгения Львовича. Пьеса была названа «вредной сказкой» и запрещена для постановки. Бдительным чиновникам в Комитете по культуре в Драконе примерещился (невысказанно) отец и друг всех народов. А в новой постановке Акимова в 1960 году ленинградским чиновникам от культуры (опять-таки — невысказанно) в Бургомистре примерещился Хрущев, и пьеса вторично была изъята из репертуара театра.
Первые послевоенные годы так же были насыщены работой. Для Ленфильма и Янины Жеймо он написал сценарий «Золушка», а для Союздетфильма — «Первоклассницу». Но времена менялись мало. После того, как «Золушка» была с восторгом принята всеми инстанциями, через которые проходили все сценарии, случился доклад А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», и на очередном худсовете Ленфильма автора обвинили в «неуважении к сказке»[16]. И Шварцу было направлено письмо с 23 страницами требований переделок. А фильм был встречен на «ура». А вот от «Марьи-искусницы» потребуют великое количество переделок, и после девятого варианта был приостановлен подготовительный период уже запущенной в производство картины. За «мелкотемье» худсовет Ленфильма «зарубит» сценарий «Первый год», который Шварц писал опять-таки для Янины Жеймо. Через много лет этот сценарий станет пьесой «Повесть о молодых супругах».
А дальше — тишина. В конце 40-х и начале 50-х годов на сценах театров шла только «Снежная королева», а издательства печатали лишь повесть «Первоклассница», зато чуть ли не на всех языках народов СССР и стран народной демократии. Но в 1944 году «Снежную королеву» поставит Детский театр Манчестера, а в 1947-м берлинский театр им. Макса Рейнгардта покажет его «Тень». Так начнется шествие пьес Шварца по странам мира.
В этот период он лишь переписал свою кукольную пьесу «Сказка о потерянном времени» в повесть, а для кукольных театров сочинил «Новую сказку» («Волшебники»); написал пьесу «Иван Честной работник», но, неудовлетворенный ею, из первого действия создал другую пьесу — «Два клена». Вот, пожалуй, и всё.
Правда, с 1943 года в «Амбарных книгах» он стал вести дневник, который именно в то время заполнялся наиболее интенсивно. С 1950 года в этих же «Амбарных книгах» он начинает записывать свои воспоминания. Он помнил себя с двухлетнего возраста. А в 1955 году он затеял «Телефонную книжку» — воспоминания о людях, которые присутствовали в его телефонной книжке. И не только о ленинградцах, но и москвичах. «Взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и, за фамилией фамилию, как записаны, так о них и рассказать. Так и сделаю…» — записал он 19 января. И начал с Акимова[17]. С 1943 по 1957 год им написано автобиографической прозы, по моему подсчету, около 120 авторских листов.
И вновь — подъем. Последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, были насыщены писательством. Он завершил пьесы «Повесть о молодых супругах» и «Обыкновенное чудо», написал великолепный сценарий «Дон Кихот». Начал было работать над сценарием «Два друга». Будто предчувствуя скорую кончину, Шварц создал новые варианты лучших своих кукольных пьес, собирал сборник произведений для детей, но появятся они из печати уже после его кончины[18]. «Советский писатель» к 60-летию Евгения Шварца выпустил первый и единственный прижизненный его сборник. Но в него не вошли ни «Голый король», ни «Дракон»[19].
В 1966 году к 70-летию Шварца вышел сборник воспоминаний о нем — «Мы знали Евгения Шварца». Вероятно, он делался второпях, издательство «Искусство» хотело успеть к дате. Сужу об этом, во-первых, по тому, что большинство мемуаров о нем появилось в повременных изданиях в тот же год; а во-вторых, потом (или — одновременно), включенные в авторские сборники, они помечены 1965 и даже 1966 годами.
Кое-какие воспоминания или просто не поместились в издательский объем, или не показались интересными составителям — З. Никитиной и Л. Рахманову, или не были включены по личным их соображениям. Утверждать ни то, ни другое, ни третье не берусь. Теперь все это перепечатывается в данном сборнике (правда, по подобным личным же соображениям, я кое-что сюда не включил).
В те годы имена Николая Олейникова, Даниила Хармса, Александра Введенского, Юрия Владимирова и некоторых других еще не были на слуху у читателей, и мемуаристы с охотой первооткрывателей цитировали их тексты, иногда по памяти. Сейчас у этих писателей опубликовано всё сохранившееся, и читатели имеют возможность со всем этим познакомиться (или перечитать). И потому поначалу хотелось вырезать этот многоцитатник. Но, поразмыслив здраво, решил, что эти воспоминания о Шварце являются еще и документами того — середины 60-х годов — времени, и включаю их в сборник в первоначальном виде.
Но с тех пор многие другие, «знавшие Евгения Шварца», опубликовали воспоминания о нем в своих мемуарных книгах. Например, И. Г. Эренбург, Г. М. Козинцев, В. А. Каверин, Е. В. Юнгер, Э. П. Гарин, И. В. Шток, А. И. Райкин, Е. С. Калмановский и др. С ними этот сборник становится намного полнее.
Я разминулся с Евгением Львовичем. 27 декабря 1957 года вернулся из армии, а его не стало 15 января 1958 г. Я начал собирать материалы о его жизни и творчестве только в 1962-м, будучи студентом Театрального института. В поездке в Майкоп и Ростов-на-Дону со мной поделились своими воспоминаниями друзья его детства и юности. К тому же лет сорок назад я застал в здравии еще многих, знавших и любивших (человечески) Шварца, и, собирая сведения о его жизни, записал (не подробно, к сожалению) их воспоминания. Немногое из этого удалось опубликовать в сборнике «Житие сказочника: Евгений Шварц» (М.: Кн. палата, 1991). И поэтому всё собранное теперь вместе охватывает всю жизнь Евгения Львовича Шварца — от детства до последних дней его жизни.
Каждый пишет или рассказывает о своем Шварце. Некоторые пытаются дать оценку всего творчества писателя. Есть, действительно, малоинтересные воспоминания. Но в каждом находится мало- или вообще неизвестные эпизоды, и из этого разнообразия и складывается более или менее достоверный портрет писателя и человека. Некоторые неточности (оставляя их в тексте) я стараюсь уточнять в комментариях.
Сейчас уже многих из авторов этого сборника нет в живых, и я посвящаю книгу их памяти.
Наталия Григорьева Из книги «К биографии Е. Л. Шварца. Окружение детства и юности. Майкоп»
Майкоп… был очень своеобразным городом. Он отстоял на 100–120 км от железных дорог (во все стороны) и от морского транспорта (в г. Туапсе). Майкоп выполнял функции русской крепости во время Кавказской войны. Он расположен в плодороднейшей степной полосе, в предгорье Северного Кавказа. Климат в нем был благодатный. Все это привлекало людей, желавших найти удобное пристанище. Население Майкопа было самое пестрое. Здесь осели бывшие солдаты царской армии, происходившие из разных губерний России. Они получали земельные наделы, занимались ремеслами и т. д. Было много греков, армян, занимающихся табаководством, земледелием, скотоводством; немцы, эстонцы, евреи составляли значительную часть населения.
…К 90-м годам прошлого (XIX. — Е. Б.) столетия в Майкопе собралась чрезвычайно интересная интеллигенция. Майкоп, как далекая окраина, из которой трудно было куда-нибудь податься, стал местом высылки политически неблагонадежных. Многие из них были высокообразованными людьми. Майкоп привлекал также и людей, стремящихся по тем или иным причинам избегать столкновения с царской администрацией: всевозможные сектанты, богоискатели, подпольные революционеры, наблюдатели человеческой жизни, а кроме того и активные политические деятели подполья, для которых Майкоп был очень удобен благодаря близости Черного моря и возможности довольно легко переправляться на турецкий берег. Таким образом, в Майкопе собралось много интересных людей самого разнообразного профиля. Было много образованных музыкантов, певцов, исследователей и любителей природы. И все они, в конце концов, в этом маленьком городке были знакомы друг с другом и составляли значительную интересную прослойку населения.
…Соловьев Василий Федорович (мой отец) (1) еще со студенческих лет в петербургском Университете был очень законспирированным народовольцем. Он был другом Александра Ульянова, и накануне ареста Александр Ульянов всю ночь пробыл на квартире моего отца. Александр передавал отцу те организационные и другие связи, материалы, документы, а также шифры, которые отец немедленно должен был вывезти из Петербурга и сохранить. Утром рано они разошлись, каждый в свою сторону. Отец с корзиночкой уехал в Харьков. Он уже был в это время кандидатом естественных наук, но в Харькове поступил на 1 курс медицинского факультета, блестяще окончил его, получил заграничную командировку, но не использовал ее, потому что по его партийной работе ему было предложено поехать на соляные рудники французской компании в Бахмуте, что он и сделал…
В 1893 В. Ф. Соловьев со всей семьей приехал в Майкоп и прожил тут около 70 лет. <…> На протяжении всех лет жизни в Майкопе (2) Василий Федорович продолжал революционную работу, но о сути этой революционной работы никто не знал, кроме меня и старшего брата (3). Мать (4) не была в нее посвящена никак. Мы прятали какие-то бумаги, провожали каких-то людей на сеновал, откуда они потом утром куда-то скрывались, что-то кому-то передавали, а что это — никто не знал. Властями В. Ф. считался «красным», но до поры до времени его не трогали.
…В. Ф. был также активным общественным деятелем, специально вошел в Майкопскую городскую управу в качестве ее члена, добился больших ассигнований на строительство настоящей городской больницы, основные здания которой функционируют до сих пор. Сделавшись главным врачом этой больницы, В. Ф. подобрал также врачей редких по своей профессиональной квалификации, а также сумел добиться великолепного по тем временам обслуживания, хирургического, терапевтического и акушерско-гинекологического отделений. Вообще майкопская городская больница в то время и по своей организации, и, главным образом, по составу своих кадров представляла собой не совсем обычное явление. Собрались здесь на редкость одаренные и своеобразные люди, о каждом из которых можно было бы написать интересную биографию.
В. Ф. был одним из создателей и организаторов майкопского драматического кружка, который постепенно превратился в драматическую труппу с очень хорошими традициями. В. Ф. в течение многих лет был на общественных началах бессменным режиссером этой труппы. Они ставили классические вещи — Островского, Пушкина и т. д. Сборы были очень приличные, и в конце концов существующий ныне Пушкинский дом — театр был построен на общественные средства. К нему была пристроена городская библиотека (5)…
[Шварцы приехали в Майкоп, когда Жене было три года… Он пришел к нам в большой шляпе и в кудрях. Я обозвала его девчонкой, и мы подрались. Я была девчонкой-разбойницей и побила его, к сожалению (6). Потом мы подружились. Женя мне и дал впервые Марка Твена. <…> У Льва Борисовича (7) был прекрасный тенор. Его отец давал детям прекрасное образование, не только профессиональное, но и художественное. Учились у хороших мастеров — частным образом. Л. Б. хорошо играл на скрипке. У него немного дрожали руки, но как только он брал в руки скрипку, все было в порядке. Был он одарен и как драматический артист трагического плана, выступал в ролях первых любовников. Играл Князя в «Русалке». Мария Федоровна (8) тоже была прекрасной актрисой. Она исполняла характерные роли, злодеек][20].
… Примерно с 1908-09 года между нами, девочками, и Женей Шварцем, Юрой Соколовым и Сережей Соколовым (9) начали складываться и сложились совершенно особые отношения. Они сохранились на всю жизнь. Мы никогда не говорили о них, но это были отношения какой-то сдержанной нежности, уважения и доверия. Каждый был нужен друг другу, каждому нужны были мы все вместе, и всем нужен был каждый из нашей маленькой компании. Поэтому никто из нас не видел ничего особенного в том, что когда осенью 1916 года я приехала в Петроград для того, чтобы демобилизоваться и отправиться ухаживать за больным дедом Андреем (10), Юра Соколов, зная, что у меня очень мало времени (он тогда еще не был призван в армию), пришел ко мне на квартиру, зная, где ключ от двери, вошел ко мне в комнату, сложил мне белье, платья, книги, принес закупленную еду, тоже очень красиво уложил и отвез меня на вокзал.
Никому из нас не показалось странным ни обращение, ни тон, ни содержание открытки, присланной в 1918 году Юрой Соколовым на мое имя из Крыма. Я дословно помню ее содержание: «Дорогие девочки, потерпите немного, я скоро буду с вами». Это было последнее известие от Юры. В 1919 году, работая во втором Кауфмановском госпитале в Нахичевани (Ростовской), я от одного офицера, тоже петроградского студента, сначала мобилизованного в царскую армию, а потом в армию белых, узнала, что Юра вместе с другими офицерами был утоплен в Крыму взбунтовавшимися солдатами, пришедшими на переформирование воинских частей, и среди этих солдат было очень много уголовников.
В этой нашей, пока еще очень счастливой и веселой группе нас всех объединяло пока еще неосознанное по-настоящему понимание истинной человеческой сущности Женьки. Это был удивительно веселый, общительный, проказливый мальчик, выдумщик на всякие интересные дела, великий имитатор любого голоса, особенно собак, потешавший нас до слез. Но вместе с тем, мы видели в нем большого несмышленыша в быту, и как-то все вместе, не сговариваясь, взяли на себя охранительные функции.
Мать завела такой порядок в нашем доме. Когда приходили отец и сын Шварцы, нам вменялось в обязанность осмотреть и починить их верхнюю одежду, пришить пуговицы, зашить карманы и т. д. (11) Женька так быстро привык к этому, что приходил к нам за этим. Чаще всего этим занималась Лёля, причем она Женю содержала в строгости, ругала за грязные руки, уши, заставляла мыть голову и т. д. Он все делал безропотно, он побаивался Лёлю (12).
У нас был большой сад, мальчики паслись там. Под громадным тутовым деревом стоял стол, и за ним готовились уроки. Правда, занятиями их можно было назвать только условно.
В горы начинали ходить очень рано. Мне было лет 8–9. Поначалу на один день, с отцом, с нянькой. И Женя ходил с нами. Как только свободный день, мы уходим. Моя мать пекла штук 200 пирожков — с вишнями, с мясом, с капустой. Пирожки с вишнями из «Дракона» помните? Это любимые пирожки Жени. Их часто пекла мама.
Потом ходили в большие походы — до двух недель. Это когда нам было по 14–15. Заранее сообщали родителям, потому что надо было купить ведра, продукты. Потом нам нужны были чувяки — несколько пар. Девочкам шили шаровары. Шли обычно через станицу Тульскую, через Абадзехскую, на знаменитые Каменномостские каньоны. Белая прорубала узкие узкие каньоны — через них можно было перепрыгнуть, а вниз — метров 20. По Белой шли вверх, на альпийские луга. Обычно шли через перевал Айшхо или Белореченский (чаще всего) и шли на Красные Поляны (это уже на другой стороне перевала).
Лазили на всякие ледники. Однажды нас трое суток держал снежный буран. У нас была палатка, и мальчики держали палки, на которые она крепилась. Это было под Фишту. Горячей пищи не было, но мы не унывали, веселились. В походах собирали малину, ягоды, ловили форель. Поселений по дороге не было. Спали на камнях. Это нас не очень беспокоило. Но когда попадали на поляны — это было блаженством.
Женя был большой затейник. Мы устраивали спектакли. С ним было всегда весело. Представления давали у нас в саду. Женька писал пьески. Увлекались «Тысячью и одной ночью», разыгрывали оттуда сцены. Женя играл какого-то старика. Вообще, он умел перевоплощаться самыми простыми средствами.
В 1913 году Лёля не захотела кончать 8-й класс гимназии, а попросила разрешения поехать вместе со мной в Петербург поступать вольнослушательницей на Бестужевские курсы и подготовиться к экзаменам на аттестат зрелости: по литературе, латыни и математике…
В 1913–1914 годах Женя учился в Москве, кажется, в университете Шанявского на юридическом факультете. Мы переписывались, но писем не берегли. Когда мы собрались на зимние вакации, мы купили заранее билеты и известили Женьку, чтобы он нас встретил. Был конец декабря, было очень холодно. Лёля, зная неряшество Женьки, купила ему шарф и перчатки, что оказалось весьма своевременно. Действительно, у Жени все было потеряно, и он, ожидая нас на вокзале, имел самый несчастный вид. Лёля затащила его к нам в купе, сняла с него пальто, надела под пальто свой пуховой платок, завязала на спине узлом, потом одела шарф, дала перчатки и приказала ему привезти платок в Майкоп, что Женька потом и сделал. Сообща мы выделили Женьке вкусные вещи из нашего пайка. Он был очень доволен, как всегда без денег, их терял. Весной мы все опять встретились в Майкопе, ходили в горы, причем Лёля всегда очень сердилась на Женьку за его легкомыслие, бесконечные путешествия по гостям. Он перед ней оправдывался, как перед старшей. В это время у него начался роман с Милочкой Крачковской (13). Она была очень хороша собой и влюблена сама в себя. В горах она беспокоилась главным образом, чтобы не загореть. Над ней все подтрунивали, один только Женька млел.
14 июля 1914 года началась Первая мировая война (14). Мы с Лёлей поехали в Петербург несколько раньше и сразу же пошли в общину сестер милосердия имени генерала фон Кауфмана. Мы хотели работать для войны и сделаться сестрами милосердия (15)… <…>
По первой мобилизации, в августе месяце, Василий Федорович был взят на войну врачом. Сначала его послали в Дагестан — в г. Петровск (Махач-Кала), в дружину. <…> В конце 1914 г. В. Ф. перевели дальше в Закавказье, и там он заведовал дивизионным войсковым лазаретом в местечке Казылман, на правом берегу Аракса.
…В конце декабря я получила назначение в действующую армию в г. Белосток в 41-й полевой госпиталь. Меня провожали Лёля и наши мальчики. Весь 1915 год я провела в этом госпитале, а потом во время отступления русской армии госпиталь долго мотался по самым удивительным местам, пока мы не застряли, наконец, в городе Смоленске. За это время я совершенно потеряла связь с Майкопом, т. к. почта работала очень плохо, моих писем не получали, а я не получала почты из Майкопа. Конечно, там были страшно перепуганы: пропала Наташа. В конце августа 1915 г. я получила разрешение поехать в Майкоп к родным. Ехать пришлось преимущественно в вагонах 3 класса, часто местных, и приехала я в Майкоп невероятно грязная и, выходя на вокзал, вдруг услышала голос: «Господи, да это Наташа Соловьева». И ко мне подбежал наш друг, владелец самой большой аптеки в Майкопе Александр Исидорович Альтшуллер (дядя Розы Люксембург): «Все в ужасе. Куда ты пропала, Наташа? Садись, я отвезу тебя домой». Он посадил меня в фаэтон, а я ужасно мучалась от того, что я такая грязная… Поэтому я молчала.
Дома все высыпали мне навстречу. Позже всех прибежала Лёля. И вот тут я впервые увидела, как человек может побледнеть, действительно, как снег. Она уцепилась за мое плечо и в течение минуты-двух не могла произнести ни слова. А потом разрыдалась и ничего не говорила. Потом все радовались. Прибежал Женька, стали мне рассказывать, как они ходили в горы, десять человек, и Женя прозвал их неробким десятком (16). Всем было очень весело, и никто не помнил о войне, хотя Василий Федорович был на фронте, был ранен и дошел до Трапезунда (17).
Женька на вид был беззаботен и выдумывал массу всяких удивительных, часто нелепых, но забавных рассказов, изображал стариков и даже женщин. А потом все разъехались. Лёля уехала в Петроград, я к себе в госпиталь, Женька — в Москву, Юра — в Петроград.
Весной 1916 г. Лёля решила оставить Бестужевские курсы и поступить на медицинский факультет, на высшие женские курсы профессора Изачека в Москве, против зоопарка. Там она пробыла до июня 1917 г. и вернулась в Майкоп. На лето к нам опять приехал Женька (18). В горы уже не ходили, но зато ездили в станицу Николаевскую к Константину Демьяновичу Косякину (19) и веселились в полную меру. Все политические события, как братание солдат, пожимание рук Керенским, нами воспринималось как что-то идущее мимо нас. Единственная реальность, напоминавшая о войне, это ранение в голову В. Ф. Соловьева, правда, счастливое для него, т. к. пуля была на вылете, она не пробила черепа, но у него было сотрясение мозга. Осенью, когда настала пора ехать для продолжения образования в Москву, оказалось, что все пути отрезаны, и мы остались в Майкопе. А Женька уехал к своим в Краснодар, куда они всей семьей переехали в 1915 году.
В конце 1918 года как будто бы положение на юге России стабилизировалось. Белая армия пришла на Кубань и в Ростов. Решено было отправить нас в Ростов для продолжения образования. Владимир Иванович Скороходов (20) отвез на своей мажаре (21) в Краснодар, ближайший в то время железнодорожный пункт. Мы остановились у Шварцев, и от них узнали, что Женя и Тоня Шварцы (22) уже в Ростове, поступили в университет и очень довольны. В Ростове мы поселились в одной квартире вчетвером (23). И сами себе готовили еду. Женя, конечно, немедленно явился к нам. Его принимали, и началось все то же, что было до сих пор. Женька приходил к нам, его обмывали, чинили одежду, кормили и даже кололи мышьяком, когда у него оказался плохой аппетит. Учился Женька мало, потому что он увлекался светской жизнью и театральной мастерской, новым, очень интересным экспериментом, во главе которого стоял Вейсбрем, известный впоследствии как режиссер и организатор театра (24).
Артист Женька оказался первоклассный, очень серьезный, с целым рядом гениальных находок. В зале Вейсбремов устраивались художественные чтения, и Тоня Шварц впервые познакомил нас с Буниным. Он великолепно читал «Наелась девочка дурману», куски из «Господина из Сан-Франциско». Но успехи Тони меркли перед Женькиными знаменитыми выступлениями «Суд присяжных», в которых Женька, великолепно подражая лаю, изображал речь прокурора, защитника, подсудимого и т. д. В клубы, где выступал Женька с такими номерами, нельзя было пробиться. И он таким образом подрабатывал неплохо. Впоследствии он очень любил вспоминать «грехи молодости», и ни разу не повторил перед нами этих номеров.
В Ростове Женька влюбился в свою будущую жену, армяночку Ганю (25), которую в Ростове сгоряча наделили гениальными драматическими способностями, которых на самом деле у нее не было. Это была весьма посредственная, самовлюбленная и не очень умная девочка, действительно вообразившая себя после этих похвал, что она великая актриса, чуть ли не Ермолова. Это дорого обошлось Женьке. Его всегда горячо жалела мать Гани за то, что он женился на ее дочери. <…> Ганя играла Мэри в «Пире во время чумы» Пушкина, поставленном в мастерской Вейсбрема. Честно говоря, Мэри меня там никак не тронула, а Лёлю просто возмутила. То ли потому, что Лёля очень любила Женьку и хотела ему лучшей подруги жизни, то ли потому, что была очень проницательна и углядела в Гане то мещанство, ту ограниченность, которую мы просмотрели. Но она во многом оказалась права и совершенно не хотела признавать Ганю.
Весной 1919 года Лёля и Варя были мобилизованы белой армией как медички. Я пошла во 2-й Кауфмановский госпиталь в Нахичевани, а Женя и Тоня Шварцы уехали на лето в Краснодар. Варюша очень скоро ушла из своего медицинского отряда и уехала в Майкоп. <…>
Примерно в 1922-23 годах к нам в Майкоп пришел один человек, бывший санитар в том медицинском отряде, в котором работала Лёля, и рассказал, что Лёля бросилась спасать раненых на мосту через Днепр в Киеве и была расстреляна из пулемета. Этот человек принес ее в больницу и семь дней не отходил от нее, пока она не умерла. Он сказал маме: «Живая душа была. Так у меня на руках и скончалась. Все помню, потому и пришел к вам».
1967
Александр Агарков Воспоминания о соученике и друге Евгении Шварце
Много лет прошло с того времени, когда жизнь столкнула меня с Женей Шварцем. Конечно, многое я забыл, но и многое навечно врезалось в мою память. Вот это я и постараюсь сейчас выявить.
Не надо ожидать от меня систематического идейного очерка — я намерен просто записать все, что удастся вспомнить: окружающую нас обстановку, людей, нашу жизнь, ученье, шалости и проказы, горести и радости, и если из этой смеси кому-либо посчастливится выудить что-либо значительное, важное, интересное для понимания образа Жени, то этот мой труд станет каким-то вкладом в воспоминания о годах юности писателя Евгения Львовича Шварца — Жени Шварца — моего соученика и незабываемого друга моей юности.
В 1910 году мой отец Иосиф Эрастович Агарков был переведен из Дагестана в Майкоп начальником Шоссейной дистанции. Я должен был перейти из Темир-Хан-Шуринского (1) реального училища в Майкопское, куда с началом учебного года вступил в 5-й класс.
В классе новичка встретили не весьма приветливо. Мне говорили колкости, пытались поддразнивать. (Я, впрочем, в долгу не оставался и давал понять, что лучше меня не трогать, — я хорошо знал джиу-джитцу). Но в классе оказалось несколько учеников, которые демонстративно выказывали мне доброжелательство (Жора Истаматов, Женя Гурский, Ваня Морозов и Женя Шварц), и однажды Женя Шварц стукнул кулаком по парте и выдал маленькую обвинительную речь о хамстве. Его поддержали Ваня Морозов и Женя Гурский, и неприязнь ко мне исчезла, меня фактически «приняли в общество». С этого момента мы с Женей Шварцем стали сперва приятелями, а скоро и большими друзьями.
Наша семья жила на краю города в большом ведомства путей сообщения доме на крутом берегу реки Белой. Этот дом полагался моему отцу как квартира. Он был окружен громадным садом — место было приветливое и немного романтичное. Отец любил молодежь и всегда приветливо встречал навещавших меня товарищей (а их бывало на мой день рождения до 40 человек — половина моих друзей и половина гимназисток, подруг сестры). Были у нас и особенно привлекательные обстоятельства, кроме природы, реки, казенной лодки, купанья и велосипеда; папа устраивал для нас соревнования в стрельбе из револьвера, прогулки за город (стоило только перейти мост через р. Белую), а зимой катанье на коньках или веселые игры. Одним словом, Женя, появившийся у нас однажды, зачастил и получил у своих родителей право когда угодно оставаться у нас с ночевкой, и мы с ним прекрасно проводили время (я имел свою большую комнату).
Нужно сказать, что уроков дома мы почти не учили, т. к. оба чрезвычайно внимательно слушали в классе, что облегчало скуку вынужденного сидения в классе и позволяло не учить уроки дома. Оба мы учились хорошо, с похвальными листами. Я налегал на математику, физику и естествознание. Женя отдавал преимущество литературе и истории. Во время уроков мы в классе не шалили, за исключением французского языка и Закона Божьего, т. к. «француз» (швейцарец) едва говорил по-русски, а кроткий законоучитель не умел вообще поддерживать дисциплину в классе.
Вот, кстати, один из Жениных «нумеров». «Француз», Яков Яковлевич Фрей, пишет на доске перевод на русский язык. Он нервничает, т. к. только что, войдя в класс, стирал с доски большую, нарисованную цветными мелками сову, рисовавшуюся там всегда перед его уроком. Я. Я. попробовал перевернуть доску на оборотную сторону, но и там была сова. Он волнуется, спешит и пишет «царь александр» со строчной буквы. В одно мгновение Женя импровизирует в голове сценку и при помощи товарищей всего класса распространяет свою идею. Как один человек, класс по сигналу Жени встает и, стоя «смирно», исполняет государственный гимн. Француз в недоумении таращит глаза и пытается понять, в чем дело? Ответ ясен: «Вы оскорбили царя, написав его имя с маленькой буквы на доске на глазах всего класса! Мы должны немедленно доложить инспектору — ведь за это полагается каторга!» Мы начинаем выходить, француз со слезами на глазах бежит вслед и уверяет, что это ошибка… В конечном счете, мы возвращаемся в класс с предупреждением на будущее время, а бедный «француз» боялся даже пожаловаться или рассказать о случае в учительской. Все же классный наставник как-то узнал (фискалы, как большая редкость, все же случались), и нам здорово попало. В дальнейшем мы «француза» не обижали, но «совчиков» упорно продолжали рисовать на доске… Подобные импровизации Женя устраивал с успехом, и сам любил в них участвовать.
Женя любил театр. Всякий. Однажды в Майкоп привез Оперу наш старый знакомый по Тифлису антрепренер Костаньян. С Оперой была наша родственница, певица (меццо-сопрано) Верочка Адина. Но администрация училища разрешила ученикам посещать представления только в субботу и воскресенье, а гастролей предполагалось только десяток… Об этом нашем ученическом горе Верочке сказал папа, и она предложила ему пускать нас с Женей за кулисы. Мы стали исправно посещать почти ежедневно представления, нарядившись в старые штатские пальто (чтобы неугомонный классный надзиратель Иуда Иудович нас не узрел около театра).
Мы проскальзывали за кулисы, где Женя говорил Верочке под ее смех неуклюжие комплименты в благодарность, а из Оперы шли спать, конечно, к нам, где, лежа в постелях, долго переживали измену Родамеса или несчастья Дон-Хосе.
На наших училищных вечеринках Женя всегда и с большим успехом выступал с мелодекламацией — его готовил Клемпер, он же и аккомпанировал. Женя, выступая, совершенно менялся — и фигура, осанка и голос становились другими. Выступал он талантливо, я до сих пор помню свои впечатления от этих выступлений его, даже отдельные слова и фразу, и интонации.
Женя много читал, но не любил обсуждать прочитанное — вот только всегда выкладывал все новое, исходящее от Аркадия Аверченко.
Увлекался Женя на больших переменах футболом. Он был недурным форвардом, я — голкипером, но вообще к спорту был равнодушен. Ни гимнастика, ни бокс, ни джиу-джитсу его не привлекали. Но физически ленив он не был. Мы с ним устраивали на лодке исследования реки Белой, поднимались вверх по ней, что было нелегко! Река была частично узковата и мелка, быстрая с большим количеством больших камней по фарватеру, и подниматься приходилось больше на шестах, а при возвращении то и дело прыгать в воду и снимать лодку с мели.
Водохранилище мельницы Грузда возле нашего дома Женя переплывал все же удовлетворительно, несколько отставая от меня — недурного пловца…
Исследовали мы часто и лес, и однажды, заметив торчавшую из тропинки кость, смотались к нам домой за инструментом и занялись раскопками. Нам удалось вырыть много костей какого-то крупного доисторического животного. И мой папа, поговорив с нашим естественником Кавторадзе, отправил их в Кавказский музей в Тифлисе от нашего имени.
В том же лесу мы однажды поссорились. Это было всего раз за нашу дружбу. Оба сели под деревьями довольно далеко друг от друга (по некоторой надобности). По примеру Жени, я решил провести инсценировку и неожиданно заорал диким голосом: «Женька! Волк!» (а волки там не были редкостью) и быстро полез на дерево. Женя, не приведя себя в порядок, тоже бросился на дерево, а разобрав, что я его разыграл, очень рассердился… До прихода к нам домой мы помирились, причем Женя поставил условием, чтобы я съел живого, средних размеров дождевого червяка и записался бы к нему в «тайный литературный кружок».
В этом кружке не было, по-моему, ничего «тайного». Женя устроил его в своей комнате под влиянием симпатичного семейства доктора В. Ф. Соловьева, имевшего дом напротив квартиры Шварца, где бывал с Женей и я. Этот дом слыл «красным», там часто бывал и Лев Борисович Шварц, бывший в очень хороших отношениях с В. Ф. Соловьевым, обаятельным человеком и известным врачом.
В свой кружок Женя привлек 5–6 реалистов, и мы, собираясь в Жениной комнате 1–2 раза в неделю, читали сообща немногих вольнодумных, но не весьма «опасных» авторов (вроде Гаршина). Указывал материалы отец Жени.
И Соловьев, и Шварц работали в Городской больнице, находившейся недалеко от нашего дома, и мы с Женей частенько заскакивали туда, чтобы Женя мог передать что-либо своему папе. Л. Б. Шварц иногда, забирая с собой нас с Женей, ходил «за Белую» в компании 2–3 фельдшериц. Там они пели студенческие песни и о чем-то таинственно переговаривались, мало обращая внимания на нас. После мы с Женей сообразили, что мы им нужны как маскировка для «красных» разговоров и в отношении Жениной мамы, Марии Федоровны (несколько ревнивой!). Мы с Женей знали, что многие фельдшерицы горбольницы, как и В. Ф. Соловьев и Л. Б. Шварц, были «красными».
Во время одного из посещений больницы Жене в голову пришла идея поспорить со мной, что я не смогу поцеловать в морге мертвеца. Я принял пари с условием, что Женя сделает то же два раза. В морг мы проникли легко, но были тут же замечены санитаркой, которая нас захватила и немедленно отвела к Жениному отцу. Суд был скорый и безапелляционный: оба героя будут стоять у двери в операционную и смотреть. Мы скисли скоро, побледнели, вспотели, и Женя экстренно выскочил в коридор, где его вырвало. Меня отпустили в жалком состоянии, хотя я, в сущности, ничего не видел, только навсегда запомнил разговор: «Надкостницу отделили!» — «Так это же не я ее отделила!»
На наших училищных вечеринках Женя с увлечением танцевал со своей «симпатией» — Милочкой Крачковской, скромной, тихонькой и худой девочкой, которой был верен, на моей памяти, три года — до окончания курса. Они часто гуляли вдвоем в городском парке, о чем-то тихо, но увлеченно разговаривая. Милочка была очень чистенькая и аккуратненькая пай-девочка, а Женя несколько небрежен в костюме под Чайльд-Гарольда.
В жизни класса Женя всегда был горячим участником и «патриотом».
Однажды мы что-то сильно и не очень красиво «нашалили». Классный наставник Б. И. Клемпер, обыкновенно выдержанный и пахнущий хорошими духами, с белоснежным платком в руке, добиваясь узнать виновника, вышел из себя и сказал, что мы укрыватели и подлецы. Женя страшно обиделся за класс, вскочил и закричал: «Ну! Я это сделал» (мы-то отлично знали, что не он). Тотчас же вскочил скромный Ваня Морозов и заявил: «Со мной вместе!» Оба они были любимцами Клемпера, и оба были неспособны сделать такую пакость. Клемпер сначала совсем взбесился и даже затопал ногами, но вдруг внезапно рассмеялся, сказал: «Ну, Дон-Кихоты» и вышел из класса. А Женя экстренно надавал тумаков виновнику (вообще у нас в классе не дрались).
Преподаватели в нашем реальном были вообще хорошие, с хорошим, положительным влиянием на нас. И наш классный наставник Клемпер, и несчастный горбатый, но умный и доброжелательный историк Владимир Васильевич Попов, и естественник Иван Павлович Кавторадзе. Но главным нашим воспитателем с величайшим авторитетом был врожденный, гениальный, скажу я, педагог — наш директор — Василий Соломонович Истаматов. Он знал реалистов от мала до велика, знал кто чего стоит, подходов ни к кому не искал, его авторитет был непререкаем. Он никогда не сердился, не повышал голоса, но никому и в голову не приходило, что у него можно не выучить урока или нарушить порядок. Истаматов так преподавал математику, что его предмет знали все отлично или хорошо, и лишь 2–3 на все училище имели только тройки. На классных работах он не следил за классом — все знали, и никому не нужно было списывать. Почему же он застрял в Майкопе? Что мешало ему продвинуться выше? Однажды приехал ревизовать Училище сам попечитель Кавказского учебного округа Лапотинский (дальний родственник нашей семьи). Он счел за благо остановиться не в гостинице, а у нас. Вот тут-то я и услышал краешком уха его разговор с отцом: он лично приехал в Майкоп, чтобы обелить своего любимца Истаматова, который подозревался в неблагонадежности.
Между прочим, когда Клемпер узнал от всеведующего Иуды Иудовича о том, что попечитель остановился у нас, он стал доброжелательней ко мне, и мои тройки по немецкому обратились в четверки. Это совершенно не соответствовало всему его облику, и мы с Женей между собой его осудили. Другие из наших воспитателей — это Я. Я. Фрей — «француз», о котором я уже писал, физик Викентий Викентьевич Яцкевич, о котором ничего не скажешь, художник Вышемирский — остроумный и вежливый поляк и, наконец, инспектор классов, желчный, мрачный и неприветливый словесник Харламов, которого я не считаю положительным явлением в нашей ученической жизни.
Появилась мода: крошечные гербы на фуражках. Инспектор велел их снять. Послушались все, кроме меня и Жени (хотя мы отнюдь не были модниками), и Харламов, встретив нас на улице по обыкновению вместе, прочитал нам нотацию и велел заменить гербы на другие, побольше. Женя (сама кротость, к моему удивлению) — «А какой величины?» — «Разве вам не понятно? Большие». По идее Жени мы заказали в мастерской громадные гербы — «от уха до уха», и через недельку нарочно попали на улице на глаза инспектору, который чуть не задохнулся от злости.
На другой день в училище были приглашены наши отцы (мой был, кстати, председателем родительского комитета), а после наших объяснений Истаматов забрал обоих нас к себе в кабинет и основательно отчитал, объяснив, что дело не в формальностях, а в сущности, взяв обещание не сердить больше инспектора. Мы его дали и исполнили.
По окончании 7-го дополнительного класса нашего реального училища жизнь разделила нас с Женей. Я поступил учиться в Ленинградский (С.-Петербургский) институт инженеров путей сообщения, а Женя в какой-то университет, и встретились мы в чужом нам городе уже после революции совершенно случайно, и, конечно, оба были очень рады. Мне даже удалось оказать ему какую-то небольшую помощь.
Моя память исчерпана! Женя навсегда остался в моем сознании как дорогой, бескорыстный, всегда меня понимавший друг!
1977. Майкоп
Алексей Соколов Про Женю Шварца и Юру Соколова
<…>
Теперь о самом Жене. Если бы с 1915 года я потерял всякую связь с Женей и не знал бы, что из него получилось, я не подумал бы, что из него получится писатель совершенно оригинальный, никого не повторяющий, много сохранивший из своего детства. Мальчиком он был слегка жирноватый. Турник и параллельные брусья были ему недоступны. <…> В рисовании ничем не выделялся. Был обыкновенным учеником. Его сильно тянуло к людям. Он был застенчив. Очень любил шутку, остроту. Всегда, когда он появлялся, он вносил большое оживление. Он бывал часто у Соловьевых, у Истаматовых, у Соколовых. Агарков говорит, что он бывал и у Гурских, у них и еще у кого-то.
Теперь о Юре, о котором много пишет в своем дневнике Женя. Имя Юры — Георгий. Еще в дошкольном возрасте Юра рисовал портреты своих близких с полным сходством. На свои необыкновенные способности к рисованию он смотрел как на нечто само собою разумеющееся. Когда он готовил уроки, то постоянно отвлекался, и на бумаге появлялись всевозможные картинки, образы. Я был младше его на 2 ½ года. Когда я заставал его за этим занятием, я иногда давал ему заказы. (Мы оба еще тогда были мальчишками.) «Нарисуй стерву. Нарисуй паскуду». Появлялось и то и другое. Такие заказы повторялись. Ведьма и прочие были уже иными. За время учения в реальном училище он быстро подвигался в рисовании, и в последних классах, когда он выходил с Юлианом Казимировичем, нашим преподавателем рисования, за Белую, где они писали пейзажи масляными красками, получалось, что Юрина работа была заметно лучше.
Техника рисования ему давалась как-то сама собой. Ему было лет 15 или 16 тогда. Однажды он начал проводить карандашом вертикальные линии на листе бумаги. Приблизительно менее миллиметра одна от другой. В нужных местах он делал утолщения на линиях, и получился портрет женщины без малейшего изъяна. Насколько я помню, приблизительно в году 1914 он зимой изваял из плотной снежной массы Бетховена. Инструментом служила деревянная щепочка. Делал по памяти. В то же приблизительно время он сделал карандашный рисунок улитки, которая с большой скоростью мчалась по дороге. Видно было, как ей на повороте приходилось наклоняться, как это делали мотоциклисты на вираже. Все это он делал мимоходом, шутя. По-настоящему серьезно он начал относиться к рисованию, когда, будучи студентом естественно-исторического факультета Петербургского университета, поступил в «школу живописи поощрения художеств». Вскоре появилось решение, не знаю чье, перевести его без экзаменов в Академию художеств. Последний раз я его видел, когда мы ехали из Майкопа. Это было в 1915 г. Он ехал в Петроград, а я в Новочеркасск на первый курс Политехнического института. Мы попрощались в Ростове. <…> Последняя открытка от него в Анапу была в феврале 1918 г. из Мариуполя.
Очень большим удовольствием для нас, подростков, были экскурсии в горы по маршруту Майкоп, ст. Тульская, Абадзехская, Даховская, Хамышки и дальше в горы с рюкзаками за спиной.
Основное ядро составляли девочки Соловьевы, их друзья и подруги. Из Соколовых большей частью Юра и я, Женя, если мне не изменяет память, стал принимать участие не сразу. Последняя наша экскурсия была в 1915 году. Нас было десять человек, и мы называли себя, по правде говоря без всякого основания, «неробкий десяток». В этом десятке была Варя Соловьева, Женя, Миша Зайченко, Хоботов, Юра, я и не могу вспомнить кто еще (1). До ст. Хамышки мы ехали на мажаре. От Хамышков мы надеялись найти проводника, который довел бы нас до Красной Поляны, но это не удалось, и мы, расспросив знающих людей, проделали это путешествие сами. За это время, о котором я пишу, я не могу вспомнить ни одного осмысленного диалога. Шутки и остроты, которые тогда казались удачными, теперь не кажутся такими.
Однажды на привале мы готовили обед, т. е. в котелке над костром варился кулеш. Случайно Варин подол оказался близко от котелка. Женя вскрикнул: «Варя варится». Юра ответил: «Женя женится». В майкопском наречии глагол «жениться» имеет и другой смысл: что-то вроде куражиться. Не уверен, что это разговор не следует выбросить. В нашей компании большим успехом пользовались страшные рассказы. Это было что-нибудь из Эдгара По или т. п., часто переделанное на свой образец. Для этого нужен был вечер. Иногда это было, когда из экскурсии в горы возвращались на мажаре из ст. Хамышки домой в Майкоп. Большое участие в этих рассказах принимал Женя. <…>
О Зайченко. Я бывал там у них с Сережей (2). Самое хорошее впечатление оставляла Маруся. Я приносил скрипку, и мы играли с ней дуэты. Вся семья производила впечатление приличной семьи. Мне интересно было разговаривать с Марусей. Женя, когда бывал у Зайченко, общался со всеми. Таков был его характер. Я помню, как он прислал Тусе открытку из Анапы. Он был там как-то летом. Он писал, что в Анапе много тусиных подруг, ветряных мельниц. Они там машут крыльями, как Туся размахивает руками, когда разговаривает… (3) С нашей мамой Женя находил много тем для разговоров. Когда Юра и Женя, Женя Фрей были уже студентами, они любили в послеобеденное время вместе гулять. Женя Фрей был одноклассник Жени Шварца. Он был сыном преподавателя французского языка в нашем р. у. Семья Фреев приехала из Швейцарии. Не знаю, где родился Женя, в Швейцарии или в России. Женя производил очень хорошее впечатление своей деликатностью, тактичностью…
30.5.73
Илья Березарк Кузены
Было это давным-давно, осенью 1915 года. Поступал я тогда в Московский университет на юридический факультет. Там, в канцелярии университета, я познакомился с двумя приятными молодыми людьми. Скоро я подружился с ними. Они были в ту пору очень похожи друг на друга. Их все считали родными братьями, но оказалось, что это кузены, они даже приехали в Москву из разных городов. Но студенты их называли «братья Шварц».
Старший из них, Тоня (1), был общительным, всегда каким-то радостным. Его любили. Он становился центром любого студенческого кружка. Говорил очень красиво. Был у него приятный, бархатный голос. Он любил рассуждать о жизни, об общественных задачах и особенно о философии. Он считал себя философом.
Не раз выступал на семинаре профессора Вышеславцева (2) по философии права. После его выступлений, случалось, раздавались аплодисменты, что совсем не было принято в стенах университета, особенно того времени. Впрочем, не чужд он был и искусству. Я помню его доклад о студенческом эстетическом кружке «Магические нити творчества Гофмана». Он тогда увлекался знаменитым немецким романтиком, у нас еще сравнительно малоизвестным. Но особенно серьезно он занимался философией и теорией права. Читал он очень много не только по-русски, но и на французском и немецком языках, которыми свободно владел.
Преподаватели высоко ценили его способности. Один молодой приват-доцент сказал, что Тоня в будущем станет выдающимся ученым. Он был еще только на втором курсе, но все были уверены, что его оставят при университете, неизвестно только, по какому предмету — по философии или по теории права.
Женя рядом с ним казался простоватым и скромным. Он был молчалив, и чувствовалось, что он не совсем еще акклиматизировался в университете. Многое его удивляло. Он ведь только что приехал из далекого Майкопа, тогда захолустного городка… (3). Женя терялся или, может быть, даже прятался в тени своего даровитого кузена. При этом у них была близкая дружба, и Женя обо всем советовался с ним.
Но странно… Что это — провалы памяти? Я хорошо помню обоих кузенов в Московском университете в 1915–1916 годах. А дальше наступили боевые дни революции, самые интересные дни моей студенческой жизни. Что делали кузены Шварцы в эти дни? Каковы были их политические убеждения? Хоть убей, не помню. И только много позже, в тридцатых годах, я выяснил у них, в чем было дело.
Оба кузена, как полагалось тогда студентам, выехали домой на святочные каникулы 1916 года и в Москву не вернулись. Тоня остался в Краснодаре, Женя в Майкопе. Шла война, и родители не отпустили их… (4).
У себя на родине, в Ростове, я встретился с кузенами через несколько лет. Они приехали продолжать университетское образование, но провинциальный университет с преподавателями не очень высокой квалификации (это был эвакуированный в Ростов в дни войны русский Варшавский университет) не слишком их привлекал.
Очень скоро они связали свою судьбу с работавшим тогда в нашем городе новаторским театром студийного типа, носящим название «Театральная мастерская».
Первоначально это был студенческий кружок, организованный композитором М. Гнесиным (5), человеком многообразных художественных интересов, мечтавшим о синтезе искусств.
Репертуар молодого театра был необычен, особенно для провинции. Ставились пьесы строго литературные, в большинстве близкие символизму. Играли «Незнакомку» Блока, «Ваньку-Ключника и пажа Жеана» Ф. Сологуба, «Сказку об Иуде, принце Искариотском» А. Ремизова. Ставились пьесы Метерлинка, старый фарс «Адвокат Пателен», пытались поставить и «Маленькие трагедии» Пушкина.
В конце 1919 года «Театральная мастерская» стала профессиональным театром. Это вызвало неудовольствие местных театральных работников, которые считали «Мастерскую» дилетантским, любительским кружком.
К этому времени Антон Шварц <…> начал выступать и как чтец, и тоже с успехом, но уж никак не помышлял связывать с этим делом свою жизнь и свою судьбу. Помню, что он очень удачно читал «150 000 000» Маяковского на большой площади, где незадолго до этого был снесен памятник Александру II. Это его чтение на всех произвело большое впечатление. Вскоре его пригласили прочесть эту поэму для делегатов Областного партийного съезда.
Женя оставался простым и скромным, но у него уже не было растерянности и робости студенческих лет. Он играл в «Театральной мастерской» довольно много, часто ответственные роли. Играл Звездочета в «Незнакомке» (6), Понтия Пилата в пьесе Ремизова, судью в «Адвокате Пателене», в спектакле «Ошибка смерти», который игрался всего один раз в присутствии автора, В. Хлебникова (7), жившего тогда в Ростове.
[Сценка Хлебникова «Ошибка смерти» превратилась в своеобразный «гиньоль». Постановка этой пьесы была осуществлена в «кафе поэтов»… Между столиками ходила барышня Смерть в соответствующем условном одеянии, в руке она держала мамбольер — большой хлыст, которым в цирке укрощают лошадей. За столиками среди зрителей сидели двенадцать ее гостей в причудливых полумасках… Конечно, сценическое раскрытие пьесы было не особенно глубоким, но все же спектакль был интересен как первый, кажется, опыт театрального воплощения драматических произведений Хлебникова… Следует отметить, что роль одного из гостей в этом спектакле играл молодой актер «Театральной мастерской» — Евгений Львович Шварц.][21]
Мне он особенно запомнился в образе пушкинского Сальери. Может, не хватало у него мастерства для такой ответственной роли, но замысел ее был интересен… Евгений Шварц играл Сальери не менее десяти раз, играл с успехом, и в этой роли я видел его два или три раза (8).
Летом 1921 года в одном из ростовских садов некоторое время существовал «Студенческий театр малых форм». В этом театре Женя Шварц работал как конферансье. Он очень легко овладел этим сложным искусством. Это был конферансье живой и остроумный, только, может быть, слишком тонкий для случайного «садового» зрителя.
В перерывах между номерами он исполнял живые веселые сценки, насколько помню, очень остроумные. Я очень удивился, когда узнал, что он сочинил их сам. Помню, что тут впервые мне пришла неожиданная мысль: а, пожалуй, у нашего тишайшего Евгения Шварца есть литературный талант. Впрочем, об этом я скоро забыл.
Маленький провинциальный театр «Театральная мастерская» с таким необычным художественным репертуаром привлек внимание прессы. О нем уже писали в московских и ленинградских журналах, и ранней весной 1922 года были организованы его ленинградские гастроли (9).
Время для гастролей было выбрано не очень удачно. Театры переходили на самоокупаемость, проверялись рублем — начинался нэп. Театральная общественность города, да и пресса приветливо приняли молодой театр. Появились интересные статьи. Но что знала об этом театре публика? Сборов он не делал и скоро прогорел. В Ростов он не возвратился. Некоторые актеры бросили сцену, другие стали выступать, и не без успеха, в московских театрах (10). Оба Шварца остались в Ленинграде.
Было в них что-то, что роднило их с коренной петербургской интеллигенцией, — глубокая культура, разнообразие знаний, своеобразная тонкая ирония. Тоня не был еще прославленным чтецом, а Женя не напечатал ни слова, но оба были очень дружески приняты ленинградскими работниками искусств и культуры, сблизились с ними, стали для них своими, родными. И вся дальнейшая творческая жизнь обоих Шварцев связана с художественной культурой города Ленина…
Когда мне сообщили, что Женя Шварц написал книгу, я удивился (11). О своих старых впечатлениях, связанных со студенческим театром, я уже успел забыть.
— Его книжка, — сказал мне Антон в Москве, — пользуется успехом и проверена на детях. Им нравится.
Я уже говорил, что, еще не будучи писателем, он был известен в среде ленинградских литераторов, в его талант верили. Особенно близок он был с детскими писателями Ленинграда — работал в редакциях детских литературных журналов, сотрудничал, но больше анонимно. Лет через пять после выхода первой книги он уже был популярным писателем, и я возил к нему на суд в Ленинград не очень удачную свою повесть.
Его творчество было оригинальным и своеобразным, недаром его шутя называли «детским гением». Этот «детский гений» был очень скромным и за писательскими лаврами не гонялся… Я не считаю себя знатоком детской литературы и не берусь точно определить, какое место он занял в этой области. Но я не на шутку удивился, когда скромнейший Евгений Львович сказал мне, что в детской литературе ему тесно. Потом он спохватился и просил никому не передавать его слов.
Однажды мы гуляли с ним по двенадцати дорожкам Павловского парка.
— Вот, — сказал он, — я прошел восемь. Четыре мне остаются — и самые важные.
Я спросил, как понимать эти его слова.
— Я очень люблю, — сказал он, — и детскую литературу, и самих детей. Но все же приходит время попробовать что-то другое.
Вскоре была премьера «Тени», мастерски поставленная Н. Акимовым, всем очень понравилась и, кажется, поразила. На ее просмотре аплодисменты раздавались чуть ли не после каждой фразы (12).
Знаменитая андерсеновская сказка была идейно и философски переосмыслена. Но дело было не только в этом. Чувствовалось, что жанр новый, необычный. Драматическая сказка для взрослых — таких в богатой русской драматургии почти не было.
А новый жанр вызвал и новых героев. Герои сказки стали неожиданно жизненными, современными. А другие подобные сказки — «Голый король», «Обыкновенное чудо» и особенно «Дракон» — получили уже ярко выраженную политическую, антифашистскую направленность.
Евгений Шварц был добродушным, мягким, ироничным и в жизни, и в своем творчестве. И в этих пьесах он обличал зло тоже по-своему, казалось бы, добродушно. Но это было не так. У него были свои сложные пути обличения мещанства, не сразу они были поняты…
В тихом поселке Комарово в маленьком синем домике недалеко от вокзала жил добрый волшебник…
Так думали дети, которые хорошо его знали и часто с удовольствием ходили к нему в гости… Так думали и комаровские собаки, если собаки обладают способностью думать. А может быть, когда имеешь дело с волшебником, думать особенно не следует. Ни к чему это. Лишнее…
Мне казалось, что в последние годы Евгений Львович приобрел некоторые черты своих сказочных персонажей. Помню, я приехал к нему и застал странную картину. На заборе сидели большие собаки, а между ними внук Евгения Львовича. Все сидели очень тихо, степенно, что-то наблюдая.
— Что это значит? — спросил я.
— Как вы не понимаете? — сказал Евгений Львович. — Они смотрят на поезда.
И тут я понял, что смотреть на поезда — это очень важное занятие.
С животными он обращался мило и просто, они были его друзьями, постоянными собеседниками, подлинными «меньшими братьями». Помню его разговор с двумя кошками, они очень внимательно прислушивались к его словам и нежно мяукали ему в ответ. Это была подлинная беседа или, как торжественно говорят, «диалог».
По-моему, он знал все оттенки собачьего языка. Еще в юности был у него эстрадный номер. Суд. Выступления свидетелей, обвинителя, защитника, подсудимого — все это различные оттенки лая, все это на собачьем языке.
Да что там собаки — мы с ним однажды гуляли по Комарову ранней осенью, и он разговаривал с воронами и сороками на их «диалекте». Уморительно свистел, и они ему отвечали.
Мне рассказывали, как приехал к нему гости профессиональный дрессировщик и был удивлен его умением обращаться с животными. «Мы такого не знаем», — так передавали его слова.
Да, животные любили Евгения Львовича, любили его и люди. К нему приезжали в гости очень многие, порой совсем незнакомые. Несмотря на болезнь, он принимал всех, что вызывало справедливое неудовольствие домашних.
Его шестидесятилетие торжественно отмечалось в Ленинграде, но особенно интересно было его чествование в Комарово. Туда приехали артисты детских театров Москвы и Ленинграда в гриме и костюмах героев сказок Евгения Шварца. Я помню уморительный рассказ Красной Шапочки, как она ехала к нему на «Красной Стреле».
Он оставался очень скромным человеком. Когда я рассказывал ему, что на премьере «Снежной королевы» в Берлине присутствовал Вильгельм Пик, он даже не понял, о ком речь.
— Президент Германской Демократической Республики! — пояснил я.
— Ай да мы! — сказал Евгений Шварц.
Другой раз его обрадовало сообщение о том, что «Тень» с успехом идет в Берлине. Он смеялся, узнав, что представители английской армии обиделись, когда король теряет голову, и вышли из зрительного зала.
У обоих кузенов были добрые хорошие сердца, но сердца слишком слабые. Антон Шварц умер в 1954 году. Помню, как мы с Женей стояли его у могилы. Был осенний пасмурный день. Я первый раз видел Женю плачущим. Он плакал и не стыдился своих слез.
А через четыре года пришел его черед.
Только после его смерти началась исключительная популярность его пьес у нас и за рубежом: в странах народной демократии и в капиталистических странах, по всей Европе, даже в Турции и Японии…
Может быть, со старых, давних времен, после Гоцци и Тика, не было такого популярного драматурга-сказочника.
Я знал этого замечательного писателя и человека с юношеских лет, но не сумел по-настоящему оценить его талант. Да и сам он, хоть и был волшебником, пророком не был. А это, оказывается, разные профессии, совсем несхожие таланты.
1970-е гг.
Гаянэ Холодова О Евгении Львовиче Шварце
1919 год. Ростов-на-Дону.
Тонет во мраке зрительный зал. Тускло освещена сцена. Идет репетиция «Пира по время чумы». До ее начала Павел Карлович (1), режиссер, объявляет: «Сегодня придут к нам два новых актера — братья Шварцы из Краснодара. Они студенты, кажется двоюродные. Я много слышал о них интересного, примите их как друзей. Репетицию не прерывать, если они войдут в зал во время работы».
Я — Мэри. «Было время, процветала в мире наша сторона», — начинаю я и невольно всматриваюсь в зал — нет, не видно, никто не входит. Вот окончена песенка Мэри — «А Эдмонта не покинет Дженни даже в небесах». Я умолкаю. Теперь читает Луиза — Варвара Черкесова (2), а я снова гляжу в зал… Дверь, самая дальняя от сцены, тихонько отворяется, и бесшумно входят в зал двое — Антон и Евгений Шварцы. Какие же они разные…
Репетиция кончилась. Но мы знаем — будем не раз повторять. Вейсбрем у нас самый главный, самый авторитетный… и самый молодой — ему девятнадцатый год. Он бранит нас, не стесняясь присутствием Шварцев. Особенно досталось мне, и было неловко перед новичками. Потом мы познакомились, и уж не помню как, но только вся наша маленькая труппа приняла Шварцев в свой дружный коллектив легко и радостно.
По первому короткому общению стало понятно — эти двое не могут жить без искусства. Но вот Вейсбрем хлопает в ладоши: «Повторяем, повторяем, друзья». Мы все за столом, стоящим на авансцене во всю ее ширину. («Пир» был поставлен в концертном плане, при минимуме мизансцен. Задачей было донести звучание пушкинского стиха с его глубоким драматическим смыслом). И зазвучало снова: «Почетный председатель, я помню о человеке очень вам знакомом». Роль Молодого Человека читает, пожалуй, самый лучший, тонкий наш актер Шура Остер (2), рано умерший.
Репетиция идет без остановки до самого выхода священника. «А теперь прошу вас, Тоня, прочтите нам вы стихи священника», — говорит Вейсбрем. И Антон Шварц поднимается из зала на сцену. Он держится как-то очень достойно, спокойно, и мы впервые слышим его чудесный глубокий баритон, полный своеобразного благородства и утонченности. «Безбожный пир, безбожные безумцы…»
На следующем прогоне священника предлагается прочесть Евгению Шварцу. Он выходит на сцену с несколько неестественно поднятой головой, очень худощавый, заметно волнуется, потирает руки, которые слегка дрожат. Большие серые глаза его смотрят уже на нас, гуляк и повес, сидящих за столом, с ужасом: «Безбожный пир, безбожные безумцы…» Да, у Евгения Шварца нету в голосе той красоты звучания, что у Антона, но страстность, чувство гнева и страха — всё звучит и сильно впечатляет. А когда он восклицает: «Матильды чистый дух тебя зовет», мы все отлично понимаем, какие интересные, умные, многознающие, талантливые актеры пришли в наш молодой театр — Ростовскую театральную мастерскую.
[В конце 1918 года я узнала, что на Среднем проспекте собирается театральный кружок из ростовской молодежи. Это было еще при белых. Там я впервые познакомилась с Вейсбремом, Беллой Черновой (2) и Варей Черкесовой. Было принято решение о создании «Театральной мастерской» и о постановке «Пира во время чумы» Пушкина и «Смерти Тентажиля» Метерлинка. Так как у меня уже был небольшой театральный опыт, мне поручили роли Мэри и Тентажиля. Их мы поставили еще при белых. Потом — это было уже в 1920 году — у нас шли: «Гибель „Надежды“» Гейерманса, Женя Шварц играл там эпизодическую роль, его звали там, кажется, Симоном; в «Принце Искариотском» Ремизова играли: Холодов (2) — Иуда, Тусузов (2) — Зив, я играла Онкрадо; в «Адвокате Пателене» помню только, что играли Костомолоцкий (2) и Тусузов, но кого играли не помню; «Гондла» Гумилева: Гондла — Антон Шварц, Лера — я, Лаге — Холодов, Кнорре — Женя Шварц.][22]
Потом «Пир во время чумы» объединили в один спектакль с «Моцартом и Сальери». Не помню только, что шло раньше, но, кажется, «Пир». Сальери Шварца был влюблен в Моцарта и завидовал ему. Я помню, как он с просветленными глазами встречал Моцарта, когда тот приходил со слепым скрипачом: «И ты можешь так просто прийти с ним!» [ «А вот я так не могу!»]. И постепенно от влюбленности он приходил к мысли, что Моцарт должен умереть. Он в нем вызывал бешеную зависть… А как Женя читал стихи!..
Актерскую одаренность Женя унаследовал от своей матери, Марии Федоровны. Она была очень одаренной актрисой-любительницей. Особенно блестяще играла Кабаниху в «Грозе» Островского. Музыкальность и абсолютный слух, очевидно, перешли к Евгению Шварцу от отца Льва Борисовича, прекрасного врача и хорошего музыканта-скрипача. Но Евгений Львович уже в ранней молодости любил смотреть на хорошую игру актеров, а сам играть не стремился никогда. С самого раннего детства он хотел импровизировать, сочинять, рассказывать свое.
Помню, через несколько дней после нашего знакомства Женя навестил меня дома, в Нахичевани подле Ростова. Я была больна и горевала, что не поправлюсь к премьере «Пира». А Шварц уселся на подоконник и тихонько стал рассказывать мне про какие-то подушины ноги. Это был услышанный мной от Шварца, нигде не записанный, устный рассказ.
У мальчика лет в шесть-семь умерла любимая мать. Остался он с отцом, доброй бабушкой и злой мачехой. Но отец уходил на работу, бабушка куда-то уехала, и он, днем обиженный мачехой, шептал по вечерам про свои обиды небольшой подушке, наволочку которой вышивала его мать. Мальчику казалось, что подушка умеет слушать и понимать его, и, главное, утешать, обнадеживать, что вот вырастет он умным, здоровым, добрым и что скоро приедет бабушка…. И он засыпал успокоенный и счастливый. Но как-то раз, в сердцах, мачеха отняла у мальчика подушку и вышвырнула в окно. А за окном был сад, под окнами пролегала канавка, и подушка упала в нее. Мальчику было строго запрещено приносить подушку в дом. И теперь он только видел сверху, из окна, как она мокнет под осенними дождями, как засыпают ее летящие с деревьев листья…
А весной вошла в комнату дворничиха, тетя Нюша, и громко сказала: «Сереженька, вот подушечку, вашу пропажу, верно в окно выронили, я в канавке подобрала, по наволочке узнала. Мама твоя вышивала, мне рисунок показывала. Я подушку высушила, наволочку выстирала и тебе принесла. Береги материнскую память, сынок». И тетя Нюша ушла. А мальчик спрятал подушку. Но в ту ночь приснилось ему, что не будь тети Нюши, все равно пришла бы к нему на своих ножках подушка. Они специально для этого выросли бы у нее. Она бы на своих ножках и пришла бы… А утром, проснувшись, он увидел — приехала бабушка и скоро увезла его с собой. В поезде он пытался рассказать ей про подушкины ноги, а она смеялась в ответ. Хлопотала о чем-то, просила проводника принести чаю с лимоном, давала ему конфет и, подтолкнув к окну, сказала: «Гляди, вон оно». И он увидел море, увидел впервые, оно такое огромное, голубое, сверкало на солнце…
Я тогда еще мало знала Евгения Львовича. Но помню, что подушкины ноги меня взволновали, согрели душу, как-то утешили. И я быстро поправилась.
А сколько таких рассказов было потом!
[Регистрация нашего с Женей брака, как это теперь называется, состоялась 20 апреля 20-го года в Никольской армянской церкви. Для матери, и особенно для ее братьев, брак дочери-армянки с евреем (отец Жени был еврей, а мать — русская) был чем-то противоестественным, и потому они потребовали, чтобы Женя принял нашу веру. Женя к религии был равнодушен и согласился… И потом в паспорте у Шварца еще долго стояло — «Евгений Шварц — армянин».
Свадьбу праздновали у мамы (3) в Нахичевани. Был голодный 20-й год. Город только что был освобожден красными. Стол был настолько беден, что когда мама увидела вазу с сахаром, которые подарили братья, у нее вырвалось радостное восклицание. Это было большой удачей. Немедленно сахар был мелко поколот и выдавался гостям как большое лакомство. После «свадебного чая» мы пошли в город, где сняли маленькую комнатку.
Сразу же около нашего дома остановилось несколько фаэтонов, обвешанных нашими артистами, и нас повезли в особняк Черновых, где помещался наш театр. На беломраморной лестнице по бокам в два ряда стояли артисты, не поместившиеся в фаэтоны. Оркестрик исполнил туш. В зале мы чуть не рухнули. Стулья были убраны, и посередине стоял огромный стол, ломившийся от яств, вплоть до черной икры. Все это устроили наши артисты.
Потом нас долго провожали домой. Мы уговаривали друзей идти по домам, и постепенно все разошлись. Остался один Саша Остер, который непременно хотел проводить нас до самого дома. Каким-то образом ключ от нашей комнаты оказался у него, и он торжественно пригласил нас войти. Кровать была застелена великолепным шелковым стеганым одеялом, а поверх лежало платье и белая шляпа. На столе стоял массивный письменный набор для Жени. Это были подарки наших артистов. Тут мы снова прослезились (первый раз, когда нас встречали в театре). Саша сразу исчез.
Женя очень любил мою маму. Ее все любили. А Женя даже говорил, что если бы она была молодой, он развелся бы со мной и женился на ней. Мама была племянницей Микаэла Налбандяна (4), а я — внучатой племянницей. Уже в детстве его тянуло к книгам, к знаниям. Чтобы никто ему не мешал, он забирался на высокое дерево и целыми днями сидел на нем, читая. Сверху он спускал веревку, и моя бабушка Гаянэ, в честь которой я и была названа, его сестра, подвязывала ему что-нибудь поесть… Бабушка рассказывала, как его арестовали. Пришли ночью несколько жандармов. Он им говорит: «Вы, ребята, не виноваты, вы выполняете приказ. Мать, ты хранила бутылку шампанского на случай моей свадьбы, давай ее сюда. Справим мою помолвку со смертью».
И тут же они распили эту бутылку, и жандармы выпили. Его мать подавала прошение о свидании, давала кому-то большие взятки, наконец, ей было разрешено забрать то, что осталось от ее сына. Его вывезли из ворот Петропавловской крепости — ходить он уже не мог. Ей велено было отвезти его в город Камышин, где он через год и умер. Ему было всего тридцать семь лет.
Женя очень интересовался судьбой Налбандяна и говорил, что напишет о нем повесть, но так и не написал.]
В конце сезона 1920–1921 года мы отыграли последний спектакль. Все разошлись по домам. Декорации разобрали. И только мы, несколько актрис, задержались, болтая о тряпках. С улицы вошел довольно неопрятный мужчина и спросил, где здесь дирекция. Мы довольно пренебрежительно указали ему вверх. Он поднялся по винтовой лестнице, и через несколько минут оттуда свалился директор нашего театра М. С. Горелик:
— К нам пришел Гумилев (5), он хочет, чтобы мы сыграли ему «Гондлу». Собрать труппу было делом не очень сложным, Ростов тогда был не таким уж большим городом. Мы сами поставили декорации и сыграли «Гондлу». В зале было всего два зрителя — Гумилев и Горелик.
Кажется, Гумилев говорил, что узнал о нашем театре из статьи Мариэтты Шагинян (6). Постановка ему понравилась, и после окончания спектакля он сказал:
— Спасибо, ребята. Такой театр надо перевозить в Петроград.
Потом он поднялся на сцену и поцеловал Антона в губы, а мне — руку. Никто не придал серьезного значения словам Гумилева, думали, что это просто ритуал вежливости. Но через несколько месяцев пришел вызов. Нас делали Литературным театром при петроградском Доме писателей. Мы погрузили все свои пожитки и декорации в теплушки и отправились в далекий Питер.
Кажется, Горелик выехал раньше нас, на разведку. В Москве он залез к нам в вагон и сказал, что Гумилев расстрелян по Таганцевскому заговору (7), но что в Петрограде он все устроил, и мы едем дальше.
Другое время — 1921 год. 5 октября во второй половине дня мы приехали в Петроград. Около 4 часов. Нам отвели общежитие — большую комнату на втором этаже дома на углу Невского и Владимирского (8). Кровати стояли вдоль двух стен. Посредине был проход. Он назывался Бродвеем. Время было голодное, и Рафа Холодов кричал: «Ну, кто бросит на Бродвей». Тогда то один, то другой бросали — кто пряник, кто сухарь, кто что. И они с Шварцем ловили и ели.
Из Ростова все привезли по довольно порядочному бидону с подсолнечным маслом. Каждый день устанавливались дежурства. Приходилось на всех чистить картошку — ведра два — и жарить ее на этом масле. Это была наша основная пища. Посредине комнаты стоял большой стол под белой скатертью, а на нем стоял графин с замерзшей водой. Было ужасно холодно. Ложились спать мы с горячим утюгом, и все равно мерзли…
А в первый же день, как приехали, мы с Женей пошли на «Маскарад» в Акдраму. Я пошла со служебного входа. Ко мне вышел режиссер Панчин (9). Я стала просить:
— Мы только что приехали из Ростова с театром, будем теперь здесь работать…
— Ты одна, — спросил он.
— Нет, с мужем.
— Ну, давайте, — и он нас повел в директорскую ложу.
В подобных ситуациях всегда действовала я, а Женя тихонько стоял где-нибудь в сторонке. Он стеснялся…
Примерно через месяц-полтора после нашего приезда мы начали свой первый и последний сезон в Петрограде. Помещение нам предоставили на Владимировском, в доме 12. Там, где теперь театр Ленсовета. Открылся театр «Гондлой» или «Пателеном» — не помню точно (10).
Несколько раз сыграли «Гондлу», «Адвоката Пателена», «Гибель „Надежды“» (11). Провели несколько репетиций аристофановской комедии «Киклоп» (12) с Евгением Львовичем в заглавной роли, режиссер — С. Э. Радлов (13), художница — Е. П. Якунина (14)… Но в театре было не топлено, посещался он плохо, репертуар наш не поощрялся репертуарным комитетом, и театр наш закрыли в конце сезона. Актеры разъехались кто куда. А мы с Женей остались в Петрограде.
Из общежития нас попросили, и мы начали искать, где бы устроиться. Соседский дворник сказал нам, что во дворе его дома пустует несколько комнат. Мы выбрали квартирку с двумя небольшими комнатами, а пока шел ремонт, жили в комнате этажом выше.
И еще одна последняя актерская страничка в жизни Евгения Шварца. Это был театр почти балаганного типа, на Загородном проспекте, в здании бывших Семеновских казарм. По вечерам рассаживался небольшой духовой оркестр, зазывал публику. Руководил этим театром И. Н. Кролль (15). В первом отделении мы со Шварцем играли скетч «Рыжая». Я — рыжая, меня надо ревновать и убить. Шварц — ревнивец и убийца. Не помню фамилии автора, но «Рыжую» смотрели, ужасались, хлопали. Мы проиграли ее все лето. Получали за вечер два миллиона рублей и могли купить три-четыре бутерброда из черного хлеба с селедкой. Во втором отделении эстрадные знаменитости — Михаил Савояров, Иван Степанович Гурко, Алексей Матов, знаменитая тетя Катя Лебедева. Они имели большой успех. Третье отделение — гвоздь программы — комический хор тети Моти. Помню, выходная песенка начиналась словами: «Семейством тетя Мотя приехала сюда». Евгений Шварц изображал в хоре пьяненького птичника, одетый в какое-то тряпье, он был обвешан клетками с птицами, держал в руках зерно и сыпал мимо. Он был уморительно смешон. Все знакомые смотрели по нескольку раз и умирали со смеху. Эта роль и была последней ролью Евгения Львовича. Старый птичник в комическом хоре.
Денег не было. И по ночам Женя частенько ходил разгружать вагоны. На Пасху приехала мама. Привезла мешочек муки, кое-что из мебели, помогла с деньгами. Жить стало немного легче.
[Потом я показалась в роли Лизы — «Горе от ума» — в театре Новой драмы и была принята на первые роли. Здесь я играла в «Необыкновенных приключениях Гофмана» (16) его любовницу. Ставил спектакль К. Державин. Но особый успех выпал на спектакль «Падение Елены Лей» Адриана Пиотровского, где я играла заглавную роль. Достать билеты на этот спектакль было невозможно, у нас бывали все театральные величины Петрограда. На каждый спектакль приходил Женя, в это время он был очень дружен с артисткой нашего театра Наташей Болотовой.
Наш театр помещался в полуподвале ТЮЗа на Моховой, там, где сейчас буфет, артистические уборные (17). Наверху шла премьера «Конька-горбунка», а внизу спектакли театра Новой драмы. Труппы дружили между собой. Здесь Шварц познакомился с Брянцевым, Зоном (18), Макарьевым и другими тюзовскими актерами и режиссерами.
Я была уверена, что буду большой актрисой, и Женя не разубеждал меня в этом. Может быть, потому, что мы тогда очень любили друг друга. Мои портреты стояли на Невском. Я была очень занята театром — днем репетиции, вечером спектакли, и поэтому, наверное, не могу вспомнить, когда Женя начал работать у Клячко в «Радуге» (19), когда он начал писать. В 1924 году (я тогда уже служила в БДТ) я приходила из театра, горела лампа, и Женя что-то писал.]
Кто только не бывал у нас в эти годы, с 1922 по 1929-й годы. Люди тянулись к Шварцу. Приходили литераторы, писатели — и М. Л. Слонимский, и М. М. Зощенко, и К. Федин, Н. и К. Чуковские, С. Я. Маршак, Борис Житков, Н. М. Олейников (20), Всеволод Вишневский с Э. С. Паперной (21), Д. Хармс, художники Конашевич (22), Петр Соколов (23), заходил Корней Иванович Чуковский, а актеров сколько тоже бывало у нас. И Михаил Федорович Романов (24), режиссеры Грипич (25) с Выгодской (26), Макарьев с артисткой Верой Зандберг; не забывали к нам дорогу и старые друзья по Мастерской — П. К. Вейсбрем, Антон Шварц со своей женой артисткой Буниной, Павел Иосифович Слиозберг, Ф. Динерман, Р. М. Холодов, талантливая М. Магбалиева, Варвара Черкесова и многие другие. Близким и родным человеком был и родной младший брат Евгения Валентин (27), тогда студент.
Помню, собралось у нас как-то человек восемь-десять; были Маршак и Житков. Маршак вдруг снял пиджак и объявил, что у него внезапное вдохновение. Шварц немедленно согнал нас всех в самую маленькую комнатку, а Маршака одного запер в самой большой, и начал смешить нас всех до коликов. А сам через каждые 15–20 минут получал через дверь от Маршака исписанные листы. Потом громоподобно всеми нами исполнялся туш, и Шварц прочитывал нам куски из знаменитой потом «Почты». При упоминании своей фамилии Борис Житков (28) вставал и церемонно раскланивался. Всегда в нашем доме было тесно, шумно, весело и не очень, и даже очень не сытно…
Корней Иванович Чуковский пригласил Евгения Львовича к себе в секретари. Не думаю, что Шварц был хорошим секретарем, но знаю, что глубоко чтил он большой талант Корнея Ивановича, он так же, как и Маршака, уважал и любил его. С того времени Шварц стал все больше и больше писать. Первое, что было напечатано, называлось «Рассказ старой балалайки». Написана она была сразу же после наводнения в 1924 году… (29). Насквозь промокла забытая в комоде старая балалайка, потеряла свою звонкость, но потом попала на солнышко, просушилась и затренькала опять про веселое будущее, задористо описывая пережитую беду. «Балалайка» была написана как раешник, и многим нравилась. Потом — «Шарики-сударики» — первая детская книжка Шварца с прекрасными иллюстрациями. Не помню фамилию автора, книжка мгновенно разошлась (30).
Самыми близкими друзьями Евгения Львовича были в ту пору Н. М. Олейников (ставший жертвой культа личности) и Антон Исаакович Шварц. Не могу забыть 1954 год. Малый зал филармонии, гражданская панихида. Хороним Антона Шварца. И в толпе бледное, словно какое-то чужое лицо Евгения. Они дружили с двенадцатилетнего возраста (31). Евгений Львович пережил своего друга всего на четыре года.
В 1929 году А. А. Брянцев и Б. Зон поставили первую пьесу Евгения Шварца «Ундервуд». Оформил спектакль художник Бейер (32). Спектакль имел большой успех. Хороша и оригинальна была сама пьеса. Играли наилучшие актеры ТЮЗа: Охитина, Пугачева (33), Вакерова, Черкасов, Чирков (34), Полицеймако (35). В пьесе впервые действовало радио. Тогда оно только входило в жизнь, и это было сенсацией. Дети на спектакле волновались, переживали за пионерку Марусю, и Шварц радовался этой детской активности и был счастлив…
Евгений Львович был очень мягким человеком. Любимый писатель его был Антон Павлович Чехов. Всю жизнь на столе, за которым писал Шварц, стоял портрет Антона Павловича. Шварц очень радовался, когда ему что-то нравилось — в музыке ли, в литературе ли — всё равно. Он хвалил радостно и как-то щедро. Если не нравилось, очень не любил говорить неприятное, но, преодолевая это чувство, все же говорил в глаза, как-то тихо и ласково горькую правду. Когда же эта правда встречалась в штыки, он сразу делался жестоким, гневным, а когда успокаивался, взгляд его еще долго оставался холодным, словно каким-то чужим. Душой он не кривил. Я, по крайней мере, этого за ним не знала.
Шварц очень любил детей. Много душевного тепла, любви и заботы уделял он нашему маленькому племяннику, покойному Коленьке Дмитриеву, а потом дочери своей Наташе, а впоследствии внукам, и всех он любил и заботился до конца своих дней.
Помогал он многим и чужим ребятам, подбирали мы с ним беспризорников, и трех-четырех при помощи Маршака удалось устроить в детские дома. Это было тогда не так просто. Дети стайками ходили за Шварцем. Стоило ему появиться во дворе, как они уже кричали: «Наташа, твой папа идет!»
[…В июле 29-го я все узнала. У него уже тогда была Катя (36). Мы выяснили отношения, и в октябре он окончательно ушел.
16 апреля родилась Наташа. Его вещички я выбросила ему в окно.
Через год Наташа заболела тяжелой формой скарлатины. Даже доктор-волшебник признал свою беспомощность. Женя переживал ужасно. Он никогда не был верующим или чем-то еще в этом роде, но здесь он посчитал, что это возмездие ему за то, что он бросил дочь. Он уговаривал меня прогнать мужа (я довольно скоро вышла замуж за Альтуса (37), чтобы он мог вернуться в семью, и тем искупить свою вину.]
Евгений Львович был сложным человеком: были у него и твердость воли и безволие рядом, и гневность и мягкость, и суровость и ласковость. Но было точно — чистая душа и доброжелательность к людям. Его пьесы для взрослых, поставленные в театре Комедии режиссером Николаем Павловичем Акимовым, другом Шварца. Поставленные же во многих городах «Тень», «Обыкновенное чудо» и другие пьесы, напечатанные в сборнике его произведений (38), дают, мне кажется, возможность каждому внимательному зрителю или читателю понять и почувствовать незаурядную личность писателя Евгения Львовича Шварца.
1965–1967
Моисей Янковский Из сборника «Мы знали Евгения Шварца»
Это было в декабре 1920 года. Я приехал в Ростов-на-Дону, город, незадолго до этого освобожденный от белых и живущий трудной, далеко не сытой жизнью. Плохо было с питанием и топливом. Зябкая зима, пронизывающий ветер с Дона. Самодельные буржуйки, в которых едва тлел сырой штыб — угольная пыль.
Почему-то именно Ростов и Одесса оказались в то время населенными множеством даровитых людей. Из Ростова вышло немало крупных советских писателей и журналистов. В Ростове довольно часто возникали интересные художественные начинания. Юное поколение интеллигенции было исполнено, несмотря на еще не завершившиеся битвы гражданской войны, творческого горения, поисков.
Особенно тянули к себе молодежь модные в те годы «левые» течения, которые противостояли якобы отжившим формам дореволюционного искусства. Слово «традиция» было тогда не в ходу. Некоторые из формальных исканий того времени, несомненно, были связаны с воинственным отрицанием художественных направлений, возникших и развивавшихся в условиях буржуазного строя. Старое искусство отпугивало главным образом тем, что оно «старое».
Это было время беспокойных поисков, точный адрес которых еще не был до конца ясен. Припоминая те великие, поистине прекрасные годы, надо зримо представить их себе, прежде чем судить об этих поисках.
В Ростове-на-Дону в ту пору возникло молодое литературное начинание под шумным названием «Ничевоки». Из них ничего и не вышло. Возник там и театр: Театральная мастерская.
И вот я на спектаклях этой Театральной мастерской. Я хорошо, очень хорошо запомнил спектакли Москвы и Петрограда, которые в большом числе видел в годы моей юности. Они запечатлелись в памяти множеством деталей — общей их атмосферой, по крайней мере такой, какую я создал в собственном воображении.
Театральная мастерская как сценическое начинание, по-видимому, произвела на меня впечатление крайне не стойкое. Я видел там, и не по одному разу, «Адвоката Патлена» и «Гондлу» Гумилева. Игровая сторона старинного французского фарса показалась мне наивной, в тяжеловесной «Гондле» мне более всего запомнилось звонкое чтение броских стихов:
Лера, Лера, надменная Лера, Ты как прежде бежишь от меня. Я боюсь, как небесного гнева, Глаз твоих голубого огня!Я слышу и сейчас, как скандировались эти стихи. И думается, что в этой пьесе больше всего привлекли театр возможности «чтецкой» трактовки весьма напыщенного произведения.
Но труппа меня поразила. И, очевидно, не тем, что здесь собрались яркие люди, а иным. Это был очень интеллигентный по составу театр. С некоторыми из его участников у меня сразу установились простые, дружеские отношения. В общем, актерами они, по сути, не были. А были молодежью, страстно любящей искусство и нашедшей себе пристанище в мастерской.
Итак, спектакли показались мне не слишком оригинальными, да и репертуар не увлек меня. А облик труппы скромной ростовской Театральной мастерской запечатлелся навсегда.
Как это могло случиться?
Труппа ростовской Театральной мастерской была действительно не совсем обычна. Можно сказать, что это было вполне дилетантское начинание, созданное человеком даровитым, но в ту пору не профессионалом — молодым режиссером Павлом Карловичем Вейсбремом (а было ему тогда, кажется, всего лет восемнадцать). Самого Вейсбрема я в Ростове не застал. Вместе с родителями, богатыми людьми, он перед уходом белых покинул Россию, уехал в Париж. Но характер тамошней жизни был, по-видимому, не для него. Через несколько лет он вернулся на родину, но не в Ростов (Театральной мастерской уже не существовало), а в Ленинград. Там он скоро выдвинулся своими постановками в ряде театров. И эта фигура — человека, влюбленного в искусство и по-настоящему талантливого — вскоре органично «вписалась» в общую картину театральной жизни Ленинграда.
Когда в начале нэпа ростовская Театральная мастерская приехала на гастроли в Петроград, имя Вейсбрема было уже известно. Его называли и создателем театра, и его вдохновителем. Так и было на деле.
До меня стали доходить вести о большом успехе Театральной мастерской в Петрограде (1). Я был этим до крайности удивлен. Ведь я ее знал. Ее спектакли я видел. В чем же причина ее краткого, но все же шумного успеха? Думается, причин несколько. Первая — специфичность ее репертуара (театр показывал в Петрограде, помимо «Гондлы», «Трагедию об Иуде» Алексея Ремизова и литературно-театральные вечера). Общая культура этого начинания не могла не импонировать взыскательной публике большого художественного центра. Второе — здесь ценили поэзию, слово, умели читать стихи. Пожалуй именно в отношении к литературе и заключалось обаяние этого театра. А главное, секрет заключался в том, что поднимал на щит мастерскую Михаил Кузмин, поэт-модернист, который с особой симпатией относился ко всякого рода исканиям в искусстве тех лет, лишь бы они не были связаны с традицией (2). Впрочем, успех оказался эфемерным. Театр вскоре перестал существовать (3).
Возвращаясь к ростовскому периоду мастерской, я вновь хочу сказать о некоторых ее людях. Несколько имен запечатлелось в памяти. Фрима Бунина — первая жена Антона Шварца — осталась на сцене и далее, много лет работала в периферийных театральных коллективах. Гаянэ Халаджиева впоследствии выступала на ленинградской эстраде как чтица под псевдонимом Холодовой. Лидия Фельдман вскоре, после недолгого пребывания в студии Камерного театра, покинула сцену. Георгий Тусузов и Рафаил Холодов — теперь видные актеры Московского театра сатиры. Александра Костомолоцкого мы многие годы знали по Театру Вс. Мейерхольда. Еще в мастерской он поражал остротой пластики, своеобразным эксцентризмом и сокрушающим лицедейским темпераментом. Стал он позже известен и как прекрасный рисовальщик; им создано немало театральных зарисовок и портретов.
Антон Шварц — как это было очевидно еще в Ростове — вовсе не был актером по призванию. Он уже в ту пору безгранично любил стихи, знал наизусть тысячи строк разных поэтов и вскоре показал себя прирожденным чтецом.
Наконец Евгений Шварц. Он играл в Театральной мастерской характерные роли, в которых, кстати сказать, всячески обыгрывалась его худоба. Да, в юности он был очень худ. Об общих знакомых говорили: он худой почти как Шварц. Был он, что называется актером гротеска. Сам он считал, что театр — не его дело. Серьезно к актерству как будущей профессии не относился. Но, как и остальные его товарищи, любил мастерскую, ее атмосферу, ее своеобразный быт. В ростовский период Евгений Шварц неясно представлял себе свое будущее. И время было такое, что трудно было загадывать, — бурная жизнь как-то вела на поводу за собой.
Актеры мастерской жили кучно. Я помню несколько вечеров в обществе Антона и Евгения Шварцев. Антон и Женя были двоюродными братьями, в ту пору очень близкими друг другу. Вокруг них и собирался кружок ростовских актеров.
Время было адски трудное. Помню, однажды я пришел в гости к Жене. На кухне в тазу он лепил пирожки из угольной пыли. Дело в том, что штыб, не собранный в комок и не спрессованный, не горел в печке. В промороженной квартире, в ледяной воде Шварц занимался этим мрачным делом. Работал весело. Я стоял рядом и не мог взять в толк, что он колдует. Его пирожки вовсе не были пирожками. Из штыба он лепил какие-то фигурки, вроде зверюшек, человечков. Но штыб — не глина. Ничего похожего не получалось. Они разваливались, не подчиняясь рукам «скульптора». Но так было легче и занятней готовить топливо. Руки его были черны от угольной пыли, лицо напряжено. Он играл в какую-то игру, и игра увлекала его.
Денег явно не было. Еды — тоже. Кусок сала и бутылочка спиртного, принесенные гостем, создавали настроение, близкое к банкетному. За столом было молодо и беспечно. Антон читал стихи. Женя рассказывал невероятные истории и изображал «собачий суд».
Не знаю, было ли это его изобретением, но суд был сделан чертовски талантливо. Суть номера, продолжавшегося минут десять, заключалась в том, что лаем на разные голоса он передавал весь драматизм судебного процесса: обвинительный акт, уныло зачитываемый секретарем, речи судьи, прокурора, защитника, свидетелей, наконец, самого обвиняемого. Подсудимый жалко скулил под грозное рычание прокурора.
Выдумка Шварца была неистощима. В разные вечера он менял подробности суда. Он создавал все новые и новые обстоятельства дела. И хотя не произносилось ни слова, можно было понять, что подсудимый — воришка, притворщик, что судья — бурбон, прокурор — зверь, что адвокат льстит судьям и неловко выгораживает подзащитного.
Фантазия его в этом курьезном спектакле работала без устали, а «язык» героев поражал точностью подслушанных собачьих интонаций.
Чувство смешного было присуще ему в высокой степени. Он и тогда придумывал невероятные истории, которые будто бы знал во всех подробностях. Однажды мы бродили по ростовской Нахичевани, армянскому району города, откуда вышла Ганя Холодова и где долгие годы провела ее мать, добрейшая Исхуги Романовна. Небольшие домики предместья, высокие сплошные заборы, за ними густая зелень сада, наглухо закрытые, как крепостные, ворота и калитки на замках, цепные псы. Крайняя обособленность.
Шварц водил меня от дома к дому и рассказывал какие-то истории со слов Исхуги Романовны — она знала здесь каждый уголок.
Вот тут жил фальшивомонетчик. Чеканил медные пятерки вместо золотых и отправлял их для сбыта в Тифлис. Раскрылось. Пошел на каторгу. Тут муж убил жену из ревности и закопал в саду. Много лет это никем не дозналось. Потом его отправили на каторгу. А здесь жил старый ростовщик. Помнишь «Преступление и наказание»? Так его тоже студент убил. Пошел на каторгу. А здесь родители дочку в подвале держали за то, что хотела удрать из дому с русским. Прятали несколько лет. Она сошла с ума. А их отправили на каторгу.
— Только ты при Исхуги Романовне не говори об этом. Ей будет неприятно. Как-никак она сама нахичеванская.
И вот много лет спустя, когда я напомнил Шварцу о рассказах Исхуги Романовны, он признался, что все выдумал. Так интереснее было показывать Нахичевань. Любопытно, что многое, поведанное им о Нахичевани, находилось где-то по соседству с правдой.
Когда в 1927 году я переехал в Ленинград и стал профессиональным театральным критиком, наши отношения возобновились, хотя то, что я стал рецензентом, да еще газетным, несколько отпугивало его: как у большинства писателей, у него не было настоящего доверия к тем, кто брался судить о чужих произведениях. Но скоро нам пришлось встретиться, как говорится, по серьезному делу.
Началось это с его первой пьесы «Ундервуд», которую он писал зимой 1928/29 года.
В ту пору у меня дома некоторые драматурги, в частности Афиногенов (4), читали свои новые пьесы. Слушатели приглашались по выбору автора. Он и бывал хозяином вечера. За чайным столом пьеса читалась и обсуждалась. Приходили и режиссеры. Шварц принес мне свою первую пьесу. Сказал, кого бы хотел позвать. Читка прошла с большим успехом. Пьеса была сразу же поставлена Ленинградским ТЮЗом (режиссеры А. Брянцев и Б. Зон). С той поры Шварц, человек в известном смысле суеверный, считал, что читка пьес в моем доме «приносит счастье». И несколько своих последующих произведений для театра он опять впервые читал у меня.
Я до сих пор считаю «Ундервуд» одной из лучших ранних пьес Шварца. В ней впервые выражена любимая его мысль, что всякий прожитый день, если прозорливо вглядываться в то, что происходит вокруг, исполнен чудес. Мысль эта, по самой основе своей, шварцевская. Она очень оптимистична и во многом отражает духовный мир ее автора. О жизни, как о чуде, он говорил применительно к своему восприятию действительности. А для ребенка чудес в жизни еще больше: они открываются во многом таком, что взрослым кажется буднями, повседневностью. Своеобразное воплощение этой мысли, которой Шварц оставался верен всегда, — легло в основу строения первой его пьесы, где героями были дети, столкнувшиеся с миром зла и обмана.
В пьесе как бы существуют два пласта. Один из них — на поверхности: рассказ о пионерке Марусе, которая, разведав, что спекулянтка Варвара Николаевна украла институтскую пишущую машинку у студентов Мячика и Волчка, после многих приключений догадалась сообщить всем-всем-всем по радио, кто украл машинку, и этим разоблачила спекулянтку. Внешний покров именно такой.
Автор дает множество конкретных примет места и обстоятельств действия «Ундервуда». Варвара Николаевна живет в Ленинграде, в Лесном, неподалеку от Политехнического института. Дается еще справка: возле остановки трамвая № 9. Мячик и Волчок — студенты, один — техникума сценических искусств, другой — политехникума. Сообщается марка пишущей машинки — «Ундервуд». Часовщик, к которому Варвара Николаевна отправляет Марусю, чтобы тот задержал ее у себя и тем дал возможность старухе сбыть машинку с рук, живет на улице Герцена, дом № 15.
Казалось бы, при чем здесь сказка? Но перед нами была именно сказка. О тех, кто мешает жить пионерке Марусе, всем нам. «Ундервуд» по жанровым своим особенностям интересен тем, что в нем бытописание сочетается с увлекательной, почти детективной фабулой и пронизано сказочностью.
Через все конкретные обстоятельства действия проступает второй пласт повествования.
Конечно, Варвара Николаевна — спекулянтка, но одновременно она и Баба-Яга — Варварка. Конечно, состоящий при ней Маркушка — безногий инвалид (а на деле он вовсе не безногий), но в то же время и злой сказочный урод. А безвольный, запуганный Варваркой часовщик — порабощенный добрый карлик. И смелая пионерка Маруся чем-то схожа с отважной Красной Шапочкой. Она все хитрости Бабы-яги разглядела и чудесным образом победила ее. Сообщить по радио всем-всем-всем историю с похищенной пишущей машинкой — это ведь похоже на сказку о Коньке-горбунке или ковре-самолете.
Вот это сочетание реальной сюжетной основы с романтикой сказки и привело в негодование педологов. Они требовали снять «Ундервуд» со сцены, как спектакль в воспитательном отношении вредный. К тому же они считали, что в нем слишком много «страшного».
Шварц был растерян, он не ожидал такого приема пьесы. Я выступил с одобрительной статьей об «Ундервуде» в журнале «Рабочий и театр». Вслед за тем в газете «Смена» на защиту пьесы и спектакля встал Олег Адамович (5).
Выступление Адамовича, в ту пору редактора ленинградской комсомольской газеты, было хорошей подмогой Шварцу, так как вопрос об «Ундервуде» был поставлен на специальном совещании комсомольских и пионерских работников, совместно с педагогами. Голоса последних разделились, но, конечно, крикливая демагогия педологов смущала людей спокойных и более чутких в вопросах детской психологии. Они-то понимали, где истина, но педологи клялись марксизмом, и бороться с ними было трудно. Если бы не решительная поддержка комсомола — спектакль пришлось бы снять. Но хоть он и остался в репертуаре, настороженное отношение к пьесе Шварца, где «потихоньку протащили сказку», сохранилось.
Шварц не хотел и, пожалуй, не умел писать иначе. В ту пору мы часто встречались. Он был до краев наполнен сюжетами, и всегда быт в них скрещивался с фантастикой. Он уверял, что такие пьесы можно писать и для взрослых, так как момент «отстранения» придает большую остроту восприятию реального сюжета.
Помимо «Ундервуда», Шварц читал у меня следующие пьесы: «Клад», «Брат и сестра», «Приключения Гогенштауфена». Я спросил его, почему он скромного героя последней пьесы наградил такой монархической фамилией. Оказывается, перед тем он прочел какую-то книгу из средневековой истории и ему понравилась фамилия. Кроме того, его смешило несоответствие фигуры незначительного служащего столь громкому имени.
Пьесы «Клад» и «Брат и сестра» общеизвестны. Они шли на сценах детских театров. Они существенно отличаются от «Ундервуда» светлым колоритом, но и в них есть нечто общее с этой пьесой (в частности, конечно, сходство центральной героини — отважной девочки, чистого и полного нравственной силы существа; она пройдет через многие пьесы Шварца). Они опять соединяют в себе реальность и фантастику. В этих пьесах фантастика более скрыта, но атмосфера загадки, чудесного, необычного присутствует и здесь.
Тот же принцип Шварц хотел положить в основу «Приключений Гогенштауфена», пьесы, которая не заинтересовала театры. Позже она появилась в ленинградском журнале «Звезда» (1934. № 11). Мне и многим другим пьеса очень нравилась. Афиногенов восхищался управделами по фамилии Упырева и утверждал, что идея сопоставить бюрократку с нечистой силой — чудесное открытие писателя. А уборщица Кофейкина, добрая волшебница, — ведь это прелесть! Шварц был удручен тем, что «Приключения Гогенштауфена» не нашли пристанища на сцене. Думал, что его работа никому не нужна.
Можно утверждать, что уход его в драматургии от прямой действительности в некоторую отвлеченность чисто сказочного мира был порожден тем, что на языке сказки ему говорилось особенно легко и просто. Важнейшие темы Шварца — борьба светлого начала с темным, человека чистого и устремленного вперед с чудищами, лезущими из щелей, высокий гуманистический горизонт, который явственно обозревается во всех его произведениях, в том числе в таких, где он саркастически и с ненавистью говорит о фашизме, тирании, — все это он хотел бы нести в сюжетах из нашей жизни. Но то видение реальности, которое было ему присуще, требовало скрещения яви с фантастикой.
Я не сомневаюсь, что одна из причин его ухода в «чистую» сказочность заключалась в том, что он с большей легкостью в близком ему кругу ассоциаций и параллелей мог говорить о вполне современных вещах. Вскоре родилась легенда о Шварце будто бы не самостоятельном драматурге, который не способен создавать пьесы на собственные сюжеты. Он много раз жаловался, особенно в последние годы жизни, на то, что ему приписывают неумение создать «свой» сюжет. А сам он говорил, что сюжетов у него сколько угодно. Люди, близко соприкасавшиеся с ним, знали, что за внешним обличьем веселого рассказчика и «души общества» он скрывал тревожную мысль о своем месте в литературе.
Его последняя пьеса — «Повесть о молодых супругах». Он читал мне в Комарове, где мы часто встречались, отдельные наброски этой пьесы, которую так и не успел довести до окончательной отделки.
В первоначальных вариантах не было двух персонажей пьесы — кукол. Речь шла только о молодоженах и их друзьях. Шварц хотел поделиться своими раздумьями о том, как важно молодой паре «притереться» друг к другу, чтобы наступило полное взаимопонимание. Его удручала мысль о непрочности многих юношеских браков, он желал как-то помочь советом старого человека. В нем говорил и голос отца, безгранично любившего свою дочь.
Если бы он мог привести в эту пьесу своего доброго волшебника, он бы это сделал. Ему нужно было, чтобы обыденная жизнь была освещена взором «со стороны». А «со стороны», значит, каким-то особым взглядом. Так родилась мысль о введении мудрых кукол, проживших бог знает сколько лет, знавших еще бабушек и дедушек молодыми и наделенных светлой мудростью. Герои пьесы так и не услышали их голосов. Но зрители поняли их речи.
Через многие годы вернувшись к произведению с реально-бытовым сюжетом, Шварц вернулся и к важному для него приему — через «остранение» прийти к обобщению того, что обычно заслоняется повседневностью.
Незадолго до смерти Шварца вышел однотомник его пьес. Он подарил мне экземпляр книги, подписавшись так: «Шварц, человек, тень».
Хочу объяснить смысл этой подписи.
Как-то он принес мне номер польской газеты, кажется, «Жице литерацке». В нем была опубликована большая статья о нем, написанная одним польским литератором (6). Статья не совсем обычная. Автор писал о Шварце, как о драматурге, уже широко известном и любимом в Польше, основываясь не столько на оценке его сочинений, сколько на личных впечатлениях от общения с ним.
А встретился он с ним при не совсем обычных обстоятельствах. Дело было в Таджикистане в годы войны. Шварц работал заведующим литературной частью ленинградского Театра комедии, оказавшегося в Душанбе в пору эвакуации. Там же жил и польский литератор, покинувший родину, когда ее захватили германские фашисты.
Автор рассказывает следующий эпизод. Однажды русских писателей попросили выступить со своими произведениями в детском доме для сирот, эвакуированных из разных мест в глубокий тыл. Детский дом находился в нескольких километрах от города. Транспорта не было. Дорога была ужасная. Шли пешком, изнемогая от усталости и жажды. Детей застали в крайне тяжелом настроении — они было удручены, казались потухшими, как бы отсутствующими. Наладить с ними контакт было невозможно. Равнодушно, почти не вслушиваясь, принимали они выступления писателей. Ничто их не интересовало. Наконец вышел Шварц. Он подсел прямо к ребятам. И заговорил. Стал рассказывать какие-то истории полуфантастического характера. Рассказывал весело, почти безмятежно. Ребята оживились, у них порозовели щеки, глаза засветились. Они придвинулись к Шварцу и не отрываясь слушали его. Они стали неузнаваемы. К ним вернулось детство.
Оттолкнувшись от этого эпизода, автор статьи выразительно и тонко охарактеризовал Шварца, художника двух неотделимых друг от друга «ипостасей» — реальной и сказочной, человека с неиссякающей душевной добротой.
Он назвал статью: «Шварц, человек, тень».
(1965)
Ольга Форш Из романа «Сумасшедший корабль»
<…> Пронеслась весть, что идет «любимец публики» Геня Чорн (1) с своей труппой. Превалирование воображения над прочим умственным багажом было в голодные годы спасительно. Геня Чорн — импровизатор-конферансье, обладавший даром легендарного Крысолова, который, как известно, возымел такую власть над ребятами, что, дудя на легонькой дудочке, вывел весь их мелкий народ их немецкого города заодно с крысами, — Геня Чорн сорганизовал недомерков мужского и женского пола из всех кают Сумасшедшего Корабля (2). Сейчас он вознес римский свой профиль и скомандовал:
— Встреча флотов Антония и египетской Клеопатры. За отсутствием кораблей и подходящих героев действие будет представлено одним первым планом — игрой восхищенных дельфинов. Дельфины, резвитесь!
Геня Чорн одним профилем возбуждал честолюбие труппы. Дельфины-недомерки, чтобы перенырнуть друг друга, в кровь разбили носы. Пострадавших восхищающий Чорн вывел перед всеми и сочувственно возгласил:
— Почтим плеском ладоней героев труда!
Потом перешли к гвоздю труппы — «Посадка в Ноев ковчег и коллективное построение слона».
Менее доверчивый к Божьему промыслу, чем праотец Ной, Геня Чорн заявил, что в ковчег сажать будет не «пары чистых с нечистыми», как до революции было принято, а созвучней эпохе — для защиты ковчега, в него первыми сядут войска.
Сам ковчег объявлен был невидимкой, как приставший к пристани на реке Карповке у Дома Литераторов, — но парад погружаемых войск был вострублен.
Протопала тяжело пехота, резвей — кавалерия и, наконец, несколько непристойно подчеркнувшая свой род оружия артиллерия. Публика развеселилась и, сидя на «Энциклопедическом» как на былом мягком, писатели ждали, как дети, каким образом Геня Чорн введет нерассыпанным в узкие двери уже громко трубившее хоботом коллективное построение слона… <…>
За залами, в интимной гостиной, любимец Корабля Геня Чорн ставил в сотрудничестве недомерков по инсценировке Вовочки (3) новый вариант на «Бриллианты пролетарского писателя Фомы Жанова» (4).
Корабельная прима-красавица Ия (5), предмет мечтаний на побывку с ней в загсе юнцов, изображала проституточку Соньку Ноган. Эта Сонька Ноган, распропагандированная культкомиссией, став гражданкой и перейдя на честную труджизнь, сочла долгом сообщить в ВЧК, что у одного из ее бывших гостей на подштанниках была графская корона. Эта корона оказалась истинной сущностью, утаённой в анкетах, пролетарского писателя Фомы Жанова. Роль Фомы Геня Чорн назначил выполнять приехавшему из Москвы на гастроли писателю Сосняку (6). ВЧК приказала Соньке Ноган принести ей поличные с графской короной. Сонька шагнула на писателя Сосняка, симулируя жестами исполнение предписания, и: «Тушит свет!» — щадя целомудрие зрителя, крикнул Чорн. Сосняк, взволнованный красотой Соньки, ожидая легчайших ее касаний, встав со стула, пошел сам навстречу событиям. Сонька взвизгнула. «Свет обратно!» — крикнул Чорн и педагогически сказал Сосняку: «Ваша роль, товарищ, определенно пассивна и эпизодична. Прошу сесть обратно». Сосняк, возбужденный чарами Соньки Ноган, загремел мимо стула на штучный паркет, но не потерявший присутствия духа Геня Чорн вызвал «скорую помощь». Трем недомеркам, вставшим на четыре ноги, был возложен на спины Сосняк и вывезен в анатомический для ампутации ног и рук.
Грохотал смехом зал <…>
Корней Чуковский Из «Чукоккалы»
Евгений Львович Шварц, драматург, автор «Тени», «Дракона», «Обыкновенного чуда», до сих пор не вполне оценен современниками. Это был большой и своеобразный талант, со своим собственным обаятельным стилем, один из самых остроумных людей, каких я когда-либо знал. Некоторые из его шутливых экспромтов сбереглись в моем альманахе «Чукоккала».
К сожалению, в Чукоккале очень мало материалов, относящихся к Серапионовым братьям. Эта литературная группа возникла в Доме искусств. То были молодые писатели, многие из которых впоследствии сыграли заметную роль в советской литературе: Константин Федин, Мих. Зощенко, Мих. Слонимский, Всеволод Иванов, Елизавета Полонская, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Тихонов, Николай Никитин. На их собраниях часто бывали Юрий Тынянов, Евгений Шварц и Валентин Стенич.
В 1922 году тяжело заболел Лев Лунц. Ему пришлось спешно уехать за границу лечиться. Серапионы устроили прощальную вечеринку. В тот день у меня не было возможности участвовать в ней, и я попросил Евгения Шварца, бывшего в то время моим литературным секретарем, передать мой привет отъезжающему, причем предложил Евгению Львовичу взять с собой на вечеринку Чукоккалу, чтобы каждый участник чествования написал там о Лунце хоть несколько строчек. Но Шварц, опасаясь брать с собой такую книгу на пиршество, оставил ее дома в ящике своего стола. Явившись ко мне на другой день с повинной, он объяснил свой нерадивый поступок такими стихами:
Отрывок из трагедии «Секретарь XV»
Монолог секретаря. Д. V, картина VIII
Секретарь.
Корней Иванович! Чукоккала была В руках надежных! Невозможно быть, Чтоб мы в своем веселом пированьи Забыли осторожность. Лева Лунц, И Федин, и Замятин, и Каверин, Полонская известная, Гацкевич[23]. (1) И Харитон[24]. (которые дрожали Благоговейно) — все они Чукоккалу пытались обесчестить. Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля! И вот я, притворившись огорченным, В разгаре пира, глядя, как Радищев[25], Ваш родственник (и сам в душе палач), Пьет пиво и кричит: «Эван-эвое!», Как Лева Лунц почесывает челюсть Слегка испорченную. Как старик Замятин Жует мундштук с английскою улыбкой, — Я произнес дрожа, как прокаженный: «Увы мне! Братья…» Все остолбенели — Радищев уронил котлетку. Лева Воскликнул: «мама!»[26], засмеялась Зоя, Замятин плюнул. «Братья!» — я заплакал. Чукоккала лежит в моей квартире, Нечаянно покинутая. Фреры![27]. «Экрир е дифисиль![28] И трудно Служить безукоризненно. И я Обычно аккуратный — опозорен!» Умолкли все. И в мертвой тишине Стучали слезы в грязные тарелки. И вдруг М. Л. Слонимский, Потомок Венгерова, Вестника Европы И Стасюлевича[29], заговорил, качаясь: «Мы возьмем бумажки и напишем Слова для Лунца лестные. И завтра В Чукоккалу их, поплевав, наклеим» — Восторженные вопли! — и котлета Исчезла в пасти сына вашего. И Лева Сказал: «Не надо мамы!» И опять Замятин улыбнулся по-английски.* * *
Все. Дорогой учитель! Неужели Я плохо вел себя. Рукопожатья Я жду за мудрую лукавость. Dixi[30]. Ваш верный ученик Евгений Шварц (2)К 1924 году Серапионы сочли себя вынужденными поступить на государственную службу и стать работниками разных издательств. Михаил Слонимский пишет об этом в своих мемуарах так: «К тому времени мы уже состояли в редакциях. В только что основанном журнале „Звезда“ работал К. Федин, до того редактировавший журнал „Книга и революция“. Александр Лебеденко, в ту пору начинающий прозаик и ответственный секретарь „Ленинградской правды“, привлек меня в редакцию журнала „Ленинград“. Нам вместе с друзьями нашими из числа пролетарских писателей прозаиком Сергеем Семеновым и поэтом Ильей Садофьевым удалось организовать в Госиздате издание альманаха „Ковш“»[31]. По этому поводу Евгений Шварц написал в Чукоккале такую сатиру:
Стихи о Серапионовых братьях, сочиненные в 1924 году
Серапионовы братья — Непорочного зачатья. Родил их «Дом искусств» От эстетических чувств. Михаил Слонимский: Рост исполинский — Одна нога в Госиздате И не знает, с какой стати, А другая в «Ленинграде»[32] (3) И не знает, чего ради. Голова на том свете, На дальней планете, На чужой звезде, Прочие части неизвестно где. Константин Федин Красив и бледен. Пишет всерьез Задом наперед[33], Целуется взасос И баритоном поет. Зощенко Михаил Всех дам покорил — Скажет слово сказом[34], И готово разом [35]. Любит радио, Пишет в «Ленинграде» о Разных предметах Полонская Елизавета. Вениамин Каверин Был строг и неумерен. Вне себя от гнева Так и гнул налево. Бил быт, Был бит[36]. — А теперь Вениамин Образцовый семьянин, Вся семья Серапионова Нынче служит у Ионова[37]. Е. Шварц. 1928. 15/IIIВ Чукоккале сохранились экспромты Евгения Шварца. Однажды он написал о Михаиле Слонимском:
Миша — пророк
Федин уехал в Крым за неделю до землетрясения. Слонимский сказал: — Федин уехал встряхнуться.
Так и вышло.
18/IX 27 г.
Иеромонах Е. Шварц
А вот стихи, которые Евгений Шварц написал в Чукоккалу по поводу того, что некий администратор, человек бестолково запальчивый, внезапно из пустого упрямства отказался уплатить гонорар ряду авторов (в том числе Юрию Тынянову).
Экспромт пародирует речь этого взбалмошного деятеля.
Приятно
Приятно быть поэтом И служить в Госиздате при этом. Служебное положение Развивает воображение. 11/IX 1927 г. Е. ШварцАвторы и Леногиз
Сочинение Е. Шварца
Все у нас идет гладко, Только авторы ведут себя гадко. Прямо сказать неприятно — Не желают работать бесплатно. Все время предъявляют претензии: Плати им и за рукописи, и за рецензии, И за отзывы, и за иллюстрации, Так и тают, так и тают ассигнации. Невольно являются думы: Для чего им такие суммы? Может, они пьют пиво? Может, ведут себя игриво? Может, занимаются азартной игрой? Может, едят бутерброды с икрой? Нельзя допустить разврата Среди сотрудников Госиздата.Первый Всесоюзный съезд писателей состоялся в Москве в августе 1934 года.
Мы, ленинградские писатели, ехали на съезд веселой и дружной компанией. Тогда же в поезде появились записи в Чукоккале:
Кто приехал на съезд? Во-первых, Б. Рест, Во-вторых, Г. Белых, Шишков, Козаков, К.Чуковский (Украшение Большой Московской), Лебеденко, Черненко, Миттельман (который о съезде напишет роман), Моргулис (которые еще, в сущности, не проснулись), И, наконец, я сам: который от счастья близок к небесам! Академик[38] 15/VIII Столовая (Бывшая Филиппова)Перечень расходов на одного делегата (4)
Руп На суп Трешку На картошку[39] Пятерку На тетерку Десятку На куропатку[40] Сотку На водку И тысячу рублей На удовлетворение страстей Н. Олейников Е. Шварц* * *
Второй Всесоюзный съезд советских писателей открылся 15 декабря 1954 года в Большом Кремлевском дворце. На торжественном открытии съезда я сел рядом с Евгением Шварцем, который тут же написал мне в Чукоккалу:
Филиал Чукоккалы № 14
Во Дворце 15 декабря
Не всякий Шваре́ц Попадает во дворец. Е. Шварц б. секретарь К. ЧуковскогоИз письма Е. Л. Шварцу от 28.10.56 (5)
…А между тем изо всех писателей, на которых Вы тогда, в 20-х годах, смотрели снизу вверх, Вы, дорогой Евгений Львович, оказались самым прочным, наиболее классическим. Потому что, кроме таланта и юмора, такого «своего», такого шварцевского, не похожего ни на чей другой, Вы вооружены редкостным качеством — вкусом — тонким, петербургским, очень требовательным, отсутствие которого так губительно для нашей словесности. И может быть хорошо, что Вы смолоду долгое время погуляли в окололитературных «сочувствователях»; это и помогло Вам исподволь выработать в себе изощренное чувство стиля, безошибочное чувство художественной формы, которое и придает Вашим произведениям такую абсолютность, безупречность, законченность…
А святые двадцатые годы вспоминаются и мне, как поэтический Рай. И неотделим от этого Рая — молодой, худощавый, пронзительно остроумный, домашний, родной «Женя Шварц», обожаемый в литературных кругах, но еще неприкаянный, ненашедший себя, отдающий все свое дарование «Чукоккале». 20-е годы, когда мы не думали, что Вам когда-нибудь будет 60, а мне 75, и что те времена станут стариной невозвратной. И Дом искусств, и «Серапионовы братья», и Тынянов, и Зощенко, и Олейников, и Миша Слонимский, и Генриэтта Давыдовна, и Маршак (тоже худощавый, без отдышки, без денег) — все это так и ползет на меня, стоит мне только подумать о Вас и о Вашей блистательной литературной судьбе.
Любящий Вас К. Чуковский (прадед).
До скорого свидания
Михаил Слонимский Вместе и рядом
Евгений Шварц приехал в конце 1921 года в Петроград вместе с Ростовским театром и просто, легко, естественно, словно для того только и прибыл, вошел в нашу молодую литературную компанию. Без лишних слов и объяснений, по чутью, по какому-то внутреннему чувству сходились молодые люди в то удивительное время, и Шварц, южанин среди северян, актер среди начинающих писателей, сразу был признан «своим». В нем ощущалась та же настроенность, что и у нас, петроградцев, собиравшихся в Доме искусств и влюбленных в Горького, своего учителя. Только у Шварца еще ничего не было написано, ничего — ни удачного, ни неудачного. То есть, может быть, он что-нибудь писал уже и тогда, но не показывал нам.
Мы-то считали, что он неизбежно станет писателем. Не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра. Уж очень этот молодой, темпераментный актер, нервный, подвижной, порывистый, все примечал своими умными, живыми глазами, схватывал и сразу же выставлял в остром слове черты, отличавшие не только каждого из нас, но и менее связанных с ним людей, умел ответить не только на сказанное, но улавливал и чуть проскользнувший намек на скрытые, затушеванные мысли и чувства.
В пестроту и разнообразие бурного, жаркого литературного движения той поры каждый из молодых вовлекался со своим жизненным опытом, со своей темой, со своим самостоятельным голосом. Большинство молодых непосредственно участвовало в войнах и революции, и все испытанное и виденное ими горячей лавой шло в литературу, формируя ее. Произведения первых советских писателей говорили о революционном перевороте, о гражданской войне, о крутом коренном переломе в жизни и судьбах людей. Шварц, всей душой воспринимавший новую литературу и восхищенный ею, не заявлял о себе ни одной строчкой, предназначенной для печати. Охотно вступая в споры о том или другом писателе, сам он в литературе молчал. Молчал и молчал.
Первые шаги, первые успехи, определявшие место каждого в новом литературном строю, запоминались, сверкали в пылающих огнем страстей дискуссиях, речах, разговорах, обрастали критическими статьями, толками и кривотолками, восхвалениями и хулой. А у Шварца еще не было своего, напечатанного.
Поиски в начале совершенно нового пути были трудны, некоторых сильно крутили разного рода «завихрения». Но Шварца к вывертам и вычурам явно не тянуло, «загибами» он не грешил, не в этом было дело и не поэтому он оставался писателем только в потенции. А друзья его знали, что он еще покажет себя. Не просто верили, а именно знали.
Знали, потому что у Шварца были импровизации. Блестящие, сверкающие остроумием и, к сожалению, не записанные ни им, ни нами. Он был организатором наших театральных и кинопредставлений. Вместе с Зощенко и Лунцем он сочинял сценарии и пьесы, которые потом разыгрывались под его водительством в одной из гостиных Дома искусств. Народу на эти «капустники» набивалось много — писатели, художники, музыканты, любители театра и кино, молодые и старые.
Шварц вел эти вечера как режиссер, конферансье, актер, автор. Появились боевики: «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова» — замысловатая пародия на авантюрные фильмы, «Женитьба Подкопытина», где под гоголевские характеры Шварц ехидно подставлял нас. Даже Зощенко, которого мы считали самым обидчивым из нашей компании, не обиделся, когда Шварц дал ему роль Жевакина, как «большому аматёру со стороны женской полноты» (1). Вообще не помню, чтобы кто-нибудь обижался или, тем более, сердился на Шварца. Это было невозможно.
В его шутках и пародиях, в его импровизациях на наших вечеринках вырастал оригинальнейший писатель, наделенный редким и едким даром сатирика. Но этот дар далеко не исчерпывал всего характера и таланта Шварца. Шварц явно не собирался так уж сразу стать писателем-сатириком или юмористом. Не торопился. Похоже было, что он не нашел еще для этого своего дара такого применения в литературе, которое могло бы удовлетворить его, и бережет его для каких-то серьезных целей, а пока что только забавляется им и забавляет друзей.
Шварц тонко и глубоко понимал и оценивал то, что его друзья писали, читали на собраниях, печатали, Но, слушая, читая, часто искренне восхищаясь, он не подчинялся чужим голосам и предпочитал молчание подражанию. Он явно остерегался даже всяких литературных влияний. Казалось иногда, что, слушая произведения товарищей, он прислушивался к самому себе, к тому, что зрело в нем. А зрело нечто большое, значительное. Это было ясно каждому, кто знал и любил его в тот период. Светился обаятельный, согретый живым добрым чувством ум, своеобразный и неожиданный, проницательный и нежный. Этот добрый ум не давал сатирику размениваться на мелочи, распускаться, колоть кого попало и как попало. В жизненном поведении Шварца сатирик окрашивал некоторым оттенком иронии серьезность, доброту, лиризм, а умный и добрый человек смягчал уколы сатиры, когда обращал ее к друзьям. Шварц безошибочно угадывал, когда и какая шутка может оказаться неуместной, даже причинить боль, над чем можно шутить и над чем нельзя.
Жизненный опыт вылепил его принципиально добрым, так уж случилось, а романтика тех лет укрепила в нем любовь к людям, и, казалось, именно она, эта любовь, держала в узде его сатирический дар, который бил в нем фонтаном, кипел, бурлил. Всякое проявление душевной грубости, черствости, жестокости Шварц встречал с отвращением, словно увидел сыпнотифозную вошь или змею, это было в нем прелестно и, главное, воздействовало на согрешившего, если тот был человеком, а не закоренелым тупицей или самолюбивым бревном. Человеколюбцем Шварц был упрямым, терпеливым и неуступчивым. Иногда думалось, что в нем живет какое-то идеальное представление о людях и возможных человеческих отношениях, что некая Аркадия снится ему.
Шварц был известен в писательском кругу начала двадцатых годов своими устными остротами. Он, актер, отлично владел всей оснасткой устной речи. Но в литературе острое слово идет без сопровождения автора. Интонация, жест, улыбка — все, что сопровождает устную речь и помогает донести до слушателя мысль, идею, чувство, все это оперение, если дело идет о литературе, должно воплотиться только в слове. Нет в литературе ничего, кроме слов, которые обязаны работать в полную мощь.
Талантливый, остроумный человек не обязательно становится талантливым писателем. Шварц это понимал. Он блистал в любом обществе, веселя, покоряя словом, жестом, выражением лица, да и просто одним только появлением своим; могло показаться по его ярко талантливой устной речи, что он уже готовый писатель, и трудно было догадаться о его мучительных поисках своего пути, своего голоса, о том, в каком живет он в постоянном душевном напряжении, как в его творческой лаборатории подвергаются обработке, испытываются и бракуются, никак еще не получают своей формы серьезные литературные замыслы. Писатель Евгений Шварц отставал от человека Жени Шварца. Писатель еще в ту пору не родился.
Кто сразу угадывал в нем доброго волшебника — так это дети. Они ходили за ним толпой. Он мог бы, как сказочный крысолов, повести их куда угодно. Но он не был злым крысоловом. Он был действительно добрым волшебником, который воевал только с людоедами, ведьмами и чертями. Дети в наших спектаклях участвовали преимущественно как статисты, очень, правда, деятельные и восторженные.
Но вот «фильм» кончался, и наступал антракт. То был праздник для детей. Шварц принимал ужасно какой-то утомленный вид и вяло, как будто с огромным усилием взмахнув рукой, усталым голосом, словно еле жив, выпускал разом всю детскую ораву. И они вырывались на «сцену», кувыркались, становились на голову, безумствовали, но поглядывали на обожаемого шефа, подчиняясь каждому его жесту.
Этим безмолвным оркестром (кричать воспрещалось — пантомима!) Шварц дирижировал как хотел. Дети у него и плавали, и карабкались куда-то по воображаемой лестнице, и вообще готовы были на все по его приказу. В этих «антрактах» тоже образовывались сюжеты, фантазия Шварца не терпела ни покоя, ни бесформенности. Все у него приобретало конструкцию, законченные, четкие формы. Игры имели подчас небезопасный характер, но отцы и матери не беспокоились — ведь руководил их детьми Шварц.
Все-таки хотелось, чтобы у Шварца скорей прошел «инкубационный период», чтобы он начал писать и печататься, как и его товарищи. Как-то я пристал к нему с этим вопросом, и он ответил:
— Если у человека есть вкус, то этот вкус мешает писать. Написал — и вдруг видишь, что очень плохо написал. Разве ты этого не знаешь? — Тут же он свел все на шутку: — Вот если вкуса нет, то гораздо легче — тогда все, что намарал, нравится. Есть же такие счастливцы!
В другой раз он, прочтя один рассказ, где быт и фантастика сплетались воедино, вдруг задумался и вымолвил очень серьезно, словно нет-нет да выплывали в нем из глубины скрытые, нелегкие размышления:
— А, наверное, так и нужно. В конце концов можно, например, кухонную ведьму просто посадить на метлу и пусть летит в трубу. Чего стесняться? Классики не стеснялись. Гоголь не стеснялся. Гофман тоже не стеснялся. Андерсен позволял себе что угодно…
Он был рожден изобретателем, он мог заговорить только своим голосом, ни у кого напрокат не взятым. Может быть, поиски казались ему иногда бесплодными, и это мучило его. Может быть, иногда он терял уверенность в себе, в своем будущем, в том, удастся ли ему совершить в литературе то, что виделось только в тумане. Мы были уверены в нем, а он, возможно, сомневался. Однажды он сказал мне как бы мимоходом:
— Почему когда похвалят, то нет уверенности, а брань гораздо убедительней? У тебя тоже так?
Его действительно что-то тормозило, хватало за руку, удерживало. Он был как бы скован, связан высоко развитым художественным вкусом. А может быть, эта гипертрофия вкуса самоубийственна, вредна? Может быть, такая чрезмерная требовательность к себе грозит уже перейти в самую обыкновенную робость? Нравится же ему многое из того, что пишут сверстники. Чего же это Женя стесняется или боится, когда другие с маху кидаются в омут и потом терпят все бедствия критических водоворотов и редакционных коряг? Я опять было пристал к нему, но он отмахнулся:
— Мишечка, — сказал он коротко и нежно, — я не умею.
Ну что тут было делать?
От актерской деятельности он отходил. На сцене я вообще помню его только раз, но уже не в Ростовском театре, другом, родившемся в Петрограде, — тогда возникало немало маленьких новых театров. Шла пьеса Адриана Пиотровского «Падение Елены Лей». Женя сидел в зрительном зале рядом со мной, потом вскочил, мелькнул в цилиндре на сцене, уронил цилиндр, поднял, проговорил, что полагалось по роли, и вернулся в ряды (2). Он был неспокоен, дергался. Пальцы рук его всегда чуть-чуть подрагивали, отчего, кстати, уже тогда почерк у него был прыгающий.
А затем он и совсем расстался с профессией актера. Но денег не было, и он стал продавцом в одном из книжных магазинов на Литейном. В рыжем пальто и кепке он суетился за прилавком, снимая нервно подрагивающими руками книги с полок и предлагая их посетителям.
Весной 1923 года Шварц решил побывать у родителей. Отец его работал на Донбассе, на соляном руднике, врачом. Шварц предложил мне ехать с ним. Милые люди из «Красного журнала для всех» выдали мне авансом не червонец, как я просил, а целых полтора червонца, и с этим богатством я присоединился к Жене.
Слишком поздно я сообразил, что совершаю весьма неловкий поступок, отправившись к незнакомым людям без приглашения и даже без предупреждения. Когда мы шли через зеленые бугры и балки со станции «Соль» к руднику, Женя успокаивал меня:
— Ты, стервь, чего боишься моих родителей? За кого ты их принимаешь? С ума ты сошел.
Я был принят радушно, как один из приятелей сына, как этакий чеховский Чечевицын (Шварц не преминул назвать меня так, знакомя с родителями). Лев Борисович Шварц, из старых земских врачей, по специальности хирург, словно сошел со страниц чеховского рассказа, и под стать ему была дородная, приветливая жена его, Женина мать Марья Федоровна. Все в них было прелестно чеховское, и «Чечевицын» прозвучал естественно и непринужденно.
Шварцы занимали две комнаты. Одна из них была отдана нам. Набили два тюфяка, положили на пол (один пришелся под рукомойником), и пристанище наше было таким образом полностью оборудовано.
Мы обошли весь рудничный поселок, чистенький, с белыми мазанками, вишневыми деревцами в садиках и подсолнухами-вертисолнцами, с футбольным полем на окраине и рощицей за околицей. Нам разрешили спуститься в копи. Мы вошли в шатучую, довольно ветхую клеть, она стремительно ринулась вниз, в ушах лопалось, и вот мы оказались в удивительной пещере с далеко ввысь уходящими сводами. Соляной зал сверкал при свете ламп, как ледяной дворец. Ослепительная арктическая красота. Сияющая полярная чистота. Может быть, этот белый, как зима, подземный дворец вспоминался Шварцу, когда он писал «Снежную королеву».
Через несколько дней я отправился в Бахмут (ныне Артемовск), в газету «Кочегарка» (3), чтобы завязать связь с местными литераторами. Сосед Шварцев, уполномоченный Сольтреста, довез меня на своей тачанке. Вот и Бахмут, зеленый, южный, веселый город с разноцветными домами и домиками, с галерейками вдоль окон. В редакции газеты «Кочегарка» за секретарским столом сидел молодой, белокурый, чуть скуластый человек. Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его светились как-то загадочно.
— Прошу вас подождать.
И он удалился в кабинет редактора, после чего началась фантастика. Из кабинета выбежал, нет, стремительно выкатился маленький, круглый человек в распахнутой на груди рубахе и в чесучовых широких штанах.
— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад, — заговорил он, схватив меня за обе руки. Ладони у него были мягкие, пухлые. — Простите меня, — торопливо говорил он на ходу, ведя меня к себе в кабинет. — Я не специалист, только что назначен. Но мы пойдем на любые условия (при этом он усадил меня на диван и уселся рядом) — на любые условия, только согласитесь быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что вы зашли к нам. Договор можно заключить немедленно, сейчас же! Пожалуйста! Я вас очень прошу!
Я был так ошеломлен, что не мог и слова вымолвить, только старался, чтобы лицо мое не выдало моей величайшей растерянности. Белокурый секретарь стоял возле недвижный, безгласный, но глаза его веселились вовсю. Я ничего не понимал. Простодушного редактора никак нельзя было заподозрить в подвохе, в шутке, в розыгрыше. Он продолжал говорить быстро и убеждающе:
— Вы только организуйте, поставьте нам журнал! Ведь вы из Петрограда! Ах, вы с товарищем? Пожалуйста! Мы приглашаем и товарища Шварца. Товарищ Олейников, — обратился он к белокурому секретарю со смеющимися глазами, — прошу вас, оформите все немедленно. И на товарища Шварца тоже!
Возвратился я на рудник в линейке губисполкома, кучером сидел милиционер. Навстречу из домика Шварцев вышли вместе с Женей изумленные старики. Выслушав мои новости, Лев Борисович ушел к себе в комнату, и мы услышали, как скрипка его запела «Сентиментальный вальс» Чайковского, — он был, как многие хирурги, скрипачом-любителем. Женя нервно спросил:
— Как достать учебник шрифтов? Есть такой на свете?
«Сентиментальный вальс» окрашивал внезапную перемену в нашей судьбе в лирические тона.
Когда мы на следующее утро шли по степи навстречу первому нашему донецкому редакционному дню, то волновались так, что даже молчали. Только Женя изредка начинал бормотать:
— Петит… нонпарель… корпус… Слушай, ты, редактор, какие вообще бывают шрифты?
Почему-то ему казалось, что главным его занятием будет — возиться со шрифтами.
За двенадцать километров пешего хода степная «черная пудра» сделала свое черное дело. Какой-то худощавый живчик попался нам навстречу, мы обратились к нему за помощью, и он гостеприимно пригласил нас к себе помыться и почиститься. По дороге в «Кочегарку» мы поели еще мороженое «тромбон» и почувствовали себя готовыми к исполнению новых обязанностей.
В редакции мы были встречены Олейниковым. Николай Макарович Олейников, будущий поэт и детский писатель, не утаил от нас, что это он — виновник вчерашней фантасмагории. Было решение об организации первого литературного журнала на Донбассе, но опыта недоставало, писателей и литературных связей еще не было, и вот Олейников, жаждавший журнала до умоисступления, воспринял внезапное наше появление в Бахмуте как подарок судьбы. Он слышал о петроградской литературной молодежи и принял немедленные и экстренные меры в своем стиле — сообщил редактору, что вот тут сейчас находится проездом знаменитый пролетарский Достоевский, которого надо во что бы то ни стало уговорить, чтобы он помог в создании журнала. Этим и объяснялось все дальнейшее поведение редактора, глубоко верившего в молодую литературу.
Олейников рассказывал нам обо всем этом спокойно и деловито, словно ничего необычного не было в том способе, какой он применил, чтобы воодушевить редактора на решительные действия. Так произошла первая встреча Шварца с Олейниковым, перешедшая вскоре в дружбу на всю жизнь.
В то время в широчайших народных массах росла необычайная тяга к культуре, молодые и немолодые люди с азартом «грызли гранит науки». Жила страсть ко всякому культурному начинанию и в редакторе, который с энтузиазмом и величайшим доверием поручил молодым людям ответственное и важное дело, чтобы как можно скорей осуществить его. То был симпатичный, горячий человек, живший пафосом огромных надежд и огромной веры в людей и в будущее, и мы со Шварцем всегда вспоминали о нем с сердечной благодарностью. Вскоре он перешел на другую работу, а к нам пришел В. Валь, длинный, худой, точнейшая копия Дон Кихота. Простой и умный, он отлично разбирался в литературных делах, и работали мы с ним душа в душу.
На Донбассе Шварц был несколько другим, чем в Петрограде, — спокойней, уверенней. Здесь, под ясным, синим, не петроградским небом, понятней становились живость и веселость Шварца, острота и пряность его фантазии, которые он, южанин, принес нам на Север. Может быть, и Майкоп, где он жил в детстве, был таким же многоцветным и пленительным, как Бахмут.
На Донбассе Шварц начал печататься. Это произошло со всей неизбежностью, тут уж нельзя было ссылаться на вкус, отнекиваться, тянуть. «Кочегарка» нуждалась в стихотворном фельетоне, и Женя стал писать раешник. Он подписывался псевдонимом «Щур». Среди значений этого слова есть и певчая птица, и домовой, и уж не знаю, какое из них привлекло Шварца — первое или второе. Может быть, оба вместе. Певчая птица пела хвалу, а домовой пугал и вытягивал «за ушко да на солнышко», как тогда говорилось, всяких нерадивых работников, рвачей и прочих такого рода. Помнится, что Шварц писал также под псевдонимом «Дед Сарай», но уверенности в этом у меня нет (4). Его «Полеты по Донбассу» имели большой успех.
Шварц уже не стеснялся своих литературных опусов. Писал в редакции и тут же читал их нам, прежде чем сдать в газету, Все-таки удивительно бывает полезной в начале писательского пути газетная работа! Она расширяет знание жизни и людей, сталкивает с самыми разными делами, обстоятельствами и судьбами, в то же время погоняет, ставит перед необходимостью в каждом отдельном случае быстро занять свою твердую позицию и без особых промедлений выразить ее в слове. Она придает смелости в литературном труде. Но не дай бог погрешить против истины или оказаться несправедливым в оценке! Очень пригодилось здесь чувство справедливости, присущее Шварцу.
Газетная работа вдруг и решительно выбила у Шварца все тормоза, которые сдерживали его. Она формировала его литературный дар, требуя немедленного отклика на самые конкретные темы, которые приносила жизнь в виде «писем в редакцию», «сигналов» и пр. Кроме того, мы совершали поездки по Донбассу в поисках авторов и материала. Помню Шварца в Краматорске, в Горловке и в ряде других мест. В Краматорске мы «открыли» первого местного рабочего автора — прозаика П. Трейдуба. Приходили авторы и в редакцию. Один явился с гитарой и сказал, что стихи свои он может только петь. Спел он хорошо, но — увы! — стихи были плохие. Этого славного парня Женя часто вспоминал потом. И на руднике, и в Бахмуте нашлось много молодежи, с которой мы дружили, и Женя так же блистал здесь в любом обществе, как и в Петрограде. Шварц и Олейников соревновались в остроумии, и девицы ходили за ними стайками.
Журнал «Забой» (так мы назвали его) организовать удалось. В первом номере еще господствовали петроградцы, с которыми, как, впрочем, и с москвичами и киевлянами, мы связались с первых дней работы. Содержание номера составили главы из повести Николая Никитина, рассказы Зощенко «Агитатор» и Трейдуба «Месть», стихи Николая Чуковского (он начинал со стихов) и местного автора К. Квачова. Были также статьи и обзоры по международному положению, сельскому хозяйству, местному производству, литературе и искусству. На зеленой обложке рисунок: «Семья немецкого рабочего». Последний раздел — «Сатира и юмор». Итак, «громада двинулась и рассекает волны…» Да, этот тоненький журнал казался нам громадой, столько в него вложено было труда, пота, крови, надежд и упований. Наследником и продолжателем его является нынешний «Донбасс». В «Забое» начали свою деятельность такие талантливые писатели, как Б. Горбатов, М. Тардов, поэт Павел Беспощадный, критик А. Селивановский и многие другие.
К зиме 1923 года, когда выход «Забоя» наладился и состав сотрудников определился, я вернулся в Петроград. Шварц, оставшийся на Донбассе, писал мне: «Журнал стоит твердо». Передавал друзьям: «Зощенко, Федину, Н. Чуковскому — мою любовь… я люблю их. И тебя, о Миша, люблю…» Через несколько месяцев он тоже вернулся. В ту пору я работал в журнале «Ленинград», выходившем при «Ленинградской правде», и мы вновь сошлись здесь в редакционном деле. Вскоре к нам присоединился и Н. Олейников, переехавший в Ленинград.
Была большая разница между первым и вторым приездом Шварца. Первый раз он приехал к нам актером. Войдя тогда в литературный круг, он, может быть, только тут как следует понял, что не актером ему быть, а писателем, может быть, только тогда открылось перед ним его истинное призвание. А теперь он явился уже с некоторым литературным опытом и с уже написанными сказками для детей. Это ему дал Донбасс. «Кочегарка» и «Забой» погрузили его в самую гущу трудовой рабочей жизни, насытили знаниями, впечатлениями, конкретным материалом, поставили, так сказать, на твердую почву его намерения и замыслы, придали уверенности в себе. На Донбассе он узнал любовь не только товарищей по работе, но и читателей. Его работу на Донбассе запомнили. Уже в послевоенные годы Горбатов как-то в разговоре со мной с большой нежностью вспоминал о том, как он обязан Шварцу при первых своих шагах в литературе. В журнал «Ленинград» Шварц пришел уже опытным литературным работником.
Наша редакционная комната вмещала два журнала: наш и «Новый Робинзон» (5). Редактором «Нового Робинзона» стал Самуил Яковлевич Маршак. Маршак появился в нашем городе в конце 1922 года, еще до Жениного отъезда на Донбасс. Первому знакомству с Маршаком предшествовал поход К. И. Чуковского по писательским квартирам и комнатам. Взбегая на высокие этажи с легкостью юноши, Корней Иванович с заражающим энтузиазмом и обычной своей душевной щедростью возглашал:
— Приехал поэт Маршак! Замечательный! Огромный! Вы обязаны быть завтра…
Он называл час и место первого выступления Маршака и мчался к следующему писателю.
Собрались на вечер старые и молодые. Женя был с ходу покорен Самуилом Яковлевичем — его стихами и им самим. Вот строки, посланные им с Донбасса мне в конце 1923 года: «Ужасно хочется написать Маршаку! Мечтаю об этом два месяца. Сначала боялся, что ему не до меня, теперь боюсь, что его нет в Питере. Счастливец, ты можешь позвонить по телефону и узнать и где он и что, а я как в потемках. Обидно мне. Маршака я очень люблю…»
Маршак со всей энергией вошел в литературную жизнь города, и вот мы теперь работали в одной комнате, и грань между детской и «взрослой» литературой как-то терялась. Легко сочетал в себе писателя для детей и писателя для взрослых Борис Степанович Житков, красочный портрет которого дал в своих воспоминаниях К. И. Чуковский (6). Житков вручал один рассказ, «взрослый», — нам в «Ленинград», другой, детский, — Маршаку. Затем садился в сторонку и закуривал трубку. Уж не знаю наверняка, курил он тогда трубку или нет, но в памяти остался он с трубкой, этакий морской волк с обветренным лицом капитана дальних странствий. Он охотно служил нам живым справочником. Знал он, казалось, решительно все. Ремесла, инструменты, технические термины, звезды, реки, озера, животные, насекомые, птицы, рыбы, как что делается, где что происходит — все ему было известно. Волшебная энциклопедия, с готовностью отдающая свои сокровища восхищенным невеждам. Много позже он написал свою «Почемучку» (7), как он называл ее, а тогда она еще только просилась на бумагу.
В таком окружении Шварц рос как писатель. Юмор у него, как всегда, был неистощим. Вот он пишет из отпуска: «Дорогая редакция! В случае, ежели что, мой адрес: Волоколамск, городская больница. Больница эта излечит результаты совместной полугодовой работы…» Или так: «Груздев, женатый и толстый, часами говорит по телефону, прикрывая трубку рукой, шепотом. Наверное, заказывает жене обед…» Или такую открытку получаем мы с женой: «Хотел к вам прийти в гости поужинать, но потом побоялся, что ужина нет. А по телефону спрашивать, есть ли у вас ужин, — стыдно. Скажете, что я только ужинать и хожу. А я не только…» Уходя, оставляет нам тут же сочиненную пародию на «жестокий» романс, с такими, например, строками:
Кругом у вас благополучно, А мы унылою тропой Уходим медленно, беззвучно, Безукоризненно домой.И так далее, и так далее. Он заражал своим весельем окружающих. Только что появившийся тогда из Белоруссии Леонтий Раковский с готовностью подписывает вместе со Шварцем пародию на официальный документ, и я получаю это «отношение» со всеми атрибутами «казенной бумаги» — с нарисованным штемпелем и даже с погашенной по всем правилам маркой. Юмор очень помогает в работе.
В 1925 году вышла первая книжка Шварца «Рассказ старой балалайки». «Инкубационный период» кончился. Евгений Шварц стал писателем. Одна за другой пошли его детские книжки в стихах и в прозе. Было совершенно естественно, что он первые свои произведения адресовал детям, можно было сообразить это еще в Доме искусств, когда дети облепляли его, чуть он показывался. Иные «взрослые» писатели, восхищенные его яркостью и блеском как человека, огорчались, что пишет он не так, как ожидалось, что в его детских вещах — осьмушка, четверть его дарования. Это никчемное взвешивание на весах прекратилось, когда в начале тридцатых годов Шварц родился как драматург. В его творчество влилось великолепное знание им театра, сцены. Стало ясно, что Шварц окончательно нашел себя в литературе.
Всегда мне казалось, что Шварц вроде как человек-оркестр, прекрасно владеющий и струнными, и духовыми, и ударными, но не желающий в полную силу пользоваться ими, пока он не подчинит их своему особому инструменту, на котором один только он и может, и умеет играть. Этот инструмент был каким-то очень нежным, хрупким, его мог разломать, разбить и уж во всяком случае заглушить гром и звон множества литературных оркестров того времени. Что-то вроде свирели пыталось вступить в строй звуков и замолкало, замирало. Эта свирель тоже была рождена романтикой тех начальных лет, в ней чистое человеколюбие искало своей особой мелодии.
Добрый инструмент Шварца постепенно вбирал в себя звуки всех других инструментов, сначала органа, арфы, скрипки, а под конец и барабана, и литавр. И тогда, когда он еще пел только для детей, взрослые уже чувствовали в нем нечто очень не детское, умудренное большим опытом. Приобретая все большую силу и звучность, этот шварцевский инструмент давал свой особый тон всей музыке его творчества. Добрая идея запела в произведениях Шварца звонко, громче всех труб и виолончелей, а в слуги взяла себе сарказм, злую сатиру. Шварц добился полноценного воплощения того, что зрело в нем тогда, когда он блистал среди нас и молчал в литературе. Сатирический дар Шварца стал орудием доброй идеи, передовым бойцом против всякой скверны. Шварц стал известным писателем. Книги его расходились быстро, пьесы — детские и взрослые — шли всегда с аншлагом, многие писатели высоко ценили его талант. В театре он нашел множество новых друзей. Н. П. Акимов и Б. В. Зон изобретательно ставили его пьесы — для взрослых и для детей. В некоторых литературно-административных сферах того времени он, впрочем, долго еще «не котировался». В начале тридцатых годов, например, Шварц принял участие в большой писательской поездке по новостройкам. Он вынес очень много ценного для себя из этого путешествия, но один литературный администратор постарался и в этом хорошем и полезном деле напомнить об иерархии, возвысить одних, унизить других. Он перед отъездом собрал всех участников и распределил места на пароходе по существовавшему тогда табелю о литературных рангах. Женя рассказывал мне:
— Он торжественно и публично назначил великим отдельные каюты, выдающимся — на двоих, а остальных рассовал по нескольку человек. Один выдающийся страшно обиделся и рвался в великие, но его одернули. Я, конечно, попал в «и другие»… — Потом он прибавил: — Ты знаешь, этот тип так нажал на чины, что я даже почувствовал, что у меня есть самолюбие. Нет, правда, я впервые заметил, что у меня самолюбие.
В середине тридцатых годов среди других был несправедливо арестован и Н. М. Олейников, ныне посмертно реабилитированный. Вскоре после его ареста некто длительным ночным звонком постарался напомнить Шварцу, что может прийти и его черед. Отворив дверь, Женя услышал только, как кто-то быстро сбегает по лестнице вниз.
Замечательный поэт П. Маркиш, человек большого, горячего таланта, огромной искренности и взыскательнейшего вкуса, как-то уже в военные годы говорил мне о сильном впечатлении, которое произвела на него пьеса Шварца «Тень». С особым напором, темпераментно, увлеченно называл он пьесу Шварца благородной, именно благородной по направленности, по мысли и чувству. Помнится, во время довоенной декады ленинградских театров в Москве (кажется, в 1940 году) была и статья Маркиша о «Тени». Маркиш нашел нужное слово для характеристики не только «Тени», но и всего творчества Шварца и человеческого облика его (8). Шварц всегда оставался активным человеколюбцем. Таким был и Маркиш, поэт-коммунист, натура чистая, самородная.
В последний предвоенный год Шварц как-то зашел ко мне и прочел начало новой пьесы, прямо и точно направленной против фашизма. Я был поражен яркостью и силой этих первых страниц «Дракона». В начале войны Шварц в соавторстве с Зощенко создал сатирическую антифашистскую пьесу, которая была поставлена Акимовым в блокадном Ленинграде (9). Блокадная зима свалила Шварца. Больной, обессиленный, он вынужден был эвакуироваться. В Кирове он заразился скарлатиной. Он писал мне: «…я заразился у гостившего у нас Никиты Заболоцкого скарлатиной и, как детский писатель, был увезен в детскую инфекционную больницу (10). Там я лежал в отдельной комнате, поправился, помолодел и даже на зависть тебе, о Миша, похорошел. Теперь я начинаю входить в норму. Дурнею помаленьку…» Работал он при этом неустанно. Он сообщает в том же письме: «Написал я тут пьесу… Зон и Большой драматический собираются ее ставить. Даже репетируют (11). До чего же отчаянные люди бывают на свете!..» Он находился в постоянной связи с Театром Комедии, с Акимовым, с которым в конце концов соединился в эвакуации. Он писал мне: «…Письма здесь, Миша, большая радость. Я знаю, что писатели не любят писать бесплатно. Но ты пересиль себя, и когда-нибудь это тебе отплатится…» Уже эти немногие строки показывают, что при всем напряжении тех лет, при всей большой работе, которой он отдавал себя в те годы, как писатель и общественник, спасительный юмор не покидал его.
В послевоенные годы все больше его мучила развивающаяся болезнь. Он не упоминал о ней, он старался жить как привык — в постоянных трудах, с постоянными мыслями об общих судьбах, а не о себе. К друзьям литературным и театральным прибавились теперь друзья в кино. Он писал сценарии, работал в содружестве с Г. М. Козинцевым (12). А болезнь все с большей силой овладевала им.
В середине пятидесятых годов наше поколение начало шагать в седьмой десяток лет. Шварц шагнул за год до меня. Свое выступление на банкете в честь Шварца Зощенко начал так:
— Шестьдесят лет — тут уже не до юмора…
Но был юмор и в его выступлении. Теплым дружеским чувством дышал этот товарищеский вечер.
Лето следующего года мы с женой проводили под Москвой. Туда Шварц писал нам все еще в обычном шутливом тоне. Вот, например, об одной рецензии: «Про меня написали обидно. Обозвали так: „Один из старейших ленинградских драматургов“. Легко ли читать это выздоравливающему!» Он со своим жизнелюбием и жизнестойкостью за полгода до смерти считал себя выздоравливающим. И дальше: «Поправляясь, все вспоминаешь старых друзей». Подписался он так: «Ваш вечный шафер».
Да, в 1924 году он был шафером на нашей свадьбе. Он тогда, опережая события, нетерпеливо спрашивал меня в письмах, еще с Донбасса: «Когда свадьба? Я очень люблю быть шафером, а потом ужинать». Когда мы с женой записывались в загсе, свидетелями были он и Константин Федин. К столу браков стояла очередь, и когда Федин вышел покурить, Женя бегал к нему и обратно каждую минуту, чтобы все были на местах, когда настанет торжественная минута, то есть когда нас вызовут. Он так суетился, что в конце концов его начали принимать за жениха. Но вот пришел наш черед. Хмурая женщина протянула мне с женой бумажку и, не подымая головы, не глядя на нас, проговорила скороговоркой («без знаков препинания», — сказал Женя):
— Брак считается состоявшимся к заведующему за подписью и печатью.
Этот процесс бракосочетания за канцелярским столом, запачканным, закапанным чернилами, был весело осмеян за ужином в дружеской компании.
— Я боялся, что она выдаст похоронные свидетельства, — говорил Женя. — Ты заметил, что она и женит, и хоронит? Когда она вас бракосочетала, она просто спутала выражение лица, выдала как на похороны.
Так я и вижу его источающим радость и веселье, но нарочито серьезным лицом, преисполненного дружбы и любви, но с обязательным острым словом.
— Ты заметил, что у меня римский профиль? — как-то вымолвил он и принял позу Юлия Цезаря.
Весьма возможно, что у него был профиль, который обычно называется римским. Наверное, Женю можно было назвать также полным и высоким, даже «крупным мужчиной». Но эти слова мало что определяют в нем. Они не передают той внутренней жизни, которая одушевляла весь его облик, постоянно меняя оттенки его голоса, жесты, выражение лица.
Его произведения много переводились на иностранные языки. Показывая мне как-то свои книги, изданные за рубежом, он вымолвил:
— Могу же и я наконец хоть раз похвастаться!
Да, о себе говорить он не умел и не любил.
Болезнь прогрессировала быстро. Когда пришел мой черед шагнуть через грань шестидесяти лет, Женя уже не выходил из дому, лежал безнадежно больной. И телеграмма, которую он прислал мне, была уже совсем лишена шутливого тона: «…Столько прожито вместе и рядом! Все время вспоминаю журнал „Забой“ в Донбассе, „Всесоюзную кочегарку“, соляной рудник имени Либкнехта… Целую тебя крепко. Работай как работал — все будет отлично. Твой старый друг Евгений Шварц».
Однажды, когда я зашел к нему, он слишком оживился, громко заговорил. Зная, что ему нужен прежде всего полный покой, я встревожился. Но покой был противопоказан ему. Я вышел в соседнюю комнату.
Страшно, когда умирает старый друг и ничем нельзя спасти.
1964
Эстер Паперная В редакции «Всероссийской кочегарки»
Летом 1923 года, закончив свою учебу в Харьковском университете, я приехала в Донбасс, в город Артемовск (тогда он еще назывался Бахмутом), и стала работать в редакции газеты «Всероссийская кочегарка». Там я познакомилась с двумя сотрудниками, с которыми сразу нашла общий язык и общие интересы: это были Евгений Львович Шварц и Николай Макарович Олейников. Шварц приехал из Ленинграда, а Олейников из Ростова-на-Дону, из редакции газеты «Молот».
Они сразу подружились, хотя по характеру были совсем разными людьми. Их объединяла горячая любовь к литературе, к книге, к слову. Оба были большими книголюбами, и часто между ними происходили своеобразные состязания по части библиофильской. И оба они были щедро одарены чувством юмора, только проявляли его по-разному. Олейников больше помалкивал и наблюдал, а потом как куснет за слабое место в человеке, так только держись бедняга, попавший ему на зубок! А Шварц острил много и щедро, легко, походя, и никогда не было в его шутках ранящего жала. Его остроумие, бившее фонтаном, было всегда добрым и каким-то симпатичным. И любили его все окружающие, независимо от их интеллектуального уровня. Шварц был блестяще остроумен, Олейников — ядовито умен!
Помимо своей непосредственной работы — заведование отделом информации — Шварц писал в «Кочегарке» фельетоны-раёшники по материалам рабкоровских писем и подписывался то «Щур», то «Леший». Каждую субботу он писал очередной фельетон (1), и эти субботние номера газеты пользовались огромной популярностью среди шахтеров, их ждали с нетерпением. Так же легко и остроумно писал Шварц стихотворные подписи под карикатурами, они рождались у него мгновенно. А как он умел импровизировать в тесном кругу друзей! Помню, однажды мы вчетвером (наше трио и Селивановский) состязались в глоссолалии — в бессмысленном наборе слов в стихотворной форме. Надо было без единой запинки читать, как стихи, первое, что подвернется под язык. Шварц оказался победителем, я даже запомнила эту бессмыслицу, лившуюся без запинки:
Олейников чудесный парень Репейников глухих пекарен Хранитель он и собиратель И доброхотнейший даятель Сармато-русской старины Ты огляди его штаны Прохлада в них и свежесть утра Река светлее перламутра И голубые облака А дальше подпись РКК.Вообще, по части жизнерадостного дуракаваляния Шварц был неутомимым и непревзойденным мастером. Он был организатором импровизированных спектаклей-миниатюр. В эти спектакли он втягивал и меня и Олейникова: расскажет нам приблизительную тему и слегка наметит мизансцену, а каждый из нас должен сам соображать, что ему говорить на сцене.
Помню, был один спектакль из времен французской революции. Я изображала аристократическую девушку, а Шварц — старого преданного слугу. Он прибегал в испуге и дрожащим голосом говорил: «Мадемуазель, там пришли какие-то люди, они все без штанов. Это, наверное, санкюлоты! (2)» Потом появлялся Олейников в роли санкюлота. Он совершенно не считался со стилем эпохи и говорил бездарно и абсолютно невпопад: «Богатые, денег много… Ну, не́чего, не́чего, собирай паяльники!» Тут не только зрители, но и артисты покатились со смеху. Шварц кричал на Олейникова, задыхаясь от смеха: «Тупица, гениальный тупица!» Потом во всех спектаклях, на какую бы тему они ни были, Олейников играл один и тот же образ — появлялся некстати и говорил одну и ту же фразу: «Богатые, денег много… Ну, нечего, нечего, собирай паяльники!» И спектакли от этого были безумно смешными.
Паперная Э. С., Розенберг А. Г., Финкель А. М. Парнас дыбом: Литературные пародии / Сост., подгот. текста и вступ. статья Л. Фризмана. М.: Худ. литература, 1990. 126 с.
У Шварца всегда слегка дрожали руки, и от этого у него был какой-то малограмотный почерк. К тому же по части знаков препинания Шварц был слабоват. Поэтому письма выглядели, как письма малограмотного человека. А когда Шварц валял дурака, то он нарочно писал с ошибками и невероятно вычурным стилем — это были великолепные образцы графоманских произведений. У меня была громадная пачка таких писем. Он писал их мне каждый день на длиннейших листах редакторской бумаги от имени братьев Эсякиных. Каждый из этих братьев ругал Олейникова и предостерегал меня, что он соблазнитель девушек и коварный обманщик. И каждый из них хвалил себя и предлагал свою любовь. А в конце каждого письма Эсякина-мама делала приписку: «Зачем вы губите моих сыновей?» Это были очаровательно смешные письма, и при всей их нелепости в каждом письме был виден характер пишущего — все шесть братьев имели свою индивидуальность. Как жаль, что письма братьев Эсякиных пропали в годы войны! Это были оригинальные, занятные литературные произведения.
Осенью Шварц уехал в Ленинград, а я в Харьков. Но мы договорились, что летом 1924 года снова приедем в Артемовск, в редакцию «Кочегарки». И сдержали свое слово. К этому времени очень окреп читательский и рабкоровский актив «Кочегарки», она стала настоящей любимой рабочей газетой. Родился литературный кружок, давший жизнь журналу «Забой», в котором Шварц принимал активное участие (3). Как он радовался каждому мало-мальски способному рабочему поэту, как носился с каждым стихотворением! Олейников тоже принимал горячее участие в журнале «Забой», главным образом, как организатор. Сам он тогда не писал и не думал, что станет писателем.
Втроем мы ходили по воскресеньям на рудник, где работал врачом отец Шварца — Лев Борисович. Эти прогулки за двенадцать километров по донецкой степи, пахнущей полынью и мятой, были очень веселыми и оживленными. Мы и беседовали на литературные темы, и вспоминали любимые стихи, которых знали великое множество, и пели песни, и спорили, и шутили. Шварц рассказывал очень смешные истории, изображал их в лицах или вдруг начинал медным голосом читать монолог председателя из «Пира во время чумы». Это у него получалось очень эффектно.
Осенью 1924 года я переехала из Харькова в Ленинград, а через год туда переехал Олейников. И снова Шварц и Олейников стали неразлучными друзьями. Деятельность их в детской литературе была интересной и богатой, она довольно широко известна, и мне незачем о ней рассказывать. Дружба Шварца и Олейникова позднее стала слабеть и под конец совсем прекратилась. Виноват в этом, вероятно, нелегкий характер Олейникова, о котором Самуил Яковлевич Маршак писал:
Берегись Николая Олейникова, Чей девиз — никогда не жалей никого!Связь с Донбассом и «Кочегаркой» мы поддерживали долго. Часто в Ленинград приезжали то Алексей Селивановский, то Борис Горбатов, то Михаил Тардов, то Лев Николаевич Марков. И всегда мы собирались вместе и были в курсе «Кочегаркинских» и «Забоевских» дел. Давно уже нет в живых никого из этих людей, и сколько всего страшного и грозного произошло за минувшие годы! И вспоминать об этих славных людях, о тех временах, когда мне посчастливилось знать их и работать с ними, для меня и радостно, и грустно…
23/VI — 66
Леонтий Раковский Воспоминания и дела…
В начале зимы 1924/25 года «Ленинградская правда» пригласила М. Л. Слонимского редактировать вместе с А. Г. Лебеденко, издававшийся при газете журнал «Ленинград». М. Слонимский тотчас же предложил мне оставить репортерскую работу и перейти в журнал… Я с радостью принял предложение Михаила Леонидовича…
В журнале «Ленинград» я оказался «поддужным» у Евгения Львовича Шварца, которого М. Слонимский взял на должность секретаря журнала.
Шварца я впервые увидел зимой 1923 года. Кто-то из моих знакомых университетских поэтов сказал, что в квартире артистов Мгеброва и Виктории Чекан на Толмачева, 14, собираются молодые литераторы. В один из таких вечеров я отправился к Мгебровым.
Там уже было десятка два гостей. В центре оказалась литературная группа «ничевоков». Я запомнил одного из них — плотного черноволосого юношу в суконной гимназической блузе, на которой цветными нитками было вышито на груди ступеньками сбегающее слово
«Ничевоки» читали стихи. В качестве «ведущего» выступал на вечере худощавый, светлоглазый блондин с римским, с горбинкой носом и живыми, насмешливыми глазами. Вместо обычных френчей и гимнастерок на нем была визитка с галстучком. И не только по костюму, но и по свободной манере держаться в светлоглазом человеке угадывался артист.
«Ничевок» в гимназической блузе что-то говорил о своей поэме, читал стихи и наконец умолк. Настала минутная пауза. И тут в наступившей тишине раздался звучный баритон светлоглазого. Он как бы невзначай, ровным, без нарочитого подчеркивания голосом спросил:
— А вы кончили?
— Что кончил? Поэму? — переспросил «ничевок».
В уголках губ светлоглазого задрожала улыбка:
— Нет, не поэму… Гимназию. Гимназию кончили?
Все заулыбались…
Этот остроумный, иронически-веселый светлоглазый человек был Евгений Шварц.
В журнале Евгений Львович (или, как мы все большей частью звали его, Женя) Шварц оказался моим непосредственным «начальником» и первым учителем в незнакомом для меня полиграфическом деле. Он учил меня расклейке номера, верстке, учил править корректуру и прочее.
Кроме редакторов А. Г. Лебеденко и М. Слонимского и секретаря Е. Шварца, в журнале «Ленинград» работали Н. П. Полетика, художник Н. И. Дормидонтов и фотограф А. Поповский.
Румянощекий, улыбчивый Николай Иванович Дормидонтов ведал оформлением журнала. Н. П. Полетика давал зарубежный материал. Фотографии поставлял известный К. Булла, но с ним самоотверженно пытался конкурировать наш присяжный фотограф, прихрамывающий, скромный А. Поповский. До революции Поповский работал в пропперовском «Огоньке». Он был ярый бытовик: любил снимать им самим инсценированные уличные, дворовые и базарные сценки. С утра до позднего вечера сидел он в редакции, готовый по первому зову тащить свою громоздкую треногу и громадную фотокамеру хоть на Пороховые или в Автово. Этого энтузиаста фоторепортерской работы, перебивающегося у нас в журнале с хлеба на квас, очень любил Шварц.
Евгению Львовичу нравилось в нашем необычном, незадачливом фотографе все: его философское отношение к жизни и его внешность, — небольшой русской бородкой, неторопливостью в движениях Поповский больше напоминал сельского дьячка, чем столичного фоторепортера.
Шварц старался подыскать Поповскому какую-либо сочную «фламандскую» тему. Так, однажды мы втроем — художники Н. И. Дормидонтов, П. И. Соколов и я — ездили с Поповским на городскую скотобойню, на Забалканский, 77, и Поповский увековечил нас на фоне целой ломовой «качки» с говяжьими тушами.
Работали мы в «Ленинграде» дружно и весело. <…>
…Евгений Шварц поместил в «Ленинграде» несколько маленьких рецензий на театральные постановки и новые кинофильмы. Он подписывался так: «Эдгар Пепо» (1) («Пепо» — Петроградское потребительское общество, аббревиатура, мелькавшая в витринах всех магазинов города).
В журнале «Ленинград» начинали свою литературную жизнь многие авторы: В. Андреев, Н. Баршев, Н. Браун, В. Валов, Л. Добычин, А. Садовский, Н. Смирнова, А. Чистяков, Н. Тощаков, А. Штейн.
Однажды вечером к нам в редакцию пришел Сергей Семенов, автор известного в то время романа «Голод». С ним был светловолосый, невзрачно одетый паренек. Евгений Шварц и я сидели у окна за нашим вторым столом, готовили очередной номер журнала. Мы не слыхали, о чем за редакторским столом говорил с нашими гостями Михаил Леонидович. Семенов и его спутник пробыли у нас недолго.
— Это молодой прозаик Голиков. Сергей Александрович говорит, что он очень талантлив, — сказал нам Слонимский.
Так я в первый (и к сожалению, в последний!) раз видел Аркадия Гайдара…
В декабре 1924 года Михаил Леонидович передал мне для сдачи в набор перевод Тынянова из Гейне:
Бей в барабан и не бойся беды И маркитанку целуй сильней…Ю. Н. Тынянова я видел и слышал в черном Зубовском особняке на Исаакиевской площади (2), в «Опоязе», куда я ходил слушать доклады по литературе… Конечно, для меня Ю. Тынянов оставался и в редакции «Ленинграда», как и в Зубовском особняке, — percona grata. А Шварц был с ним на дружеской ноге. Я слышал, как Евгений Львович говорил Юрию Николаевичу со всегдашней ясной улыбкой, что следует называть не «Тынянов», а «Вынянов».
Как-то вечером Евгений Львович сказал в моем присутствии Михаилу Леонидовичу:
— Миша, у нас к следующему номеру нет рассказа. Может, — вдруг обернулся он ко мне, — вы напишете, Ракович? (Так на югославский манер называл меня Евгений Львович.)
Как технический секретарь, я знал, что рассказ должен быть сдан в набор не позже завтрашнего вечера, и потому принял предложение Шварца за шутку.
— Леонтий Осипович, а может быть, вы и в самом деле дадите рассказ? — вполне серьезно обратился ко мне Слонимский.
В моем «портфеле» лежало всего лишь две вещи — рассказы «Сивопляс» и «Конь». К сказовому «Сивоплясу» я как-то охладел, он не был пока нигде пристроен, а «Коня» взяли в альманах Госиздата «Ковш».
— А что, если попробовать? — мелькнула в голове шальная мысль.
Дело в том, что я уже в течение довольно длительного времени вынашивал сюжет рассказа. Оставалось только сесть и написать.
— У меня сюжет готов… Я, пожалуй, смог бы… — ответил я.
— Ну, вот и хорошо! Поезжайте домой и пишите, — сказал Михаил Леонидович.
— Смотрите, Ракович, чтоб завтра рассказ был! — притворно сердито прорычал Шварц.
Я схватил с вешалки пальто и кепку и выбежал из редакции…
Вечером я положил на редакторский стол четко написанные от руки странички нового, третьего по счету, рассказа. Михаил Леонидович прочел «Месть» и написал в левом верхнем углу сакраментальное: «В набор».
Рассказ «Месть» (он оказался моим первым напечатанным рассказом) появился в декабрьском номере «Ленинграда» за 1924 год.
Евгений Львович был на редкость отзывчивым человеком и верным товарищем. Случилось так, что накануне нового, 1925 года я оказался совсем без денег. Нельзя сказать, чтобы и Шварц жил с семьей в роскошестве (я бывал у него на квартире в дворовом флигеле дома № 74 по Невскому). Но когда 30 декабря Евгений Львович получил в редакции три червонца, он по-братски разделил со мной полученный гонорар.
Шварц продолжал учить меня полиграфическому уму-разуму. Мы много времени проводили в наборной, в типографии. Сидя в ожидании, пока нам «тиснут» очередную полосу журнала, Евгений Львович тут же на «реале» (3), сочинял свои прелестные сказки — «Петрушку», «Вороненка» и «Балалайку», которую он писал стилем раешника: «Балалайка-то я, балалайка, а сколько мне годов, угадай-ка!..»
Писал Шварц и разные шуточные стихи. «Серапионы» каждый год первого февраля праздновали свою годовщину. К 1 февраля 1925 года Евгений Львович готовил коллективный портрет «Серапионов» в стихах. Он писал тут же, в типографии. Мне запомнились строчки о Зощенко:
Под звон кавалерийских сабель От Зощенки родился Бабель…(Конечно, правильнее было бы сказать наоборот!)
Завершалась эта стихотворная летопись так:
Вся семья Сарапионова Ныне служит у Ионова…(Ионов был директором Госиздата. В госиздатовских отделах служили Федин и Груздев).
Шварц, улыбаясь, писал, а я стоял рядом и читал из-за его плеча написанное. Я не выдержал и по старой привычке стихотворца прибавил к двум предыдущим строчкам следующие:
И от малого до старого Уважают Г. Сафарова,намекая на то, что Н. Никитин, К. Федин, М. Слонимский — работали в «Ленинградской правде», которую редактировал Г. Сафаров.
Евгению Львовичу понравилось, он включил мои строчки в свой текст…
…Коктебель издавна был любимым пристанищем людей искусства вообще и литературы в особенности…
Любопытно одно: к Коктебелю никогда не существовало равнодушного отношения. Он или покорит вас с первого взгляда всерьез и надолго, или не придется по душе навсегда.
Одним чужда и непонятна эта выжженная солнцем, библейски-пустынная, лишенная зелени, киммерийская земля. В Коктебеле нет парадной пышности, «красивости» южного берега. В Коктебеле нет ничего, кроме чебреца и полыни.
Травою жестокою, пахучей и седой, Порос бесплодный скат извилистой долины. Белеет молочай. Пласты размытой глины Искрятся грифелем и сланцем и слюдой. По стенам шифера, источенным водой, Побеги каперсов, иссохший ствол маслины… —писал о Коктебеле М. Волошин.
…Первый заезд в Коктебель ленинградцы совершили в августе 1932 года. Я попал туда в сентябре. Вместе со мной отдыхали: М. Зощенко, Е. Шварц, В. Шишков, А. Прокофьев, Н. Браун, М. Комиссарова, Н. Бутова, К. Меркульева, Л. Савин, П. Сажин, Е. Рысс, Н. Еселев и профессора В. Жирмунский, А. Смирнов и А. Франковский.
Увидев впервые после тихих белорусских березняков необъятное море, я как-то потерялся…
Зощенко приехал позже всех нас. В день его приезда нам впервые дали на обед по кусочку курицы. До этого в нашем меню о курице не было и речи. В тридцатые годы питание в Домах отдыха вообще было не слишком разнообразное и обильное. Когда кто-то отправлялся после завтрака в далекую прогулку — в Старый Крым или Козы, то не забывал сказать соседям:
— За обедом съешьте мою котлету и компот!
Увидев такое неожиданное «второе», Женя Шварц просиял. Потирая привычным жестом руки, он, как бы досадуя, вопросительно сказал:
— Опять курица? Все курица да курица!
И озорно оглядел нас.
Зощенко смотрел на улыбающихся товарищей, еще не понимая всей соли шварцевской шутки.
Главным занятием в Коктебеле было лежание на пляже с утра и до вечера с перерывами на еду.
В нашем коктебельском «гимне» так и пелось:
А там на пляже, Голей гола, Чернее сажи Лежат тела, Забыв про зиму И тьму забот, Там греют спину, Потом живот…На пляже или загорали до умопомрачения, или занимались собиранием красивых камешков, которыми так богат коктебельский берег…
В 1932 году никакой музыки в нашем Доме творчества не было, и никто не танцевал — это пришло потом. Вечер убивали одним из двух известных способов (кроме прогулок по берегу и дружеских бесед) — играли в шарады или пели.
В играх, конечно, отличался находчивый Женя Шварц. Вот он изображает в лицах прапорщика и генерала.
Серенькая кепочка надвинута на самый лоб, щеки втянуты, глаза подобострастно бегают — перед вами невзрачный «прапорщик армейский». А вот Женя вжал голову в плечи, смешно надул щеки и властно смотрит из-под нахмуренных бровей. И вы ясно видите: его превосходительство!
Пели вечерами все. На нашей территории чаще всего слышалось есенинское:
Луна стелила тени, Сияли зеленя. За голые колени Он обнимал меня…Когда пели «Стеньку Разина», Женя Шварц с улыбкой подчеркнуто выводил:
И за борт ее бросает В подходящую волну…Он вообще любил заменять привычный эпитет чем-либо неожиданным. Шварц частенько декламировал пушкинское:
И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть,— и, улыбаясь, кончал с пафосом:
И природа Красою вечною сиять…Шварц очень потешался, когда я рассказывал ему, как в Витебске на одном литературном вечере чтец-любитель из дантистов так окончил надсоновское «Не говорите мне: он умер…». В последней строке чтец забыл глагол «рыдает» и произнес по-своему:
Пусть арфа сломана, Аккорд еще… свистит…Николай Чуковский Евгений Шварц
На одном писательском собрании в Ленинграде, в середине тридцатых годов, выступил Евгений Львович Шварц и сказал:
— Говорить про себя: я — писатель так же неловко, как говорить про себя: я — красивый. Конечно, никому не возбраняется втайне, в глубине души надеяться, что он недурен собой и что кто-нибудь, может быть, считает его красивым. Но утверждать публично: я — красивый — непристойно. Так и пишущий может в глубине души надеяться, что он писатель. Но говорить вслух: я — писатель нельзя. Вслух можно сказать: я — член Союза писателей, потому что это есть факт, удостоверяемый членским билетом, подписью и печатью. А писатель — слишком высокое слово…
Он так действительно думал и никогда не называл себя писателем. В советской литературе проработал он лет тридцать пять, но только к концу этого периода стали понимать, как значительно, важно, своеобразно и неповторимо все, что он делает. Сначала это понимали только несколько человек, да и то не в полную меру. Потом это стали понимать довольно многие. Настоящий успех пришел к нему после смерти. Его пьесы «Снежная Королева», «Два клена», «Тень», «Дракон», «Необыкновенное чудо», «Голый король» завоевывают все новых читателей и зрителей. И с каждым годом становится все яснее, что он был одним из замечательнейших писателей России.
Мне трудно писать о нем, потому что я знал его слишком близко и слишком долго. Я познакомился и подружился с ним сразу после его приезда в Петроград, в 1922 году, и был у него в последний раз за месяц до его смерти в 1958 году (1). Я столько пережил с ним вместе, столько разговаривал с ним, наши согласия и разногласия носили такой устойчивый, привычный, застарелый характер, что я относился к нему скорее как к брату, чем как к другу. А никому еще не удавалось написать хороших воспоминаний о собственном брате.
Он родился в 1896 году, в Казани, и, следовательно, был старше меня на семь лет. Отец его, крещеный еврей, Лев Борисович Шварц, учился в конце прошлого века на медицинском факультете Казанского университета и, будучи студентом, женился на Марии Федоровне Шелковой. Помню, Евгений Львович одно время собирался подписывать свои сочинения фамилией матери — Шелков. Но намерения этого не осуществил, — вероятно, почувствовал в нем некую нечистоту и фальшивость (2).
Жизни в Казани он не помнил совсем, — двухлетним ребенком родители перевезли его на Северный Кавказ, в город Майкоп. Однажды Евгений Львович рассказал мне, что в течение многих лет его мучил один и тот же сон, постоянно повторявшийся. Ему снилась безграничная песчаная пустыня, накаленная солнцем; в самом конце этой пустыни — дворец с башнями, и ему непременно нужно пересечь эту пустыню и дойти до дворца. Он идет, идет, идет, изнемогая от зноя и жажды, и когда, наконец, до дворца остается совсем немного, ему преграждают путь исполинские кони, грызущие желтыми зубами вбитые в землю деревянные столбы. И вид этих коней был так страшен, что он всякий раз просыпался от ужаса. Как-то раз Евгений Львович уже взрослым человеком рассказал этот странно повторявшийся сон своему отцу, доктору Льву Борисовичу. Отец рассмеялся и сказал, что сон этот — воспоминание о переезде из Казани в Майкоп (3). Они ехали в июле, в самую жару, и на одной станции, где была пересадка, им пришлось ждать поезда целые сутки. Станционное здание — это и есть дворец с башнями. Перед станционным зданием была песчаная площадь, которую им приходилось пересекать, возвращаясь из трактира, где они завтракали, обедали и ужинали. А кони — извозчичьи лошади, привязанные к столбам перед станцией.
В Майкопе Женя Шварц прожил и детство, и юность. Но вспоминал об этом городе мало и редко. Я никогда не слышал от него ничего майкопского, кроме разве двух-трех смешных рассказов о майкопской гимназии. Уехав после окончания гимназии из Майкопа, он ни разу в жизни больше туда не возвращался (4). <…>
Годы гражданской войны Женя Шварц прожил в Ростове-на-Дону. Он там учился — не знаю, где (5). Там он начал писать стихи — по большей части шуточные. Там он служил в продотряде (6). Там он стал актером. Там он женился.
Первая жена его была актриса, ростовская армянка Гаянэ Халаджиева, по сцене Холодова, в просторечии — Ганя, маленькая женщина, шумная, экспансивная, очень славная. Она долго противилась ухаживаниям Шварца, долго не соглашалась выйти за него. Однажды, в конце ноября, поздно вечером, шли они в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что по первому слову выполнит любое ее желание.
— А если я скажу: прыгни в Дон? — спросила она.
Он немедленно перескочил через парапет и прыгнул с набережной в Дон, как был — в пальто, в шапке, в калошах. Она подняла крик, и его вытащили. Этот прыжок убедил ее — она вышла за него замуж (7).
Они приехали в Петроград в мае 1921 года (8). Петроград был давнишней мечтой Шварца, он стремился в него много лет. Шварц был воспитан на русской литературе, любил ее до неистовства, и весь его душевный мир был создан ею. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков и, главное, Чехов были не только учителями его, но ежедневными спутниками, руководителями в каждом поступке. Ими определялись его вкусы, его мнения, его нравственные требования к себе, к окружающим, к своему времени. От них он унаследовал свой юмор — удивительно русский, конкретный, основанный на очень точном знании быта, на беспощадном снижении всего ложноторжественного, всегда тайно грустный и всегда многозначный, то есть означающий еще что-то, лежащее за прямым значением слов. Русская литература привела его в Петроград, потому что для него, южанина и провинциала, Петроград был городом русской литературы. Он хорошо знал его по книгам, прежде чем увидел собственными глазами, и обожал его заочно, и немного боялся, — боялся его мрачности, бессолнечности.
А между тем, когда он приехал, Петроград больше всего поразил его своей солнечностью (9). Он мне не раз говорил об этом впоследствии. Прежде в мае Петроград, залитый сиянием почти незаходящего солнца, был светел и прекрасен. В начале двадцатых годов он был на редкость пустынен, жителей в нем было вдвое меньше, чем перед революцией. Автобусов и троллейбусов еще не существовало, автомобилей было штук десять на весь город, извозчиков почти не осталось, так как лошадей съели в девятнадцатом году, и только редкие трамваи, дожидаться которых приходилось минут по сорок, гремели на заворотах рельс. Пустынность обнажала несравненную красоту города, превращала его как бы в величавое явление природы, и он, легкий, омываемый зорями, словно плыл куда-то между водой и небом.
Приехал Шварц не один, а вместе со всей труппой маленького ростовского театрика, которая вдруг, неизвестно почему, из смутных тяготений к культуре покинула родной хлебный Ростов и, захватив свои убогие раскрашенные холсты, переехала навсегда в чужой голодный Питер. Я забыл как театрик этот назывался. Он возник незадолго перед тем из лучших представителей ростовской интеллигентской молодежи. В годы гражданской войны каждый город России превратился в маленькие Афины, где решались коренные философские вопросы, без конца писались и читались стихи, создавались театры — самые передовые и левые, ниспровергавшие все традиции и каноны. Театрик, где актером работал Шварц, до революции назвали бы любительским, а теперь — самодеятельным, но в то время он сходил за настоящий профессиональный театр. Характер он носил почти семейный: ведущее положение в нем занимали два Шварца — Евгений и его двоюродный брат Антон — и их жены — жена Евгения Ганя Холодова и жена Антона Ирина Бунина (10). Режиссером был Павел Вейсбрем, которого все называли просто Павликом (11). Остальные актеры были ближайшие друзья-приятели. По правде говоря, в театрике этом был только один человек с крупным актерским дарованием — Костомолодский. Это был прирожденный актер, стихийно талантливый, настоящий комик, — когда он выходил на сцену, зрители задыхались от хохота при каждом его движении, при каждом слове. <…>
Переехав в Петроград, труппа захватила пустующее театральное помещение на Владимирском проспекте. У нее в репертуаре были пьесы — «Гондла» Гумилева, «Проделки Скапена» Мольера и «Трагедия об Иуде» Алексея Ремизова. В гумилевской пьесе главную роль — роль Гондлы — исполнял Антон Шварц. Пьеса Гумилева, написанная хорошими стихами, совершенно не годилась для постановки, потому что это не пьеса, а драматическая поэма, спектакль свелся к декламации, — декламировал больше всех Антон Шварц. <…>
Конечно, театрик этот оказался чрезвычайно неустойчивым и скоро распался. Петроград как бы растворил его в себе. Костомолоцкого заприметил Мейерхольд и взял в свой театр в Москву. Павлик Вейсбрем стал второстепенным петроградским режиссером и долго кочевал из театра в театр. Ганя Холодова и Ирина Бунина тоже много лет работали в разных театрах на маленьких ролях. Остальные расстались с актерством навсегда. Я не раз потом удивлялся близкому знакомству Жени Шварца с каким-нибудь экономистом, юрисконсультом или завклубом, и он объяснял:
— А, это бывший актер нашего театра.
Юрисконсультом стал и Антон Шварц, юрист по образованию. Но страсть к чтению вслух не оставила его. Несколько лет спустя он занялся этим профессионально, бросил свое юрисконсульство и очень прославился как чтец-декломатор. А Женя Шварц потянулся к литературе. Он как-то сразу, с первых дней, стал своим во всех тех петроградских литературных кружках, где вертелся и я.
Не могу припомнить, кто меня с ним познакомил, где я его увидел в первый раз. Он сразу появился и у серапионов, и у Наппельбаумов (12), и в клубе Дома искусств. И у серапионов, и в Доме искусств его быстро признали своим, привыкли к нему так, словно были знакомы с ним сто лет.
В то время он был худощав и костляв, носил гимнастерку, обмотки и красноармейские башмаки. Никакой другой одежды у него не было, а эта осталась со времен его службы в продотряде. У него не хватало двух верхних передних зубов, и это тоже была память о службе в продотряде: ночью, в темноте, он споткнулся, и ствол винтовки, которую он нес перед собой в руках, заехал ему в рот.
Шварц стал часто бывать у меня. Жил я тогда еще с родителями, на Кирочной улице.
Родителям моим Женя Шварц понравился, и отец взял его к себе в секретари. Не понравиться он не мог, — полный умного грустного юмора, добрый, начитанный, проникнутый подлинным уважением к литературе, очень скромный и деликатный, Женя Шварц уже тогда обладал непобедимым обаянием, привлекавшим к нему всех думающих и истинно даровитых людей. У отца с первых лет революции всегда был какой-нибудь секретарь или, как он говорил, помощник. Это была странная должность с трудноопределимым кругом обязанностей. Пожалуй, основная и непременнейшая обязанность секретаря или помощника заключалась в том, чтобы разделять все умственные увлечения моего отца, будь то увлечение детским языком, или текстами Некрасова, или тайнописью Слепцова, или искусством перевода, или Блоком, Ахматовой, Репиным, Маяковским. Секретарь служил для моего отца первой проверкой всего, что он писал: он читал ему свои наброски и черновики и жадно следил по его лицу, какое это производит впечатление. Таким образом, секретарь прежде всего был собеседник, на котором проверялись мысли. Все остальные обязанности секретаря — ходить с поручениями в издательства, доставать нужные книги в библиотеках, подходить к телефону, надписывать и заклеивать конверты — носили третьестепенный характер. Естественно, что секретарь должен был быть человеком, мнение которого отец мог уважать. Если секретарь не любил литературу, оказывался невосприимчивым к ней, он долго не удерживался. Зато человеку пытливому, истинно литературному секретарство у моего отца давало образование, которого не мог дать университет. <…> С большинством секретарей у отца устанавливались дружеские отношения, которые потом не прерывались уже всю жизнь. Так как секретарь обедал и ужинал в нашей семье, у него устанавливались дружеские отношения со всеми членами семьи. И те несколько месяцев, которые Шварц проработал секретарем у отца, сблизили меня с ним еще больше.
Я нередко бывал и у него. Жил он тогда на Невском, недалеко от Литейного, во дворе доходного дома, в маленькой квартиренке с таким низким потолком, что до него можно было достать рукою. У Жени Шварца была тогда большая и очень трудная семья. Ганя Холодова привезла с собой из Ростова свою мать и своего младшего брата Федю. Теща Шварца, Эскуи Романовна Холоджиева, была красивая, добрая и мудрая старуха, почти неграмотная, хотя происходила из хорошей армянской семьи — ее родной дядя был Налбандян, известный армянский просветитель, друг Герцена. Федя, пламенный юноша с гортанным голосом, скоро женился, и в квартиренке обосновалась еще и его жена Леля — сдобная бело-розовая блондинка. В этом шумном семействе Женя — с тихим голосом, грустным юмором и деликатной уступчивостью — совершенно терялся. У него не было места ни для работы, ни для отдыха. А между тем он был единственным кормильцем всех этих многочисленных Холоджиевых, — он, актер закрывшегося театра и литератор, еще ничего не написавший.
Естественно, что семья крайне бедствовала, и Женя жил в постоянных поисках заработка. Однако в те годы, годы молодости, это его нисколько не угнетало. Все кругом тоже были отчаянно бедны, и поэтому бедностью он не выделялся. Бедны были и все серапионы, с которыми, как я уже говорил, он сблизился сразу после переезда в Петроград. Ему разрешалось присутствовать на их еженедельных собраниях, а это была честь, которой удостаивались немногие. Из серапионов он особенно подружился с Зощенко и Слонимским. И вот в самом начале 1923 (13) года он затеял с Михаилом Слонимским поездку на Донбасс.
На Донбассе, в Юзовке (14), при газете «Всесоюзная кочегарка», создавался литературный журнал. Кому-то там пришла в голову мысль привлечь для работы в новом журнале петроградских литераторов. Как это все устроилось, не помню, но приглашение получили Миша Слонимский, Женя Шварц и я. Поколебавшись, я отказался, а Миша и Женя уехали (15).
Они отсутствовали месяцев восемь и деятельно со мной переписывались. По-видимому, организация журнала оказалась делом очень увлекательным. Из их рассказов я помню, что редактором был назначен человек очень добрый, но малограмотный и безвкусный. Он начал с того, что созвал совещание редакционных работников, чтобы изобрести для журнала название. Шварц высказал мнение, что название должно быть не банальным, не затасканным и в то же время близким сердцу шахтера. Редактор совершенно с ним согласился и, пока Шварц говорил, подбадривал его кивками головы. Когда Шварц кончил, он поблагодарил его и сказал, что у него есть прекрасное название для журнала: «Красный Ильич». Переубедить его было невозможно. К счастью, губком это название не разрешил, а утвердил предложенное Шварцем: «Забой».
Донбасский журнал «Забой» выходил много лет и был очень недурным журналом. Шварц и Слонимский, наладив его, осенью вернулись в Петроград. Уехали они из Петрограда вдвоем, а вернулись втроем. Они привезли с собой своего нового друга Николая Макаровича Олейникова (16).
Коля Олейников был казак, и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, похожий лицом на Козьму Пруткова, с чубом, созданным Богом для того, чтобы торчать из-под фуражки с околышком. Он был сыном богатого казака, державшего в станице кабак, и ненавидел своего отца. Все его взгляды, вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его в детстве быту. Родня его сочувствовала белым, а он стал яростным большевиком, вступил сначала в комсомол, потом в партию. Одностаничники избили его за это шомполами на площади, — однажды он снял рубаху и показал мне свою крепкую спину, покрытую жутким переплетением заживших рубцов.
Первоначальным увлечением Олейникова была вовсе не литература, а математика. У него были замечательные математические способности, но занимался он математикой самоучкой, покупая учебники на книжных развалах. <…> Особенно интересовала его теория вероятности.
В журнал «Забой» Олейникова прислали из губкома. Это было первое его соприкосновение с редакционной работой, с литературой. В редакции «Забоя» он подружился с Шварцем и Слонимским. Когда Шварц и Слонимский стали собираться в Петроград, он решил поехать с ними.
Он показывал мне официальную справку, с которой приехал в Петроград. Справка эта, выданная его родным сельсоветом, гласила:
«Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Макарович действительно красивый. Дана для поступления в Академию художеств».
Печать и подпись. Олейников вытребовал эту справку в сельсовете, уверив председателя, что в Академию художеств принимают только красивых. Председатель посмотрел на него и выдал справку.
Олейникову в высшей степени свойственна была страсть к мистификации, к затейливой шутке. Самые несуразные и причудливые вещи он говорил с таким серьезным видом, что люди малопроницательные принимали их за чистую монету. Олейникова и Шварца прежде всего сблизил свойственный им обоим юмор, — и очень разный у каждого, и очень родственный. Они любили смешить и смеяться, они подмечали смешное там, где другим виделось только торжественное и величавое. Юмор у них был то конкретный и бытовой, то пародийный и эксцентрический, вдвоем они поражали неистощимостью своих шуток, с виду очень простых и веселых, но, если посмотреть поглубже, то порой захватывало дух от их печальной многозначительности.
Я уже сказал, что первыми произведениями Шварца были шуточные стихотворения, которые он сочинял с легкостью по всякому поводу и без повода. Они далеко не всегда были удачны, да он и не придавал им никакого значения и щедро плескал ими во все стороны. Еще из Ростова привез он целый цикл стихотворений про некоего князя Звенигородского, напыщенного идиота, рассуждавшего самым нелепым и смешным образом обо всем на свете. Одно из стихотворений начиналось так:
Звенигородский был красивый, Однажды он гулял в саду И ел невызревшие сливы. Вдруг слышит: быть тебе в аду!..Всем этим своим молниеносным шуточным стихам, основным качеством которых была нелепость, Шварц не придавал никакого значения, и в его творчестве они занимают самое скромное место. Но, как это ни странно, они оказались как бы зерном, из которого выросла буйная поросль своеобразнейших стихов, расцветших в ленинградской поэзии конца двадцатых и начала тридцатых годов. Кажущаяся нелепость была основным отличительным признаком всей этой поэзии.
Наиболее непосредственное влияние шуточных стихов Шварца испытал на себе Олейников.
Олейников никогда не считал себя поэтом. До переезда в Ленинград он стихов не писал. Но очень любил стихи и очень ими интересовался. В редакции «Забоя» он ведал начинающими поэтами, и наиболее причудливые из их стихотворений переписывал себе в особую тетрадку. У него образовалась замечательная коллекция плохих стихов, доставлявшая его насмешливому уму большое удовольствие.
Помню, что одно стихотворение из этой коллекции начиналось так:
Когда мне было лет семнадцать, Любил я девочку одну, Когда мне стало лет под двадцать, Я прислонил к себе другу.В Ленинграде Олейников стал писать стихи, как бы подхватив игру, начатую Шварцем. Стихи его были еще причудливее Шварцевых. Расцвету его поэзии чрезвычайно способствовало то, что они оба — и Олейников и Шварц — стали работать в Детском отделе Госиздата.
Детский отдел Госиздата в Ленинграде в первые годы своего существования был учреждением талантливым и веселым. Возник он примерно в 1924 году. Создали его по инициативе моего отца, но с 1925 года настоящим его руководителем стал Самуил Яковлевич Маршак, вернувшийся с юга в Ленинград (17). Впрочем, официальным заведующим Детского отдела числился не Маршак, а небольшого роста человечек Соломон Николаевич Гисин, начисто лишенный юмора и литературных дарований, но зато ходивший в косоворотке и в высоких сапогах. Как-то кто-то спросил Маршака, почему тов. Гисин — Соломон Николаевич.
— Соломон — это он сам, — ответил Маршак, — а Николаевич — это его сапоги.
В этом царстве Гисина и Маршака Шварцу и Олейникову на первых порах жилось хорошо и привольно. То была эпоха детства детской литературы, и детство у нее было веселое. Детский отдел помещался на шестом этаже Госиздата, занимавшего дом бывшей компании Зингер, Невский, 28; и весь этот этаж ежедневно в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители Детского отдела до того ослабевали от смеха, что, кончив свои дела, выходили на лестничную площадку, держась руками за стены, как пьяные. Шутникам нужна подходящая аудитория, а у Шварца и Олейникова аудитория была превосходнейшая. В Детский отдел прислали практикантом молоденького тоненького студентика по имени Ираклий Андроников. Стихов практикант не писал никаких, даже шуточных, но способностью шутить и воспринимать шутки не уступал Шварцу и Олейникову. Ежедневно приходили в Детский отдел поэты — Введенский, Хармс, Заболоцкий — люди молодые, смешливые, мечтавшие о гротескном преображении мира, огорчавшего их своей скучной обыденностью. А шутки Шварца и Олейникова, самые домашние и незатейливые, именно тем и отличались, что обыденность превращали в гротеск. Олейников писал:
Я люблю Генриэтту Давыдовну, А она меня, кажется, нет. Ею Шварцу квитанция выдана, Ну а мне и квитанции нет.Генриэтта Давыдовна Левитина была прехорошенькая молодая женщина, жена чекиста Домбровского, родного внука того знаменитого Домбровского, который командовал вооруженными силами Парижской коммуны. Она тоже служила в Детском отделе, и чаще ее называли просто Груней. Шварц и Олейников играли, будто оба влюблены в нее, и сочиняли множество стихов, в которых поносили друг друга от ревности и воспевали свои любовные страдания.
При Детском отделе издавались два журнала — «Чиж» и «Еж». «Чиж» — для совсем маленьких, «Еж» — для детей постарше. Конечно, Маршак, руководивший всем Детским отделом, руководил и этими журналами. Однако до журналов у него руки не всегда доходили, и настоящими хозяевами «Чижа» и «Ежа» оказались Шварц и Олейников. Никогда в России, ни до ни после, не было таких искренне веселых, истинно литературных, детски озорных детских журналов. Особенно хорош был «Чиж», — каждый номер его блистал превосходными картинками, уморительными рассказиками, отточенными, неожиданными, блистательными стихами. В эти годы Шварц пристрастился к раешнику (18). В каждый номер «Чижа» и «Ежа» давал он новый раешник, — веселый, свободный, естественный, без того отпечатка фальшивой простонародности, который обычно лежит на раешниках. Олейников участвовал в этих журналах не как поэт и даже не как прозаик, а скорее как персонаж, как герой. Героя этого звали Макар Свирепый. Художник — если память мне не изменяет, Борис Антоновский — изображал его на множестве маленьких квадратных картинок неотличимо похожим на Олейникова — кудри, чуб, несколько сложно построенный нос, хитрые глаза, казацкая лихость в лице. Подписи под этими картинками писал Олейников; они всегда были блестяще забавны и складывались в маленькие повести, очень популярные среди ленинградских детей того времени.
Из молодых поэтов, печатавшихся в Детском отделе и его журналах, самым даровитым и резко своеобразным был Даниил Хармс. Вообще двадцатые годы были эпохой небывалого художественного расцвета поэзии для детей. Тяготение к эксцентризму как основе стиля и видения мира казалось наиболее оправданным именно в поэзии для детей. В эти годы были созданы лучшие сказки моего отца и Маршака. Сказки эти живут и посейчас и имеют десятки миллионов читателей. Но почему-то забыты другие сказки, созданные почти в то же время и по-своему столь же блистательные, — сказки Хармса, Введенского и Евгения Шварца (19). <…>
Шварц был писатель, очень поздно «себя нашедший». Первые десять лет его жизни в литературе заполнены пробами, попытками, мечтами, домашними стишками, редакционной работой. Это была еще не литературная, а прилитературная жизнь — время поисков себя, поисков своего пути в литературу. О том, что путь этот лежит через театр, он долго не догадывался. Он шел ощупью, он искал, почти не пытаясь печататься. Искал он упорно и нервно, скрывая от всех свои поиски. У него была отличная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов — юмор. От всего, по-настоящему его волнующего, он всегда отшучивался. Он казался бодрым шутником, вполне довольным своей долей. А между тем у него была одна мечта — высказать себя в литературе. Ему хотелось передать людям свою радость, свою боль. Он не представлял себе своей жизни вне литературы. Но он слишком уважал и литературу, и себя, чтобы превратиться в литературную букашку, в поденщика. Он хотел быть писателем, — в том смысле, в каком понимают это слово в России, — то есть и художником, и учителем, и пророком.
Тех, кого он считал писателями, он уважал безмерно.
Помню, как летом 1925 года мы шли с ним вдвоем по Невскому, по солнечной стороне, и вдруг увидели, что навстречу нам идет Андрей Белый (24). Мы заметили его издали, за целый квартал. Белый шел, опираясь на трость, стремительной своей походкой, склонив седую голову набок и никого не замечая вокруг. Он шел сквозь толпу, как нож сквозь масло, на людном Невском он казался совершенно одиноким. Как метеор пронесся он мимо нас, погруженный в себя и не обратив на нас никакого внимания.
Шварц остановился и остановил меня. Мы долго смотрели Белому вслед — пока его не скрыла от нас толпа, далеко, где-то у Главного штаба.
— Он думает, — сказал Шварц, почтительно вздохнув.
В то лето у нас родилась дочь Наталья, и моя теща настаивала, чтобы она была крещена. Теща моя была превосходная женщина, окончившая Смольный институт; взгляды ее на протяжении жизни претерпели крутую эволюцию, и к старости она стала безбожницей. Но тогда, в 1925 году, она находилась еще в начале своей эволюции, и ей казалось невозможным, что внучка ее останется некрещеной. Мы с женой уступили ей, потому что не придавали этому обряду никакого значения.
Женя Шварц внезапно предложил нам стать крестным отцом нашей девочки. Он сказал, что никогда еще никого не крестил и что ему это очень любопытно. Мы с женой почувствовали в этом предложении проявление нежности к нашей семье, и были тронуты, и охотно согласились. Я давно уже знал, что Женя Шварц привязчивый и нежный человек, прячущий свою нежность за шуткой, как, впрочем, и все остальные свои чувства. И я, хотя сам смотрел на крестины как на ничего не значащую дань традиции, был взволнован его желанием покумиться со мной. На крестинах, происходивших в квартире моей тещи, он был застенчив и мил, приветлив со всеми и мягко шутил. Вместе с нами он испугался, когда поп, положив огромную ладонь на крошечное личико новорожденной, опустил ее в воду.
Через год или два в семье Шварца случилось трагическое событие — повесился Федя, брат Гани Холодовой. Этот Федя постоянно ревновал свою жену Лелю и, кажется, без всяких оснований. Леля была беременна, но от этого он ревновал ее не меньше. Однажды Леле вздумалось пойти на какую-то вечеринку. Федя сказал ей, что если она вернется позже часа, он покончит с собой. Она вернулась в двадцать минут второго. Он уже висел.
Все это несчастье произошло в квартире Шварца и потрясло его. На руках у него остались три тяжко страдавшие женщины — мать повесившегося, вдова повесившегося и сестра повесившегося. Горе их не имело границ, и Женя, разумеется, не мог предложить им никакого утешения.
В связи с этим печальным событием я совершил самый бестактный поступок за всю мою жизнь. Случилось это так. Примерно месяц спустя я встретил Женю и его вопрос, почему я так долго не захожу, ответил, что я не решался зайти, так как полагал, что им всем сейчас не до гостей.
— Ошибаешься, — возразил он мне. — Нужно же попытаться хоть немного вывести их из уныния. Они тебя любят, будут тебе рады, и, может быть, тебе удастся хоть немного развлечь их.
Я обещал прийти и через несколько дней зашел. Шварца я не застал, но все три женщины были в сборе. Они пили чай и посадили меня с собой за стол. Эскуи Романовна, мать, седая и красивая, застыла в безысходной печали. Леля, вдова, опустив растерянное и испуганное лицо к припухшему животу, звякала большими ножницами — она шила распашонки для будущего младенца; несмотря на горе и на беременность, с одного взгляда на нее было понятно, как должен был сходить с ума черный, словно жук, Федя от ее белокурой, бело-розовой прелести. Горе Гани Шварц, сестры, было патетическим и шумным. Она страдала и за себя, и за мать, и за Лелю.
— Ужасно!.. Ужасно!.. Это невозможно пережить!.. — говорила она, хватая меня за руки.
Я растерялся. Я пришел, чтобы рассеять их и хоть немного отвлечь от мрачных мыслей, но не знал, как взяться за дело. Однако во время чаепития разговор все же завязался, и я рассказывал о своих домашних делах, об общих знакомых. Меня слушали внимательно, с интересом. Я рискнул пошутить. Ганя рассмеялась; смотрю — даже Эскуи Романовна улыбнулась уголками губ. Это придало мне смелости; я разговорился, стараясь выбирать темы повеселее. Теперь улыбались все трое, даже Леля. Ганя подавала мне бойкие реплики и громко смеялась. Я был очень доволен собой и становился все красноречивее.
Мы с увлечением обсуждали внешность наших знакомых, переходя от одного к другому. Я настаивал, что один наш общий приятель очень красив. По мнению Гани, он был бы недурен, если бы не то, что у него слишком длинный нос. У меня тоже длинный нос; я решил воспользоваться этим, чтобы повернуть шутку на себя, и, приставив палец к своему носу, сказал:
— В доме повешенного не говорят о веревке.
Женя Шварц повторял мне эту мою фразу много-много лет. Он повторял ее, задыхаясь и трясясь от смеха, и никогда не упрекал меня за нее. Но я всегда слышал в его смехе упрек, так как знал, что для него труднее всего простить людям душевную грубость.
Он всегда судил людей, всегда награждал их в глубине своей души за доброе и осуждал за злое. <…> Суд Шварца был не только суд справедливый, но и добрый, милостивый; судя, Шварц никогда не забывал о той многогрешной старухе из «Братьев Карамазовых», которая один раз нищему луковку подарила и тем искупила все свои грехи. Кроме того, это был суд тайный, о котором никто не догадывался и приговоры которого никто не приводил в исполнение, даже сам Шварц. Свои приговоры Шварц всегда скрывал за шутками, и нужно было быть очень душевно чутким человеком, чтобы догадаться, что эта шутка и есть приговор. Явного суда он не любил и не признавал права судить вслух ни за кем, даже за собой; ему по душе был только один громкий, явный суд — суд искусства.
Во второй половине двадцатых годов вышла в свет стихотворная сказка Шварца «Степка-Растрепка и Погремушка» (20). Эта прелестная сказка в стихах для маленьких детей не переиздавалась уже лет тридцать пять, что свидетельствует только о том, как мы не умеем ценить и беречь наши сокровища; она могла бы расходиться каждый год в миллионах экземпляров и весело учить читателей изяществу мысли, телесной и душевной чистоплотности. Вдруг в литературе возник человеческий голос, мягко, но настойчиво изобличающий грязь, лицемерие, жестокость и говорящий о красоте доброты. Конечно, в «Степке-растрепке» голос этот был еще очень невнятен; прошли годы, прежде чем он окреп и стал голосом «Обыкновенного чуда», «Тени», «Дракона», — голосом, говорящим правду навеки. Шварц как писатель созревал медленно. Как человек он созрел гораздо быстрее, но прошли годы, прежде чем он нашел изобразительные средства, чтобы выразить самого себя.
В конце двадцатых годов в Ленинграде образовалось новое литературное объединение — обериуты. Не помню, как расшифровывалось это составное слово. (О — это, вероятно, общество, ре — это, вероятно, реалистическое, но что означали остальные составляющие — сейчас установить не могу) (21). Обэриутами стали Хармс, Александр Введенский, Олейников (22), Николай Заболоцкий, Леонид Савельев (27) и некоторые другие. Не знаю, вступил ли в обериуты Шварц, — может быть, и не вступил. Насмешливость мешала ему уверовать в какое-нибудь одно литературное знамя. Но, конечно, он был с обериутами очень близок, чему способствовала его старая дружба с Олейниковым и новая очень прочная дружба с Заболоцким — дружба, сохранившаяся до конца жизни.
Олейников по-прежнему писал только домашние шуточные стихи и не делал ни малейших попыток стать профессиональным литератором. Как бы для того чтобы подчеркнуть шуточность и незначительность своих произведений, он их героями делал обычно не людей, а насекомых. В этом он бессознательно следовал древнейшей традиции мировой сатиры. Чем ближе подходило дело к середине тридцатых годов, тем печальнее и трагичнее становился юмор Олейникова. Как-то раз на переломе двух десятилетий написал он стихотворение «Блоха мадам Петрова».
Эта несчастная блоха влюбилась. Чего только она ни делала, чтобы завоевать любовь своего избранника:
Юбки новые таскала Из чистейшего пике, И стихи она писала На блошином языке. Но прославленный милашка Оказался просто хам, И в душе его кондрашка, А в головке тарарам.Разочарованная в своем любимом, блоха мадам Петрова разочаровалась во всей вселенной. Все, что происходит в мире, кажется ей ужасным:
Страшно жить на белом свете — В нем отсутствует уют. Тигры воют на рассвете, Волки зайчиков грызут. Плачет маленький теленок Под кинжалом мясника, Рыба бедная спросонок Лезет в сети рыбака. Лев рычит во мраке ночи, Кошка стонет на трубе, Жук-буржуй и жук-рабочий Гибнут к классовой борьбе.И блоха, не перенеся этой жестокости мира, кончает жизнь самоубийством:
С горя прыгает букашка С трехсаженной высоты, Расшибает лоб бедняжка. Расшибешь его и ты. <…>О его личной трагедии — о разрыве с Ганей Холодовой и женитьбе на Екатерине Ивановне — я знаю очень мало. Женя Шварц был скрытен, и никакая близость и дружба не могли заставить его разговориться о том, что, по его мнению, касалось его одного. Я узнал обо всем очень поздно, так же поздно, как и Ганя Холодова, в один час с нею.
Весной 1929 года Ганя Холодова должна была родить. Шварцы стали подыскивать дачу, чтобы сразу после Ганиных родов туда переехать. Так как они, и мы по своим средствам не могли снять целую дачу, нам пришло в голову объединиться и снять одну дачу пополам. Нашли мы дачу в Токсове, к северу от Ленинграда, — она нам понравилась тем, что была совсем новая, только что построенная, чистая. Мы переехали туда сразу, а Шварцы должны были переехать только после Ганиных родов. <…>
Ганя приехала счастливая, довольная, гордая своим младенцем (23). Я спросил ее, когда приедет Женя, и она мне уверенно ответила: завтра утром. Но он не приехал ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день. Ганя, занятая ребенком, забеспокоилась, но очень мало (24).
Приехав, Шварц заперся с Ганей, и мы только слышали, как она кричала… Он пробыл с ней час, наскоро простился с нами и побежал к поезду. Лицо у него было белое, в крупных каплях пота. Через три дня Ганя с младенцем и матерью переехала в город.
Больше Шварц к ней не вернулся, и до конца жизни их связывала только дочка. Это была трудная, мучительная для обоих, но прочная связь, потому что Шварц очень любил свою дочь. Ему вообще было свойственно очень любить, и он никогда не умел противостоять любви, потому что был слабый человек. Он совершал решительные поступки именно потому, что чувствовал свою слабость. Полюбив Ганю, он прыгнул с набережной в Дон. Полюбив Екатерину Ивановну, он оставил Ганю и новорожденную дочь. В течение долгого времени он знал, что ему предстоит нанести Гане чудовищный удар; неизбежность этого так страшила его, что он все откладывал и откладывал, ничем себя не выдавая; и удар, нанесенный внезапно, ничем не подготовленный, оказался вдвое страшнее. Вначале казалось, что удар он нанес Гане и только Гане; потом обнаружилось, что удар этот прежде всего сокрушил его самого.
Он переехал к красавице Екатерине Ивановне, умной, доброй и любящей женщине; все было благополучно, все вышло так, как он хотел. Но с этих пор у него стали дрожать руки.
Почерк его изменился, превратился в каракули, потому что пальцы его, держа перо, ходили ходуном. За веселым ужином жутко было видеть, сколько ему приходилось прилагать усилий, чтобы попасть вилкой в рот. Как трудно было ему не расплескать рюмку к губам. Прошли годы. Ганя давным-давно была уже замужем за другим, дочь его выросла и стала взрослой, он потолстел, полысел, а руки его продолжали дрожать (25).
В начале тридцатых годов произошло и другое важное событие в его жизни — ему пришлось расстался с Детским отделом. Не ему одному. Вместе с ним ушли из Детского отдела и Олейников, и Андроников, и Груня Левитина. Ушли и почти все авторы, которые издавались там с самого начала, — в том числе и я. Ушли не по своей воле, а по воле Маршака.
Для большинства из нас, удаляемых, событие это в то время казалось непонятным, непостижимым. Дело в том, что каждого из нас в отдельности и всех вместе связывала с Маршаком дружба. Так, по крайней мере, нам казалось. Дружба эта основывалась на многолетней совместной работе, на нескончаемых вдохновенных разговорах об искусстве, на испытанном доверии к дарованиям друг друга. Кроме того, каждого из нас привлек к работе он сам — и Шварца, и Олейникова, и Хармса, и меня, и, несколько, позднее, Бориса Житкова. Поэтому наше изгнание казалось необъяснимым предательством.
А между тем в нем не было ровно ничего необъяснимого. Просто Маршак, всегда обладавший острейшим чувством времени, тоже ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридцатых. Он понимал, что пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований прошла. В наступающую новую эпоху его могла только компрометировать связь с нестройной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был не склонен к почтительности и не признавал никакой иерархии. И он, подчиняясь своему безошибочному практическому инстинкту, стал отделываться от прежних приятелей и соратников.
Отделывался он от них не сразу, не рывком, а постепенно, но неукоснительно. Шварца и Олейникова он изгнал из детской литературы раньше, Бориса Житкова — позже. Детский отдел был преобразован в Детиздат, во главе которого стоял не Соломон Николаевич Гисин, а Дмитрий Иванович Какбычегоневычелов. Но роль Дмитрия Ивановича была та же, что и Соломона Николаевича, — служить прикрытием Маршаку, который оставался полным хозяином. Несмотря на это, Детиздат оказался противоположностью Детского отдела. В Детиздате все было чинно, как в настоящем учреждении, — ни смеха, ни шуток. В новом его штате не было ни Олейникова, ни Шварца, ни Андроникова. Их место заняли четыре девушки, грамотные, лишенные особых дарований, но набожно влюбленные в Маршака и верившие только в «редактуру» (26). <…>
Изгнанники по-разному отнеслись к своему изгнанию. Коля Олейников заплатил Маршаку открытым презрением и прямолинейной ненавистью. Он повсюду часами поносил Маршака, и делал это едко, с блеском, создав из него гротескный, уморительный и гнусный образ. Такой же и даже большей ненавистью заплатил Маршаку Борис Житков, — когда был изгнан в свой черед. Он ненавидел страдальчески, нервно, неистово, в последние два года своей жизни он ни о чем не мог говорить, кроме как о Маршаке. <…>
Иначе отнесся к своему изгнанию Шварц. Его мягкости, доброте, уклончивости претила открытая вражда. Когда его попросили уйти, он послушно ушел, ни с кем не объясняясь. С Маршаком он сохранил хорошие отношения, — правда, далеко не такие, какими они были в двадцатые годы. Житков не мог Шварцу этого простить и, беспощадно браня всех, кто продолжал поддерживать отношения с Маршаком, задевал и Шварца. Я помню, что Шварц не без удовольствия слушал злые и издевательские речи Олейникова о Маршаке и охотно смеялся, но никогда не соглашался с ним полностью и делал попытки несколько смягчить их убийственный смысл (27). <…>
А Шварц, после продолжительных поисков, нашел свое место в театре, в драматургии (28).
Мне это показалось неожиданным, хотя, разумеется, ничего неожиданного в этом не было. Шварц начал свой жизненный путь с того, что стал актером, и было это не случайно. Служа долгие годы в Детском отделе Госиздата, он был оторван от театра, но только теперь я понимаю, сколько театрального было в этом самом Детском отделе. Там постоянно шел импровизированный спектакль, который ставили и разыгрывали перед случайными посетителями Шварц, Олейников и Андроников. В этот спектакль, вечно новый, бесшабашно веселый, удивительно многозначительный, они вовлекали и хорошенькую Груню Левитину, и Соломона Гисина в косоворотке и русских сапогах, и Хармса с его угрюмыми чудачествами. И даже на всей продукции Детского отдела за те годы — на удивительных похождениях Макара Свирепого, на неистовых по ритмам и образам стихотворных сказках для трехлетних детей, на журналах «Чиж» и «Еж» — лежит отпечаток неосознанной, но кипучей и блестящей театральности.
Свою работу драматурга Шварц начал с пьес для детского театра. Потом он стал писать пьесы для взрослых, но его пьесы для взрослых — тоже сказки. Он выражал условным языком сказки свои далеко не условные мысли о совсем не условной действительности. Однако очень ошибется тот, кто подумает, что целью этого была какая-нибудь тайнопись, эзопов язык. Это — вульгарная мысль, не имеющая ничего общего с творчеством Шварца. Шварц тяготел к сказке потому, что чувствовал сказочность реальности, и чувство это не покидало его на протяжении всей жизни.
Занявшись драматургией, он вовсе не сразу понял, что ему надо писать сказки; он попробовал было писать так называемые «реалистические» пьесы. Но сказка, как бы против его воли, врывалась в них, завладевала ими. В 1934 году он напечатал в журнале «Звезда» пьесу «Похождения Гогенштауфена». Действие пьесы происходило в самом обыкновенном советском учреждении, где служат обыкновенные «реалистические» люди. Например, на должности управделами этого учреждения работала некая тов. Упырева. Странность заключалась только в том, что эта Упырева действительно была упырем, вампиром и сосала кровь из живых людей, а когда крови достать не могла, принимала гематоген.
Подобные его пьесы — например, «Ундервуд» — имели ограниченный успех — именно из-за своей жанровой неопределенности. Вся первая половина тридцатых годов ушла у него на поиски жанра, который дал бы ему возможность свободно выражать свои мысли, свое понимание мира. Первой его настоящей сказкой для сцены была «Красная Шапочка». Сделал он ее талантливо, мило, но очень робко. Первым сказочным произведением, написанным Шварцем во весь голос, был «Голый король», написанный в 1934 году. Тут он впервые обратился к сказкам Андерсена, воспользовавшись сразу тремя — «Свинопасом», «Принцессой на горошине» и «Голым королем». Оказалось, что именно сказки Андерсена дают ему возможность говорить в полный голос.
Не помню, был ли «Голый король» Шварца где-нибудь поставлен в тридцатые годы. Если и был поставлен, то прошел незамеченным (29). Но четверть века спустя, уже после смерти автора, «Голому королю» суждено было иметь шумный, даже буйный сценический успех. Запоздалый успех доказал только прочность и жизнеспособность этой пьесы, благородные герои которой, ополчившиеся против бессмертной людской глупости и подлости, поют:
Если мы врага повалим, Мы потом себя похвалим, Если враг не по плечу, Попадем мы к палачу.Шварц, в пору своей художественной зрелости, охотно использовал для своих пьес и сценариев общеизвестные сказочные сюжеты. «Снежная королева» и «Тень» — инсценировки сказок Андерсена, «Золушка» — экранизация известнейшей народной сказки, «Дон Кихот» — экранизация знаменитого романа. Даже в таких его пьесах с вполне самостоятельными сюжетами, как «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Два клена», отдельные мотивы откровенно заимствованы из широчайше известных сказок. И при этом трудно найти более самостоятельного и неповторимого художника, чем Евгений Шварц. Его инсценировки несравненно самобытнее, чем великое множество так называемых «оригинальных» пьес, в которых, при всей их «оригинальности», нет ничего, кроме банальностей. Шварц брал чужие сюжеты, как их брал Шекспир, он использовал сказки, как Гете использовал легенду о Фаусте, как Пушкин в «Каменном госте» использовал традиционный образ Дон Жуана. Я слышу голос Шварца, когда в кинокартине «Дон Кихот» студент-медик, леча больного Дон Кихота, говорит: «Подумать только — эти неучи пускали вам кровь по нечетным числам, тогда как современная наука установила, что это следует делать только по четным! Ведь сейчас уже тысяча шестьсот пятый год! Шутка сказать!» Я слышу голос Шварца в каждом кадре, хотя написанный им сценарий — самое верное и самое сильное истолкование великого романа Сервантеса, которое когда-либо существовало.
Пьесы Шварца написаны в тридцатые и в сороковые годы двадцатого века, в эти два страшных десятилетия, когда мировая реакция крепла год от года, то растаптывая достигнутое в предшествующую революционную эпоху, то с циничным лицемерием приспосабливая идеи революции для прикрытия своей мерзости. Сжигались книги, разрастались концентрационные лагеря, разбухали армии, полиция поглощала все остальные функции государства. Ложь, подлость, лесть, низкопоклонство, клевета, наушничество, предательство, шпионство, безмерная, неслыханная жестокость становились в гитлеровском государстве основными законами жизни. Все это плавало в лицемерии, как в сиропе, умы подлецов изощрялись в изобретении пышных словесных формул, то религиозных, то националистических, то ложно-демократических, чтобы как-нибудь принарядить всю эту кровь и грязь. Всему этому способствовало невежество и глупость. И трусость. И неверие в то, что доброта и правда могут когда-нибудь восторжествовать над жестокостью и неправдой.
И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому: нет. Нет — подлости, нет — трусости, нет — зависти. Нет — лести, низкопоклонству, пресмыкательству перед сильным. Нет карьеристам, полицейским, палачам. Всей низости людской, на которую всегда опирается реакция, каждой новой пьесой говорил он — нет.
Верил ли он в свою победу, верил ли, что пьесы его помогут искоренению зла? Не знаю. Однажды он сказал мне:
— Если бы Франц Моор попал на представление шиллеровых «Разбойников», он, как и все зрители, сочувствовал бы Карлу Моору.
Это мудрое замечание поразило меня своим скептицизмом. С одной стороны, сила искусства способна заставить даже закоренелого злодея сочувствовать победе добра. Но, с другой стороны, Франц Моор, посочувствовав во время спектакля Карлу Моору, уйдет из театра тем же Францем Моором, каким пришел. Он просто не узнает себя в спектакле. Как всякий злодей, он считает себя справедливым и добрым, так как искренне уверен, что он сам и его интересы и являются единственным мерилом добра и справедливости. Баба Яга в пьесе Шварца «Два клена» говорит о себе:
— Я, Баба Яга, умница, ласточка, касаточка, старушка-вострушка! Я в себе, голубке, души не чаю. Тем и сильна.
Верил ли Шварц в возможность побеждать зло искусством или не верил, но пьесы его полны такой горячей ненависти к злу, к подлости всякого рода, что они обжигают. Охлаждающего скептицизма в них нет ни крупинки: скептицизм насмешливого, житейски осторожного Шварца сгорел в пламени этой ненависти без остатка. Его пьесы начинаются с блистательной демонстрации зла и глупости во всем их позоре и кончаются торжеством добра, ума и любви. И хотя пьесы его — сказки, и действие их происходит в выдуманных королевствах, зло и добро в них — не отвлеченные понятия, не абстракции. Напротив, все в них всегда кажется таким реальным, конкретным, сегодняшним и злободневным, словно зритель сидит на собрании у себя в учреждении и следит за скрытой борьбой страстей, накаленных живою болью и живою злобой.
В 1943 году он написал сказку «Дракон» — на мой взгляд, лучшую свою пьесу-сказку.
Вторая мировая война только что перешла через свою кульминацию — гитлеровцы разгромлены под Сталинградом, на Курской дуге и медленно откатываются; на западе американцы и французы несколько улучшили свои позиции. До конца войны еще два года, но победа уже угадывается. И встает вопрос — что будет с миром после разгрома гитлеризма? <…>
Вся эта пророческая история рассказана в пьесе и сказочно, и необычайно конкретно. Потрясающую конкретность и реалистичность пьесе придавали замечательно точно написанные образы персонажей, только благодаря которым и могли существовать диктатуры, — трусов, стяжателей, обывателей, подлецов и карьеристов. Разумеется, как все сказки на свете, «Дракон» Шварца кончается победой добра и справедливости. На последних страницах пьесы Ланцелот свергает Бургомистра, как прежде сверг Дракона, и женится на спасенной девушке. Под занавес он говорит освобожденным горожанам и всем зрителям:
— Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!
Так говорил Шварц, который, держа меч в вечно дрожавших руках, двадцать лет наносил дракону удар за ударом. В эти годы у него сильнее стали дрожать руки. Почерк его изменился, превратился в каракули.
А руки его чем дальше, тем дрожали заметнее. В самом конце сороковых годов или в самом начале пятидесятых, в феврале месяце, поехал я в Комарово, в Дом творчества — поработать в уединении. Я жил уже тогда в Москве и выбрал из литфондовских домов творчества именно Комарово потому, что поездка туда давала мне возможность побывать в Ленинграде, где я не был со времен осады, и повидать наш старый куоккальский дом, где прошло мое детство и до которого от Комарова всего восемь километров, и пожить в тесном общении с моими старинными любимыми друзьями Леонидом Рахмановы и Евгением Шварцем. Я списался с ними заранее и знал, что они оба будут жить в феврале в Комарове — Рахманов в Доме творчества, а Шварц в маленьком домике, который он арендовал у дачного треста, — возле самого железнодорожного переезда.
В этом домике стены постоянно дрожали от проходивших мимо поездов — тогда еще паровых, электричку провели там позднее. Каждый вечер после ужина мы с Рахмановым отправлялись по снегу в этот домик, к Шварцам. Засиживались поздно — за разговорами, за картами. Играли всегда в одну и ту же игру, которая называлась «Up and down». Я всю жизнь не любил и избегал карт и знаю, что Шварц не любил их тоже; но Екатерина Ивановна Шварц и Рахманов были картежники и нуждались в партнерах. Они относились к игре серьезно и страстно и часто ссорились за игрой, а потом дулись друг на друга минут тридцать и выясняли отношения. Шварц спокойно и ласково мирил их. Он сидел за столом, склонив, как обычно, свое умное узкое лицо немного набок, и казался уравновешенным, дружелюбным, довольным, и только карты, которые он держал обеими руками, ходили ходуном в его дрожащих пальцах.
Лицом он изменился мало, но очень потолстел. Однако, когда я сказал ему, что он немного потолстел, он стал отрицать это с удивившим меня пылом.
— Пощупай мой живот — никакого жира, одни мышцы!
И я действительно щупал сквозь фуфайку его живот и не вполне искренне соглашался с ним.
Я заметил, что его волнует тема постарения и что он в разговорах часто возвращается к ней. Мы с ним несколько лет не виделись, и, возможно, я казался ему сильно изменившимся. Но говорил он о себе.
— На днях я узнал наконец, кто я такой, — сказал он — Я стоял на трамвайной площадке, и вдруг позади меня девочка спрашивает; «Дедушка, вы сходите?»
Каждый день перед обедом мы втроем отправлялись на прогулку — Рахманов, Шварц и я. Бродили мы часа два по узким, снежным лесным тропинкам и нагибались, пролезая под лапами елок. Шварц шел всегда впереди, шел быстро, уверенно сворачивал на поворотах, и мы с Рахмановым не без труда догоняли его. Говорили о разном, понимая друг друга с полуслова, — мы трое были слишком давно и слишком близко знакомы. Много говорили о Льве Толстом. В сущности, весь разговор сводился к тому, что кто-нибудь из нас вдруг произносил: «А помните, Наташа Ростова…» или: «А помните, Анна…» и далее следовала цитата, которую, оказывается, помнили все трое и долго повторяли вслух, наслаждаясь, смакуя каждое слово. Это была прелестная игра, очень сблизившая нас, потому что мы всякий раз убеждались, что чувствуем одинаково и любим одно и то же.
И только однажды обнаружилось разногласие — между мной и Шварцем. Было это уже в конце прогулки, когда мы устали и озябли. Перебирая в памяти сочинения Толстого, я дошел до «Смерти Ивана Ильича» и восхитился какой-то сценой.
— Это плохо, — сказал вдруг Шварц жестко.
Я оторопел от изумления. Гениальность «Смерти Ивана Ильича» казалась мне столь очевидной, что я растерялся.
— Нет, это мне совсем не нравится, — повторил Шварц.
Я возмутился. С пылом я стал объяснять ему, почему «Смерть Ивана Ильича» — одно из величайших созданий человеческого духа. Мое собственное красноречие подстегивало меня все больше. Однако я нуждался в поддержке и все поглядывал на Рахманова, удивляясь, почему он меня не поддерживает. Я не сомневался, что Рахманов восхищается «Смертью Ивана Ильича» не меньше, чем я.
Но Рахманов молчал.
Он молчал и страдальчески смотрел на меня, и я почувствовал, что говорю что-то бестактное. И красноречие мое увяло. Потом, оставшись со мной наедине, Рахманов сказал:
— При нем нельзя говорить о смерти. Он заставляет себя о ней не думать, и это не легко ему дается.
После нашего свидания в Комарове Шварц прожил еще около восьми лет. Время от времени я наезжал в Ленинград — всегда по делам, всегда только на день или на два, — и всякий раз самым приятным в этих моих приездах была возможность провести два-три часа с Женей Шварцем. И дружба и вражда складываются в первую половину человеческой жизни, а во вторую половину только продолжаются, проявляя, однако, удивительную стойкость. Так было и в нашей дружбе с Шварцем, — она уже не менялась. После любой разлуки мы могли начать любой разговор без всякой подготовки и понимали друг друга с четверти слова. У него вообще было замечательное умение понимать — свойство очень умного и сердечного человека.
Главной его работой в эти последние годы жизни был сценарий «Дон Кихот». По этому сценарию был поставлен отличный фильм, снимавшийся в окрестностях Коктебеля и получивший всемирное признание. И все же фильм этот несравненно хуже сценария, несмотря на то, что ставил его великолепный режиссер Козинцев, а Дон Кихота играл превосходный актер Черкасов. Шварц был тончайший словесный мастер, и для выражения его дум и страстей ему ничего, кроме слова, не было нужно.
Как-то во время одного из моих приездов он прочел мне свои воспоминания о Борисе Житкове. Он очень волновался, читая, и я видел, как дорого ему его прошлое, как дороги ему те люди, с которыми он когда-то встречался. А так как его прошлое было в большой мере и моим прошлым, я, слушая его, тоже не мог не волноваться. Я порой даже возмущался, — мне все казалось, что он ко многим людям относится слишком мягко и снисходительно. Когда он кончил, я заспорил с ним, доказывая, что такой-то был ханжа и ловчило, а такой-то — просто подлец. Он не возражал мне, а промолчал, увел разговор в сторону, — как поступал обычно, когда бывал не согласен. И мне вдруг пришло в голову, что он умнее меня, и потому — добрее.
В последние годы он был уже очень болен, но на болезнь его не обращали особого внимания, так как считалось, что Екатерина Ивановна больна гораздо опаснее. Он и сам так считал и очень о ней беспокоился, рассказывал с тревогой, как у нее болит сердце, как она задыхается, как она мало спит.
В Ленинграде, в Доме Маяковского отпраздновали его шестидесятилетие. Актеры и литераторы говорили ему всякие приятности — как всегда на всех юбилеях. Зощенко, уже седой, сказал примерно так:
— Я стал старше и больше не требую от людей ни доблести, ни чести, ни отваги. Я требую от них только приличия. Позвольте вам сказать, Женя, что вы очень приличный человек (30).
Шварц был весел, оживлен, подвижен, очень приветлив со всеми, скромен и, кажется, доволен. Но через несколько дней ему стало плохо. И потом становилось все хуже и хуже.
Я навестил его незадолго до смерти. Он лежал; когда я вошел, он присел на постели. Мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не показать ему, как меня поразил его вид. Мой приход, кажется, обрадовал его, оживил, и он много говорил слабым, как бы потухшим голосом. Ему запретили курить, и его это мучило. Всю жизнь курил он дешевые маленькие папиросы, которые во время войны называли «гвоздиками»; он привык к ним в молодости, когда был беден, и остался им верен до конца. Несмотря на протесты Екатерины Ивановны, он все-таки выкурил при мне папироску. Рассказывал он мне о своей новой пьесе, которую писал в постели, — «Повесть о молодых супругах». Глаза его блестели, говорил он о Театре комедии, о Николае Павловиче Акимове, об актерах, но смотрел на меня тем беспомощным, просящим и прощающим взором, которым смотрит умирающий на живого.
Живым я его больше не видел. Чем дальше уходит его смерть в прошлое, тем яснее я вижу, какая мне выпала в жизни удача — близко знать этого человека с высокой и воинственной душой.
Л. Пантелеев Добрый Мастер
Имя Шварца я впервые услыхал от Златы Ионовны Лилиной, заведующей Ленинградским губернским отделом народного образования.
— Вашу рукопись я уже передала в редакцию, — сказала она. — Идите в Дом книги, на Невский, поднимитесь на шестой этаж в Отдел детской литературы и спросите там Маршака, Олейникова или Шварца.
Должен признаться, что в то время ни одно из названных выше имен, даже имя Маршака, мне буквально ничего не говорило.
И вот в назначенный день мы с Гришей Белых, молодые авторы только что законченной повести «Республика Шкид», робко поднимаемся на шестой этаж бывшего дома Зингер, с трепетом ступаем на метлахские плитки длинного издательского коридора и вдруг видим: навстречу нам бодро топают на четвереньках два взрослых дяди — один пышноволосый, кучерявый, другой — тонколицый, красивый, с гладко причесанными на косой пробор волосами.
Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, чтобы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.
— Вам что угодно, юноши? — обращается к нам кучерявый.
— Маршака… Олейникова… Шварца, — лепечем мы.
— Очень приятно… Олейников! — рекомендуется пышноволосый, поднимая для рукопожатия правую переднюю лапу.
— Шварц! — протягивает руку его товарищ.
Боюсь, что современный молодой читатель усомнится в правдивости моего рассказа, не поверит, что таким странным образом могли передвигаться сотрудники советского государственного издательства. Но так было, из песни слов не выкинешь. Позже мы узнали, что, отдыхая от работы, редакторы разминались, «изображали верблюдов». Евгению Львовичу Шварцу было тогда двадцать девять лет, Николаю Макаровичу Олейникову, кажется, и того меньше.
Евгений Львович был первым официальным редактором «Республики Шкид». Говорю «официальным», потому что неофициальным, фактическим руководителем всей работы Детского отдела был тогда С. Я. Маршак.
Несколько отвлекаясь от плана этих заметок, скажу, что редактура Евгения Львовича была очень снисходительная и, как я сейчас понимаю, очень умная. Книгу писали два мальчика, только что покинувшие стены детского дома, и выправить, пригладить, причесать их шероховатую рукопись было нетрудно. Шварц этого не сделал.
Меня попросили переписать одну главу (написанную почему-то ритмической прозой), а остальное было оставлено в неприкосновенности. Тем самым сохранялось главное, а может быть и единственное, достоинство повести — ее непосредственность, живость, жизненная достоверность.
И еще отвлекусь. Весьма вероятно, что встреча в коридоре Ленгиза не была первой нашей встречей. Я мог видеть Евгения Львовича лет за пять до этого.
Еще в «дошкидские» годы, подростком, я был частым посетителем маленьких (а иногда и совсем малюсеньких) театриков, которые, как грибы, плодились в Петрограде первых нэповских лет. Бывал я несколько раз и в театре на Загородном, во втором или третьем доме от Бородинской улицы. В длинном, сарайного типа помещении бывшей портомойни или цейхгауза Семеновского полка расположился театр, названия которого я не запомнил. Между прочим, на сцене этого театра я впервые увидел гениального Гибшмана, конферансье, надевшего на себя маску перепуганного обывателя, маленького служащего, которого попросили вдруг вести программу и почти насильно вытолкнули на просцениум. Никогда не забуду его жалкое, растерянное лицо и ту восхитительную робость, с какой он, бормоча что-то совершенно бессвязное, бледнея, краснея, заикаясь, пятился обратно за занавес и, наконец, как маленький мальчик, вытянув по швам руки, скороговоркой выпаливал имя и фамилию очередного участника концерта. Много лет спустя я узнал, что в труппе этого артельного, «коммунального» театрика подвизался и милый наш друг Евгений Львович Шварц.
Познакомились мы с ним в апреле 1926 года и чуть ли не с первого дня знакомства перешли на ты. Это не значит, что мы стали друзьями — нет, я мог бы назвать несколько десятков человек, которым Шварц говорил «ты» и которые никогда не были его друзьями. И, наоборот, ко многим близким ему людям (к таким как, Д. Д. Шостакович, Г. М. Козинцев, Л. Н. Рахманов, М. В. Войно-Ясенецкий, академик В. И. Смирнов, он до конца дней своих обращался на «вы».
Его характер, то, что он во всяком обществе становился «душой» этого общества, делали его несколько фамильярным. Многих он называл просто по фамилии. И не каждому это нравилось. Помню, как рассердилась и обиделась Тамара Григорьевна Габбе, человек умный, остроумный, понимающий шутку, когда Шварц пришел в редакцию и, проходя мимо ее столика, спросил:
— Как дела, Габбе?
Тамара Григорьевна вспыхнула и загорелась, как только она одна могла загораться.
— Почему вы таким странным образом обращаетесь ко мне, Евгений Львович? Насколько я знаю, мы с вами за одной партой в реальном училище не сидели!..
Рассказывали мне об этом и она и он. Она — с ядовитым юмором, возмущенная, он — с искренним простодушным удивлением: дескать, чего она обиделась?
Со стороны он мог показаться (и кое-кому казался) очень милым, очень ярким, веселым, легким и даже легкомысленным человеком. До какой-то поры и мне он виделся только таким. До какой поры?
Хочу рассказать об одной нашей встрече в предвоенные годы. Впоследствии Евгений Львович часто говорил, что в этот день он «узнал меня по-настоящему». И для меня этот день тоже памятен, хотя, если подумать, решительно ничего исключительного в этот день не случилось.
Середина тридцатых годов, лето. Как и почему мы встретились в этот день — не скажу, не помню. Но хорошо помню каждую мелочь и почти каждое слово, сказанное тогда.
Мы — в Сестрорецке, вернее в Сестрорецком Курорте, сидим под пестрым полосатым тентом на эспланаде ресторана в ста, а может быть, и в пятидесяти метрах от финской границы, — пьем красное грузинское вино и говорим… О чем? Да как будто ни о чем особенном и значительном. Я рассказываю Шварцу о своей недавней поездке в Одессу, о встречах с Ю. К. Олешей и другими одесситами, вспоминаю что-то смешное, и Евгений Львович смеется и смотрит на меня с удивлением: по-видимому, раньше он не знал за мной такого греха, как юмор. И он тоже рассказывает смешное — и тоже об Одессе. Например, презабавно пересказал очаровательную сценку, слышанную им от артистки Зарубиной, — о том, как она принимала лечебную ванну, а в соседней кабине лежала молодая, «будто вынутая из Бабеля» одесситка, которая пятнадцать или двадцать минут в самых восторженных, почти молитвенных выражениях рассказывала о своем молодом муже. Этот яркий колоритный рассказ, переданный из вторых в третьи уста, я помню едва ли не дословно даже сейчас, тридцать лет спустя.
Но ведь не такими пустячками, анекдотами памятен мне этот вечер, этот предзакатный час на берегу моря?! Да, не этими пустячками, но и этими тоже. Все в этот вечер было почему-то значительным, глубоким, сакраментальным. Я вдруг увидел Шварца вплотную, заглянул ему поглубже в глаза и понял, что он не просто милый, обаятельный человек, не просто добрый малый, а что он человек огромного таланта, человек думающий и страдающий.
Именно в этот день мы стали друзьями, хотя не было у нас никаких объяснений, никакой «клятвы на Воробьевых горах», и даже самое слово «дружба» ни здесь, ни где-нибудь в другом месте никогда произнесено не было.
[Лето 1936 года мы с Евгением Львовичем Шварцем проводили в одной дачной местности — в Разливе по Приморской железной дороге. Он жил на Второй Тарховской улице, я — на Четвертой Тарховской… К тому времени оба мы уже успели потерять самых близких друзей: он — Олейникова, я — Гришу Белых. Были арестованы и многие другие наши товарищи и друзья — Тамара Григорьевна Габбе, Александра Иосифовна Любарская, Матвей Петрович Бронштейн, Сергей Безбородов, Рая Васильева, А. Лебеденко, А. Серебрянников, Матвеев, Миша Майслер… Это — по одной только «линии» детской литературы. А ведь литература, она — не только детская. И окружали нас не одни только литераторы. В течение полутора-двух лет не было ночи, когда в квартире кого-нибудь из наших знакомых, родственников, друзей не звучал длинный и властный звонок, и не было утра, когда бы мы не спрашивали друг у друга:
— Кого?
Или:
— Кто?
Даже в таком небольшом поселке, как Разлив, каждую ночь раздавались приглушенные, вороватые автомобильные гудки, скрипели по песку шины.
У хозяев соседнего с нами дома арестовали дочь, работницу сестрорецкого Оружейного завода.
— За что?
— Пела какие-то частушки.
Но это было только предположение, попытка понять, догадаться, проделать в мешке дырочку. Не надо было петь частушек, чтобы угодить в те годы на улицу Воинова, на Константиноградскую, на Нижегородскую, в Кресты. Наискось от нас, на другой стороне улицы, жила семья рабочего Емельянова, того самого, у которого в 1917 году скрывался Ленин. У них тоже тем летом кого-то арестовали, не помню, самого или сыновей…
Ни я, ни Евгений Львович ночами не спали. Сидели по своим светелкам, работали, прислушивались к автомобильным гудочкам. И были, как говорится, готовы ко всему. Утром отсыпались, а после обеда, встречаясь, говорили об этом. Но не только об этом. И при том напропалую шутили, острили. Да, к чести нашей и во спасение, юмор не умирал в России ни в те годы, ни в лихую пору войны, ни в другие часы и минуты нашей великой эпохи.
Помню, Евгений Львович возмущался «кустарщиной», «неорганизованностью» тогдашних работников безопасности.
— Чудаки! Дилетанты! — говорил он. — Чего они ковыряются? Знаешь, как бы я поступил на их месте? Приехал бы в большом автофургоне, остановился где-нибудь у вокзала или у гастронома и дал бы во всю мощь гудок.
— Ну и что?
— Ну, и все, кто ждет — а ведь ждут в каждом доме, — спокойно, без паники вышли бы на этот гудок с узелками, с чистым бельем, с чаем и сахаром…][41].
Встречались мы с Евгением Львовичем в предвоенные годы редко, чему виной был мой характер, моя бобыльская малоподвижность и замкнутость. Только с осени 1949 года, когда я стал частым постояльцем писательского Дома творчества в Комарове, мы стали видеться часто, почти ежедневно. К тому времени Шварцы уже арендовали в Комарове тот маленький синий домик на Морском проспекте, где Евгений Львович провел последнее десятилетие своей жизни и где настигла его та страшная, последняя болезнь.
…Он очень долго считал себя несостоявшимся писателем.
— Слишком уж быстро прошла молодость. А в молодости, да и недавно еще совсем, казалось — все впереди, еще успеется… У тебя этого не было?
В молодости Евгений Львович был немножко ленив и, пожалуй, работал не всегда серьезно, не берег и не оттачивал свой большой талант. Но я его таким уже почти не помню. Когда мы с ним сошлись близко, он был всегда, постоянно, каждый час и каждую минуту поглощен работой, даже на прогулке, за едой, даже когда шутил или говорил о вещах посторонних…
Начинал он когда-то, в двадцатые годы, со стихов, писал сказки и рассказы для детей, долго и много работал для тюзовской сцены… Все это — и пьесы, и рассказы, и стихи для детей — было написано талантливой рукой, с блеском, с искрометным шварцевским юмором. Но полного удовлетворения эта работа ему не доставляла.
— Ты знаешь, до сих пор не могу найти себя, — много раз жаловался он мне. — Двадцать пять лет пишу, сволочь такая, для театра, а косноязычен, как последний юродивый на паперти…
Конечно, это было сильным самокритическим преувеличением, но была здесь, как говорится, и доля истины. Многие (в том числе и С. Я. Маршак) очень долго считали, что Евгений Львович принадлежит к числу тех писателей, которые говорят, рассказывают лучше, чем пишут.
Рассказчиком, импровизатором Евгений Львович действительно был превосходным. А писать ему было труднее.
В конце сороковых годов он на моих глазах мучительно «искал свой слог». В то время ему было уже за пятьдесят, а он, как, начинающий литератор, просиживал часами над каждой страничкой и над каждой строкой. Бывать у него в то время было тоже мучительно. Помню, он читал мне первые главы повести, о которой, при всей моей любви и уважении к автору, я не мог сказать ни одного доброго слова. Это было что-то холодное, вымученное, безжизненное, нечто вне времени и пространства, напоминавшее не мнение формалистов даже, а то, что сочиняли когда-то, в давние времена, эпигоны формалистов.
Он сам, конечно, понимал, что это очень плохо, но критику, даже самую деликатную, воспринимал болезненно, сердился, огорчался, терял чувство юмора. Критика же несправедливая, грубая буквально укладывала его в постель.
Он был очень легко раним. И был тщеславен.
Однако это было такое тщеславие, которому я даже немножко завидовал. В нем было что-то трогательное, мальчишеское.
Помню, зашел у нас как-то разговор о славе, и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне.
— Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!
И вместе с тем это был человек исключительно скромный. Например, он никогда не употреблял по отношению к себе слова «писатель».
— Ты знаешь, — говорил он — сказать о себе «я драматург» я могу. Это — профессия. А сказать: «я писатель» — стыдно, все равно что сказать: «я красавец».
Однажды, а было это, если не ошибаюсь, осенью 1949 года, мы ехали с ним зачем-то из Комарова в Зеленогорск, и в вагоне электрички он мне рассказывал о своем детстве. Как всегда, рассказывал блестяще. Я не выдержал и воскликнул:
— Женя! Дорогой! Напиши обо всем этом!
— Как? — уныло откликнулся он. — Скажи, как написать! Где взять нужные слова?
— А ты попробуй запиши буквально теми словами, какими сейчас рассказывал.
— Да, «теми»! — мрачно усмехнулся он. — Легко сказать.
А через день-два прихожу в голубой домик. Евгений Львович выходит мне навстречу, и я сразу вижу: что-то случилось. Лицо у него в красных пятнах. Очки сползли на сторону. В руках он крепко и как-то торжественно держит большую серо-голубую «бухгалтерскую» книгу.
— Ты знаешь, — говорит он, делая попытку улыбнуться, — а ведь я тебя послушался… попробовал…
И, уведя меня к себе в кабинет, усадив на диван, он прочитал мне первые две или три страницы того своего сочинения, которому он, начиная с этого дня, посвятил последние девять лет своей жизни (1).
Это было прекрасное начало его лирического дневника, книги, которая еще не имеет названия и из которой до сих пор только очень немного страниц увидело свет.
Таким образом, я неожиданно оказался крестным отцом совсем нового Шварца. Понимаю, что заслуги моей тут нет никакой, гордиться нечем, и все-таки радуюсь и горжусь — хотя бы тем, что был первым слушателем этой лучшей шварцевской книги.
Он сам не знал, как ее назвать, эту свою новую, так стихийно рождавшуюся книгу… В эти первые дни я как-то сказал:
— Твои мемуары…
— Только не мемуары! — рассердился он. — Терпеть не могу это слово: мэ-му-ары…
Думаю, что слово это было ему противно потому, что мемуары чаще всего пишут старики, а он, как и все, кто сохранил до седых волос детскую душу, очень болезненно переживал всякое напоминание о старости, с трудом привыкая к мысли, что он уже не мальчик, не юноша и даже не зрелый муж.
Помню, пришел как-то зимой ко мне в Дом творчества, грузный, широкоплечий, в тяжелой шубе, подходит к большому зеркалу, стоявшему в углу, взглядывает на себя и с остервенением в сторону:
— Тьфу! Никак не могу привыкнуть к этой старой образине!
А как он сердился на нашего не очень деликатного товарища N. который говорил ему как-то:
— Знаешь, Женя, я видел тебя вчера из окна автобуса на Невском… Проходила машина, и ты — ну совсем по-стариковски — шарахнулся от нее.
— «По-стариковски»! — возмущался Евгений Львович, рассказывая мне об этом разговоре. — Как бы ты, интересно, шарахнулся, если бы на тебя машина летела?
И добавлял то, что всегда говорил в подобных случаях:
— Сволочь такая!
Слово «мемуары» ему не нравилось, но так как другого названия не было (книга его не была ни романом, ни повестью, ни дневником), я назвал его новое произведение сокращенно — «ме», и он как-то постепенно принял это довольно глупое прозвище и не сердился, когда я спрашивал у него:
— Над «ме» работал сегодня? «Ме» не почитаешь мне?
Со временем он так привык к этому шифру, что даже сам стал говорить:
— Сегодня с пяти утра сидел, работал над «ме»…
Не поручусь, но думаю, что я выслушал в его чтении все (нет, пожалуй, все-таки не все, а почти все), что было написано им за восемь с половиной лет.
Действительно, и сейчас трудно определить жанр этой его работы. Тут были и воспоминания, и текущий дневник, и портреты знакомых ему людей («Телефонная книга») (2), и просто «зарисовки» (например, великолепное описание сорокаминутной поездки в электричке из Комарова в Ленинград). Все это было как бы экспериментом, игрой пера, но все это делалось не робко, не ученически, а смело, вдохновенно, на полную мощь таланта.
Еще в первые дни, когда он читал мне о далеких днях своего майкопского детства, меня поражала его память, поражали такие наимельчайшие подробности, как оттенок травы, погода, стоявшая в тот день, о котором шел рассказ…
— Неужели ты помнишь это? — спрашивал я. — Неужели все это было именно так, именно со всеми этими подробностями?
— Да, именно так, именно с этими подробностями, — отвечал он. — Когда я начинал эту работу, я дал себе слово писать только правду. Между прочим, врать и не очень интересно.
Не знаю, насколько это соответствовало истине, то есть удалось ли ему сдержать до конца свое слово. Ведь основное занятие писателя — сочинять, то есть именно врать… Впрочем, в жанре, о котором идет речь, правдивость, достоверность — действительно стоят очень дорого. Начнешь сочинять, придумывать, додумывать — и все рассыпается, разваливается…
Нет, Шварц недаром говорил, что «врать неинтересно». Одно из главных достоинств его книги — то, что в ней жизненная и так называемая художественная правда гармонично сливаются: веришь и радуешься каждому слову и ни в одном случае твое ухо не оскорбляет фальшь.
Только в очень редких, в исключительных случаях, Шварц уклоняется от взятого курса. Я имею в виду некоторые его литературные портреты. Два-три из них сделаны грубовато, однолинейно, они жестоки и несправедливы по отношению к тем, кого он писал. Я говорил ему об этом, и он соглашался:
— Да, написалось под влиянием минуты. Да, Икс совсем не такой. Я как-нибудь непременно перепишу.
И — не успел, не переписал.
Огорчительно, если читатель по этим случайным страницам представит себе не только тех, кого изобразил Шварц, но и самого Шварца.
Был ли он добрым? Да, несомненно, он был человек очень добрый. Но добряком (толстым добряком), каким он мог показаться не очень внимательному наблюдателю, Евгений Львович никогда не был.
Он умел сердиться (хотя умел и сдерживать себя). Умел невзлюбить и даже возненавидеть подлеца, нехорошего человека и просто человека, обидевшего его (хотя умел, когда нужно, заставить себя и простить обиду).
Но тут не обойдешься без несколько тривиальной оговорки: Евгений Львович был человек сложный.
В молодости он крепко дружил с Николаем Олейниковым. Это была неразлучная пара. Много лет в наших литературных кругах «Шварц и Олейников» звучало как «Орест и Пилад», «Ромул и Рем» или «Ильф и Петров»…
И вот спустя много лет после трагической гибели Олейникова Евгений Львович читает мне свои «ме». И там встречается такая фраза:
«Мой лучший друг и закадычный враг Николай Макарович Олейников…»
Тот, кто знал Олейникова только как очень своеобразного поэта, отличного журнального редактора, каламбуриста и острослова, тот вряд ли поймет, что кроется за этим страшноватым шварцевским парадоксом. Я тоже не знаю подробностей их «дружбы — вражды», но знаю, что их отношения не были простыми и безоблачными. В Олейникове было нечто демоническое. Употребляю это немодное слово потому, что другого подыскать не мог. Тем более, что это выражение самого Шварца.
Связывало нас с Евгением Львовичем, по-видимому, еще и то, что были мы с ним «прямые противоположности». Я — нелюдим, замкнутый, молчальник. Он — веселый, красноречивый, общительный, из тех, кто часа не может провести в одиночестве.
Количество знакомых, с которыми он раскланивался или заговаривал на прогулке, меня иногда просто пугало. Круг его знакомств (так же как и круг интересов) был необозримо широк. Он вступал в разговор (и увлеченно поддерживал этот разговор) и с собратьями по перу, и с музыкантом, и с врачом, и с парикмахером, и с ученым-ботаником, и с официантом, и с человеком любой другой профессии. За маленьким обеденным столом в кухне голубого дома можно было встретить и моряка дальнего плавания, и актеров, и художников, и кинорежиссеров, и школьного учителя, и юного студента, и маститого академика, и патологоанатома, и священника…
Это не было «всеядностью». Это был настоящий художнический, а следовательно, и человеческий интерес к людям.
При этом надо помнить, что далеко не все, с кем Шварц был знаком, и даже не все, с кем он был на ты, имели доступ в его дом. Может быть, он сам и пустил бы, да не пускала Екатерина Ивановна, человек сложный, нелегкий, даже трудный, но честный, прямолинейный. Я много лет знал эту женщину и не переставал удивляться, как сложно и даже причудливо сочетались в ней черты русские, московские, черкизовские с чем-то туманным, английским, диккенсовским… Впрочем, не о ней сейчас речь…
Он постоянно был чем-нибудь или кем-нибудь увлечен. Не было случая, чтобы он встретил тебя ленивым вопросом:
— Ну, как живешь?
Или:
— Что нового?
Нет, он всегда хотел первым подарить тебя чем-нибудь, хотя бы шуткой, анекдотом, последним газетным сообщением.
— Знаешь, вчера вечером Акимов рассказывал…
Или:
— Вчера были Германы у нас. Удивительно смешную историю рассказал Юрий Павлович…
Или:
— Видел сегодня на вокзале Мишу Слонимского. Он только что из Ленинграда. Говорит, что…
Другой раз встречает тебя с огромной книжищей в руках. Оказывается, купил третьего дня у букиниста старую «Ниву», вечером проглядывал ее и — смотри, на что наткнулся! Описание коронации Николая II, написанное в восторженных, подхалимских тонах. Самое интересное — подпись под статьей: Вл. Ив. Немирович-Данченко.
— Здо́рово?! А? Ты садись, послушай, до чего же это похоже…
И он с пафосом читает верноподданнейшую, аллилуйную статейку, многие выражения которой кажутся чем-то очень знакомыми.
А завтра утром он покажет тебе (и весь будет сиять при этом) большой стеклянный шар-поплавок, найденный им рано утром на берегу залива… Или поставит на проигрыватель пластинку с новым концертом Свиридова:
— Садись, послушай. А? Здорово, правда?! А я ведь его почти не знал, этого Свиридова…
Даже больной, лежа в постели, он встречал тебя открытием:
— Смотри, какой замечательный писатель был Атава-Терпигорев! Можно тебе прочесть?
И волнуясь, как будто читает свое, он читал и в самом деле очень хорошие строки забытого русского писателя.
Читал он колоссально много, и я всегда удивлялся, когда он успевает это делать. Читал быстро: вечером возьмет у тебя книгу или рукопись, а утром, глядишь, уже идет возвращать. Конечно, я говорю о хорошей книге. Плохих он не читал, бросал на второй странице, даже если книга эта была авторским даром близкого ему человека.
Круг его чтения был тоже очень широк. Перечитывал классиков, следил за современной прозой, выписывал «Иностранную литературу», любил сказки, приключения, путешествия, мемуары, читал книги по философии, по биологии, социологии, современной физике…
Книг он не собирал, не коллекционировал, как вообще ничего в жизни не копил, не собирал (собирала старинный бисер и какой-то особенный старинный английский фарфор или фаянс Екатерина Ивановна. Ей он любил подарить что-нибудь редкостное и радовался такой покупке вместе с нею). Но покупать книги было для него наслаждением. Особенно любил ходить к букинистам, откуда приносил покупки самые неожиданные. То холмушинский сонник, то настенный календарь за 1889 год, то потрепанный, без переплета томик Корана, то сборник воспоминаний декабристов, то книгу по истории Петербурга, то лубочное сытинское издание русских сказок…
Я никогда не видел Евгения Львовича за чтением Андерсена, но книги датского сказочника, которому он так много обязан и который не меньше обязан ему, — это старинное многотомное издание с черными кожаными корешками всегда стояло на видном месте в рабочем кабинете Шварца.
Очень любил он Чапека.
Много раз (и еще задолго до того, как начал писать для Козинцева своего пленительного «Дон Кихота») читал и перечитывал Сервантеса.
Но самой глубокой его привязанностью, самой большой любовью был и оставался до последнего дня Антон Павлович Чехов.
На первый взгляд это может показаться удивительным: ведь то, что делал Шварц, было так непохоже, так далеко от чеховских традиций. И тем не менее Чехов был его любимым писателем. Помногу раз читал он и рассказы Чехова, и пьесы, и письма, и записные книжки…
Чехов был для него, как, впрочем, и для многих из нас, образцом не только как художник, но и как человек. С какой гордостью, с какой сыновней или братской нежностью перечитывал Евгений Львович известное «учительное» письмо молодого Чехова, адресованное старшему брату Александру…
Евгений Львович сам был того же склада, он был человеком очень большого благородства, но, так же как и Чехов, умел прятать истинное свое лицо под маской шутки, иногда грубоватой.
Всю жизнь он воспитывал себя. Толстой где-то заметил, что труднее всего быть хорошим, проявлять сдержанность в отношениях с самыми близкими, со своими домашними, даже с теми, кого любишь. Нелегко бывало подчас и Евгению Львовичу. А как трогательно, как бережно и уважительно относился он к Екатерине Ивановне. Не было на моей памяти случая, чтобы он на нее рассердился, сказал ей что-нибудь грубое или резкое. Но и терпеть то, что ему не нравилось, он тоже не умел. Бывало за чайным столом Екатерина Ивановна начнет по дамской нехорошей привычке чесать язычком, перемалывать косточки какому-нибудь нашему общему знакомому. Евгений Львович послушает, послушает, не вытерпит, поморщится и скажет мягко:
— Ну, Машенька, ну, не надо!..
Почему-то в этих случаях (и только в этих) он называл Екатерину Ивановну Машенькой.
А между тем он был вспыльчив, и очень вспыльчив. Впервые я узнал об этом, кажется, осенью или в начале зимы 1952 года, когда нервы у него (да и не только у него) были натянуты туже, чем позволяет природа (3).
…Да, только сейчас, на расстоянии видишь, как, много чеховского было в этом человеке, внешне так мало похожем на Чехова.
Он много думал и часто говорил об искусстве, но всегда это была живая и даже простоватая речь, — как и Чехов, он стеснялся произносить громкие слова, изрекать что-нибудь было не в характере Евгения Львовича. Даже самые дорогие ему, глубокие, сокровенные мысли он облекал в полушутливую, а то и просто в «трепливую» форму, и надо было хорошо знать Шварца, чтобы понимать этот эзопов язык, отличать шутку просто от шутки-одежки, шутки-шелухи…
И вот еще тема — шварцевский юмор. Нельзя говорить об Евгении Львовиче и обойти эту черту, эту яркую особенность его личности.
«Где Шварц — там смех и веселье!» Не помню, был ли где-нибудь выбит такой девиз, но если и не был, то незримо он сиял над нашими головами всюду, в любом обществе, где появлялся Женя Шварц.
Ему всю жизнь поручали открывать собрания (правда, не самые ответственные), на банкетах и званых вечерах он был тамадой, хозяином стола, и совершенно невозможно представить себе, чтобы в его присутствии первую застольную речь произносил не он, а кто-нибудь другой.
Вспомнилось почему-то одно странное собрание в Ленинграде, в клубе имени Маяковского.
Тридцать восьмой или тридцать девятый год. В гостях у писателей юристы — прокуроры, следователи, маститые адвокаты, в том числе прославленный Коммодов. Время, надо сказать, не очень уютное. За спиной у нас ежовщина. Многих наших товарищей нет с нами. Смешного, улыбчатого тут не скажешь как будто.
Но открывает собрание Евгений Львович. Своим милым, негромким, интеллигентным, хорошо поставленным голосом он говорит:
— В девятьсот пятнадцатом году на юридическом факультете Московского университета я сдавал профессору такому-то римское право. Я сдавал его очень старательно и упорно, но, увы, как я ни бился, юрист из меня не получался. И на другое утро в Майкоп, где проживали мои родители, полетела гордая и печальная телеграмма: «Римское право умирает, но не сдается!»
А вот другой год и другая обстановка. В послеобеденный зимний час пришел на огонек в комаровский Дом творчества. В столовой, где только что закончился обед, идет своеобразное соревнование: писатели пишут на спор, кто скорее и кто лучше, фантастический рассказ «Двадцать лет спустя, или 1975 год». Сосредоточенные лица, лихорадочно скрипят перья. Узнав, в чем дело, Евгений Львович задумывается, останавливает взгляд на своем старом приятеле Моисее Осиповиче Янковском и вдруг поднимает руку:
— Можно?
Ему говорят:
— Можно.
И он с ходу, как по писаному читает свой только что придуманный рассказ:
«Океанский лайнер „Моисей Янковский“, медленно разворачиваясь, входил в комаровский порт…»
Я до сих пор дословно помню первые фразы этого рассказа. И помню хохот, потрясший стены нашей маленькой столовой. Громче всех и чистосердечнее всех смеялся милейший М. О. Янковский.
Он не только сам шутил и острил, он подхватывал все мало-мальски смежное в окружающей жизни, ценил юмор в других, радовался, как маленький, удачному розыгрышу, хорошей остроте, ловкой проделке.
Вот мы с ним в Зеленогорске. По поручению Екатерины Ивановны заходили в слесарную мастерскую, брали из починки электрический чайник. Я почему-то задержался с этим чайником, и, когда вышел на улицу, Евгений Львович был уже далеко — спешил к поезду. Мне пришлось бежать, догонять его. Бегу, размахиваю чайником и вдруг слышу:
— Дю-у! Дю-у-у!.. Дядька чайник украл!
Это — мальчишки с какого-то забора.
Надо было видеть, как радовался, как смеялся Евгений Львович, с каким аппетитом рассказывал всем об этом моем позоре.
— Ничтожество! — говорил он. — На что польстился… Чайник украл!
Мы в театре — на прекрасном гастрольном спектакле американских негров «Порги и Бесс» (4). На сцене — страсти-мордасти, дикая поножовщина. И прекрасные танцы, дивные голоса, великолепная музыка Джорджа Гершвина (5).
В антракте, протискиваясь к выходу и посмеиваясь, Евгений Львович сказал мне:
— Порги в морге…
Меня «осенило», и я подхватил:
— … или «Бесс в ребро»…
Он обрадовался, как всегда радовался мало-мальски удачной находке — своей или чужой. Прогуливаясь со мной под руку по коридорам и фойе Дома культуры, он останавливал всех знакомых и каждому спешил сообщить:
— Знаете, какое мы с Пантелеевым новое название придумали: «Порги в морге, или Бесс в ребро»!..
Однако уже через десять минут Шварц не смеялся и не радовался. В коридоре мы встретили известного писателя NN. Гневно размахивая металлическим номерком от шубы, тот направлялся в гардероб и тащил туда же свою растерянную и расстроенную жену.
— Коля, ты куда? — окликнул его Евгений Львович.
NN весь кипел и шипел.
— Не могу! Довольно! Иду домой. Не понимаю, почему разрешают подобное на нашей сцене!!
В таких случаях Евгению Львовичу изменяла сдержанность, он приходил в ярость. И тут он долго не мог успокоиться. И на спектакле, и после театра, на улице, он несколько раз вспоминал NN и взрывался:
— Сволочь! Ханжа! Дурак!..
…Вспомнилось, как он изображал одного нашего общего знакомого, малограмотного автора, сочинившего когда-то посредственную «производственную» книжку и застрявшего на много лет и даже десятилетий в Союзе писателей.
— Ты обратил внимание, — говорил Евгений Львович, — как интеллигентно выражается Z? А знаешь, что он делает для этого? Он почти не произносит гласных. Сегодня встретил его, спрашиваю: «Как ваше здоровье, Федя?» Говорит: «Плохо, Евгн Львич». — «Что же с вами?» — Гордо откинул назад волосы и — трагическим голосом: «Зблеванье цнтралн нервн сстемы».
Записать на бумаге эти реплики Z почти невозможно, а в устах Евгения Львовича это звучало удивительно смешно и очень похоже, я сразу представил себе этого по-епиходовски глупого и несчастного человека.
Свои словесные зарисовки Евгений Львович никогда не оттачивал, не отрабатывал, как делает это, например, И. Л. Андроников. И все-таки импровизации Шварца, его устные портреты были удивительно талантливы, точны и комичны.
А как здорово изображал он животных! Один раз прихожу к нему — он встречает меня улыбкой, вижу — сейчас порадует чем-нибудь.
— Я не показывал тебе, как собаки, когда они одни, в своем собачьем кругу, изображают нас, человеков?
И он каким-то воистину собачьим голосом, с «собачьим акцентом» и с собачьей иронией заговорил: на том ломаном, сюсюкающем языке, каким обычно городские люди обращаются к животным:
— Собаченька, собаченька! Нельзя! Апорт! Ко мне! К ноге! Дай лапку! и т. д.
Вообще свои актерские, лицедейские способности он проявлял на каждом шагу. Я уже говорил, что несколько лет Шварц подвизался в театре. Но вместе с тем представить его на сцене, в какой-нибудь определенной роли, в костюме, в гриме, я почему-то не могу. Так же как не могу представить в роли Гамлета или Чацкого Антона Павловича Чехова. Хотя мы знаем, что и Чехов в молодые годы принимал участие в любительских спектаклях. И, говорят, был хорош.
Я уже упоминал о том, что последние десять — пятнадцать лет своей жизни Евгений Львович работал очень много, буквально с утра до ночи. Но это никогда не было «каторжной работой», — наоборот, работал он весело, со вкусом, с аппетитом, с удивительной и завидной легкостью, — так работали, вероятно, когда-то мастера Возрождения.
Самое удивительное, что ему никогда не мешали люди. Для многих из нас, пишущих, приход в рабочее время посетителя — почти катастрофа. Он же, услышав за дверью чужие голоса, переставал стучать на своем маленьком «ремингтоне», легко поднимался и выходил на кухню. И кто бы там ни был — знакомый ли писатель, дочь ли Наташа, приехавшая из города, почтальон, молочница или соседский мальчик — он непременно оставался какое-то время на кухне, принимал участие в разговоре, шутил, входил в обсуждение хозяйственных дел, а потом как ни в чем не бывало возвращался к машинке и продолжал прерванную работу.
Он обижался и даже сердился, если видел из окна, как я проходил мимо и не свернул к его калитке.
— Вот сволочь! — говорил он. — Шел утром на почту и не заглянул.
— Я думал, ты работаешь, боялся помешать.
— Скажите пожалуйста! «Помешать»! Ты же знаешь, что я обожаю, когда мне мешают.
Говорилось это отчасти для красного словца, отчасти по инерции, потому что было время, когда он действительно «обожал» помехи… Но была тут и правда — я и в самом деле был нужен ему утром, чтобы выслушать из его уст новые страницы «ме» или последний, двадцать четвертый, вариант третьего действия его новой пьесы… Это ведь тоже было работой. Читая кому-нибудь рукопись, он проверял себя и на слух, и на глаз (то есть следил и за точностью фразы, и за реакцией слушателя).
Он был мастером в самом высоком, в самом прекрасном смысле слова. Если в молодости он мог написать пьесу за две, за три недели, то на склоне дней на такую же трехактную пьесу у него уходили месяцы, а иногда и годы…
Сколько вариантов пьесы «Два клена» или сценария «Дон Кихот» выслушал я в его чтении! При этом он часто говорил:
— Надо делать все, о чем тебя попросят, не отказываться ни от чего. И стараться, чтобы все получалось хорошо и даже отлично.
Он не афишировал эти свои «высказывания», нигде об этом не писал и не заявлял публично, но ведь по существу это было то самое, о чем так часто и громко говорил В. В. Маяковский. Евгений Львович писал не только сказки и рассказы, не только пьесы и сценарии, но и буквально все, о чем его просили, — и обозрения для Аркадия Райкина, и подписи под журнальными картинками, и куплеты, и стихи, и статьи, и цирковые репризы, и балетные либретто, и так называемые внутренние рецензии.
— Пишу все, кроме доносов, — говорил он.
Если не ошибаюсь, он был первым среди ленинградских литераторов, кто откликнулся пером на фашистское нашествие: уже в конце июня или начале июля 1941 года он работал в соавторстве с М. М. Зощенко над сатирической пьесой-памфлетом «Под липами Берлина».
Упомянув о Зощенко, не могу не сказать о том, как относился к нему Евгений Львович. Он не был близок с Михаилом Михайловичем (очень близких друзей у Зощенко, по-моему, и не было), но очень любил его — и как писателя и как человека. Привлекало его в Зощенко то же, что и в Чехове, — душевная чистота, мужество, прямолинейность, неподкупность, рыцарское отношение к женщине… Впрочем, обо всем этом лучше, чем кто-нибудь другой, рассказал в своих «ме» сам Евгений Львович. Будем надеяться, что рано или поздно (и, дай бог, не слишком поздно) книга воспоминаний увидит свет. Там мы прочтем и о Зощенко.
Между прочим, Зощенко был, пожалуй, единственный человек, о ком Евгений Львович никогда не говорил в иронических тонах. Он очень любил Самуила Яковлевича Маршака, относился к нему с сыновней преданностью и почтительностью, но, зная некоторые человеческие слабости нашего друга и учителя, иногда позволял отзываться о нем (конечно, с друзьями, в очень своей компании) с легкой насмешливостью. Так же насмешливо, иронизируя, «подкусывая», говорил он и о других близких ему людях, в том числе и обо мне.
Мы не обижались, понимали, что говорится это по-дружески, любя, но временами, когда Шварц терял чувство меры (а это с ним бывало), такая однотонность приедалась и даже вызывала раздражение.
Как-то летом мы гуляли с ним и с моей будущей женой в комаровском лесу. Евгений Львович был, что называется, в ударе, шутил, каламбурил, посмеивался над вещами, над которыми, может быть, смеяться не следовало. В запале острословия он пошутил не очень удачно, даже грубовато, обидел меня. И рассердившись, я сказал ему:
— А ты знаешь, что говорил о таких, как ты, Аристотель? Он говорил: «Видеть во всем одну только смешную сторону — признак мелкой души».
Евгений Львович смеяться и шутить не перестал, но что-то его задело.
— Как? Как? — переспросил он минуту спустя. — Повтори. Что там сказал о таких, как я, твой Сократ?
Отшутиться, однако, в этом случае он не сумел, а, скорее всего, и не захотел.
С тех пор у нас так повелось: если Шварц в моем присутствии не очень удачно или не к месту острил, я начинал тихонечко напевать или насвистывать:
Аристотель мудрый, Древний философ, Продал панталоны и т. д.Ухмыльнувшись, он принимал мой сигнал, и если считал этот сигнал уместным и справедливым, или менял тему разговора, или делался чуть-чуть серьезнее.
Нет, конечно, его остроумие не было «признаком мелкой души». Аристотеля я тогда, в лесу, помянул просто так, от большой обиды…
Не могу представить, что стало бы с Евгением Львовичем, во что бы он превратился, если бы вдруг утратил свой великий дар — то, что англичане в старину называли четвертой христианской добродетелью: юмор.
Да, без юмора невозможно и вообразить себе Евгения Львовича. И все-таки, честно говоря, я больше всего любил его как раз в те редкие минуты, когда он говорил совершенно серьезно, без попыток во что бы то ни стало шутить, без тех милых парадоксов и неповторимых «шварцизмов», которыми блистала его живая речь и будут долго блистать его книги и пьесы.
Впрочем, последняя, лучшая книга Шварца именно тем, на мой взгляд, и хороша, что в ней соблюдена мера — юмора в ней ровно столько, сколько нужно, чтобы радость общения с мастером была полной. Сознательно или бессознательно, а Евгений Львович и здесь пошел путем Чехова. Ведь и тот начинал с юмористики, а на склоне дней написал «Архиерея», рассказ, где улыбку читателя вызывают только слова «не ндравится мне» в устах старого монаха.
…Музыку он любил, но как-то умел обходиться без нее, в филармонии и на других концертах на моей памяти не бывал, думаю — из-за Екатерины Ивановны, которая выезжала (да и то не всегда) только на первые спектакли пьес Евгения Львовича.
В Комарове одну зиму Евгений Львович часто ходил по вечерам к Владимиру Ивановичу Смирнову, нашему прославленному математику и талантливейшему любителю-музыканту. Эти музыкальные вечера в «Академяках» доставляли Шварцу много радости, хотя и тут он не мог удержаться, чтобы не сострить, не побуффонить, не высмеять и музыкантов, и слушателей, и самого себя.
Помню его рассказ о том, как накануне вечером был он у В. И. Смирнова и как хозяин и гость его — тоже почтенный академик — играли в четыре руки что-то редкостное, очень серьезное и очень по-немецки основательное, часа на полтора-два. Причем Евгений Львович был единственным слушателем этого изысканного фортепьянного концерта.
— Сижу, слушаю, гляжу с умилением на их черные шапочки и чувствую, что музыка меня укачивает. Глаза слипаются. Вот-вот провалюсь куда-то. И вдруг: бам-ба-рабам-бамм! Четыре аккорда! Гром! И еще раз: бамм! бамм! бамм! Встряхиваюсь, открываю глаза, ничего не понимаю: где я, что, почему? И опять мерно покачиваются шапочки, и опять мерно рокочет музыка. Опять голова моя сползает на грудь, и вдруг опять: бам-бара-бам-бамм! Тьфу, черт! Стыдно и страшно вспомнить. Это называется: «сладкая пытка»!..
В самые последние годы Евгений Львович опять по-настоящему увлекся музыкой. По совету Б. М. Эйхенбаума завел проигрыватель, разыскивал и покупал редкие пластинки…
Не забуду, с какой светлой, радостной улыбкой (такую улыбку вызывали на его лице только маленькие дети и животные) по многу раз слушал он трогательно-наивного «Орфея» Глюка.
У меня он как-то слушал Четырнадцатую сонату Бетховена и сказал:
— Люблю страшно. Когда-то ведь и сам играл ее.
А я, признаться, и не знал совсем, что он ко всему прочему еще и музыкант.
Да, он очень любил и ценил умную шутку, сказанное к месту острое слово, веселый рассказ, талантливый анекдот.
На лету подхватывал все последние «хохмы» Эрдмана, Светлова, Никиты Богословского, Исидора Штока… С удовольствием, а бывало и с детским восторгом смотрел спектакли Аркадия Райкина!..
Но с таким же, если не с большим восторгом мог он залюбоваться какой-нибудь сосенкой в дюнах, морем, закатом. Помню, как проникновенно, со слезами в голосе читал он мне чеховского «Гусева», те последние страницы этого рассказа, где как-то не по-чеховски густо, живописно, многоцветно изображен заход солнца.
Все ли и всегда мне в нем нравилось? Было ли такое, что вызывало между нами разногласия? Ссорились ли мы? Да, разумеется, бывало и такое.
Пожалуй, чаще это я давал ему повод для недовольства, но случалось и обратное.
Мне, например, не нравилось его безоговорочно снисходительное отношение ко многим неталантливым авторам, к их рукописям, даже самым беспомощным. Несколько лет мы с Евгением Львовичем состояли в редколлегии журнала «Костер» и не один раз при обсуждении той или другой работы выступали с позиций диаметрально противоположных: он, как правило, защищал рукопись, я проявлял колебания, сомневался в необходимости ее публикации.
На редколлегии наш спор носил характер корректный, а позже, в Комарове, на прогулке, я сердился и говорил Шварцу, что это — беспринципность, что должен же он понимать, как безнадежно слаба рукопись такого-то, зачем же ее защищать, отстаивать! Евгений Львович шел, улыбался, поскрипывал стариковскими ботиками, потыкивал своей можжевеловой палкой и молчал. Или говорил, как мне казалось, не очень серьезно и убежденно:
— Нет, ты не прав. Там что-то есть. Там, например, очень хорошо написано, как вода льется из крана.
Временами мне казалось, что такая позиция Шварца объясняется тем, что он не хочет ссориться с авторами. Ссориться он и в самом деле не любил. Но было ли это беспринципностью?
Ведь в том же грехе излишней снисходительности можно было обвинить и Антона Павловича Чехова. Ведь и тот, случалось, расхваливал и проталкивал в печать самые жалкие творения самых ничтожных своих собратьев по перу.
Дело не в том, что Евгений Львович не любил и не хотел ссориться, он не любил и не хотел огорчать ближних.
Месяца за два до смерти, уже прикованный к постели, он смотрел по телевизору фильм «Они встретились в пути». Фильм этот ставился по моему сценарию, и появление его на экранах доставило мне очень много огорчений.
А Евгений Львович фильм похвалил.
— Что ты! Что ты! — говорил он не тем, не прежним, а уже теряющим силу голосом — Напрасно ты огорчаешься. Уверяю тебя — это очень смешно, очень умно, очень тонко. И, главное, там твой почерк виден!..
Убедить он меня, конечно, не убедил, но как-то все-таки ободрил, утешил. Стало казаться, что, может быть, там и в самом деле что-то от «моего почерка» осталось…
В молодости Шварц никогда не хворал. И вообще всю жизнь был очень здоровым человеком. В конце сороковых годов в Комарове он купался в заливе до поздней осени, едва ли не до заморозков. Никогда не кутался, и зимой и летом ходил нараспашку, в сильный мороз выходил провожать гостей без пальто и без шапки и при этом понятия не имел, что такое кашель или насморк.
И, как часто это бывает с людьми, никогда раньше не хворавшими, он очень трудно переносил те болезни, которые вдруг свалились на него в преддверии старости.
…Собственно говоря, одна болезнь мучила его всю жизнь — во всяком случае, с тех пор, как я его помню. Кажется, это называется тремор. У него дрожали руки. Болезнь, конечно, не такая уж опасная, но она доставляла ему очень много маленьких огорчений.
Почерк у него был совершенно невообразимый, — через две недели он сам не понимал того, что написал. И чем дальше, тем ужаснее и неудобочитаемее становились его каракули, последние страницы «Ме» вообще не поддаются расшифровке…
Руки у него не дрожали, а прыгали. Чтобы расписаться в бухгалтерской ведомости или в разносной книге почтальона, он должен был правую руку придерживать левой. Рюмку брал со стола, как медведь, двумя руками, и все таки рюмка прыгала и вино расплескивалось.
Однажды, еще в предвоенные годы, он выступал по ленинградскому радио. Я уже говорил, каким замечательным оратором, импровизатором был Евгений Львович. А тут я сижу у себя дома, слушаю в репродуктор нашего милого Златоуста и не узнаю его, не понимаю, в чем дело. Он запинается, мычит, волнуется, делает невероятной длины паузы.
Заболел, что ли?
Вечером мы говорили с ним по телефону, и я узнал, в чем дело. В то время существовало правило, по которому выступать перед микрофоном можно было, только имея на руках готовый, завизированный текст. Первый, кому разрешили говорить не по шпаргалке, был Николай митрополит Крутицкий. Упоминаю об этом потому, что впервые слышал этот рассказ именно от Шварца. В начале войны митрополита попросили выступить по радио с обращением к верующим. В назначенное время известный деятель Православной Церкви прибывает в радиостудию, следует в помещение, где стоит аппаратура. У него деликатно спрашивают:
— А где, ваше преосвященство, так сказать, текстик вашего доклада?
— Какого доклада? Какой текстик?
— Ну, одним словом, то, что вы будете сейчас произносить в микрофон.
— А я, милые мои, никогда в жизни не произносил своих проповедей по бумажке.
Слова эти будто бы вызвали некоторую панику. Позвонили туда, сюда, дошли до самых высоких инстанций. И там решили: «Пусть говорит, что хочет».
А у Евгения Львовича дела обстояли похуже. Правда, порядки того времени были ему известны, и он заблаговременно приготовил, отстукал на машинке две или три странички своего выступления. Но на его несчастье, выступать ему пришлось в радиотеатре, на сцене, где микрофон был вынесен к самой рампе, и перед ним не стояло ни столика, ни пюпитра, вообще ничего, на что можно было бы опереться или положить завизированные, заштемпелеванные листочки. И вот без малого час бедный Евгений Львович на глазах у публики мужественно боролся со своими руками и с порхающими по сцене бумажками.
— Никогда в жизни не испытывал такой пытки, — говорил он вечером в телефон.
…Но это, конечно, не было ни пыткой, ни болезнью. Настоящие болезни пришли позже, лет двадцать спустя.
Обычно недуги, как известно, подкрадываются, и подкрадываются незаметно. Тут было по-другому. Был человек здоров, курил, пил, купался в ледяной воде, ходил на десятикилометровые прогулки, работал зимой при открытом окне, спал, как ребенок, сладко и крепко, — и вдруг сразу всему пришел конец.
Конечно, не совсем всему и не совсем сразу, но все-таки быстро, ужасно быстро протекала его болезнь.
Началось с того, что Евгений Львович стал болезненно полнеть и стал жаловаться на сердце. В разговоре вдруг появились слова, о каких мы раньше не слыхивали: стенокардия, бессонница, обмен веществ, валидол, мединал, загрудинные боли… В голубом домике запахло лекарствами. Чаще, чем прежде, можно было встретить теперь в этом доме старого приятеля Шварцев профессора А. Г. Дембо.
С тучностью Евгений Львович боролся. По совету врачей стал заниматься своеобразной гимнастикой: рассыпал на полу коробок спичек и собирал эти спички, за каждой отдельно нагибаясь. Позже, и тоже по рекомендации врача, завел велосипед, но ездил на нем нерегулярно и без всякой радости. Шутя говорил, что вряд ли и водка доставит человеку удовольствие, если пить ее по предписанию врача и покупать в аптеке по рецепту.
Все чаще стали приходить мысли о смерти. И говорил он теперь о ней тоже гораздо чаще.
Несколько раз он признавался мне, что ненавидит Комарово, что места эти вредны ему, губят его. Последние два года он жил там только ради жены. Екатерина Ивановна любила свой голубой домик, свой маленький сад, цветы, возделанные ее руками. А он — чем дальше, тем больше относился ко всему этому неприязненно, даже враждебно, однако не жаловался, молчал, терпел, только все грустнее становились его глаза, и уже не искренне, а натужно, деланно посмеивался он над собой и над своими недугами.
Комарово он не мог любить за одно то, что там свалил его первый инфаркт и вообще начались все его болезни. А тут еще некстати прошел слух, будто места эти по каким-то причинам сердечным больным противопоказаны. Была ли правда в этих разговорах — не знаю, но не сомневаюсь, что в этом случае, как и во многих подобных, комаровскому климату успешно помогала мнительность больного. Евгений Львович верил, что в городе ему станет лучше, что там он поправится. И я никогда не перестану ругать себя, не прощу ни себе, ни другим друзьям Шварца, что мы не собрались с духом и не настояли на его своевременном переезде в Ленинград. Переехал он туда, когда уже было совсем поздно.
Человек, казалось бы, очень городской, кабинетный, домашний, он с большой и неподдельной нежностью относился к природе, любил, понимал и тонко чувствовал ее. Охотником и рыболовом никогда не был, но обожал ходить по грибы, по ягоды или просто бродить по лесу. Пока он был здоров, мы закатывались с ним, бывало, километров за десять-двенадцать от Комарова, бывали и на Щучьем озере, и на озере Красавица, и за старым Выборгским шоссе, и за рекой Сестрой. Большими компаниями ходили редко — на природе он шумного общества избегал, в этих случаях ему нужен был собеседник. Если собеседника не находилось, гулял один или со своей любимицей — пожилой, толстой и некрасивой дворняжкой Томкой.
Вот сидишь, работаешь у себя в келье, в Доме творчества, и вдруг слышишь — где-то еще далеко за дверью повизгиванье собаки, позвякиванье ошейника, потом грузные шаги, тяжелое дыхание. Косточки пальцев постучали в дверь и милый грудной голос спросил:
— Можьня?
Это он так со своей воспитанной, дрессированной Томочкой разговаривал, разрешал ей взять что-нибудь — конфету, косточку, кусочек мяса.
— Можьня!
Шумно и весело, как волшебник, входит — высокий, широкий, в высокой, осыпанной снегом шапке-колпаке, румяный, мокрый, разгоряченный. Собака поскуливает натягивает поводок, рвется засвидетельствовать почтение. А он наклоняется, целует в губы, обдает тебя при этом свежестью зимнего дня и несколько смущенно спрашивает:
— Работаешь? Помешал? Гулять не пойдешь?
Трудно побороть искушение, отказаться, сказать нет. Смахиваешь в ящик стола бумаги, одеваешься, берешь палку и идешь на прогулку — по первому снегу, или по рыжему ноябрьскому листу, или по влажному весеннему песочку.
Если в Доме творчества гостил в это время Леонид Николаевич Рахманов, соблазняли попутно его и шли втроем…
…Ходили в Академический городок или в сторону озера, чаще же всего, спустившись у черкасовской дачи к морю, шли берегом до Репина, там, у композиторского поселка, поднимались наверх и лесом возвращались в Комарово. Сколько было хожено гуськом по этим извилистым, путаным лесным тропинкам, где, вероятно, и сегодня я смог бы узнать каждый камень, каждый корень под ногами, каждую сосенку или куст можжевельника… И сколько было сказано и выслушано. И сейчас, когда пишу эти строки, слышу за спиной его голос, его смех, его дыхание…
Но, увы, чем дальше, тем короче делались эти утренние прогулки, с каждым днем труднее, тягостнее становился для Евгения Львовича подъем на крутую Колокольную гору. И все реже и реже раздавался за дверью моей комнаты милый петрушечный голос:
— Можьня?
И вот однажды под вечер иду в голубой домик и еще издали вижу у калитки веселую краснолицую Нюру, сторожиху соседнего гастронома. Машет мне рукой и через улицу пьяным испуганным голосом кричит:
— А Явгения Львовича увезли, Ляксей Иваныч! Да! В Ленинград! На скорой помощи! Чего? Случилось-то? Да говорят — янфаркт!
Нюра из соседнего гастронома. И прочие соседи. И какая-то Мотя, помогавшая некогда Екатерине Ивановне по хозяйству. И какой-то местный товарищ, любитель выпить и закусить, с эксцентрическим прозвищем: Елка-Палка. И родственники. И товарищи по литературному цеху. И даже товарищи по Первому майкопскому реальному училищу. Приходили. Приезжали. Писали. Просили. И не было на моей памяти случая, чтобы кто-нибудь не получал того, в чем нуждался.
Что же он — был очень богат, Евгений Львович? Да нет, вовсе не был…
Однажды, года за два до смерти, он спросил меня:
— У тебя когда-нибудь было больше двух тысяч на книжке? У меня — первый раз в жизни.
Пьесы его широко шли, пользовались успехом, но богатства он не нажил, да и не стремился к нему. Голубую дачку о двух комнатах арендовали у дачного треста, и каждый год (или, не помню, может быть, каждые два года) начинались долгие и мучительные хлопоты о продлении этой аренды.
Куда же убегали деньги? Может быть, слишком широко жили? Да, пожалуй, если под широтой понимать щедрость, а не мотовство. Беречь деньги (как и беречь себя) Евгений Львович не умел. За столом в голубом доме всегда было наготове место для гостя, и не для одного, а для двух-трех. Но больше всего, как я уже говорил, уходило на помощь тем, кто в этом нуждался. Если денег не было, а человек просил, Евгений Львович одевался и шел занимать у приятеля. А потом приходил черед брать и для себя, на хозяйство, на текущие расходы, брать часто по мелочам, «до получки», до очередной выплаты авторских в Управлении по охране авторских прав.
Только перед самым концом, вместе с широкой известностью, пришел к Евгению Львовичу и материальный достаток. Следуя примеру некоторых наших собратьев по перу и чтобы вырваться из кабалы дачного треста, он даже задумал строить дачу. Все уже было сделано для этого, присмотрели очень симпатичный участок (на горе, за чертой поселка — в сторону Зеленогорска), Евгений Львович взял в Литфонде ссуду. (Именно тут и завелись у него на сберегательной книжке «лишние» деньги.) Но дом так и не был построен…
Тогда же, в эти последние годы, появилась у Шварцев машина. Грустно почему-то даже писать об этом. Кому и зачем она была нужна, эта серая «победа»? Раза два-три в месяц ездили из Комарова в Ленинград и обратно. Привозили врача. Остальное же время машина стояла в сарае, и казалось, что она или ржавеет там, или обрастает мохом.
Успели еще сшить Евгению Львовичу первую в жизни шубу. Шуба была, что называется, богатая, к ней была придана шапка из такого же, очень дорогого, но чем-то очень неприятного зеленовато-желтого цвета. Грустно посмеиваясь, Евгений Львович сам говорил мне, что стал похож в этом наряде на ювелира времен нэпа.
Отлежавшись, оправившись от болезни, он опять вернулся в Комарово. И только после очередного приступа стенокардии, перед вторым инфарктом, приехал в Ленинград, чтобы остаться здесь навсегда.
В Ленинграде мы жили в одном доме, здесь у нас было больше возможностей встречаться… Но встречались, пожалуй, реже.
Когда болезнь слегка отпускала его, он гулял. Но что это были за прогулки! Дойдем от Малой Посадской до мечети, до Петропавловской крепости, до Сытного рынка и поворачиваем назад.
У него появилась одышка. Он стал задыхаться. И чаще он стал задумываться. Молчать. Он хорошо понимал, к чему идет дело.
— Испытываю судьбу, — сказал он мне с какой-то смущенной и даже виноватой усмешкой. — Подписался на тридцатитомное собрание Диккенса. Интересно, на каком томе это случится?
Случилось задолго до выхода последнего тома.
Он меньше гулял, меньше и реже встречался с людьми (врачи предписали покой), только работать не переставал ни на один день и даже ни на одну минуту. Его «Ме» выросли за время болезни на несколько толстых «гроссбухов».
До последнего часа не угасало в нем ребяческое, мальчишеское. Но это не было инфантильностью. Инфантильность он вообще ни в себе, ни в других не терпел.
Проказливость мальчика, детская чистота души сочетались в нем с мужеством и мудростью зрелого человека. Однажды, осуждая меня за легкомысленный, необдуманный поступок, он сказал:
— Ты ведешь себя, как гимназист.
Сам он, при всей легкости характера, при всей «трепливости» его, в решительных случаях умел поступать как мужчина. И чем дальше, тем реже проявлял он опрометчивость, душевную слабость, тем чаще выходил победителем из маленьких и больших испытаний.
У него был очередной инфаркт. Было совсем плохо, врачи объявили, что остаток жизни его исчисляется часами. И сам он понимал, что смерть стоит рядом.
О чем же он говорил в эти решительные мгновения, когда пульс его колотился со скоростью 220 ударов в минуту?
Он просил окружающих:
— Дайте мне, пожалуйста, карандаш и бумагу! Я хочу записать о бабочке…
Думали — бредит. Но это не было бредом.
Болезнь и на этот раз отпустила его, и дня через два он рассказывал мне о том, как мучила его тогда мысль, что он умрет, — сейчас вот, через минуту умрет, — и не успеет рассказать о многом, и прежде всего об этой вот бабочке.
— О какой бабочке?
— Да о самой простой белой бабочке. Я ее видел в Комарове — летом — в садике у парикмахерской…
— Чем же она тебе так понравилась, эта бабочка?
— Да ничем. Самая обыкновенная, вульгарная капустница. Но, понимаешь, мне казалось, что я нашел слова, какими о ней рассказать. О том, как она летала. Ведь ты сам знаешь, как это здорово — найти нужное слово.
Бунин писал о Чехове:
«До самой смерти росла его душа».
То же самое, теми же словами я могу сказать и про Евгения Львовича Шварца.
Семь лет нет его с нами. И семь лет я не могу в это поверить. Знаю, так часто говорят об ушедших: «Не верится». И мне приходилось не раз говорить: «Не верю», «не могу поверить»… Но в этом случае, когда речь идет о Шварце, это не фраза и не преувеличение.
Да, уже восьмой год пошел с тех пор, как мы отвезли его на Богословское кладбище, я сам, своими руками, бросил тяжелый ком мерзлой земли в глубокую черную яму, а ведь нет, пожалуй, ни одного дня, когда, живя в Комарове и проходя по Морскому проспекту или по Озерной улице, или по нижнему Выборгскому шоссе, я бы не встретил на своем пути Евгения Львовича. Нет, я, разумеется, не о призраках говорю. Я имею в виду ту могучую, титаническую силу, с какой запечатлелся этот человек в моей (и не только в моей) памяти.
…Вот он возник в снежной дали, идет на меня высокий, веселый, грузный, в распахнутой шубе, легко опираясь на палку, изящно и даже грациозно откидывая ее слегка в сторону наподобие какого-то вельможи XVII столетия.
Вот он ближе, ближе… Вижу его улыбку, слышу его милый голос, его тяжелое сиплое дыхание.
И все это обрывается, все это — мираж. Его нет. Впереди только белый снег и черные деревья.
1965
Даниил Хармс Как я всех перешибаю… (1)
Однажды я пришел в Госиздат и встретил в Госиздате Евгения Львовича Шварца, который, как всегда, был одет плохо, но с претензией на что-то.
Увидя меня, Шварц начал острить, тоже, как всегда, неудачно.
Я острил значительно удачнее и скоро в умственном отношении положил Шварца на обе лопатки.
Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха. В особенности же дохли от смеха Нина Владимировна Гернет и Давид Ефимович Рахмилович, для благозвучия называющий себя Южиным (2).
Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и, наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тифлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто.
Тут я обозлился и сказал, что я более историчен, чем Шварц и Заболоцкий, что от меня останется в истории светлое пятно, а они быстро забудутся.
Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед… (3).
Леонид Макарьев Мы знали Евгения Шварца
В начале 20-х годов из Ростова-на-Дону прибыла в Петроград Театральная мастерская. Молодой творческий коллектив полюбился зрителям. Свежесть и новизна постановочных приемов, интересный репертуар, талантливый актерский состав и высокая культура спектаклей — все обещало театру успех и долгую жизнь. В нем бился пульс настоящего искусства, от театра многого ждали, но — не знаю точно, по каким причинам, — он скоро прекратил свое существование. И тем не менее короткая жизнь театра была оправдана: театр подарил нам талантливого режиссера П. К. Вейсбрема и двух братьев-актеров Антона и Евгения Шварцев. Антон играл роль Гондлы, Евгений в том же спектакле играл роль Лаге (1). П. К. Вейсбрем много лет спустя поставил в Новом ТЮЗе одну из лучших пьес Е. Шварца «Два клена» (2) и был постоянным режиссером замечательного мастера художественного слова Антона Шварца.
Так со сцены ростовской Театральной мастерской вошел в нашу жизнь и Евгений Шварц. Вошел не как актер — совсем иначе. Скорее как «праздный поэт», томившийся в ожидании того дня, когда либо театр к нему придет, либо он сам уйдет… в литературу… И театр действительно пришел к нему, каким-то загадочным внутренним чутьем угадав в нем своего будущего автора.
Но как же родился драматург Евгений Шварц?
Старые актеры Ленинградского ТЮЗа помнят, как это началось.
Понедельники были выходными днями в ТЮЗе. Актеры свободны, помещение пустовало. Мы любили свой театр, почти безвыходно пребывали в помещении на Моховой, и к нам стала приходить неорганизованная литературная молодежь. Приезжали и гости из Москвы.
А. А. Брянцев приветствовал наши встречи, сам был активным их участником. Он искал людей, завязывал связи, стремился ввести в нашу среду интересных, талантливых людей — «не рутинно-театральных», как он выражался, а живых, творческих, перспективных. <…>
В те же годы из Екатеринодара (Краснодара) приехал С. Я. Маршак и познакомил нас с поэтессой Васильевой (3). Они вместе создали один из первых детских театров в Екатеринодаре, выпустили сборник сказок для детского театра, изданный на грубой, серой бумаге. Вскоре С. Я. Маршак занял в нашем театре «литературный пост».
Приезд Маршака внес большое оживление в атмосферу тюзовских репертуарных поисков. У него были широкие литературные связи. И как-то неожиданно для всех нас наши понедельники превратились, независимо от нас самих, в своеобразные литературные вечера, на которых стали появляться самые разные писатели.
Душой этих встреч был С. Я. Маршак. Никаких деклараций, никаких речей. Было весело, озорно, смело и талантливо. В том, что происходило вокруг нас, была особенная и нужная для актеров увлекательная конкретность — острили, смеялись, знакомились, читали стихи и прозу. Помню, читали отрывки из своих ранних книг Ольга Форш, Евг. Замятин. Выступала со своими вещами и группа молодежи, вошедшая в историю литературы под именем «Серапионовых братьев» — Лев Лунц, Николай Никитин, Вениамин Каверин и другие. Блистал на этих встречах композитор Н. М. Стрельников, умевший всегда «навязать» какую-нибудь парадоксальную проблему. Неизменно выходя за рамки академической философии, он постоянно оказывался в дискуссии победителем, рождая своим остроумием великолепную «философскую» реакцию — гомерический смех присутствующих. Он тогда деятельно, по предложению А. А. Брянцева, организовывал музыкальную работу нашего театра, писал музыку для тюзовских спектаклей и одновременно, состоя сотрудником «Жизни искусства», «удружал» нам под разными псевдонимами острыми критическими статьями.
Вот в такую оживленную атмосферу тюзовских понедельников однажды пришел вместе с К. И. Чуковским и Евгений Шварц. Он уже не играл на сцене, занимался литературной работой в Детгизе и помогал Чуковскому (как его секретарь) в архивных рукописных розысках. После закрытия Театральной мастерской Женя Шварц, кажется, не стремился к продолжению актерского пути, но актер в нем сидел глубоко и своеобразно. Он, вероятно, не мог бы серьезно играть чужие слова. В нем билось сердце импровизатора. Всегда веселый, несколько застенчивый, он был смешлив и по-детски искренен в своей смешливости. Пустякового повода было достаточно, чтобы он мог рассмеяться, стыдливо пряча в руку свою улыбку, закрывая свой смех от присутствующих. Иногда его могла рассмешить самая обыкновенная фамилия какого-нибудь человека. Казалось, ничего смешного в этой фамилии и не было. Но Женя Шварц смеялся, и его трудно было успокоить…
— Над чем ты смеешься? — спросишь его, а он засмущается только — не хочет, видимо, обидеть человека.
— Так себе, ничего… — Потом не выдержит и скажет: — Уж он ко всему относится серьезно.
А взглянешь на этого человека — и впрямь видишь, что ни к селу ни к городу его фамилия.
Не было случая, чтобы он при встрече не рассказал какую-нибудь историю.
— Сегодня спускаюсь по лестнице. Сзади бежит мальчуган, торопится и толкает меня. Я его за рукав, а он смотрит на меня злым глазом. «Ты зачем же толкаешься?» — спрашиваю, а он: «Тороплюсь… Пусти меня… Мне нужно успеть, а вы плететесь». Я его отпустил, он обрадовался, побежал дальше и кричит мне снизу: «Спасибо, дядя. Меня мальчики ждут внизу». Разве не смешно? Какая ответственность мужественная и гражданская перед товарищами.
Ему, кажется, и самого простого было достаточно для подобного обобщения.
На понедельниках Евгений Шварц был неутомим, изобретателен и затейлив. Антон Шварц выступал как его постоянный партнер. Они вместе изобретали «игры». В особенности — самодеятельные «кинофильмы». Играли все — кто мог и хотел. Женя всегда вел конферанс. Текст импровизировался им на ходу. Поводов для таких экспромтов каждый раз было достаточно. Любой из гостей мог стать «героем» заставшей его врасплох острой шварцевской шутки…
Чем чаще мы встречались и чем теснее входил Женя Шварц в нашу тюзовскую среду, тем ближе и нужней становился он для нас всех. Нередко он бывал у нас на спектаклях. Мы уже видели в нем своего возможного автора, но до реальной пьесы было еще далеко. Видимо, сложный процесс прорыва в драматургию еще не достаточно созрел.
Веселя актеров постоянными остротами, он нередко присматривался к ним с какой-то явно практической целью. Например, увидев юного, почти мальчика тогда, начинающего актера М. К. Хрякова, он вдруг сопоставляя его с грузной и высокой актрисой Ларош, шептал кому-нибудь, привычным жестом руки закрывая свой смех, который от какой-то тайной мысли уже душил его:
— Вот сыграть бы ему кота, а ей мышку…
И сам смеялся до слез. Он никогда не уподоблялся тем комикам-смехотворцам, которые обладали профессиональным умением, рассказывая смешное, соблюдать при этом полное равнодушие или наигранный серьез. Шварц как будто смешил самого себя, открывая что-то необыкновенное в простых вещах. Он сам удивлялся, словно никогда и не ожидал, что может ему прийти в голову.
«Понедельники» ушли в прошлое, когда Евгений Львович Шварц стал уже своим человеком и в литературном кругу. В ТЮЗе он, как и прежде, бывал часто, но о пьесе никогда не говорил серьезно. И была, видимо, какая-то закономерность в том, что его первая пьеса родилась из простой шварцевской шутки.
Наша актриса Елизавета Александровна Уварова (4) серьезно заболела. Женя Шварц вместе с двумя актрисами решил навестить ее. Развлекая больную, Шварц выдумывал всякую всячину, и сам смеялся, и все смеялись. Вдруг… Это случилось действительно «вдруг». Настолько, что даже он сам удивился.
Вдруг он замолк и совершенно серьезно и неожиданно для самого себя выпалил:
— Знаете, Лиза, я для вас напишу роль.
— Никакой роли вы не напишете… И вообще — не напишете.
— А вот напишу — на пари. Необыкновенная будет роль. Вот вы сейчас играете Журочку (маленький журавленок из стаи журавлей в пьесе Шмелева «Догоним солнце». — Л. М.), а я вам напишу роль старой злой ведьмы. И у этой старой ведьмы будет внучка пионерка. А пионерку будете играть вы… — сказал он, обращаясь к другой актрисе, пришедшей с ним.
— Ну, разве наши режиссеры дадут мне играть пионерку? Скажут — не подхожу по росту.
— А я их перехитрю — режиссеров… Вы будете каждый день подрастать на два сантиметра, — и опять спрятал улыбку в свой дрожащий от смеха кулак.
И непонятно было — серьезно или шутя говорит он о будущей пьесе.
Прошло несколько дней, и мы с ним оказались сидящими рядом в парикмахерской на углу Моховой. Молодой парикмахер Миша очень любил «заниматься» с актерами, знал все ленинградские театры и доставлял себе удовольствие разговорами на театральные темы. Он считал себя на «культурном уровне» и любил покрасоваться иностранными словами. Когда дело дошло до одеколона, в парикмахерской появилась моя жена — актриса нашего театра. Увидела меня сидящим в кресле, подошла ко мне и, сказав, что будет ждать в соседнем магазине, быстро вышла. Заметив это, Миша с вежливым изыском поинтересовался:
— Я угадал, не правда ли, это ваша супруга?
— У-гу! — промычал я.
— Замечательно… Я так и понял, — набросив на мое лицо салфетку, — сказал Миша. — Очень лицо такое симпатичное — беспардонное такое лицо.
И вдруг слышу, что парикмахер-сосед вскрикнул. С растопыренными руками и с поднятой в воздух бритвой он замер от страха:
— Так нельзя, гражданин… Так можно и зарезать человека.
Но что же случилось? Оказывается, Женя под бритвой своего мастера, услыхав «изысканную» реплику Миши, фыркнул от смеха в самый критический момент, когда к его лицу готова была прикоснуться бритва.
И несколько минут спустя, выходя из парикмахерской, он почти сквозь слезы не мог подавить смеха:
— Нет… Ты слышал: беспардонное такое лицо… симпатичное. Это непременно надо запомнить.
Прошло немногим больше недели — и пари было им выиграно. Поздно вечером он, торжествующий, появился у нас и, вытащив из кармана пальто объемистый сверток листков, исписанных полудетским, но четким почерком, громогласно заявил:
— Выиграл… Вот вам и пьеса! (5).
На следующее утро она была вручена А. А. Брянцеву.
Так родилась первая пьеса Евгения Шварца — «Ундервуд» (6). А наша тюзовская сцена в античном полукруге зрительного зала стала местом «театральных крестин» одного из талантливейших советских драматургов.
Между прочим, в пьесе действовала неуклюжая, маленькая, гаденькая старушонка Варварка, которая не щиплет девочку, а только щипками ее воспитывает. Она ласково-ласково ей льстит, говоря, что у нее «лицо симпатичное — беспардонное у нее лицо».
Режиссер Б. В. Зон и художник М. А. Григорьев (7) выстроили на сцене ТЮЗа самый настоящий дом. Два этажа. Действующие лица могли входить на сцену как им было угодно — и прямо из зрительного зала, и по лестницам, и даже, если надо, вскарабкиваться по водосточной трубе. Эту сказку играли первоклассные артисты: пионерку играла знаменитая Капа Пугачева, первая из прославленной четверки тюзовских травести. Студентов играли Н. К. Черкасов и Б. П. Чирков (8). Злую Варварку играла Е. А. Уварова (автор исполнил данное обещание). Двух девочек — А. А. Охитина и Е. Р. Ваккерова. Часового мастера играл молодой Л. С. Любашевский, и, наконец, самого злого симулянта, на колесиках ездившего как «безногий» и быстро вскарабкивающегося на второй этаж, когда его никто не видит, играл В. П. Полицеймако.
А драматург продолжал шутить и смеяться. Он мало интересовался тем, как работают актеры и режиссер. Он доверял театру пьесу и ждал — ему было самому интересно увидеть в первый раз свою пьесу на сцене.
— Я боюсь, что пьеса мне не понравится, — говорил он, когда его приглашали прийти на репетицию. — Мне страшно лазать по трубе на второй этаж.
Иногда он впадал в наивное раздумье и острил по поводу актерской профессии:
— Удивляюсь — как это можно играть чужую пьесу? — и потом, подумав, говорил смеясь: — Когда я играл сам на сцене, мне казалось, что лучшие роли я сам себе выдумал… а вообще-то я с удовольствием бы снова пошел в актеры, чтобы… — он умолкал и смеясь добавлял: — Тогда я имел бы право поехать в дом отдыха ЦК Рабиса…
Пока театр готовил пьесу к премьере, автор явно набирался новых впечатлений. Он вел внешне праздную жизнь, но по-своему трудился. Он наблюдал и слушал. И в каждом новом «походе в жизнь» находил новые доводы, чтобы посмеяться и поиграть простыми и обычными понятиями. А к себе он, как всегда, относился очень критически. Вот как он писал однажды о своей пьесе:
«Я очень устал, голова стала совсем плоха, ничего не пишу. Брянцев говорил во вторник, чтобы я зашел к нему поговорить о пьесе до отъезда, но я не пошел. Не хочется, скучно и противно. На днях я должен был читать пьесу в литературной газетной компании, но перед чтением просмотрел пьесу и позвонил, что у меня внезапное заседание. Если это мне кажется не от усталости, а пьеса и верно дрянь, то осенью я сообщу об этом Брянцеву и сниму пьесу. По тем же причинам я не послал пьесу никуда и никуда не пошлю. Новую надо писать…»
А между тем пьеса репетировалась, спектакль пошел, хотя и немало было хлопот, но зритель и время побеждали.
Осенью он был ироничен, тоскливо-весел. Это в нем уживалось всегда, как осенний листопад с поэзией осени. Одно письмо он пишет из Крыма, другое из Абхазии. И везде — юмор, дружба, нежное отношение к людям.
«Любите ли Вы осень? По-моему, это отличное время года…» «Я стал вегетарианцем. Это такая тоска! Если бы у вегетарианцев были шашлыки, шницель, ветчина — все было бы хорошо, но у них одни скучные пустяки. Вчера я перестал быть вегетарианцем, отдыхаю. Завтра опять начну. Все это я делаю, чтобы не состариться прежде времени. Я прочел, что вегетарианцы не стареют…»
«Вчера я был у Ольги (актриса ТЮЗа, которая в то время болела. — Л. М.) (9). Она очень хочет уехать на Кавказ… А ни в одну санаторию ее не примут… Ехать туда нужно на осень… А сейчас нужно собрать для Ольги денег. Нужно устроить концерты, сложиться, но только к осени…»
«От Вашего первого друга Гаккеля я получил две открытки с дороги. Он путешествует, как миллионер, в мягком вагоне. Вот человек! Ни одного случая не упустит затмить и уничтожить меня…»
«Вчера я был у Маршака в Лебяжьем. Уезжая, спешил на поезд и бежал лесом под проливным дождем. Это мне понравилось: была тоска и отчаяние, а не мутное безразличие. Потом от меня в вагоне валил пар. Вагон стал похож на баню. Один старичок даже влез на верхнюю полку и попарился…»
«Вчера мне сказали, что один наш с вами общий друг побрил голову. Подумайте — каков смельчак! Я тоже мечтал так поступить, но мне мешало честолюбие…» (10).
Письма свои Женя Шварц писал не как попало, а точно и просто. В них не было никакого «искусства». Зато они полны неожиданных сравнений, ассоциаций и той особенной человеческой чистоты и правдивости, которые превращают самое письмо в драгоценный психологический документ заботы, тревоги, доверия, дружбы. Читая его письма, ощущаешь исключительное совпадение слов с подлинным событием. Его письма как будто непосредственно выходили из его сердца и души, минуя средства выражения. Каждое шварцевское письмо было естественным продолжением его внутренней речи. Без всякого интеллектуального наряда и уж тем более какого-либо литературного кокетства. Он говорил, как писал, писал, как думал. И он специально не сочинял сюжетов. Казалось, что все совершается по воле самих героев, и сам автор не знает, куда они поведут его дальше. Поэтому, вероятно, Шварцу-драматургу почти всегда скорее всего удавался первый акт. Последующие акты ждали, когда действующие лица дальше захотят говорить. Может быть, потому Евгений Львович и похож на тех немногих писателей, которые не стеснялись брать сюжеты из хорошо всем знакомых источников. Найти хороший источник не значит еще, что к нему влечет бедность фантазии. Есть вечные источники человеческой правды и жизненной глубины. Таковы народные сказки. Таков и Андерсен. Не потому ли многие сказки Е. Шварца родились и прямо и косвенно из сказок Андерсена, такого близкого ему по складу творческого ума, по человеческой радости и затаенной печали? Но родившиеся из этого источника, они становились и новыми, и своеобразно иными. Сам Шварц жил в каждом из своих героев как человек наших дней, как живой свидетель всего, что происходит или может произойти в этом удивительном отраженном мире простого и реального вымысла. Ведь в самом деле, в каждой сказке Андерсена хватало достаточно и времени, и пространства, чтобы поместить в них и совершить еще одно новое, совершенно сказочное шварцевское чудо.
В этом совершенно сказочном вымысле формировались и основные, индивидуально-конкретные черты шварцевской поэтики. В неожиданности поворота мысли, и в смелости ассоциаций, и в иронических оттенках серьезности, и в детски наивной чистоте героического, и в гиперболическом глубокомыслии смешного и состояло своеобразие шварцевского стиля, мастерства словесной лепки характеров и сценического обаяния театральных сказок Евгения Шварца.
[На том этапе его жизни, когда он встретился с детским театром, а театр детей получил в его лице своего, может быть, единственного драматурга, который сумел, будучи еще очень молодым, уже найти путь к детской душе, к детским сердцам, к детской пытливости. Мы были молодыми, и он был молодой. На наших глазах Шварц приобретал какую-то особую значительность в ряду тех писателей, которые все творчество отдали театральному искусству. Он формировался и шел вместе с нами, но совершенно своим путем. Он был удивительный мастер того внутреннего слова, который он мог открывать в обычной жизни ребят. Там, где мы не придавали никакого особенного значения словам в разговоре с детьми, Шварц умел найти всегда особую глубину и тайный смысл. И он сам был интересен ребенку.][42] (11).
Е. Л. Шварц сам прекрасно читал свои пьесы. Его авторская манера читки скорее походила на публичное размышление, в котором автор хотел, казалось, подчеркнуть самое необыкновенное, что может произойти в обыкновенных условиях человеческой жизни. Словно он хотел удивить всех, кто слушает, тем, чему он сам, читая, удивляется.
Так читал знаменитый артист В. Н. Давыдов басни Крылова. «Скажите, пожалуйста, — как будто хотел он сказать, — ну, где было видно, чтоб лисица так пленилась сыром, что даже заговорила человеческим голосом!»
Е. Шварц читал свои пьесы в полном смысле слова удивительно. Когда он читал их, они производили гораздо большее впечатление, чем когда мы их ставили. Это была органическая связь человека-творца со своим произведением. Это было единое дыхание.
Именно в необыкновенности обыкновенного — секрет обаяния и остроты шварцевской выдумки.
И его кот, и собака, и медведь, и старушка-вострушка — Баба Яга, кокетничающая сама с собой перед зеркалом, и ее избушка на курьих ножках (великолепно сценически решенная режиссером П. К. Вейсбремом) — все эти персонажи в читке автора выступали как самые необыкновенные явления в нашем обыкновенном мире людей и вещей. Ну, как же тут не удивляться!
И когда, помню, Е. Шварц прочитал именно так удивительно свою сказку «Два клена», кто-то из актеров сказал тогда:
— Все правильно… Шварц пишет, как классик.
И нельзя было с этим не согласиться.
Необыкновенная любознательность Е. Л. Шварца граничила с фантастической одержимостью. В этой любознательности не было никакой стройной «программы по самообразованию». Она шла своим особенным высшим путем. Например, он мог подолгу стоять у какого-нибудь забора летом на отдыхе и рассматривать обыкновенную паутину. А потом дожидаться того момента, когда паук, почуяв муху, попавшую к нему в сеть, выползет из своей засады и, ловко передвигаясь по тончайшей ткани своего орудия смертной пытки, начнет творить свое злое дело…
И такое наблюдение не проходило для него бесследно. Он жадно всматривался во все мельчайшие проявления доброго и жестокого, смысла и бессмыслицы, расточаемых природой с неумолимым равнодушием ею самой установленных законов… Он почему-то вдруг заинтересовывался естествознанием… Вероятно, в этих раздумьях у него уже созревал замысел новой волновавшей его сказки. Сказки для взрослых…
— Удивительно, — говорил он, — паук работает математически точно, как инженер, и точно, как гениальный виртуоз-скрипач.
Он как-то вспомнил слова Л. Н. Толстого об относительности времени человеческой жизни: «От новорожденного до четырехлетнего — целая вечность. От четырехлетнего до меня — один миг…»
Шварц засмеялся:
— А сколько глупостей мы способны натворить за этот миг? Вероятно, больше, чем ребенок за четыре года…
Однажды, незадолго до своей последней болезни, Евгений Львович вспомнил свою давнюю беседу с ученым медиком.
— Вот мы говорим, что человек растет. А мне один академик рассказывал, что человек уже с малых лет медленно и неизбежно движется к концу, и он сам виноват в этом… — Шварц, сказав это, рассмеялся: — Растет к концу… Оказывается, конец на него все время наступает. В каждом нервном шоке. Например, споткнулся человек… — И он опять задрожал от своего внутреннего смеха: — Отсюда — мораль: не надо человека нервировать и не надо спотыкаться, по крайней мере, на каждом шагу… — И опять по лицу его пробежала смущенная улыбка.
С этой улыбкой он и остался в истории нашего советского театра, драматической поэзии и в истории человеческой дружбы.
1966
Клавдия Пугачева Шварц
1
Вспоминаю Женю Шварца. Как странно мне сейчас слышать, что он был мудрым. Слово «мудрый» к нему не шло. Был он веселым, добрым, дурашливым, заводным на всякие шутки.
Познакомил нас Павел Вейсбрем. Вейсбрем как режиссер помогал готовить программы брата Жени — Антона, известного чтеца (1).
Женя пришел к нам в ТЮЗ на «Четверги» Маршака. И остался. Помню Женю и брата его Антона в компании Хармса, Заболоцкого, Акимова (2). Мы звали их «мальчиками», Хотя они были старше нас. Тогда Акимов всячески вышучивал тюзовские порядки, называя ТЮЗ «Брянцевский монастырь». Шварцы, Хармс, Заболоцкий никогда над ТЮЗом не смеялись, наоборот, уважали Брянцева и его требования к актерам, сотрудникам, да и к зрителям тоже.
Знала я первую жену Шварца, но, главным образом, знала вторую его жену Катю, в которую он был влюблен без памяти. Женя бывал у меня, вернее, у Александры Яковлевны Бруштейн, когда я была замужем за ее сыном Мишей, дружил с Мишиной сестрой Надей, балериной (которая стала Надей Надеждиной, «Березкой»).
Когда я уехала от Бруштейнов, Женя бывал у меня на квартире нашей актрисы Параскевы Михайловны Денисовой. Мы вместе с ним сочиняли всякие дурацкие истории, рассказывали в лицах нашим знакомым и получали большое удовольствие от их реакции.
[Они с Катей только поженились. Мебель была очень простая. Кажется, в двухкомнатной квартире дальше была комната, куда Катя уходила. На стене у них висел мой фотопортрет. Хармс играл в любовь ко мне и ходил к Шварцу смотреть на этот портрет. Катя это заметила. И они стали говорить, что в их дом вошла пугачевщина.
В письме от 10 февраля 1934 года Хармс писал мне: «…У Шварцев бываю довольно часто. Прихожу туда под разными предлогами, но, на самом деле, только для того, чтобы взглянуть на Вас. Екатерина Ивановна заметила это и сказала Евгению Львовичу. Теперь мое посещение Шварца называется „пугачевщина“…»
Борис Чирков не жалел времени для того, чтобы доставить радость своим друзьям. Однажды Чирков и еще несколько артистов нашего театра организовали мой день рождения, и еще привлекли Акимова и Шварца. Все были молодые и готовые на любые интересные затеи.
Придя днем в театр, я по лицам окружающих актеров поняла, что они что-то затеяли, уж больно они радовались и таинственно переговаривались, поздравляя меня. И действительно, когда я вошла к себе в комнату, где гримировалась, то я ее не узнала. Она вся была завешана и заклеена портретами Емельяна Пугачева. А над зеркалом висел большой эскиз к памятнику «Праправнучке Пугачевой», который сделал Акимов. На гримировальном столе лежала кипа книг по истории Пугачевского бунта. Цветы, стихи и прочие подарки…][43] (3).
Однажды я позвонила Жене, зная его доброту, и спросила, нужны ли им с Катей красивые тарелки, которые мне достались в «наследство» от Бруштейнов. Тарелки мне были не нужны, а деньги понадобились срочно. Женя ответил «Приноси, посмотрим». Когда мы с моей сестрой пришли к ним, они ахнули от красоты посуды. Катя заявила, что она всё берет. Женя спросил: «Сколько ты за них хочешь?» Я ответила: «По рублю за тарелку». Женя стал смеяться и обзывать меня разными словами. Я тоже смеялась вместе с ним. Катя останавливала нас, говорила, что я даже не представляю, что это за тарелки. А я действительно не разбиралась в фарфоре.
Тогда Женя предложил устроить аукцион. Я поднимала тарелку, они кричали цену, а я должна была спрашивать: «Кто больше?» Женя каждый раз набавлял цену. Было шумно и весело. Я думала, что мы играемся, но когда я стала уходить Женя с Катей выложили мне такую сумму денег, что я отказалась брать. «Вы что, с ума сошли?» — кричала я. А Катя и Женя кричали: «Это ты сошла с ума, мы знаем цену, а ты нет. Бери, пока у нас есть деньги. Это нам просто посчастливилось, что мы сразу можем расплатиться». Долго спорили. Я взяла ровно половину.
Потом Женя при встрече со мной всякий раз говорил: «Можно я тебе отдам еще 20 копеек в счет того?» И у нас с ним образовалась такая игра: почему 20? А вот 10 я возьму, а остальное — потом. Никто ничего не понимал, но в театре все знали, что мы торгуемся. Мы всерьез разыгрывали эту сцену. Меня долго спрашивали: «Он что, брал в долг? Почему не отдает сразу? А чего ты отказываешься?» Я делала таинственное лицо, говоря: «У нас с ним свои счеты» — «А, так ты ему тему подсказала!» — «Нужны ему мои темы, у него самого их до черта».
Я очень любила Женю, но часто дразнила его братом Антоном: «Вот это фигура, вот это талант, какая внешность, какой голос! А что ты, Женя? Средненький, кургузенький, и как только Катя, такая красавица, влюбилась в тебя. Я бы ни за что!» Тогда Женя начинал играть. Он хватался за голову, рыдал, рвал на себе одежды. Я успокаивала его, что он будет еще красивее Антона и будет любим всеми женщинами. Кончалась эта игра тем, что мы оба кидались друг другу на шею, и все вокруг говорили: «Вот дурачье, и когда все это кончится!»
Зато наши дурачества очень любили самые маленькие зрители ТЮЗа (конечно с ними речь шла не об Антоне!). Женя обожал играть с детьми, и мы вместе с ним часто организовывали игры с младшими группами зрителей в антрактах. Какие только парики он ни надевал, каким только зверем он ни рычал, ни блеял, ни мяукал. Только что бабочкой не летал.
Женя с Катей помогали многим нашим общим знакомым. У меня был приятель, еще по Павловску, Саша Стивенсон — белокурый, хрупкий юноша. Вообще-то он был Ственсон, и в детстве говорил по-английски лучше, чем по-русски. Родители его дружили с Шуленбургами. Шуленбурги с детьми уехали за границу, а Ственсоны погибли, и Саша пошел работать молотобойцем в какую-то фабрику. Как он молот поднимал, не знаю. В ТЮЗе он бывал каждый вечер, помогал рабочим сцены, иногда даже ночевал, по секрету от Брянцева. Был он вечно голодным. Женя с Катей его подкармливали. Женя написал:
Ходит Саша Стивенсон Без носок и баз кальсон. Если снять с него штаны, Будут все удивлены.К зиме Шварцы купили ему пальто, а я — ботинки.
Бывали, конечно, и серьезные разговоры. В ТЮЗе увлекались системами. У Брянцева была своя система, у Макарьева — своя, у Зона — своя. Мальчики — Шварц, Хармс, Акимов — принимали в этих спорах горячее участие. Одно время Шварц носился с идеей, что в детском театре сказка — это «театр амплуа». Хармс и Акимов называли его архаистом, консерватором. Меня, скажу честно, это меньше интересовало. Много лет спустя Сережа Мартинсон рассказывал мне, как он принимал участие в этюдах Станиславского. Тема этюда была — «крах банка». Кто-то из студийцев метался, кто-то стоял как статуя. Мартинсон сел в кресло-качалку и начал размахивать тросточкой. Станиславский спрашивает у него: «Вы почему не участвуете?» Сережа отвечает: «У меня деньги в другом банке». Станиславский вздохнул и говорит: «Мартинсону моя система ни к чему».
Женя впервые пригласил меня выступать на радио, они вместе с Олейниковым вели передачу «Детский час». Там я встретилась с Чуковским. Тогда еще были возможны шутки в прямом эфире (да другого эфира и не было). Олейников спрашивал: «Корней Иванович, что такое та-та-та-та-та-бум, та-та-та-та-та-бум?» Чуковский тут же отвечал: «Сороконожка с деревянной ногой». Потом Шварц спрашивал: «Корней Иванович, что нужно сделать, чтобы верблюд не пролез в угольное ушко?» Чуковский отвечал: «Завязать ему узелок на хвосте».
Однажды, когда меня провожали на юг, братья Шварцы написали мне стихи. Антон написал:
Безденежье меня терзает как проказа. Увы, не для меня приволье гор Кавказа, Анапы знойный пляж и солнце Туапсе…И еще что-то. Длинное стихотворение. А Женя написал:
Приедет Капа Черней арапа, Кругла, как мячик, Кругла, как шар. И все в конфузе Воскликнут в ТЮЗе: «Где милый мальчик? Какой удар!»Я играла только в одной пьесе Шварца — в «Ундервуде». Играла героиню пьесы — пионерку Марусю, но мне все роли нравились больше, чем моя. Играли в этом спектакле прекрасно Любашевский, Полицеймако, Чирков, Уварова. «Ундервуд» был написан Женей на пари к сроку. Пари было заключено уже не помню с кем, но точно, что в тот день, когда мы компанией зашли навестить больную Уварову. Уварова потом играла в «Ундервуде» злую Варварку, и у нее была замечательная реплика (когда она щипала пионерку Марусю): «Синяк — вещь неопасная, посинеет, пожелтеет, и нет его». [В «Ундервуде» я должна была перепрыгнуть через забор. Брянцев послал меня в цирк прыгать к икарийцам. В цирке все было нормально, пол был выложен матами. А когда нужно было прыгать на цемент, я была в ужасе. И тем не менее, я прыгала, и зрители были в восторге. Когда Варварка подходит ко мне, чтобы ущипнуть, я и прыгала. Очень эффектно.]
Потом, если у Жени бывали неприятности с цензурой или критикой, мы ему всегда говорили: «Ничего, синяк — вещь неопасная».
После премьеры «Ундервуда» на квартире у Шварцев был устроен карнавал, куда Коля Акимов пришел во фраке, в цилиндре и с моноклем. Во время танца он снимал фрак, бросал к ногам своей дамы и оказывался в пальмерстоновской манишке, завязанной тесемочками на голой спине…
2[44]
…И еще одна встреча памятна мне — в день моего рождения. Пришли поздравить: Коля Акимов — молодой художник, Павел Вейсбрем — писатель и режиссер, Даниил Хармс — детский поэт, Женя Шварц — начинающий драматург, Коля Черкасов — молодой актер ТЮЗа, Давид Кричевский — уже в ту пору известный архитектор. Пришел и Лев Ландау. Были мои подруги и моя сестра. Дау никого из них не знал, и они не были знакомы с ним. <…> Вдруг кому-то пришла в голову мысль, что мужчины на память имениннице разрисуют кафельную печь, а кто не умеет рисовать, напишет что-нибудь занимательное. И началась работа. Потолки в моей комнате были высокие, а печь доходила почти до самого потолка. Сразу же раздобыли стремянку, краски, предназначенные детям для рисования. Дау залез на самый верх лестницы. Черкасов пристроился около него. Акимов рисовал стоя, Шварц, усевшись на пуфик, что-то писал и рисовал у самой дверцы печки. Шум, хохот. Черкасов командовал, как кому разместиться. Я с подружками убирала со стола, чтобы принести сладкие пироги к чаю. Всем было весело, мужчины от своей затеи получали огромное удовольствие — кричали, что эта печка войдет в историю. Но печка вместе с их произведениями погибла, а все они — каждый по-своему действительно вошли в историю.
Как я теперь жалею, что не могу воспроизвести ничего из того, что было высказано в тот вечер, какие интересные мысли, какой полет фантазии, блистательное остроумие, философские суждения! Разве я думала тогда, что каждое высказывание любого из них уже была история. Эта печка на следующий день была сфотографирована, и фотография хранилась до первых дней Великой Отечественной войны, но в войну все пропало.
Тема рисунков и высказываний была посвящена имениннице. Шварц изобразил меня и моих зрителей — ребят, орущих «Капа» и бросавших цветы. Весь рисунок расположен был вокруг дверцы печки. Кричевский нарисовал замок, в котором будет жить артистка, и около него собачьи будки с псами, охраняющими замок. Головы у псов были похожи на присутствующих мужчин — очень смешно были изображены Акимов и Дау. Хармс нарисовал памятник, который будет установлен в честь праправнучки Пугачева — это был обелиск: я где-то наверху в хитоне (я тогда помимо театра выступала в стиле Дункан — танцевала в хитоне и босиком) с задраной ногой и рукой над головой, держащей какой-то венец, а внизу толпа (где опять были изображены все присутствующие в тот вечер). Нарисовано необыкновенно остро и смешно. Особенно ядовито он изобразил Кричевского и Хармса. Вейсбрем написал частушки — остроумные и злые. Черкасов живописал себя в виде преклоненного перед именинницей и тоже четверостишие — кстати, себя он нарисовал великолепно. Дау написал чистое и прозрачное стихотворение — не знаю собственное или нет, но подпись была «Ландау».
С печкой же произошла самая обыкновенная история. Очередная уборщица при уборке квартиры в мое отсутствие тщательно смыла все — «чтобы она блестела как новенькая».
Геннадий Гор Из беседы 1968 года
В 1929 году я работал в «Звезде». Часто туда приходил Шварц в сопровождении Матвеева, реже — Олейникова. Они агитировали за стихи Олейникова. Обычно читал его стихи Матвеев. Он был сыном большого партийного работника, друга Зиновьева и Кирова, образованнейший человек, писатель — «Разгром Совнаркома», «Золотой пояс». В то время эта тройка была очень дружна. Матвеев и Олейников к тому же были истинными коммунистами. Сын, как и отец, был близок к Зиновьеву и Кирову, а это уже было плохо. В 37 году отец и сын исчезли. Может быть, Олейникова потянули за Матвеевым.
В Детгизе, которым руководил Маршак, в тридцатые годы создалась весьма неприятная обстановка. Маршак привлекал к писательству самых разных людей, или, как их тогда называли, выдвиженцев. Он и его редакторы правили, или вернее сказать, сами писали за них книги. Так появились «Мальчик из Уржума» Голубевой, «Юнармия» Мирошниченко и многие другие. Став писателями, они позанимали все руководящие посты в Союзе писателей, а Мирошниченко стал секретарем парторганизации. Были, конечно, и талантливые люди, которых привлек Маршак, например, обериуты, но большинство было бездарных. А так как вторые книги за них писать никто не хотел, то они озлобились, и началась травля настоящих писателей. Голубева усердствовала по отношению к Пантелееву, который осмелился покуситься на ее тему — Кирова. Время благоприятствовало этому, и начали убивать лучших. Начали, как тогда казалось, с низов — с Белых, Заболоцкого, Олейникова, обериутов (1). Они подбирались к Маршаку, который стоял наверху. Но он удрал от них в Москву, и этим спасся. Гомункулы всегда ненавидят своего создателя, и это можно как-то оправдать, а со стороны их создателя это была трагическая вина.
Будучи близок к обериутам, Шварц наверняка посещал спектакли театра Терентьева, одного из самых интереснейших режиссеров советского театра. Его театр был даже больше мейерхольдовского. В 37 году Терентьева и Баскакова, который поддерживал этот театр, тоже посадили.
Когда, уже после войны, мы со Шварцем вышли после какого-то спектакля нашего ТЮЗа (кажется, это была инсценировка нашей ленинградской писательницы «Тартарена из Тараскона»), я сказал, что реалистический, бытовой театр отжил свой век. Шварц так странно посмотрел на меня: «А ты что, только сейчас это узнал? Я знаю это давно». Я не театрал, и после Мейерхольда и Терентьева вообще не могу смотреть спектакли современных театров. Судя по высказыванию, Шварц, по-видимому, тоже не очень хорошо относился к мхатоподобным театрам. Кажется, его высказывание звучало так: «Я давно знаю, что психологический и наивно-реалистический театр давно умер, а такой театр, как ТЮЗ, где многое условно, живой, хотя многое в его спектаклях и несовершенно». Но за точность поручиться не могу. Не записывал, да и давно это было.
В 38 году мы переехали в писательскую надстройку на канале Грибоедова. Моя маленькая дочь, ей тогда было шесть лет, заблудилась во всех тамошних переходах и позвонила в первую попавшуюся дверь. Открыл Шварц. Она спросила: «Где я живу?» Шварц вообще очень любил детей, этот вопрос ему очень понравился, и в течение многих лет он вспоминал об этом визите. Он впустил дочку к себе, они с Екатериной Ивановной расспросили ее, кто она, чья, чем-то угостили и привели к нам.
— Сразу же после войны собирались вещи для детского дома, — вступила в разговор жена писателя. — Я зашла к Шварцам. Евгений Львович сказал, что у них сейчас ничего нет, все разворовали. Я говорю, что дают всякую всячину — кто полотенце, кто еще что. У нас ничего нет, сказал Шварц, и обещал с получки купить что-нибудь. И действительно, примерно через неделю принес шикарные перчатки и шикарное кашне и дал еще 700 рублей. Это подчеркивает его доброту и непрактичность. Другие давали всякое барахло, а он купил прекрасные вещи, даже не подумав, что они не дойдут до детского дома, что их перехватят те, кому мы эти вещи передадим. Или еще — уходила на пенсию наша паспортистка. Давали по три, по пять рублей. Когда я пришла к Шварцам, он дал — 60.
— В году 48-49-м на Ленфильме состоялось заседание художественного совета совместно с писателями. Стоял вопрос о принятии сценария очень слабенького писателя Люфанова. Он в свое время скомпрометировал себя, во времена 30-х годов, этим воспользовался Друзин, человек намного хуже Люфанова, и выступил, сказав, что Люфанов недостоин ставиться и т. д. Тогда выступил Козаков и сказал, что он тоже не очень хорошо относится к Люфанову, и его сценарий ему не очень нравится, но человек находится в тяжелом материальном положении (у него большая семья), и почему бы не принять его сценарий, раз он написан. Шварц тоже поддержал Люфанова. Козаков был человеком великолепным — он был активно-добрый, а Шварц — пассивно-добрый. Но и тот и другой не выносили несправедливости. А здесь была явная несправедливость. Человек провинился давно, сейчас он совершенно безвреден, выступает сволочь и ханжески поливает его. И они встают на его защиту.
В Союзе был просмотр и обсуждение «Золушки». По-видимому, мое выступление понравилось Шварцам, и особенно Екатерине Ивановне, больше других. Ко мне она относилась очень хорошо. Мы с 46 года жили в Комарово, но стеснялись злоупотреблять шварцевским гостеприимством. У них всегда было много народа. Поэтому виделись реже, чем это было возможно. А вообще, я Шварца прозевал. Я несколько раз смотрел довоенную «Тень» и не понял. Мне казалось это подражанием Шамиссо.
Евгений Деммени О Шварце Е. Л.
1930-й год был трудным в творческой жизни театра. Атаки педологов, предпринятые ими несколько ранее на сказку, дали уже к этому времени неблагоприятные результаты, и театр находился в поисках пьес, которые могли бы заполнить образовавшиеся бреши.
На помощь театру пришли сотрудничавшие с ним драматурги, и в первую очередь Самуил Яковлевич Маршак, написавший специально для нас несколько маленьких пьес.
Он познакомил нас и с молодым драматургом Евгением Львовичем Шварцем, уже попробовавшим свои силы в Ленинградском Тюзе, отделом которого тогда являлся наш театр.
Е. Л. охотно откликнулся на наше предложение написать пьесу для кукол, и вскоре появилась его первая пьеса для кукольного театра «Пустяки». Ее постановка была осуществлена в 1932 году.
Эта пьеса в веселой и занимательной форме затрагивала серьезный вопрос о внимании к мелочам.
Как часто дети (да и все мы) не задумываемся о последствиях поступков, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Как часто проходим мы мимо так называемых «пустяков».
Вот о необходимости внимательного отношения к «мелочам», о значении каждого нашего поступка и рассказывает спектакль.
С этого спектакля началась наша творческая дружба с Е. Л. Шварцем, продолжавшаяся более тридцати лет.
Кроме «Красной Шапочки», поставленной у нас в 1938 году одновременно с Ленинградским Новым Театром юных зрителей (1), Е. Л. написал специально для нашего театра две пьесы: «Кукольный город» (1939 г.) и «Сказку о потерянном времени» (1940 г.)
Обе пьесы надолго вошли в репертуар нашего театра, и каждая из них имела по две сценических редакции.
«Сказку о потерянном времени» дети знают хорошо. Она шла во многих кукольных театрах Советского Союза, ее часто читают по радио, а недавно инсценировали в кино (2).
Судьба «Кукольного города» иная. Эта пьеса написана специально для марионеток (кукол, управляемых системой ниток). Она появилась на свет в результате настойчивого стремления Театра иметь в репертуаре пьесу, которая могла бы заменить очень важную по теме, но написанную без учета специфических особенностей кукольного театра пьесу Д. Немковского «Зеленая фуражка».
Тема пьесы «Зеленая фуражка» — защита родных рубежей — казалась театру в те годы особенно важной, но решения ее с показом в куклах пограничников и других бытовых действующих лиц было признано Театром ошибочным.
Евгений Львович принял пожелание театра, и в результате довольно долгой совместной работы появился «Кукольный город».
Я не могу сказать, что эта работа шла, как говорится, «без сучка и задоринки». Евгений Львович был очень настойчив в своих взглядах на решение и отдельных образов, и целых сцен спектакля. Это мне нравилось. Я не люблю авторов, которые безоговорочно принимают любые рекомендации театра, не пытаясь отстаивать свои позиции.
Мне кажется интересным спор, который завязывается у Театра с автором, и если в этих случаях взаимно не задевать самолюбие — дело выигрывает.
Евгений Львович, писатель большого ума и таланта, умел спорить, умел остроумно отстаивать свои взгляды, и тем интереснее было переубеждать его.
В «Кукольном городе» он внял некоторым советам Театра, а через двадцать с лишним лет при возобновлении этой пьесы в новой сценической редакции нашел в себе силы буквально за несколько дней до кончины еще раз проредактировать тексты (3).
Мне кажется, что пока в мире существуют войны, пока вопросы необходимости защиты достояния своей страны не сняты, «Кукольному городу» должна быть обеспечена сценическая жизнь, и боязнь показывать детям различные военные эпизоды, к тому же сделанные с таким тактом и юмором, как это сумел сделать Евгений Львович, не обоснована.
Недаром этот спектакль пользовался у нас особым успехом в дни блокады, вызывая, несмотря на всю свою «кукольность» (воюют игрушки и крысы), большие патриотические чувства.
Я не был близок с Евгением Львовичем в обывательском смысле слова, хотя знал его более тридцати лет.
Наша дружба с ним, а вернее его с Театром, зиждилась на большом уважении к его замечательному дарованию, безупречной честности в искусстве, чудесной способности быть искренним и добрым к людям, подлинным гуманистом наших дней.
22.1.66
Борис Чирков Из книги «Азорские острова»
В ТЮЗе я познакомился и с Евгением Шварцем — мастером удивительной выдумки и тончайшего юмора. Бывший артист ростовского театра, он тогда начинал свою литературную деятельность.
Память становится у меня все хуже, хотя прежде была как бы специально приспособлена для работы в кино. Запоминать нашему брату актеру приходится помногу и быстро. Иногда прямо на съемке нужно выучить целую страницу, а то и больше нового текста. Но как только режиссер и оператор сказали: «Все! Съемка кадра закончена…» — тут же можно выкидывать из головы все монологи, диалоги, реплики отснятого эпизода. Они теперь запечатлены на пленке, и я могу освободить от них свою память.
За десятки лет работы утвердилось во мне это своеобразие памяти, потому и не могу я припомнить, где и как произошла моя первая встреча со Шварцем, хотя знакомы были долго и, пока я жил в Ленинграде, виделись с удовольствием.
Он, детский писатель, часто бывал у нас в Театре юных зрителей и на спектаклях, и на еженедельных беседах. У нас же была поставлена первая его пьеса — «Ундервуд». И если бы не наш театр, кто знает, как сложилась бы судьба этого чудесного писателя.
Встречались мы с Евгением Львовичем и дома. И даже затеял он с актрисой Уваровой и со мною литературную игру — должны мы были сообща вести что-то вроде дневника или журнала, записывать в него все, что видели, пережили, передумали и что выдумывали. Единственное, но строжайшее требование было — не врать, не сочинять, а писать одну правду.
Затеял это дело Евгений Львович не потому, что хотел вырастить из нас литераторов, а затем, что в нем самом созрело нестерпимое желание писать, он по-всякому пробовал, испытывал себя, и ему нужны были непосредственные ценители его опытов.
Журнал прожил недолго. И хотя хранился он у Уваровой, но писал в нем почти только один Шварц.
Тетрадь эта терялась, но теперь отыскалась, и, стало быть, в нашей литературе прибавилось несколько страничек сочинений этого тонкого, жизнерадостного и нежного писателя.
Я надеюсь, что когда-нибудь эти странички будут напечатаны, к удовольствию взрослых и юных читателей (1). И так как убежден, что все большие и малые сочинения Шварца могут доставить радость людям, то и решил сообщить здесь три стихотворные шутки Евгения Львовича. Все это экспромты, и сочинены они были на лету, без всякой подготовки.
Проходя по Невскому мимо Казанского собора, всякий раз подымался я на третий этаж бывшего зингеровского дома, в те комнаты, где становилась на ноги, училась говорить, как вундеркинд, поражала своей одаренностью, серьезно думала и весело шалила совсем еще юная наша литература для детей. Здесь озорные и задумчивые таланты сидели на подоконниках, бродили по коридору. Шумно радовались новым сочинениям и литературным открытиям друг друга и свирепо и беспощадно критиковали один другого.
Здесь делались замечательные детские журналы «Еж» и «Чиж».
Но, кроме авторов и сотрудников, в этих комнатах всякий раз можно было встретить и их друзей, и взрослых читателей и поклонников этих журналов — художников, музыкантов, актеров.
В отдельной комнатке, блистая толстыми стеклами очков, обитал всеведающий бог Саваоф сих небесных сфер — Самуил Яковлевич Маршак. За тонкой перегородкой кабинета то и дело взрывался его глуховатый голос. Здесь он учил, воспитывал, вдохновлял и сам вдохновлялся, огорчался неудачами, а чаще восторгался дарованиями своих учеников и соратников.
Кланяясь полуоткрытой двери, пробираясь между Олейниковым, Хармсом, Введенским, Житковым, Лебедевым, Чарушиным, постояв за спиной у компании, окружающей Андроникова, обменявшись дружескими тумаками с Львом Канторовичем, я подбирался к небольшому столу, за которым, не обращая внимания на сутолоку вокруг него, трудился Женя Шварц, хитро и ласково улыбаясь тому, что появлялось из-под его пера на бумаге.
В один из моих заходов он вытащил из ящика свою небольшую книжицу в синей обложке — «Приключения Мухи» — и, не задумываясь, написал на ней вот это посвящение:
Когда б играл я на гитаре, Конечно, книжек не писал, А пел бы я в небесном жаре, А книжек вовсе не писал. Прекрасное очарованье Есть в металлических струнах, И все небесные созданья В твоих таинственных руках. Ах-ах, зачем я не играю, Но лишь завидую тебе — И незаметно умираю С улыбкой тихой на губе.Он поставил точку и, улыбнувшись, подписался: Б. Пастернак.
А ниже добавил: «от автора».
Я действительно тогда частенько напевал под гитару старые песни, которых много наслушался у себя в Нолинске. Ленинградским моим знакомым они нравились своим особым вятским колоритом.
А вот эту шутку он сочинил на одном из тюзовских собраний. Пока кто-то из работников педагогической части настойчиво, но скучно убеждал труппу, что главное в театре назидательность, а не увлекательность представления, Евгений Львович на крошечных листочках малюсенького блокнота писал короткие эпиграммы и рассовывал их соседям.
Мне, только что закончившему ответственную, по-моему, воодушевленную речь, тут же был вручен его отзыв на мое выступление:
Чирков таков: Пьян, Из крестьян, Бестолков — Вот он каков!..Это был такой быстрый, сочный и веселый отклик на мою невнятную речь, что я невольно, не задумываясь, громко прочел эти строчки и вызвал гораздо более яркую и одобрительную реакцию собрания, чем после своего ораторства.
Третье его сочинение относится к весне тридцать седьмого года. К этому времени уже вышли на экран и «Юность», и «Возвращение Максима». Кроме того, я снялся еще в фильме «Великий гражданин» и в нем тоже изображал этого же человека.
Уже три с лишним года продолжалась моя работа над историей питерского рабочего. А осенью собирались мы начинать съемки еще одной ее части, которую предполагали назвать «Выборгская сторона». В эти годы, как я уже писал, Максим был постоянной моей ролью, основной моей работой. Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, а образ этого человека постоянно был при мне и во мне. Постоянно в голове сидела забота о нынешних его приключениях и будущей судьбе — как-то сложится дальше его биография, что с ним случится, кем и каким он станет в следующем своем появлении на экране. Я все раздумывал и примерялся к тому, как дальше раскрывать его образ, как усложнить его характер, какие новые черты этого человека открыть людям.
Чего бы еще, кажется, надобно человеку искусства, когда он постоянно занят одною, правда, но большой, интересной творческой работой? Да вот ведь какова человеческая натура — ему и в это время, полное забот и волнений, и тут ему хочется чего-то нового, следующего, еще не изведанного. Наверное, приедается однообразная направленность занятий и хочется чем-то их расцветить…
Впрочем, напрасно я упрекаю все человечество в грехах, которые присущи лично мне. Это мой характер — непостоянный и поверхностный. Да вот и пример моего легкомыслия — той самой весной, о которой я начал рассказывать, на «Ленфильме» задумали делать картину о Пугачеве. И режиссер фильма предложил мне сниматься в центральной роли. Образ-то интереснейший, характер сложнейший. Для актера работа увлекательная и благодарная… Ну, как тут не соблазниться.
Я решил так: до осенних съемок в «Максиме» времени еще много, так что с Пугачевым я сумею управиться, а когда начнутся труды над Максимом, выложусь, как могу, чтобы и эта работа не пострадала оттого, что я на время отвлекся от нее. Так я и заявил своим режиссерам по трилогии — Козинцеву и Траубергу. Ну, они, конечно же, воспротивились моему легкомыслию.
Я настаивал — они упорно отказывали в разрешении сниматься в чужом фильме. В наш спор вмешались дирекция, художественный совет, и, конечно же, не на моей стороне.
Я злился, хлопотал, выдумывал новые и новые доказательства своей правоты, но, к счастью, ничто мне не помогало (2).
И вот в один из дней, когда мрачнее тучи я бродил по длиннющему ленфильмовскому коридору, меня окликнул Шварц. Он в это время писал сценарий для Янины Жеймо о похождениях пионерки Леночки, очень полюбившейся юным кинозрителям по первому своему появлению на экране (3).
Через минуту Евгений Львович уже выведал причину моего горестного настроения и тут же объявил:
— Выход у тебя один — написать письмо Борису Захаровичу Шумяцкому, председателю правления Совкино. Вот он тебе поможет… Только ведь у тебя не хватит таланта написать так ярко и душевно, чтобы человека взяло за сердце… Да что уж, так и быть, по доброте своей я сочиню это послание за тебя. Пойдем!..
Он притащил меня в приемную директора студии, пихнул на диван, взял у секретарши листок бумаги и, примостившись у курительного столика, стал писать.
Через четверть часа письмо было готово. Евгений Львович попросил работников «Ленфильма», сидевших в комнате, послушать петицию, которую Чирков собирается направить Шумяцкому.
И он громко прочел следующее:
Борис — Борису (Открытое письмо) Я полюбил тебя, Шумяцкий, Пять лет назад, Когда вошел с улыбкой братской В цветущий сад. Цветущий сад — кинематограф Ласкает взор. Не режиссер я, не фотограф, Актер… актер!.. Желаю роли Пугачева! Хочу играть! Изображу его я ново, На ять… на ять! Ять — это буква той эпохи, Эпохи той, И я желаю вызвать вздохи В толпе густой! Я много раз играл Максима И вот устал… Другие роли проходят мимо. Какой скандал! Короче говоря, Шумяцкий, Давай мне роль, Или меня с улыбкой адской — Уволь!.. Твой БоряПетиция эта, конечно, не была отослана. Пугачева мне изображать не пришлось, а снимался я, к счастью для себя, в «Максиме». Работа была сложная, пожалуй, труднее, чем в первых двух фильмах.
Рассказывая о Ленинградском ТЮЗе, сколько славных имен назвал я и сколько из них уже не стало. Горько думать, что отошло их время и ушло их искусство. Нет, не ушло, а вошло в души современников и помогло формированию сознания, душевного мира не одного поколения советских людей.
Не мудрено, что рядом с такими товарищами и самому хотелось стать умнее и лучше. Первые годы больше всего заботило — а довольно ли во мне силы, хватит ли способностей быть актером в такой труппе? Как проверить себя, как узнать, правильную ли дорогу в жизни выбрал я себе? Тут способ один — поглядеть на себя со стороны, тогда станет ясно — имею я право работать в искусстве или, пока не поздно, надо искать себе другую профессию.
ТЮЗ был не только местом нашей работы, он был и школой молодых актеров. Нас обучали в нем не только профессиональному мастерству, а учили думать, уважать свое дело, а больше всего — быть гражданином и помнить, что трудимся мы не для самовыявления, не для собственного удовольствия, а для тех, кто ходит в театр, для наших зрителей.
Как ни кидала потом судьба бывших «тюзян» по свету, эти первые уроки театра запомнились каждому из нас на всю жизнь…
Борис Зон Наш советский Сказочник
Представить себе детский театр без драматургии Евгения Шварца — невозможно.
Я знал Шварца давно, едва ли не с самого его приезда из Ростова в начале двадцатых годов с группой молодых актеров, задумавших перенести сюда свое ростовское начинание. Когда С. Я. Маршак, незадолго до того ставший завлитом у нас в ТЮЗе, начал объединять в Детгизе молодых писателей, из которых впоследствии выросла новая советская литература для детей, Женя оказался с ними. Но в театр Самуил Яковлевич никого из новичков, кроме Б. С. Житкова — новичка только в драматургии, — кажется, не приводил. Женя со своим первенцем «Ундервудом» появился у нас гораздо позже.
Я буквально вцепился в пьесу. Шутка ли — первая советская сказка, как окрестили ее актеры. Однако Александр Александрович Брянцев, вообще-то совсем не жадный худрук, на этот раз полностью постановки мне не отдал. Он оставил себе скромную, но очень существенную часть — всю работу с художником. Я общался не впрямую с В. И. Бейером, оформлявшим спектакль, а с Александром Александровичем, который, в свою очередь, решал с художником все специфически монтировочные задачи. Пьеса проходила все репертуарные и прочие инстанции со скрипом. Очень сбивали с толку кажущиеся жанровые противоречия пьесы. Судите сами: удивительно все похоже на сказку, и вместе с тем это наша жизнь и наши дни…
Понятное дело, получив в руки такой увлекательный материал, театр постарался до конца раскрыть сказочные намеки автора. Конечно, оттого, что Шварц сам побывал на сцене, и оттого, что жил в нем врожденный инстинкт драматурга, он необычайно легко будоражил режиссерскую и актерскую фантазию. Взять хотя бы того же Маркушку-дурачка, симулянта и жулика. Так и просится он сам на дальнейшее сценическое развитие. Если ты жулик, то жульничай еще хитрее. Дурачок? Мало. Давай мы сделаем тебя инвалидом. У тебя нет ног, садись на дощечку с колесиками, бери в руки — как их зовут? — кажется, утюги-деревяшки, которыми отталкиваются от земли, и разъезжай по всей сцене, вместо того, чтобы просто только бегать по ней. Что получится при этом?..
В пьесе, например, есть такой эпизод. Мария Ивановна выглядывает из окошка своей комнаты на втором этаже. Маркушка — внизу. Он намерен пугнуть Марию Ивановну, чтобы она не болтала лишнего про его сестрицу. Само по себе очень странно, если дурачок неожиданно произнесет нечто вполне вразумительное. Но какое впечатление он, «безногий», произведет, поднявшись со своей тележки во весь рост и молниеносно вскарабкавшись по водосточной трубе прямо к окну! Там он свистнет пронзительным разбойным посвистом прямо в ухо напуганной женщине и, прошипев свою жуткую угрозу, «сиганет» по трубе вниз и укатит, выкрикивая нелепые слова. Проделывал все это молодой Виталий Полицеймако очень ловко, и сцена производила особо сильное впечатление… Или другое. Часовая мастерская старичка Антоши. Он должен объяснить Марусе, почему нельзя догнать воров, укравших «Ундервуд». Пусть на самом видном месте лавчонки висят огромные, на манер уличных, часы. Для вящей убедительности заставим Антошу иллюстрировать передвижением огромных стрелок разницу во времени между удирающими с похищенной машинкой ворами и их преследователями. Да еще подсветим часы, чтобы доказательнее были уговоры Антоши… Или, наконец, почему бы не попытаться Маркушке в конце пьесы удирать через крышу дома, а там выпустить из всех щелей — дымовых труб, слуховых окошек — милиционеров с направленными на жулика пистолетами…
Вы чувствуете, какие интересные театральные, истинно сказочные возможности открывала нам первая пьеса Шварца? И это — капля из его заманок. Сколько соблазнов возникало для использования музыки, света и, главное, своеобразных штрихов актерской игры.
Мне, как режиссеру, первая творческая встреча с Евгением Львовичем доставила огромную радость и была началом долгого и плодотворного содружества.
Правда, после «Ундервуда», все-таки доставившего нашему автору много волнений, следующую пьесу он нам дал только через четыре года. То был «Клад» в 1933 году, и о нем будет рассказано особо. Когда же мы спустя два года разделились на два театра — ТЮЗ и Новый ТЮЗ — Евгений Львович связал свою творческую жизнь с Новым ТЮЗом (1). Здесь, кроме новой сценической редакции того же «Клада» (2), мы сыграли его «Брата и сестру» (3), «Красную шапочку» (4), «Снежную королеву» (5), а во время Великой Отечественной войны поставили «Далекий край» (6). Он прислал нам эту пьесу в Новосибирск, где мы тогда работали. В ней вовсе отсутствовала сказка. Повествовала она о группе ленинградских ребят, вывезенных из блокированного города в глубь страны…
Я перечислил все работы Шварца, в которых с неизменной творческой радостью принимал участие. Упомяну последнюю и совсем своеобразную сказку любимого моего драматурга, к которой я имел счастье только прикоснуться, но и это мне памятно. По ряду причин в ее постановке я участия не принимал. Говорю я о чудесном, поистине поэтическом произведении «Два клена». Пьесу я обнаружил в портфеле, как принято выражаться, Ленинградского драматического театра, где я некоторое время работал. Руководство, зная о моих давних творческих связях с Евгением Львовичем, предложило ее мне для постановки. Вначале, мне помнится, она называлась «Василиса-работница» (7). Первый акт я прочел взахлеб — он был написан великолепно. Не повторяя по фабуле ни одну из известных русских сказок, он был насквозь пронизан их духом, весь строй его, все персонажи были сродни любимым героям народных сказок. Казалось, что первый акт вмещает, если не по объему, то по своему идейному содержанию всю сказку. Второй и третий акты уводили действие куда-то в сторону.
Я немедленно поехал к Шварцу в Комарово, где он тогда обитал, выразил ему свои восторги по поводу блистательного начала и откровенно признался, что, по-моему, в этом начале написано все, о чем ему хотелось сказать. Шварц удивительно легко принял мои соображения и через очень короткое время прочел новый вариант, где не оставалось ничего от прежних второго и третьего актов. Однако из Ленинградского драматического театра мне вскоре пришлось уйти, а пьеса перекочевала в ТЮЗ.
Вот я назвал все или почти все грани моего творческого соприкосновения с Шварцем. О некоторых из них я должен рассказать поподробнее.
Начну с «Клада», и не только в порядке очередности. «Клад» оказался первой пьесой вообще, которую мне довелось ставить непосредственно после первой в жизни встречи с величайшим человеком театрального искусства нашей эпохи — К. С. Станиславским. Мне сейчас нужна была именно такая пьеса, которую дал нам Шварц: глубоко современная, поэтическая, с ясным, простым сюжетом, с живыми человеческими характерами, написанная подлинно художественным языком. И еще мне хотелось, чтобы в ней было немного действующих лиц, а актеры, которых мне предстояло занять, любили бы автора, верили бы в режиссера, а он верил бы в них. Шварц помог и в этом. Потребовалось всего семь человек: три актера и четыре актрисы. Среди них были и мои прямые ученики, и единомышленники. Все одинаково влюбленные в пьесу. Здесь у меня нет возможности подробно рассказать, с каким увлечением мы работали над новой пьесой Шварца. «По сравнению с талантливым, но чрезвычайно абстрактным „Ундервудом“,— писал Адр. Пиотровский, — эта новая пьеса Е. Шварца обладает и большей значительностью и направленностью, сохраняя в то же время веселость и некоторую сказочную веселость (подчеркнуто мною. — Б. З.), которые так же, как и блестящий лаконичный язык, характерны для целой линии сегодняшнего искусства для детей, представленного Е. Шварцем, наряду с С. Маршаком и еще немногими» (8).
Одна статья, точнее подборка, называлась так: «ТЮЗ нашел клад». «На каждом тюзовском спектакле, — говорилось в ней, — немало взрослых. На премьере „Клада“ значительную часть взрослых составляли писатели: все же Евгений Шварц один из первых мастеров детской литературы, пришедший в драматургию. И „большие“ писатели и „маленькие“ зрители с одинаковым волнением следили за спектаклем…» (9).
Трудно забыть Евгения Львовича Шварца, каким он бывал на репетициях и особенно вот этих — «кладовских». Им, по-видимому, владели два чувства: радости — «репетируют мою пьесу», и отчаянной неловкости — «сколько хлопот я доставляю людям», и последнего, пожалуй, больше. Еще полбеды, если актеры задавали ему вопросы, связанные с какими-нибудь сюжетными ходами, — здесь, конечно, ему нетрудно было отвечать, но, когда начинались длинные разговоры о тонких душевных переживаниях, о биографических подробностях, он чаще всего вежливо улыбался, отшучивался, под смехом пряча свое смущение. Актер подчас хочет такое выпытать у автора, что тому и в голову не приходило. Женя потом часто говорил наедине, что ему бывает очень стыдно, когда он видит, как взрослые люди с серьезными лицами часами мучаются по его вине, чтобы разрешить какой-нибудь вопрос.
Актеры далеко не всех даже очень талантливых авторов любят на репетициях: некоторые смущают их, подавляют своим многознанием, а то и просто нетерпением. Шварц же чаще всего радовался, много смеялся и очень щедро хвалил, — его любили. В отличие от многих авторов Шварц, когда у него пьеса уже заварилась и частью написана, охотно рассказывал, что у него придумалось дальше. Чаще всего это бывало чистейшей импровизацией. Пришло в голову сию минуту. Он прочел вам первый акт или большую сцену. На естественный ваш вопрос: «Что дальше?» он, до той поры и сам еще толком не знавший, как повернутся события, начинает фантазировать. Однако вы не замечаете импровизации, вам кажется — он рассказывает уже точно им решенное, но пока не зафиксированное на бумаге. Многое, вероятно, зависело от степени вашей заинтересованности: как вы слушали, как спросили. Должно быть, у Шварца это было вполне осознанным рабочим приемом…
Когда-то он возник у него случайно. Потом показалось, что такого рода рассказывания ему помогают, наталкивают на новые, неожиданные мысли, а затем стали обязательными… Мне всегда исключительно хорошо работалось со Шварцем. Не могу вспомнить ни одной не то чтобы размолвки, а сколько-нибудь значительного спора, где бы мы не нашли выхода.
Следующую пьесу Евгений Львович писал уже специально для Нового ТЮЗа через два года с лишним после «Клада». Новая пьеса называлась «Брат и сестра». Сам автор так рассказывает о ней:
«…Перед зрителем — мальчик, хороший товарищ, общественник, отличный ученик. Но все это — в школе. Едва переступив порог дома — мальчик резко меняется. Он мрачен, раздражителен, неразговорчив. Он говорит дерзости матери, грубит с младшей сестрой. В результате одного несчастного недоразумения — сестра в смертельной опасности, и произошло это по вине брата. Брат видит: весь город поднялся на спасение девочки, а на заводах гудят тревожные гудки, рабочие бегут к школе, воинские части двигаются по реке. Девочка в опасности! Несмотря на то, что с этого момента пьеса как будто бы выходит за рамки отношений брата и сестры, „семейная линия“ сохраняется. Основная тема — о поведении дома — не исчезает. Во всяком случае, таковы намерения и автора, и театра» (10).
В этой пьесе как будто совсем нет сказки, но она навеяна великой челюскинской эпопеей, сказочной по своему величию, она говорит о цене человека в нашей стране, пусть этот человек всего лишь маленькая девочка.
Пьеса снова получила высокую оценку и у зрителей, и в печати.
А буквально следом за «Братом и сестрой» Шварцем была написана и вскоре нами поставлена сказка в самом чистом ее выражении. Если до сих пор в реалистических пьесах драматурга сказка только угадывалась, то в «Красной Шапочке» происходит нечто обратное: за откровенно фантастическими образами встает подлинная жизнь. Так впоследствии будет и в «Снежной королеве», которую Шварц напишет для нас еще через два года. Когда Медведь в «Красной Шапочке» рассудительно говорит, адресуясь к Зайцу: «Ты, Заяц, конечно, знакомый, но все-таки съедобный», — все отлично понимают, о какой человеческой низости идет речь.
«Красную Шапочку» в Новом ТЮЗе ставил Владимир Петрович Чеснаков, наш балетмейстер и режиссер, погибший в ленинградскую блокаду. Я много с ним работал в обоих тюзах и в оперных театрах. Это был одаренный художник и изумительный человек. В драматургию Шварца он был подлинно влюблен. В театр он пришел как балетмейстер, но его страстно влекла к себе и режиссура.
Совершенно в манере шварцевских сказок он шутил: «Если нельзя поставить „Трех сестер“, то позвольте хоть двух». «Красная Шапочка» была его первой режиссерской работой, высоко оцененной и прессой, и автором.
Последней моей полностью совместной, от зарождения до выпуска, работой с Евгением Львовичем стала «Снежная королева».
О других творческих встречах я уже писал, но «Снежная королева» мне особенно памятна, и эту пьесу я люблю больше всех других, убежденный до сих пор, что она — наиболее совершенное произведение моего любимого драматурга.
Прекрасно помню, как однажды вечером у меня дома наедине читал мне Шварц первый акт своей новой пьесы. Читал он всегда очень волнуясь, отчетливо выговаривая все слова и несколько в приподнятом тоне, как читают поэты. Он радостно улыбался, когда улыбались вы, и весело смеялся, если вам было смешно…
Разумеется, накануне чтения я перечитал давно мною забытую сказку Андерсена и форменным образом дрожал от нетерпения, стремясь скорее узнать, во что она превратилась. Едва я услышал первые звуки таинственно-непонятного присловия Сказочника: «Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре» — как позабыл про Андерсена и попал в плен к новому рассказчику и больше не в состоянии был ничего сопоставлять. Когда оказываешься во власти ярких впечатлений, то видишь все, о чем слышал, совершающимся на сцене. Пусть потом многое изменилось в моих видениях, сейчас я не мог оторваться от них. Шварц кончил читать, но томительной паузы не наступило, и я даже не произнес традиционного: «Что дальше?», настолько было ясно, что дальше будет еще лучше. Конечно, через минуту я задал знаменитый вопрос, но уже тогда, когда было сказано главное: «Великолепно, чудно, спасибо…»
И Шварц, как всегда, стал рассказывать дальше и, очевидно, многое тут же сочинял. Во всяком случае, я уже на другой день кинулся к художнице будущего спектакля Елизавете Петровне Якуниной и пересказал ей своими словами все слышанное и увиденное мною. Я побежал и к Владимиру Михайловичу Дешевову, композитору будущего спектакля, но ему вряд ли мои впечатления могли быть сколько-нибудь полезными, потому что ничего точного в смысле музыкальных образов я ему предложить пока не мог, ему нужно было непременно дождаться целого. Шварц писал эту пьесу очень быстро. Работа, по-видимому, захватила его. Ничто не вымучивалось, а росло естественным ростом. Время от времени он читал мне новые сцены. И, кажется, я даже не пытался давать режиссерские советы, хотя многое в наших творческих взаимоотношениях было уже испытано, и я мог не бояться обидеть автора неосторожными замечаниями. Не скрою — я боялся только одного, самого опасного момента — завершающих сцен. По опыту многих лет я знал, насколько легче интересно начать пьесу, чем ее кончить. В этот раз последнее действие было выслушано мною с таким же, — нет — с еще большим интересом. До последней секунды действие продолжало развиваться, и я, подобно самому простодушному зрителю, не знал, чем оно кончится. Все! Пьеса удалась!
Теперь только бы получился спектакль. Труппа приняла пьесу восторженно. О художнике, который вместе со мною постепенно врастал в спектакль, и о композиторе, получившем в «Снежной королеве» интереснейший для себя материал, и говорить не приходится. Автор, которого актеры засыпали похвалами, не скрывал своей радости и очень трогательно принимал знаки внимания. Видно, шишки и синяки от «Ундервуда» еще не совсем зажили, а может, иной раз впоследствии случалось получать и новые. Главное же, никто не гарантировал «отпущения грехов» на будущее, да и спектакль-то еще только готовился… Но вот он прошел. Успех был полный.
Приведу отрывки из двух московских статей — С. В. Образцова и А. Я. Бруштейн (11). Первая называлась «О добрых чувствах», и ей предпослан был эпиграф из Пушкина:
И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал.«Пьеса Шварца „Снежная королева“, — писал Образцов, — это сказка. Ну что ж? Ведь сказка — это жанр, а не определение времени. Сказка и современность — понятия вовсе не противоречивые. И „Снежная королева“ — это современный спектакль. … Очень интересный автор Шварц. Среди современных советских драматургов трудно подобрать ему параллель. Он ставит жизнь и людей в какой-то особый ракурс, но этот ракурс позволяет увидеть жизнь, по-новому осознать большие и вовсе не „ракурсные“ чувства».
«„Снежная королева“, — говорилось в статье, — отнюдь не та, ставшая у нас привычной так называемая „честная и бережная“ инсценировка, где инсценировщик бесчестит и увечит автора, механически втискивая его в новую форму. „Снежная королева“ — новое произведение, в котором через разделяющие их десятилетия протянули друг другу руки старый датский сказочник Ганс Христиан Андерсен и талантливый советский драматург Евгений Шварц».
Заключить мои короткие воспоминания о Евгении Львовиче мне хочется его разговором о нас — о его многолетних товарищах по работе.
«…Драматургом работать в этом театре легко и в высшей степени интересно, — писал он в своей статье, названной им „Стиль работы театра“ — Прежде всего автор пьесы чувствует, что он театру нужен (это ощущение редкостно и не во всяком театре возможно). Режиссер обычно с самого начала в курсе творческих замыслов автора. Но вот пьеса написана, прочитана на общем собрании труппы и принята к постановке. И тут выясняется вторая, не во всяком театре возможная, особенность Нового ТЮЗа. Пьесу не переделывают больше. У автора появляется чувство, что он не только нужен театру, но его там еще и уважают. Если что-нибудь не ладится у постановщика или у актера, то причину ищут не в недостатках авторского текста. Театр не идет по линии наименьшего сопротивления. И, как это не странно, спектакль от этого только выигрывает… Новый ТЮЗ уважает авторский текст. И уважение это не исчезает, если пьеса почему-либо не имела успеха. В этом третья особенность театра. Новый ТЮЗ не отмежевывается от автора. Он отвечает за спектакль наравне с автором. Он полностью принимает на себя ответственность за неудачу и защищает мужественно точку зрения, которая заставила его принять данную пьесу…» (12).
Татьяна Белогорская Незабываемое
Весной 2003 года я прилетела из Чикаго в Санкт-Петербург, и мы с Машей отправились на Богословское кладбище. За левым поворотом открылась площадка — 10 надгробий, принадлежащих Шварц-Крыжановским. За оградой шумел город, с которым была связана их жизнь и где все разворачивалось по законам жанра времени. Питер помогал им найти свой путь. Тут они трудились, влюблялись, ссорились и мирились, расплачивались за ошибки… Когда я вчитывалась в имена на памятниках и сажала цветы, хотелось верить в правдивость строк Андрея, сына Наташи и Олега Крыжановских, внука Евгения Львовича Шварца и Гаянэ Николаевны Холодовой.
Еще вопрос, такая ль тьма темнот ждет душу, улетевшую из тела — пусть белый свет, как первый снег, сойдет, но свет и там останется, как белый.Знакомство родителей Наташи с моими произошло в начале или середине 20-х годов, то есть до нашего рождения. Одно время Гаянэ (Ганя) и мой отец Анатолий Семенович Белогорский были актерами Красного театра. Моя мама, актриса Идалия Семеновна Брегман, подружилась с Ганей; впоследствии теплые отношения наших семей не прерывались. Когда в 1929 году Евгений Львович связал судьбу с Екатериной Ивановной Зильбер, Идалия приняла сторону Гани, которая вскоре вышла замуж за актера и режиссера Ефима Григорьевича Альтуса. Перегруппировка «войск» на личных фронтах происходила цивилизованным путем. Шварца и Холодову связывала дочь, они постоянно общались и переписывались. В 16 лет Наташа спросила у отца, почему он оставил ее маму. Он ответил так, как было: «Я полюбил Катю». В свою очередь, она не осуждала его за уход из семьи. Однажды она сказала мне: «Он ведь полюбил…». Мои родители относили Шварца к числу достойных людей, ценили его человеческие качества — особенно исключительное отношение к дочери — и писательский дар. Как интеллигентные люди, они не избегали друг друга, но дружба связывала их с Холодовой.
В 1932 году на станции Разлив родители сняли общую дачу для нас с Наташей, и эта коммуна существовала четыре года. Для общения с дочкой Шварц снимал жилье поблизости. Как и Альтус, он часто присутствовал в коммуне. Происходившее в Разливе воспроизведено им в дневнике 20 лет спустя. Рассказывая о детстве дочки, он запечатлел и портрет «беленькой Танечки», которая ела под его сказки. Их я начала слушать до того, как научилась говорить и соображать. В свою очередь, Евгению Львовичу нравились семейные истории моей бабушки, одну из которых он образно передал в дневнике.
Разлив вошел в мое сознание лет в пять, причем некоторые эпизоды запомнились в картинках. Там же снимала дачу семья экранного «Чапаева». До вступления в отрочество Шварца, Бабочкина и Альтуса я называла «дядями». Поскольку моего родного дядю звали Евгением и он тоже присутствовал в Разливе, то я спросила папу: как мне их различать? По этому поводу он пошутил: пускай Евгений Львович будет дядя Женя № 2. И с двумя Наташами — Шварц и Бабочкиной — происходила путаница; для различия к их именам присоединялись фамилии. Обе Наташи часто ссорились. Во время очередной потасовки я пыталась их разнять, но вмешался Евгений Львович. По сравнению со старшими подругами я была тихоней — в знак протеста подвывала. Наташа Шварц была жалостливой; ее слезы имели сердечное происхождение. Когда мы ревели или неладили друг с другом, дядя Женя прибегал к верному средству — рассказывал сказку или историю. Во время прогулки к озеру или в рощу он непременно держал нас за руки и вновь что-нибудь рассказывал.
В Разливе детей и взрослых объединял гамак, «прослушавший» немало историй и книг. Чудом сохранилось крохотное фото той далекой поры: две девочки играют на фоне гамака. Стоило чтецу устроиться в гамаке, как дети бросались занять место рядом с ним. Чтением обычно занимались Альтус, Белогорский и Шварц, причем у каждого была своя манера передачи содержания. Мой папа четко произносил фразы, Альтус же спешил, проглатывал слова, вскакивал. Из прочитанного дядей Женей мне запомнилась повесть Д. Гринвуда «Маленький оборвыш», которую он повторял несколько раз. С текстом он обращался мягко, не торопился, не повышал голос, доводя его до шепота, и всякий раз на первом месте оказывалась интонация. В таком качестве его речь выполняла терапевтическую функцию. Аналогичным образом дядя Женя общался с детьми.
Самое яркое впечатление оставили регулярные встречи родителей, приезжавших на поезде из Ленинграда. Посещения станции мы ждали с нетерпением, т. к. из рук пассажиров получали «сокровища» — картонные проездные билеты, которые тотчас начинали изучать. «Мой больше!» — кричала Наташа. «Нет, мой!» — настаивала я. При этом нам не приходило в голову, что у нас в руках близнецы. Вспоминая впоследствии эпизоды детства, Наташа восклицала: «Какими же дурами мы были!».
В конце 30-х годов семья Холодовой жила на Литейном, д. 37, рядом с особняком, увековеченным строфами Некрасова «Вот парадный подъезд…». Шварц так часто присутствовал в той квартире, что я долго не знала о его роли приходящего отца. По случаю новогодней елки и дня рождения Наташи устраивались детские праздники, и каждый раз дядя Женя был «гвоздем программы». Чаепитие — непременно с кренделем, изготовленным бабушкой Исхуги Романовной, проходило в простенькой столовой, в углу которой восседал Наташин огромный медведь вишневого цвета. После чая стол отодвигался к окну, гости устраивались полукругом, Шварц садился в центре и начиналась сказка. Если в раннем детстве мы спорили, кому сидеть у него на коленях или рядом с ним, то к школьному возрасту эта привычка изжила себя. Стоило ему заговорить, как слушатели затихали. На его слегка дрожащие руки никто не обращал внимания; к этому привыкли. Интерес представляли его рассказы. Немало историй было озвучено им в домашней аудитории в период нашего детства и начала отрочества. Рассказывая, дядя Женя распространял волны обаяния и спокойствия, как и в гамаке в Разливе, не спешил добраться до финала. По логике вещей завороженность словом должна была оставить в памяти хотя бы следы услышанного. Но происходило иначе: содержание растворялось в его спокойной, убаюкивающей манере повествования. Я запомнила лишь имя Маруся (1) и каких-то зверюшек. Позднее Наташа говорила, что мы были необходимы отцу, как и он нам: дети подсказывали ему сюжеты, которые на них он затем проверял.
Однажды я стала свидетелем появления рифмованных экспромтов Евгения Львовича. Это произошло при следующих обстоятельствах. С конца 30-х годов мы с Наташей Бабочкиной проводили лето на Селигере, где построенные нашими родителями дачи находились рядом. Когда осенью 1940 года я вернулась в Ленинград, то поспешила встретиться с Наташей Шварц. В тот день отец был у дочери. Он любил гулять по городу, причем нередко брал с собой подруг Наташи. Мне случалось принимать участие в таких коллективных прогулках с заходом в Летний или Михайловский сад. В тот октябрьский день дядя Женя повел нас к Неве. Как человек любознательный, тяготеющий к новостям, он поинтересовался: «Ну, Танюха, рассказывай, что нового у вас на Селигере?». Подобным вариантом моего имени пользовались только Шварц и Холодова; не ведаю, кому первому пришла в голову «Танюха». Я тотчас отозвалась на просьбу поделиться селигерскими новостями — было что рассказать. В то лето наша деревня пострадала от воров. Захлебываясь подробностями, я назвала знакомые Шварцу имена — Борис Бабочкин («Чапаев»), Александр Смирнов (профессор хирург), Леонид Вивьен (режиссер). За моим рапортом последовали экспромты дяди Жени.
Заболело у Бабочкина в желудочке — «Пропали мои новые удочки!» Бедный Смирнов! Он остался без штанов. Стоит Смирнов, ломая руки, — «О, где мои новые брюки?!». Несчастные Вивьены! Воют, как гиены. Их воры обокрали, А сами удрали.О гиенах я не имела понятия, зато хорошо знала селигерских соседей. Когда представила, как рыболов-охотник дядя Боря Бабочкин мучается животом, хирург Смирнов воздымает руки к небу, а семейство Вивьена издает непонятные звуки, то начала смеяться. Рождение забавных рифм у меня на глазах походило на фокус, поэтому они и запомнились. А Шварц, разумеется, о них сразу забыл. Спустя годы я напомнила Наташе о той прогулке, но она не вспомнила ни ее, ни рифмы отца. К его шуткам дочь привыкла, как норме поведения. Так я стала единственным хранителем уличного экспромта Евгения Львовича.
Весной 1939 года он взял нас с Наташей в Новый ТЮЗ на «Снежную королеву». Скорее всего, это была премьера, так как в числе присутствовавших в фойе находились мои родители, Холодова, Брянцев и другие артисты. Задолго до похода в театр мы вовсю распевали непонятный куплет из спектакля:
Снип — снап — снурре, Пурре — базелюрре.Дядя Женя отвел нас в зрительный зал и усадил в центре. Помню, как волнительно было сидеть в темном зале и смотреть на сцену, по которой, тоже в темноте, двигались персонажи со свечами. В этот момент мы с Наташей прижались друг к другу и замерли. И еще озадачила фраза Атоманши про детей: если их балуют, то из них вырастают настоящие разбойницы. Эту тему мы потом обсуждали. Стать разбойницами не хотелось.
После войны какое-то время Наташа жила с отцом в писательской «надстройке» на канале Грибоедова, д. 9. По-видимому, это было связано с обменом квартиры Холодовой и иными бытовыми обстоятельствами. У отца она часто бывала и тогда, когда жила с Ганей и бабушкой Исхуги Романовной. В любом случае Шварц находил время для общения с дочкой. Они вместе гуляли по городу, посещали Эрмитаж, навещали писателей в доме на углу Марсова поля и Мойки, занимались хозяйственными делами…
Впервые у Шварца в писательской «надстройке» я оказалась вскоре после окончания войны в связи с присутствием там Наташи, причем визиты длились до 1949 года — момента ее замужества и переезда в Москву. В первую послевоенную встречу с Евгением Львовичем я отказалась от детского обращения к нему — «дядя Женя». Честно говоря, на канале Грибоедова меня сковывало присутствие Екатерины Ивановны. Так и вижу ее с неизменной папиросой — не лучшего качества «беломоркой». При моем появлении на пороге квартиры она задерживала руку на косяке входной двери. А я не знала, что делать — ждать, когда она изменит позу, или юркнуть под ее рукой. Видимо, Екатерина Ивановна по объективным мотивам не была в восторге от моего присутствия в доме. Во-первых, я дочь лучшей подруги Холодовой. Во-вторых, у моего отчима сложились романтические отношения с актрисой Татьяной Чокой, подругой Екатерины. Едва ли она хотела, чтобы две Татьяны встретились. Наконец, в противоположность Шварцу, ее тяготило присутствие людей в доме; многих она терпела ради него.
Екатерина не была обременена службой, светской дамой ее не назовешь, выходам в общество предпочитала домашние стены. Спектакли по пьесам Шварца смотрела лишь в день премьеры. В принципе ее заботило происходящее с ним и вокруг него. Их маленькая двухкомнатная квартира с кухней-дюймовочкой походила на скворечник; у писателя даже не было кабинета. Быт семьи отличался скромностью. Кое-какие предметы коллекционного фарфора — увлечение Екатерины Ивановны — единственное, что бросалось в глаза. Евгений Львович легкомысленно относился к материальной стороне жизни — к вещам, за исключением своего «павловского» кресла и рабочего стола, не привязывался, носил разномастные брюки и пиджаки. Он любил книги, но не был библиоманом. На его книжной полке мне запомнились тома Чехова и Бунина.
Если в пору детства — в Разливе и на Литейном в квартире Холодовой — занимали сказки Шварца, то в писательской надстройке привлекали его рассказы иного толка. Устные миниатюры — небольшие жанровые зарисовки — появлялись на ходу, но сюжеты предварительно были схвачены его зорким глазом. У него был дар интерпретировать какую-нибудь историю посредством мимики, жестов, тембра голоса. Несколько «номеров» Шварца сохранились в памяти.
Как-то он «показал» непревзойденного пародиста Ираклия Андроникова в момент его перевоплощения в нескольких писателей «надстройки». Ираклий, его жертвы и сам Шварц выглядели убедительно и смешно. В другой раз Евгений Львович изобразил визит писательницы Лидии Сейфуллиной к гипнотизеру в связи с ее привязанностью к алкоголю. Шварц показывал, как косноязычный лекарь убаюкивает писательницу гипнотической колыбельной: «Вы не пете, не пете, не пете…». Особенно удалась ему заключительная сцена, когда Сефуллина произносит «Пю!» и уходит. Иным был его рассказ о «дружбе» антиподов — Михаила Шолохова и Ильи Эренбурга. Евгений Львович поведал о литературном кворуме, на котором автор «Тихого Дона» с трибуны спросил Эренбурга, какую страну он считает своей родиной. Шварц озвучил ответ Ильи Григорьевича: «Своей родиной я считаю страну, которую предал казак Мелихов».
Наташа была похожа на отца. Их сближали не только улыбка, выражение глаз, тембр и мягкие интонации голоса, но и умение подмечать детали. Подобно отцу, она любила рассказывать. Как и он, выхватывала из окружающей среды сюжеты, превращая их в окрашенные юмором истории. В качестве одного персонажа фигурировал школьный учитель с оригинальной речью: «Греки запирали вороты, а скифы скидовали одежды». Забавным был рассказ о согрешившей на ее глазах собачке и участии в собачьих родах.
Трагикомическая история связана с подарком для Наташи к ее 18-летию. Я с трудом накопила необходимую сумму, купила одеколон «Эллада», флакон в день ее рождения разбился, на полу жидкость вступила в реакцию с мастикой, а мы, ползая, орошали свои тела смесью мастики и одеколона. Наташа была режиссером этой забавной сценки. Потом Шварц, иронично посмеиваясь, поинтересовался: «Кто более ароматен — Натуся или Танюха?». Ганя считала, что «Элладу» сгубила наша безответственность. В ее интерпретации осуждение носило характер вопрошающего прогноза: «И кто тебя, Наталья, замуж возьмет?!». Ганя как в воду глядела…
Весной 1948 года Наташа пришла к нам на Старо-Невский в сопровождении Олега Леонидовича Крыжановского. Москвич, фронтовик, ученый-энтомолог находился в Ленинграде в длительной командировке. Он снимал комнату в коммунальной квартире на Литейном, где жила семья Холодовой. Между Наташей и Олегом завязался квартирный роман, спустя год завершившийся свадьбой в той же квартире. Свадьба не отличалась от обычной вечеринки, да и жених уже не казался стариком. Отсутствие Евгения Львовича можно объяснить молодежным составом присутствующих и решением новобрачных провести вечеринку без опеки родственников. Полагаю, отец не был в восторге от такого решения.
Это было неспокойное для Шварца время: его тревожила судьба единственной дочери, любимой Натуси. Поначалу он без восторга, если не более того, воспринял перспективу союза домашней девочки-первокурсницы и сложившегося 30-летнего мужчины. Как показало будущее, эта история получила светлое продолжение. Согласно поговорке, они жили долго, счастливо и умерли в один день — с разрывом в год. Олег Леонидович и Наталья Евгеньевна провели вместе 47 лет. Они дышали одним воздухом, смотрели в одну сторону, слышали друг друга в различных ситуациях. Их не покидала терпимость, взаимная бережливость, доброжелательность, юмор. Потеряв жену, Олег продолжал воспринимать ее в настоящем времени. «Люблю Наташу», — писал он мне.
Писал он и о Шварце — отмечал издание его произведений, открытие мемориальной доски на стене дома на Малой Посадской ул, д. 8 (2), последнем его жилище, горевал об уходе родных. Свекор и зять общались девять лет, и все это время их связывали не только родственные, но и обоюдно уважительные отношения. Шварцу, далекому от биологической науки, случалось консультировался у Крыжановского. В начале 90-х годов Олег подарил мне его дневниковые записки «Живу беспокойно»… Вручая том, посоветовал обращаться с ним бережно. «Почитывайте Евгения Львовича и не забывайте нас», — сказал он.
После отъезда Крыжановских в Москву я перестала бывать в писательской «надстройке». Мы с Евгением Львовичем встречались то в Книжной лавке писателей, то в Театре комедии… Всякий раз разговор касался московской жизни Наташи и маленького Андрюши. Какое-то время он планировал переехать в столицу. Шварц заметно пополнел, но был узнаваем; сохранились мягкая улыбка и веселый прищур глаз. Встреча с Крыжановскими произошла в 1954 году после их возвращения в Ленинград. Тогда же я познакомилась с 4-летним Андрюшей и новорожденной Машенькой. Затем некоторое время провела вне Ленинграда, а когда вернулась, то Евгений Львович был серьезно болен, и больше мы не виделись.
Застолье по случаю наступающего 1958 года происходило у Холодовой. Во главе стола сидела уже очень старенькая бабушка Исхуги Романовна, ангел-хранитель семьи дочери. Новогоднее настроение омрачало ухудшающееся состояние здоровья Евгения Львовича. Все знали, что последний год стал для него столь трудным, что ему пришлось оставить любимое Комарово и переехать в город. До боя курантов Наташа по телефону поздравила отца и Екатерину Ивановну. Она обвела взглядом присутствующих и сказала: «И Танечка Белогорская с мужем здесь». Сидя рядом, я чуть ли не вкладывала ухо в трубку — хотелось уловить знакомый голос. И услышала… в последний раз. На том конце провода Евгений Львович повторил мое имя.
Через две недели Наташа спросила, стоит ли брать восьмилетнего Андрюшу на похороны дедушки. Подумав, она сказала: «Надо Андрюшу взять. Нельзя воспитывать эгоиста».
Екатерина Ивановна потеряла мужа после 29 лет брака. Без него потянулись 5 невеселых лет. Она никогда не отличалась здоровьем, курила, нервы шалили… Детей у нее не было, круг близких людей ограничивался Заболоцкими и Чокой. Лишившись главной привязанности и опоры, она сама ушла из жизни.
Шварц остался в памяти современников и потомков.
Мне запомнился такой случай. В день показа «Тени» в Театре Комедии пожилая зрительница остановилась в фойе перед его портретом. Сказанное ею говорит само за себя: «Сам ушел преждевременно, но оставил две тени — плохую и хорошую. Которая на сцене — плохая, принадлежащая ему — необычная, светлая. Больше не будет автора с двумя тенями — светлой и темной». Затем она склонила голову перед акимовским портретом Евгения Львовича. В сущности, зрительница повторила некогда сказанное Сергеем Образцовым: трудно подобрать Шварцу параллель.
В 1978 году появился фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо» по сценарию Шварца. Прелестную песенку исполнял Андрей Миронов: «А бабочки крылышками так, так, так…». Бабочкам случается войти в историю вместе с такими их покровителями, как Набоков и Шварц; оба в последнюю минуту вспоминали своих бабочек.
В начале 80-х годов Крыжановские познакомили меня с однофамильцем Евгения Львовича. Талантливый режиссер Лев Шварц руководил народным театром «Четыре окошка», где поставил пьесу-сказку «Дракон». Режиссерская трактовка совпадала с эстетикой пьесы, а игра любителей отличалась профессионализмом, что принесло спектаклю популярность. Я смотрела его несколько раз. Отправляясь в театр, шутила: «Иду на встречу с двумя Шварцами и одним Драконом». Спектакли проходили в крохотном зале; в подобном в Ростове 60 лет назад выходили на сцену юная Гаянэ Холодова и братья Антон и Евгений Шварц.
После спектакля Лев Шварц устраивал обмен впечатлениями. В тесном кругу — у самовара — собирались ценители творчества автора пьесы и работы исполнителей. Когда настал мой черед, сами по себе появились рифмы.
Из ваших «Четырех окон» прекрасно смотрится «Дракон» и, думается, Шварц Евгений — гонитель зла и преступлений — сказал бы добрые слова о режиссуре Шварца Льва.Через 28 лет после кончины Евгения Львовича состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня его рождения. В Доме писателей, который Шварц любил и где проходило прощание с ним, присутствовало немало молодежи. Наташа говорила об отце — человеке и мастере, жизнь которого была освещена юным поколением. В сущности, она затронула вечную тему преемственности поколений, когда подчас трудно разобраться с личностью и ее восприятием потомками. Впоследствии мы с Наташей обсуждали эту тему — говорили о том, что Шварц не встречался с Андерсеном и Сервантесом, но стал продолжателем посеянного ими добра. Нынешняя молодежь не видела никого из мастеров, но ценила созданное каждым. Ушла их эпоха, а они, как часть бытия сменяющегося поколения, остались современниками. И на языке Ланселота и Дон Кихота продолжают говорить «да» добру и «нет» злу.
У меня сохранился пригласительный билет на тот вечер памяти.
Гаянэ Николаевна пережила Евгения Львовича на четверть века. За длительный срок общения с первой женой психолог Шварц изучил ее непростой характер, подчас оценивал его негативно. Как южанка, она обладала фонтанирующим темпераментом. Актерская профессия тоже способствовала эмоциональным всплескам. Скучающий взгляд и женская хитрость не были ее жанрами. На моей памяти немало ее непримиримых протестов, когда она выступала защитницей правды. Особенно ее волновали судьбы детей. В разные годы она отводила в приемники бездомных малышей. В таких эпизодах участвовал Евгений Львович, а позднее Наташа. По природе Шварц и Холодова были настроены на детство, и это проявлялось в отношении к дочери. Родители действовали рука об руку — двери дома Холодовой для отца всегда оставались открытыми. Заботясь о судьбе Наташи, Ганя не сделала ее инструментом мести. Дочь, а впоследствии и внуки, постоянно находились в эпицентре отношений бывших супругов.
Она оставалась верна дочернему долгу по отношению к Исхуги Романовне, прожившей 88 лет и скончавшейся почти одновременно с Евгением Львовичем. Экспансивность Гани уживалась с ответственным подходом к воспитанию дочери. Она знала цену дружбе, не оставалась в стороне от чужих дел, о чем свидетельствует внимание, годами оказываемое моей семье. Если отбросить эмоциональную упаковку, то Холодова была широкой натурой, человеком с собственным лицом и незыблемыми принципами.
Появление общей с Евгением Львовичем правнучки Гаянэ Николаевна приветствовала фразой «Здравствуй и прощай…» (3).
К сожалению, Шварц не дожил до появления стихов внука, поэта Андрея Крыжановского. Дедушка познакомился с ним в Москве, где он родился в 1950 году, и радовался появлению мужчины в семье. Андрюша относился к типу детей, о которых врачи и психологи говорят: ум — главное направление развития. Не случайно его крестная Феня, жившая в семье Крыжановских, с раннего возраста пророчила ему будущее. «Он умнее вас всех», — приговаривала она. Наташу пугало написанное им в отрочестве. Как-то она сказала мне: «Я боюсь за Андрюшу. Он так глубоко копает…». Мать — первая из членов семьи — поняла, какая масса эмоций владеет сыном.
Короткая, но яркая жизнь Андрея показала, что ни один вид деятельности не способен был заменить ему занятие поэзией. Рифмовать он начал в 7 лет, в 19 говорил стихами, став взрослым, признался: «Я думаю стихами».
Как Шварц, Андрей ценил слова, посредством которых передавал свои ощущения. Как дед и родители, он любил животных. Его дед мечтал быть романистом и стал писателем; отец с детства увлекался энтомологией и стал ученым с мировым именем; внук и сын видел себя поэтом, и его мечта сбылась. Не по вине Андрея Крыжановского его творчество не стало общим достоянием. Не успело стать… Опередив родителей, он ушел досрочно. Дед и внук покоятся рядом.
P. S. На рубеже веков в американской газете была опубликована небольшая статья под названием «О сказке Евгения Шварца, которую не читал он сам». Спустя 65 лет очевидец вспомнил, как в Кирове (Вятке) в суровом 1942 году Евгений Львович сочинил сказку на глазах у школьников. В ней все было наоборот: танки не разрушали, а возводили прекрасные дома, истребители оставляли на земле пышные сады и газоны, на месте упавших бомб тянулись к небу высокие деревья… Бывший ученик 8-го класса, на всю жизнь запомнивший сказку, назвал встречу с ее автором очарованием и чудом доброты. Вспоминая Шварца в роли рассказчика — импровизатора, мемуарист выполнил свой долг (4).
2010 год.
Springfield, Illinois, USA.
Татьяна Сойникова Беседы 1968 год
Я пришла в техникум ТЮЗа в 1932 году, когда первый набор учился уже второй год. У меня и Бориса Вульфовича были группы ребят. Я была ученицей Хохлова. А он старый мхатовец, и меня, кажется, Макарьев пригласил в техникум. У Зона и у меня группы получились несколько разными. В разные стороны немного шло учение. И мы решили объединиться. В 35 году состоялся выпуск «Снегурочкой». А еще осенью 34-го к нам пришел директор ПионерТРАМа и пригласил тюзовцев играть на площадке театра. Театр был совершенно самодеятельный, спектакли не посещались, помещение пропадало зря. Со «Снегурочкой» мы перебрались на улицу Желябова. Успех спектакля был большой, он бурно посещался и взрослыми. Так образовался филиал ТЮЗа. Потом мы перенесли на эту же сцену «Клад».
Старый ТЮЗ из спектаклей делал представление для ребят. Их веселили, забавляли, заставляли плакать. Почему-то считалось, что ребенок не может вникнуть глубоко в идею, в мысль спектакля, и поэтому решение шло несколько поверхностно. Мы же работали для ребят, как для взрослых, только репертуар у нас был иной. Мы считали, что если ребенок и не сразу поймет что-то, то это дойдет до него позже. Вопрос стоял о глубине раскрытия. На сцене всерьез создавалась судьба человека. И в этом, по-видимому, и был успех и у детей — они чувствовали, что с ними разговаривают на равных, и у взрослых зрителей.
Труппа разделилась летом 36 года, когда юридически мы уже не были филиалом, а фактически — еще в сезоне 35/36 гг. К нам перешли прекрасные актеры — Блинов, Лукин, Уварова, Любашевский, Беюл, Емельянов, Чирков. К нам пришли — Ф. Никитин, Усков, Колесов. Колесов тогда подавал громадные надежды, это должен был быть великолепнейший актер. Да и многие с тех пор растеряли как-то себя. Исключение составляет только, пожалуй, Уварова, у нее диапазон всегда был очень широк.
Удивлялись обилию талантов нашей труппы. А удивляться надо было коллективу. У нас не выпускался актер неподготовленным. Нам удалось создать творческую обстановку во всем театре, начиная с вешалки. Каждые 10 дней труппа собиралась на декадники, где обсуждались все вопросы, все недоразумения и творческого, и бытового порядка, даже сплетни, любое столкновение выносилось на декадники.
Когда-то это пытались сделать и в старом ТЮЗе, но у них это как-то заглохло. И там тоже всегда была чистая атмосфера, но мы довели ее до высоты. Дублеры работали вместе. Они играли одного и того же человека, но индивидуальность актера делала их разными. У нас было три Марины (1), и часто двух можно было видеть за кулисами, наблюдающими за игрой первой. И потом — услышать, что все трое обсуждают ее игру, что-то советуют. Мы старались каждый спектакль сделать репетицией, раскрытием на будущее. Это была очень серьезная работа вглубь, обретение свободы, а она обретается, когда нет насилия, актер самостоятельно ищет и находит в контакте с режиссером.
На протяжении всей истории театра, правда, небольшой, у нас не было случая, чтобы спектакль был снят с репертуара. «Снегурочку» сняли только тогда, когда совершенно продырявились декорации, но мы ее заново репетировали, но выпуску помешала война. Перед открытием сезона все спектакли заново репетировались, причем искалось что-то новое, многое пересматривалось.
«КЛАД». При постановке «Клада» Зон уже ездил к Станиславскому. Этот спектакль был первым «подопытным кроликом» результата этих поездок. Здесь началась проводиться на сцене та углубленная жизнь. Первые опыты с неподготовленными людьми, это немножко затежелило спектакль, но была прекрасная Охитина, Лукин, Блинов, Емельянов, ребята — Казаринова и Орлова. Еще не было абсолютного ансамбля, но уже кое-что начиналось. Мне кажется, что было не очень удачное оформление, тяжелое (2). Это нагромождение кубов…
«БРАТ И СЕСТРА». Превосходно играл Кадочников старика (3). М. О. Янковский на просмотре сказал: «Куда же вы лезете? У вас все лучше и лучше!» Перед тем, как перейти к самой пьесе, делали этюды. Некоторые реплики Шварц записывал и вводил в текст. Многое было найдено на репетициях.
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Определился очень хороший состав. Очень хорошо оформила спектакль Якунина. И тема андерсеновская — горячих и холодных сердец — очень легла на труппу. Идейная сторона спектакля у нас шла всегда главной. Сверхзадача — чувственная, не дай бог, если она умственная. А тема о горячих и холодных сердцах у нас звучала всюду — и в «Музыкантской команде», и в «Третьей версте» (4). А здесь она стала главной. В этом спектакле впервые появилась люминесценция. Ею были наполнены сны. К нам примчалось два инженера, которые изобрели эти краски, и мы экспериментировали. Особенно не давалась сцена во Дворце королевы. Здесь мы решили залюминесценировать всего Кея, и костюм, и грим. В общем, старались найти более зрелищное решение.
У нас не было такого спектакля, который не посещался бы Зоном, мною или Чеснаковым. Потом мы организовали группу избранных из актеров, которые ходили на спектакли, если мы не успевали, и делали нам потом отчет.
Шварц бывал на репетициях сплошь. Особенно в первый период. Он схватывал реплики актеров, если они ему нравились, когда они бродили по сцене в этюдах, нащупывающих действие. Правил текст на репетициях. Он хватал любое предложение и тут же дрожащей рукой, посмеиваясь и остря, записывал. Особенно много он использовал кадочниковских импровизаций. Тот был любимейшим актером Шварца (5).
Он бывал участником наших капустников. Самые веселые бывали 5 мая. В одном из них Е. Л. играл пожарника в каске, в серой куртке. Это было удивительно смешно. У нас однажды, чуть ли не во время генеральной репетиции, на сцену вышел пожарник, осмотрелся и говорит: продолжайте, продолжайте, — и ушел. В другой раз — на сцену выскочила кошка. Зон тогда яростно кричал об уничтожении всех кошек. И вот Шварц торжественно вешал бутафорского кота. Все лежали от хохота, как он это проделывал. Или в самое неподходящее время он подходил к кому-нибудь из нас и говорил, что его к телефону, или еще что-нибудь в этом же роде.
«ДАЛЕКИЙ КРАЙ». К этому времени театр уже «скосился». В эвакуации у нас все пошатнулось. Все наши мужчины записались в ополчение и остались в Ленинграде. Это потому, что коллектив был великолепным. А женщины организовали женский гуслярный ансамбль и думали, что будем обслуживать фронт. Но вышло распоряжение эвакуироваться, и тогда я с Рачинским, зам. нач. Управления, вытаскивали мужчин из ополчения. Ездили по командирам дивизий и вытаскивали людей. Так мы вытащили Зона, Любашевского, Андрушкевича. Закс — отказался (6). Уехали мы в Новосибирск (7) без директора, без актеров. Театр стал терять себя. Такой организм, как театр, может существовать только при постоянной работе. Спасение «Далекого края» было в том, что там были заняты наши травестёшки. Это был наш новотюзовский спектакль. Очень трогательным было предложение Якуниной — решетка Летнего сада была как бы занавесом, и при начале действия раздвигалась. Наши актрисы, когда увидели это впервые, — все ревели.
В конце 43 года я уехала в Ленинград. Было очень скорбно, тяжко. Думала, что вернусь с товарищами, и наладим театр снова, но ничего не вышло. Вернулся театр совершенно разложившимся, и ничего уже сделать было нельзя.
Помню, что о «Драконе» Шварц рассказывал нам еще, когда мы были на Желябова. (В 39 году нас перевели в более удобное и большее помещение на Владимирском.) Он читал нам куски «Дракона» и «Тени», рассказывал о «Голом короле». Это не было специальным. После спектакля или репетиции, или на декаднике, он вынимал какие-то листки и читал кусочки из своих пьес. Когда он читал куски «Дракона», у меня возникали ассоциации с «Коричневой книгой» — книгой свидетельств раннего гитлеризма, изданной то ли в Англии, то ли еще где-то на русском языке (8).
Владислав Андрушкевич Выступление на вечере памяти Е. Л. Шварца
Я считаю, что мне очень повезло в жизни и в том, что я имел счастье работать над пьесами Евгения Львовича Шварца как режиссер, и в том, что имел возможность наблюдать творческий процесс работы, заглянуть в его интимную творческую лабораторию. Хороший драматург, о чем свидетельствует история драматургии и ее авторов, тот, в ком существует актерское начало, кто пользуется в своем драматургическом деле творчеством актера, тот, кто вышел из актеров или потенциально является актером, т. е. мог бы им стать.
Я не знал, что Евгений Львович в молодости был актером, но мне довелось наблюдать, как он играл в жизни: это было не просто чудачеством, это был его творческий ход, прием. Скажем, вести разговор от чьего-то лица, лица задуманного им образа. Так, однажды, на одном из вечеров-капустников Нового ТЮЗа, он придумал себе образ человека, который, кроме возгласа «ура!», больше ничего не произносил, но этим возгласом он пользовался многообразно. То он требовал, чтобы его возвеличивали: садился в кресло, сооружал на голове импровизированную корону и повелевал присутствующими; и надо сказать, что все охотно шли на эту игру, то он, сняв пиджак и расстегнув ворот, играл разгулявшегося гуляку, то его находили в гардеробе, где он вымогал на чай, и все это одним возгласом «ура!»
Или иной случай: в домашней обстановке, будучи в гостях у О. П. Беюл, он от лица разбитного, болтливого нэпмана-одессита, обиженного советской властью, рассказывал уморительные истории, обращаясь к присутствующим, как будто они были теми типами, которые ему были нужны: то к судье, то к торговцу, то к женщине, которая его пленила.
Евгений Львович легко сочинял и записывал первые акты своих пьес-сказок, но как мучительно ему давался последний акт. Мне не раз приходилось бывать у него дома, выпрашивая текст последующих сцен уже репетируемого спектакля. Так было при работе над «Снежной королевой», так было и с «Красной Шапочкой», где он не мог придумать персонажа, нужного для дальнейшего хода событий. И вот я прихожу за очередной сценой, а он меня направляет на угол Невского и Садовой наблюдать за милиционером-регулировщиком. Он, видите ли, вчера наблюдал за ним целый час, а теперь должен пойти я и изучить искусство регулировщика, оказавшегося действительно волшебником: он виртуозно работал руками, всем корпусом. Я выполняю его задание, и затем мы поочередно играем: то я милиционера, а Евгений Львович всех обитателей леса и Красную Шапочку, то наоборот. Затем он заявляет: «Иди и скажи Зону, что через три дня я так и быть напишу хорошую сцену». Так появился милиционер в «Красной Шапочке». Кстати, он был куда интереснее, чем появившийся в печатном экземпляре по требованию реперткома образ лесника.
Или — такой эпизод: в дни войны какое-то время Евгений Львович жил в Москве в гостинице. Я пришел его навестить. Дверь в номер была приоткрыта, и моему взору предстала такая картина: на полу сидел Евгений Львович, а на шкафу лежал его кот, и они разговаривали. Правда, слова и за себя, и за кота произносил Евгений Львович, но общался он с котом очень серьезно, как будто у них шла задушевная беседа равных. Кот у него был огромный, пушистый, и звали его Борисом. Так его окрестил Евгений Львович в отместку Б. В. Зону, у которого домработницу звали Женя. Они были друзьями и называли друг друга по имени. Эта игра именами доставляла им обоим массу веселых минут, когда они навещали друг друга. Тот диалог с котом, которому я был невольным свидетелем, я понял, когда прочел сцену из пьесы «Дракон».
В Новосибирске, в страшный морозный день, в те же военные годы, как-то пришел ко мне Евгений Львович (в городе он был проездом) (1). И стал рассказывать о своей новой пьесе, у которой пока еще нет твердого варианта последнего акта. «Читал Акимову — ему очень нравится, хочет ставить, но он куда-то не туда меня тянет. Сегодня показал Зону, а он тянет в другую сторону» (2). Всем известно, что Н. П. Акимов и Б. В. Зон были самые близкие его друзья, как в творчестве, так и по человеческой линии (3). «Я, — говорит, — спрашиваю Зона: мне нужен режиссер, который по своему почерку был бы между тобой и Акимовым. И кого, ты думаешь, он назвал? Тебя. Вот я и пришел с предложением». К моему великому огорчению я не смог по независящим от меня причинам поставить «Дракона» и оправдать доверие своего учителя Б. В. Зона и не подвести любимого автора. Но до сих пор еще живу с этой мечтой.
Я помню, как он пришел, сел где-то далеко, смотрит, потом говорит: «Это я написал? Ужас». Ему было не по себе. Это черта Евгения Львовича, он не со стороны смотрел, а изнутри. Очень жаль, что многие задуманные им пьесы и рассказанные импровизационно, не сохранились. Я помню начало. Он сидел в Летнем саду и рассказывал мне пьесу, которой нет. Он рассказывал, как здесь в петровские времена… Он импровизировал и, импровизируя, играл. Это истинный талант, он подкупал. И когда рассказываешь молодым режиссерам о том, как должен работать настоящий драматург, я много говорю о Евгении Львовиче.
Евгений Львович для нашего поколения живет не только в своих поэтических сказочных произведениях, но и как необыкновенная, яркая, полная мудрости и юмора личность. Он как будто продолжает жить в нас, когда проходишь мимо тех мест в городе, где он жил или бывал, маленького домика в Комарове, где он любил стоять у калитки, и кажется, что сейчас услышишь его голос, увидишь его добрый, веселый и, вместе с тем, немного грустный взгляд.
В этом году я попал в город Майкоп. Начальник местного управления культуры показал мне примечательные места города: раскопки кургана, где нашли много золотых слонов, которые нынче хранятся у нас в Эрмитаже; памятник, воздвигнутый при Иоанне Грозном, когда Адыгея присоединилась к России; дом, где до революции собиралась передовая революционно настроенная интеллигенция города, а против него дом, где родился Евгений Львович Шварц. «Мы собираемся установить на нем мемориальную доску» (4), — сказал он. Я поблагодарил его от имени ленинградцев.
<1971>
Лев Левин На самом деле этого не было
21 октября 1956 года Евгению Львовичу Шварцу исполнилось шестьдесят. Некоторые его московские друзья поехали на юбилейные торжества. Мне тоже очень хотелось поехать, но не удалось. Я стал сочинять поздравительную телеграмму. Это оказалось крайне трудным делом. Ведь юбиляром-то был не кто-нибудь, а Шварц.
Перебрав десятки вариантов с претензиями на остроумие, я в конце концов написал нечто в высшей степени плоское и невыразительное:
«Поздравляю тебя, старый друг… желаю здоровья и счастья… сердечный привет Екатерине Ивановне…»
Моя бездарная телеграмма утонула в потоке сверкавших остроумием приветствий и поздравлений. Никакого ответа от Шварца я, естественно, не ждал. Но когда я зашел однажды к Александру Петровичу Штейну, он показал мне письмо от Евгения Львовича с благодарностью за поздравление. Не скрою, меня это задело. «Ах, вот как, — подумал я, — Штейну ты небось ответил, а мне…»
Ревнивое чувство усилилось, когда Штейн, со свойственной ему манерой наступать человеку на любимую мозоль, сказал:
— Ты, вероятно, тоже поздравил Женю. А ответ получил?
Но, видимо, я забыл, что имею дело не с кем-нибудь, а с Шварцем.
Придя домой, я нашел конверт, надписанный хорошо знакомым почерком.
«Дорогой Лева! — прочел я. — Спасибо тебе за телеграмму. Жаль, что ты не приехал. Я позвал бы тебя на банкет, а главное, сказал бы, что ты хорошо выглядишь.
Спешу тебе сообщить, что, судя по приветствиям и поздравлениям, я очень хороший человек. Я тебе дам почитать, когда приеду в Москву. А пока верь на слово и уважай меня.
Я втянулся в торжества, и мне жаль, что все кончилось. Почему бывает год геофизический, високосный и т. п., а юбилейный — всего только день?
Впрочем, уже без шуток, спасибо тебе, старый друг, за поздравление. Целую тебя. Е. Шварц. 23 октября».
В этой короткой записке каждое слово, если так можно выразиться, дышит Шварцем. Но одно место в ней требует пояснения: «Я… сказал бы, что ты хорошо выглядишь».
За много лет до того, как я получил эту записку, задолго до войны, ехали мы однажды втроем по Ленинграду — Евгений Львович, Юрий Павлович Герман и я. Направлялись мы на дачу к Герману. Предстоял длинный летний вечер в тесном дружеском кругу, и настроение у всех было отличное.
Сидя в маленьком «газе» — он именовался тогда «козлик», и за рулем с важностью восседал его хозяин Герман, — Евгений Львович, как всегда, рассказывал забавные истории, беззлобно подшучивал над водителем, сокрушался по поводу легкомыслия прохожих, не помышляющих о том, какую опасность представляет для них наша машина.
Неожиданно повернувшись в мою сторону и подозрительно на меня посмотрев, он сказал:
— Ты сегодня плохо выглядишь.
В молодости я отличался отвратительной мнительностью. Это всегда служило предметом издевательства со стороны близких друзей.
Разумеется, мне следовало понять, что и на этот раз Шварц просто издевается. Но я принял его слова всерьез, сразу почувствовал себя тяжелобольным и попросил Германа остановить машину.
Напрасно Евгений Львович, хохоча, уверял меня, что пошутил. Я твердил, что в самом деле нездоров и мне необходимо лечь в постель. В конце концов Герману и Шварцу надоело уговаривать меня. Они, что называется, плюнули и уехали. А я пришел домой, поднялся к себе на пятый этаж и действительно лег в постель. Встав наутро совершенно здоровым, я, конечно, не мог простить себе, что не поехал. Впоследствии выяснилось, что Шварц, с его необыкновенным чутьем на смешное в жизни и в людях, запомнил эту историю.
Встречаясь со мной, он каждый раз по-новому старался довести до моего сведения, что я хорошо выгляжу. То он отводил меня в сторону, говоря, что должен сказать что-то по секрету и таинственно шептал мне на ухо: «Ты выглядишь отлично», то подговаривал кого-нибудь неумеренно восхищаться моим видом, то, скучая на каком-нибудь собрании, писал измененным почерком: «Вы сегодня великолепно выглядите!»
Впрочем, теперь мне кажется, что Евгений Львович, встречаясь со мной, всегда как бы держал про себя эту историю.
Очень сблизила нас совместная поездка в Грузию. Это было в 1935 году. Бригада ленинградских писателей провела в Грузии около месяца. В бригаду входили Евгений Львович, драматург Яков Азаревич Горев, Юрий Павлович Герман, Виссарион Михайлович Саянов, Александр Петрович Штейн и я. Все мы были молоды — Герману было двадцать пять, Саянову — тридцать два, Штейну — двадцать восемь, мне двадцать четыре. Евгений Львович считался среди нас едва ли не Мафусаилом — ему шел тридцать девятый год. <…>
…Мы выехали из Ленинграда в понедельник.
Я называю день недели отнюдь не из педантизма: еще на ленинградском вокзале Шварц сетовал на то, что мы выезжаем в понедельник.
— Помяните мое слово, — зловеще говорил он, — понедельник еще даст себя знать.
Действительно, за четыре часа до Ростова-на-Дону мягкий вагон, в котором мы рассчитывали доехать до Минеральных Вод, вдруг оказался неисправным. Его вынуждены были отцепить. Пассажиров рассовали куда попало.
Все мы, естественно, расстроились, а Шварц даже как будто обрадовался.
— Что я вам говорил! — с торжеством воскликнул он. — Вот и выезжайте после этого в понедельник.
Но главное еще было впереди.
Накануне нашего приезда в Орджоникидзе над Военно-Грузинской дорогой разразились небывалые ливни. Позже в одной из тбилисских газет мы прочли: «Сильными ливнями на 167-м километре Военно-Грузинской дороги, около Гейлетского моста, размыт путь. Полотно испорчено на протяжении 200 метров. Сейчас автомобильное движение по Военно-Грузинской дороге проводится в сторону Орджоникидзе только до станции Казбек».
Выехав из Орджоникидзе на машине, мы доехали до замка царицы Тамары и убедились, что дальше автомобильного пути нет.
Забираясь в подвесную люльку, в которой нам предстояло махнуть через пропасть, Шварц бормотал:
— Этого следовало ожидать. Понедельник дает себя знать во второй раз. Хорошо, если дело этим ограничится.
После того, как мы переправились над пропастью в люльке, нам пришлось балансировать по узкой тропинке, тянущейся над самым обрывом, и перебираться по канатам через взбесившуюся речку.
Уже в полной темноте мы вышли на шоссе и кое-как добрались до селения Казбеги (станция Казбек), где и решили заночевать (1).
Здесь нас ждала встреча, которая могла быть более чем приятной, если бы не сопутствующие ей печальные обстоятельства.
В маленькой гостиницу, куда привез нас шофер грузовика, оказались Павел Антокольский с женой Зоей Бажановой, Виктор Гольцев и приехавший с ними из Тбилиси Тициан Табидзе.
Нам не терпелось рассказать обо всех своих злоключениях, но они тотчас забылись, как только мы узнали, что здесь произошло.
В горах разбился почтовый самолет. Альпинисты в течение нескольких дней не могли найти разбитую машину и погибший экипаж. Каждое утро с рассветом они уходили в горы и каждый вечер возвращались ни с чем. Наконец, кажется, в день нашего приезда, высоко в горах, в глубоком ущелье, были обнаружены изуродованные тела летчиков и обломки самолета. Тела доставлены сюда, они находятся в гостинице. Похороны назначены на завтра.
Тут бы, казалось, Шварцу и вспомнить, что мы выехали в понедельник. Но на этот раз он не произнес ни слова.
Рассчитывать на ночлег в гостинице не приходилось — все места были заняты летчиками и альпинистами. Нас обещали приютить на одну ночь местные жители.
Вместе с нашими новыми друзьями мы поднялись на второй этаж гостиницы, вдоль которого тянулась застекленная галерея, служившая столовой.
Большой стол был тускло освещен висевшей над ним закопченной керосиновой лампой. За столом в клубах табачного дыма, видимо, уже не первый час сидели давно не бритые, усталые, мрачные люди. Потеснившись, они приняли нас в свой дружеский круг.
Рассказывать о случившемся у них не было ни сил, ни охоты. Да мы и не расспрашивали их ни о чем.
Само собой сделалось так, что тамадой стал Тициан. Он читал свои стихи. Хотя содержание их было непонятно, нас завораживала особая торжественно-распевная грузинская интонация, — казалось, это был реквием, посвященный погибшим летчикам. <…>
Утром уходил автобус на Тбилиси. С большим трудом мы втиснулись в него. С еще большим трудом шофер завел машину. Наконец мы поехали. Но километров через шесть мотор снова заглох. Отчаявшийся шофер решил вернуться и отправить нас в Тбилиси другой машиной.
Все утро Шварц мрачно молчал.
— Понедельник, чтоб его… — невесело усмехнувшись сказал он, когда мы снова подъехали к знакомому двухэтажному зданию с застекленной террасой. И махнул рукой.
В Тбилиси мы приехали ночью.
В гостинце «Палас» я оказался в одном номере с Германом и Шварцем. Заснуть мы не могли из-за невообразимой духоты. Кроме того, в саду-ресторане под нашими окнами оркестр почти всю ночь играл «Сердце, тебе не хочется покоя…»
Убедившись, что заснуть все равно не удастся, Шварц сбросил с себя мокрую простыню и, как был, совершенно голый, сел писать письмо жене в Ленинград.
Герман и Штейн почему-то прозвали его «Аббас-туман».
— Но почему Аббас-туман? — допытывался Шварц.
— Потому что в голом виде вы необыкновенно похожи на Аббас-туман, — отвечал Герман.
Никто из нас так и не понял, что это значило, но прозвище привилось…
…Председатель бригады Горев рассказал сотруднику местной газеты о наших планах. Он сказал и о том, что «детский писатель Е. Шварц использует свое пребывание в Грузии, чтобы перевести лучшие образцы грузинской детской литературы на русский язык» (2). Тогда Евгений Львович Шварц еще считался детским писателем…
Пробыв несколько дней в душном Тбилиси, мы поехали в Гори, Бакуриани, Абастумани (здесь в центре внимания был, конечно, наш «Аббас-туман»!), побывали в Поти, Кутаиси, Джугели, Батуми. Вместе с Табидзе, Яшвили и французскими писателями Дюртеном и Вильдраком, гостившим тогда в СССР, поехали в Кахетию. <…>
<…> Побывав во многих районах республики и полностью оценив несравненное гостеприимство друзей, мы вернулись в Тбилиси. Пришла пора отправляться к невским берегам. Но мы так привыкли друг к другу, что нам захотелось продолжить путешествие. Не помню уж кто — может быть, и Евгений Львович, — вдруг предложил:
— А что если нам махнуть в Батум, сесть на теплоход, доехать до Одессы, а оттуда добираться до Ленинграда?
Предложение было мгновенно принято. Только Саянов сказал, что его ждут в Ленинграде срочные дела, и в тот же вечер уехал на север. Что же касается нас, пятерых, то мы отправились в Батуми, пожили там несколько дней, купили билеты на теплоход и приготовились к приятному морскому путешествию до Одессы.
Но тут произошло нечто совершенно неожиданное.
Оказалось, что все каюты и вообще все классные места забронированы за делегатами Международного конгресса физиологов. Конгресс, происходивший в Москве и Ленинграде, недавно закончился, и участники его совершали теперь поездку по Черноморскому побережью.
Мы предъявили билеты первого класса, а нам предложили либо ехать палубными пассажирами, либо ждать следующего теплохода, отправлявшегося из Батуми через двое суток… Узнав об этом, Евгений Львович с невозмутимым видом сказал:
— Это нас подвел Уолтер Кеннон, черт его побери. Личный друг Ивана Петровича Павлова.
Конгрессом физиологов вместе с Иваном Петровичем Павловым действительно руководил его друг, знаменитый американский ученый Уолтер Кеннан.
— Подвел нас старик Уолтер, — повторил Евгений Львович и засмеялся своим похожим на покашливание смехом.
Ждать следующего теплохода было бессмысленно: мы сдали номера в гостинице и распрощались с батумскими товарищами. Оставалось только сесть на теплоход и ехать палубными пассажирами.
Поездка оказалась, конечно, довольно тяжелой. Весь день мы торчали на палубе, а спали в шезлонгах. За них тоже приходилось вести борьбу. Теплоход был переполнен. Укладываясь на ночь и кое-как пристраивая свои длинные ноги, Герман мечтательно говорил:
— А Виссарион все-таки молодец. Вернулся сейчас из вагона-ресторана в свой спальный вагон прямого сообщения. Пиджак повесил на плечики. Опустил жалюзи.
— Это что, — подхватывал Шварц. — А старик Уолтер? Как он блаженствует сейчас в каюте, в которой должен был…
Евгений Львович продолжал шутить и держался бодро, но я видел, что он изрядно устал и в глубине души тоже завидовал благоразумному Саянову.
Каждое утро мы вставали со своих шезлонгов совершенно разбитые. И каждое утро Евгений Львович вглядывался в мое позеленевшее от бессонницы лицо и деловито говорил:
— Посмотрите, пожалуйста, какой цветущий вид у нашего Левы. Никогда он так отлично не выглядел.
Однажды, во время качки, увидев, что я уцепился за перила и еле держусь на ногах, Евгений Львович потрепал меня по плечу и бравым голосом сказал:
— Ты только подумай, как хорошо, что мы едем на палубе. Старик Уолтер задыхается сейчас в своей каюте первого класса. А ты дышишь свежим морским воздухом. Уолтер никогда не будет выглядеть так дивно, как ты.
Стоявшие рядом Герман и Штейн оскорбительно захохотали. А я почувствовал себя как будто немного лучше.
Наше злополучное морское путешествие мы вспомнили много лет спустя, когда началась война. Шварц тушил зажигалки на крыше своего ленинградского блокадного дома, а остальные члены грузинской бригады — Саянов, Герман, Штейн и я, надев армейские гимнастерки и флотские кители, разъехались кто куда — кто на северные моря, кто на балтийские берега, кто в карельские леса, кто в синявинские болота… Мы добродушно посмеялись над трудностями нашего морского путешествия, и оно показалось нам необыкновенно уютным, почти комфортабельным.
Последний раз Евгений Львович сказал мне, что я хорошо выгляжу, также задолго до войны, но в обстановке, которую никак нельзя назвать мирной.
Шел 1937 год. Меня исключили из Союза писателей за связь с Леопольдом Авербахом (3), которого только что объявили «врагом народа». Не все старые друзья сохранили тогда свое расположение ко мне, но Герман и Шварц общались со мной постоянно. Более того, я долго жил на даче у Германа. А неподалеку снимали комнату Шварцы.
Мы встречались почти каждый вечер. Либо Шварцы приходили к нам, либо мы наведывались к Шварцам.
Теплым июньским вечером, прогуливаясь по поселку, мы пришли на станцию, где обычно вывешивались свежие ленинградские газеты. В одной из них была напечатана статья, где снова я встретил свое имя в связи с тем же «делом Авербаха».
Пробежав статью, Евгений Львович на мгновение помрачнел и внутренне весь напрягся, но тут же овладел собой.
— Обратите внимание на нашего Леву, — сказал он тем особым комически-серьезным тоном, каким умел говорить, кажется, он один. — Ему поразительно идет быть исключенным из Союза писателей. Пожалуйста, — обратился он ко мне, — когда тебя восстановят, постарайся выглядеть по крайней мере не хуже.
Все засмеялись, хотя не могли не понимать, что думать о моем восстановлении было, мягко говоря, преждевременно. Я тоже отлично понимал это, но — странное дело — только что прочитанная статья уже не казалась мне такой угрожающе-страшной.
Когда меня действительно восстановили в Союзе писателей — это случилось больше года спустя — и я встретился с Евгением Львовичем впервые по восстановлении, он подозрительно посмотрел на меня и с искренне соболезнующим видом сказал:
— Ты сегодня плохо выглядишь.
Глаза его смеялись. На этот раз я, слава богу, понял, что он шутит. Я чувствовал себя совершенно здоровым…
Из очерка «Жестокий рассвет»
…Осенью 1946 года я вернулся в Ленинград. Единственное окно моей комнаты на Геслеровском было забито фанерой. Я вставил стекла, отремонтировал комнату, запасся дровами (когда я сюда переехал, комната вообще не отапливалась, пришлось ставить печку; как жили здесь до меня Прокофьев, а затем Гитович, оставалось загадкой). Начиналась гражданская жизнь, и в первые же дни ее я повидался с милыми старыми друзьями — Германом, Добиным, Берггольц, Шварцем. Не вернулись в Ленинград Гринберг, Штейн, Беляев, Малюгин. До войны я общался с ними каждодневно.
Приближался новый, 1947 год. Мне предстояло встретить его снова в Ленинграде, и наконец в штатском костюме. Было решено собраться у Ольги (4). <…> Ольга пригласила Германа с женой Татьяной Александровной, Шварца с женой Катериной Ивановной и меня.
Нужно ли говорить, с каким волнением ждал я этой встречи.
Нетерпение мое было столь велико, что я пришел на улицу Рубинштейна неприлично рано. Вероятно, не было еще и десяти часов. Ольга и Макогоненко хлопотали вокруг стола, и без того заставленного бутылками, вазами, блюдами с закусками. Понадобилась и моя помощь — я все время таскал что-то из кухни в столовую и обратно. На Ольгу никак нельзя было угодить — то ей казалось, что салат плохо заправлен, то поданы не те бокалы, то рано вынули из духовки некое изысканное блюдо, которым она собиралась поразить в самое сердце даже такого искусного кулинара и требовательного гастронома, как Юрий Павлович Герман. <…>
Наконец пришли Германы и Шварцы. Когда сели за стол, Ольга погасила электричество и зажгла свечи.
— Посмотри, Танюша, что наша Олечка устроила, — медовым голосом воскликнул Герман. — Как тебе это нравится? — Он указал на то блюдо, которым Ольга собиралась его поразить. — Фантастика!
Ольга сияла. Видно было, что она счастлива принять нас в своем доме, где так празднично горят свечи, накрыт такой новогодний стол, где так парадно, чисто, уютно, светло. То и дело она вскакивала и бежала на кухню, чтобы принести еще одно впопыхах забытое блюдо. Ее лицо светилось счастьем хозяйки, принимающей своих друзей, как ей хочется и как они, по ее мнению, того заслуживают.
Хозяйственная Ольга! Это было так непохоже на «девочку с вершины Мамиссона»…
Само собой получилось так, что руководил нашим немноголюдным застольем, конечно, Шварц. Каждому из нас он посвящал короткие юмористические спичи. <…> Для каждого он находил смешные и веселые слова. Только про Германа говорил весело, но осторожно: они любили друг друга, испытывали постоянную взаимную потребность в общении, но нередко ссорились — почти всегда из-за пустяков. То Шварцу казалось, что Герман что-то не так сказал, то наоборот. Причем Шварц относился к этим ссорам, в общем, юмористически, а Герман порой обижался не на шутку. Видеть же его обиженным было нестерпимо: он мрачнел, умолкал, замыкался в себя, и вид у него становился такой несчастный, что невольный обидчик уж и не знал, как загладить свою вину.
Когда, кажется, все тосты были произнесены и очередь дошла до меня, Шварц сказал:
— Помните ли вы, друзья мои, как я некогда говорил: слушай, Левка, не взять ли тебе ди винтовка?.. Это было задолго до войны. И что же вы думаете?..
В разгар застолья я заметил, что Ольга и Макогоненко о чем-то переговариваются. Оказывается, речь шла о том, чтобы пойти за Анной Андреевной Ахматовой. Это было условлено заранее и известно всем, кроме меня.
Ахматова жила неподалеку, в так называемом Фонтанном доме. Макогоненко скучно было идти одному, и он предложил мне прогуляться с ним до Фонтанного дома.
— Но удобно ли это? — возразил я. — Мы с Анной Андреевной незнакомы.
— Чудак! — ответил Макогоненко. — Вот тебе прекрасный случай познакомиться.
Короче говоря, мы отправились на Фонтанку.
Подойдя к дому, где жила Ахматова, Макогоненко оставил меня на улице, а сам вошел в дом. Через некоторое время он вернулся, ведя под руку Анну Андреевну.
Ахматова посмотрела на меня, как мне показалось, с некоторой опаской. Но Макогоненко тут же представил меня как друга Берггольц, Германа, Шварца. Анна Андреевна сразу успокоилась. Хотя Ахматовой еще не было шестидесяти, шла она нелегко, не могла справиться с дыханием. Мы с Макогоненко то и дело замедляли шаг.
Ольга встретила Анну Андреевну, что называется, с королевскими почестями.
Когда Ахматова вошла в комнату, все стояли с бокалами в руках. Анна Андреевна опустилась на подготовленное для нее место (не села, а именно опустилась). Шварц сказал тост в ее честь — на этот раз серьезно, без тени юмора.
Новогодняя встреча продолжалась.
Но течение ее неуловимым образом изменилось.
Все мы были те же самые, что час назад, и в то же время как будто совсем другие. Все было по-прежнему и в то же время совсем иначе.
Я подумал, что это ощущение возникло, быть может, у меня одного: я впервые видел Ахматову вблизи и не мог не чувствовать себя при ней несколько скованно. Но и остальные вели себя сейчас не совсем так, как раньше. В чем состояла разница, я не взялся бы определить, но что она была — мог поручиться.
Только в поведении Ольги не ощущалось никакой перемены. Она вела себя с полной естественностью и свободой. Хлопотала вокруг Ахматовой, то накладывая ей салат, то наливая коньяк или водку. По всему видно было, что общение с Анной Андреевной давно стало для нее бытом и сегодняшняя встреча за новогодним столом — лишь одна из многих других.
Потом я понял, что поведение Ольги определялось не только тем, что он привыкла к встречам с Ахматовой. Она вела себя непринужденно главным образом потому, что чувствовала себя с ней на равной ноге.
За нашим столом сидели Шварц и Герман — писатели, чей талант Ольга, как мы знаем, ценила достаточно высоко. Но под стать Ахматовой все-таки была здесь она одна. Являлось это осознанным убеждением или подсознательным чувством — не все ли равно? Важно, что Ольге так казалось. Право на равенство с Ахматовой Ольга завоевала тем, что было пережито ею за последнее десятилетие, и тем, что было создано на почве пережитого. Ахматова всегда была одной из достопримечательностей Петербурга — Петрограда — Ленинграда. Теперь такой же достопримечательностью стала Берггольц.
Если бы кто-нибудь в эту минуту сказал Ольге, что она ощущает себя наравне с Ахматовой, Ольга — не сомневаюсь! — стала бы яростно возражать. Но независимо от сознания и воли это ощущение до самого конца неистребно гнездилось в душе, «в ее немых глубинах», как — по совсем другому поводу — удивительно точно сказала Берггольц.
Между тем тосты следовали один за другим. Все они так или иначе были теперь за Ахматову. Шварц продолжал шутить, мы по-прежнему отвечали ему улыбками и смехом, но и это выглядело сейчас не так, как совсем недавно.
Было уже очень поздно — или очень рано? Наставала пора расходиться. Казалось, все тосты за здоровье Ахматовой сказаны. Вдруг Герман потребовал, чтобы мы вновь наполнили бокалы.
— Дорогая Анна Андреевна, — сказал он, вставая и вслед за собой поднимая всех нас. — Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы услышали это еще и еще раз. Вы для нас всегда были и навсегда останетесь великим русским поэтом. В русской поэзии были Пушкин, Лермонтов, а теперь есть вы. Вы — законная наследница их славы.
С повлажневшими глазами Герман подошел к Ахматовой и с нежной почтительностью поцеловал ей руку. Анна Андреевна поистине царским жестом полуобняла его и поцеловала в лоб.
Новогодняя ночь кончалась. За окном занималось первое утро 1947 года. (5)
Владимир Немоляев Сорок лет спустя
Когда начинаешь вспоминать свою жизнь в кинематографе, которому отдано шестьдесят лет, прежде всего, приходят на ум какие-то детали из истории создания картин. И разве можно это забыть — радостный и тяжкий труд, творческие терзания, ошибки и удачи, встречи со зрителями…
Снято порядочно фильмов, среди них и «Машина 22–12», первая стереоскопическая комедия, и «Старый двор» с участием Карандаша, и «Морской охотник», фильм из времен войны; но самым дорогим для меня был и остается «Доктор Айболит», кинокомедия для детей, снятая по сценарию Евгения Львовича Шварца в 1935 году (1).
Киносказка по жанру да еще гротесковая, эта картина для меня оказалась и самой сложной и самой любимой.
Вторая половина 30-х годов. Шла реорганизация киностудии «Межрабпомфильм» в «Союздетфильм». Отныне снимать предстояло только фильмы для детей. Перед самой реорганизацией, проходившей трудно и мучительно, поскольку дело было новое, опыта ни режиссуры, ни сценарный отдел, ни другие работники студии не имели никакого, я снял кинокомедию для ребят «По следам героя» (2) — и был сразу зачислен в «детские» режиссеры.
В дирекции мне вручили сценарий «Доктор Айболит», написанный Е. Шварцем по мотивам широко известной сказки Корнея Чуковского. На размышления дали три дня.
Сценарий мне очень понравился мягким и добрым юмором, великолепными диалогами, четко очерченными характерами персонажей. Вместе с тем сценарий был настолько необычным, что нечего было и думать снимать его в старых традициях: с одной стороны, гротесковые образы разбойников, с другой, абсолютно реалистический образ доктора Айболита. Как их совместить; как должны выглядеть персонажи; как их нужно играть; каким показать корабль моряка Робинзона или пиратский корабль «Гром и молния»? Ничего подобного на экране ранее не было!
Я промучился три дня и решил: откажусь от сценария. На следующее утро был трудный разговор с директором.
— Придется снимать этот фильм — вы же только что сделали смешную детскую комедию…
— Я не знаю, как снимать «Айболита»!
— Я тоже не знаю, но вы режиссер! Вы ведь любите студию? Очень хорошую студию, у которой очень тяжелые времена перестройки? Это очень сейчас важно — запустить в производство детскую картину. И есть такое слово — надо! Надо, Володя!
Первый раз он назвал меня по имени… В глазах его была надежда и просьба. И я согласился. Прошло пятьдесят лет, но и сегодня я ему благодарен за тот разговор…
Когда я вернулся домой, совершенно не в себе, меня встретила озабоченная жена с крошечной дочуркой на руках. Светлана посмотрела на меня своими голубыми глазками, радостно улыбаясь беззубым ртом… Если бы она могла понять, в какое сложное положение попал ее отец!
— Что случилось? — сокрушенно спросила жена. — Неужели согласился снимать?
Я кивнул. <…>
Но ничего не поделаешь, нужно было приниматься за работу. Я немедленно отправился в Ленинград, к драматургу Е. Шварцу. Это теперь он широко известен, до сих пор идут фильмы по его сценариям, ставятся в театрах его пьесы, а тогда я о нем ничего не знал…
Вот и станция под Ленинградом — «Лисий Нос». Что ж, название подходящее для сказочника… Меня встретил пожилой плотный человек с добродушным выражением лица и мягкой улыбкой (3).
Мы начали разговор, усевшись в креслах на террасе; долго приглядывались друг к другу, но потом я в упор спросил у Евгения Львовича:
— Как, по-вашему, выглядит доктор Айболит? Наверное, добродушный, толстенький, все время улыбается? У нас на студии, между прочим, есть тип, который все время улыбается и одновременно делает людям гадости…
В глазах Шварца заплясали веселые искорки.
— Мне нравится, что вы такой агрессивный. Значит, не равнодушный… А насчет улыбок — зачем же ему все время улыбаться, доброму доктору? Он же все время озабочен, у него много больных! Он — озабоченный!
Боже мой, я готов был броситься на шею Евгению Львовичу и расцеловать его: я мучаюсь уже несколько дней, не в силах найти черточку характера у доктора Айболита, за которую можно было бы зацепиться. Озабоченный… Но ведь это и походка, и жесты, и выражение лица!..
С этого момента пошел беспорядочный творческий разговор, когда придумывались детали, уточнялись эпизоды, — мы кричали так, что около дачи останавливались прохожие… Это были незабываемые дни!
Какое счастье — настоящий талант. Какое бесценное это народное достояние и как талант этот нужно беречь! К величайшему сожалению, Евгений Львович не так много прожил, но вместе с тем как много успел сделать! И сегодня идут его пьесы, создаются фильмы, отмеченные печатью его большого таланта…
А разговор на террасе продолжался. Мы уже подошли к разбойникам — тут было где разгуляться фантазии. Мы оба просто влюбились в наших «разбойников» — «дорогих моих головорезов», как их называл главный разбойник Беналис. Но какими они должны быть?
Во время беседы я вспомнил детские годы, когда к нам домой приходил в гости дядя Вася, похожий на настоящего разбойника: у него были большущие усы и почему-то всегда всклокоченные волосы. Мы очень любили его: он, играя, пугал нас — неимоверно вращая глазами и делал страшные рожи, и усы у него вставали торчком. Мы, конечно, хохотали, пугались в шутку и всерьез, на всякий случай бежали, прятались за мамину юбку и оттуда с любопытством выглядывали, что еще такое сотворит дядя Вася?.. Обо всем этом я рассказал Евгению Львовичу, и тогда настала его очередь благодарить меня.
Мы резвились и хохотали, как дети. Жена Евгения Львовича обеспокоенно следила за нами, но не могла удержаться от улыбки.
На ходу изобретались подробности: вот разбойники стреляют из старинной пушки по кораблю Робинзона. Здоровенное дуло, на дуле шпенек, разбойник ударяет кувалдой по шпеньку, взрыв страшный, пушка вся окутывается дымом, но… ядро не вылетело: оно застряло в дуле.
— Ты опять не смазал пушку! — кричит возмущенный маленький разбойник.
— Нет, это ты не смазал! — отвечает толстый и неповоротливый разбойник, все время ковыряющий в носу (мы решили дать разбойникам детские небольшие пороки).
Маленький опять орет:
— Масло высохло! <…>
Так мы целыми днями спорили о деталях, придумывали новые ситуации, пока жена Евгения Львовича не сказала:
— А не забыли ли вы, что картина у вас про доктора Айболита, а не про разбойников? (4).
Именно тогда у меня возник серьезнейший вопрос: о чем же и для кого я буду снимать картину? По этому сценарию можно сделать смешную комедию для взрослых, где история с чудаковатым доктором Айболитом будет, скорее, поводом для забавного разговора, — например, на темы дня. Акценты легко сместить: для взрослого зрителя ведь сразу очевидно, что все это кончится благополучно, что Айболиту, похищенному «такими разбойничками», ничего не грозит. Подробности, перипетии сюжета существенны только для ребят — самых доверчивых и искренних зрителей. И впоследствии это подтвердилось на многочисленных просмотрах: ребята так переживали за доктора, и так боялись разбойничков, и в то же время так хохотали над ними, что на одном из просмотров в Доме ученых уборщицы под стульями обнаружили лужицы… <…>
Итак, мы сошлись на том, что главное в фильме — все же образ доброго доктора… Как же показать доброту в действии?..
Стоп, стоп! Доктор должен быть таким добрым, чтобы в любой ситуации, в которой, казалось бы, человек обязательно должен разозлиться, поступать по-хорошему, по-доброму. Например, он не может повысить голос на человека…
Стоп… стоп! А что, если в сцене, когда он выгоняет злую сестрицу Варвару, обидевшую зверушек, он будет не кричать на нее, а говорить просительно, как бы извиняясь…
— Вы меня вы-го-ня-ете? — орет Варвара.
— Выгоняю! — жалостным голосом говорит Айболит.
Да, так может вести себя только действительно очень добрый, хороший человек. Впервые я облегченно вздохнул: в душе я был уверен, что найден верный ключ к образу…
Поезд мчал меня из Ленинграда, а в мыслях я перебирал фамилии знакомых художников, композиторов и, главное, актеров. Оператор у меня уже был — Ляля Петров, с которым мы уже сняли три картины. Неизвестно почему его звали Лялей, когда он был Александр, — наверное, за добрый нрав и юмор.
Очень важно было найти хорошего художника. Я подумал: художники, работавшие в кино, уже слишком набили руку на реалистических картинах; может, поискать среди театральных? Вспомнил было замечательную «Синюю птицу» во МХАТ, но тут же отбросил эту мысль. Да разве пойдет к нам В. Е. Егоров — знаменит, завален работой, не пойдет…
И все же на другой день мы с ассистентом режиссера Толей Ульянцевым были у художника В. Егорова.
— Ну, рассказывайте, зачем пожаловали? Только я ведь очень занят!
— А мы знаем, — сказал я, взглянув на Толю. — Но мы влюблены в вашу «Синюю птицу» и, как влюбленные, надеемся на милость.
Дальше я рассказал о сценарии, о всем надуманном со Шварцем и увидел, что в глазах Владимира Евгеньевича Егорова появилась заинтересованность. Рассказал о разбойниках, о том, какие шикарные и смешные костюмы им можно сделать, об их таинственной пещере, запирающейся огромнейшим замком «во весь павильон»…
Владимир Евгеньевич слушал и что-то чертил карандашом.
— Ну, разбойнички — это не сложно, а вот Айболит — какой он? Наверное, должен быть совсем простым; пелерина, зонтик, большая черная шляпа и, главное, грим.
Он протянул нам рисунок — и мы с Толей увидели настоящего Айболита…
— Урра! — заорал я, за мной — Толя, мы поскакали по комнате, напевая; — Добрый доктор Айболит, Айболит, Айболит!
Владимир Евгеньевич хохотал.
С этого дня мы не только получили первоклассного художника, но и подружились на всю жизнь и сняли не одну картину.
Мы вышли от Владимира Евгеньевича окрыленные. Теперь было понятно, какого актера искать. А то перебрали уже невесть сколько, по существу не зная, чего хотим. Кого только не пробовали, какие только усы и бороды не приклеивали! Вся гримерная хохотала, а директор группы обозлился.
— Сами в детей не превращайтесь! — порекомендовал он.
Стали думать об актере. Поджимали сроки, торопила дирекция, я не спал ночей… И вот как-то бессонную ночь я вдруг вспомнил спектакль по пьесе Натана Зархи «Улица Радости» в Театре Революции. Максим Штраух необыкновенно по-доброму играл там старика… Я подпрыгнул на постели, вскочил звонить по телефону Толе Ульянцеву…
— Ты знаешь, сколько сейчас времени… — разозлился он. — Три часа. Ты в своем уме? Да и потом, ни за что он не согласится! У каких режиссеров снимается, в театре играет!..
Максим Максимович Штраух жил рядом с кинотеатром «Колизей». Я знал, что человек он нелегкий, своеобразный. Я мучительно готовился к разговору, искал, чем бы его заинтересовать. Перед дверью в его квартиру вдруг мелькнула мысль: а что, если доктор у нас после нелегкого боя с разбойником Беналисом будет сидеть в кресле среди своих зверюшек и вязать, как заправская бабушка… Не успев додумать, я вошел.
Штраух встретил меня очень вежливо и очень сдержанно. Надо было как-то начать разговор.
— Вы, наверное, уверены, что я знаю, какой он, доктор Айболит, как он выглядит… Пока не знаю, но думаю узнать с вашей помощью. Хорошо помню вашего старика из «Улицы Радости» — он меня тронул до слез. Поэтому и решил обратиться к вам.
— А какое отношение друг к другу имеют эти роли?
— Наверное, не имеют, но артист, сыгравший так старика, думаю, прекрасно сыграет и Айболита!
Я рассказал Штрауху обо всем, что мы напридумывали со Шварцем для доктора Айболита, — о том, как он разговаривает, как обращается с животными, как ведет себя дома…
Проговорили мы очень долго. Провожая меня, Максим Максимович усмехнулся.
— А ваш доктор Айболит мне нравится. <…>
Работа со Штраухом началась с места в карьер. Искали манеру поведения, грим, костюм. Многое предварительно было продумано, и дело пошло быстро. <…>
И вот наступает один прекрасный день или, наоборот, ужасный день — день первого просмотра. Для меня этот просмотр прошел как в кошмаре. Мне все казалось плохим, неудавшимся, казалось, что все нужно было делать совсем не так, и я совершенно искренне удивился, когда в зале раздавался смех. Мне смешно не было.
Наконец просмотр закончился, все повернулись в сторону директора: он сидел с непроницаемым лицом, и для тех, кто обычно ориентировался на директорское мнение, не было ориентира.
— Ну, что ж, пойдем поговорим! — сказал директор поднимаясь, а мне послышалось в его словах: «Пойдемте-ка, голубчик, мы тебя раздолбаем!»
Я поплелся в директорский кабинет, как осужденный преступник, не глядя никому в глаза. «Проклятая профессия! — думал я. — Почему я не инженер, не строю мосты или дома?.. Построил — и никаких волнений; ходите, живите, люди добрые…»
Обсуждение начал один из режиссеров, мастер долго говорить и ничего не сказать. Поскольку все это уже знали, то его никто внимательно не слушал. Потом заговорил художник, который очень невнятно говорил что-то о поисках, о чем-то новом, но так невнятно, что никто не понял, хвалит ли он или ругает фильм.
Да, так бывает. Съемочная группа честно и беззаветно в течение года отдавала все свои силы и способности, чтобы сделать веселую, остроумную сказку для ребят, и вот награда! Казалось, что о нашей каторжной работе судят поверхностно. Кое-кто занят был лишь тем, как бы «выступить» пооригинальнее, словом, показать свое «я». Другие говорили о картине просто равнодушно. Два-три человека похвалили картину, но это уже не могла меня успокоить. <…>
Какие тяжелые дни я пережил до первого общественного просмотра! Сколько слышал я обидного! И все думалось, какими жестокими бывают иногда даже как будто близкие друзья, во всяком случае, люди, хорошо относящиеся к тебе…
Несколько меня утешил Максим Максимович Штраух. На просмотре он сел в первые ряды, далеко от меня, и, когда кончилась картина, повернулся, улыбнулся своей всегда немного загадочной улыбкой и сказал: «Впечатление наиблагоприятнейшее!» — а потом добавил: «А вы молодец, я, признаться, не заметил, где вы, а где я! Могли бы и сами сыграть…»
Мы оба рассмеялись. Я был счастлив…
Так вот меня и кидало то в жар, то в холод.
И вот просмотр в Доме ученых (5).
У меня где-то далеко внутри была уверенность, что картина получилась, что ее будет принимать зритель. Но тут, на утреннике, зал заполнила детская аудитория, для которой и делался фильм. Вообще ребята — замечательные зрители, и для меня так отрадно было слышать, как они реагировали на «бой» с разбойниками, на то, как доброго доктора Айболита Беналис тянул на веревке в страшную пропасть, как мчалась Авва на спасение доктора, а за ней — все звери, Пента и отец Пенты…
Нет на свете слаще музыки, чем та, которую я услышал на просмотре. Веселый ребячий смех, выкрики, аплодисменты, хохот все это сливалось для меня в волшебную мелодию. Я понял, что правильно в свое время решил делать этот фильм для ребят, и на секунду похолодел, когда подумал, что ведь мог и не решиться этого сделать…
После просмотра мы сидели в комнате у директора Дома ученых, и я спросил: «Ну, как, по-вашему?» «Вы же сами все видели, — ответила она, — а главное, слышали…»
То же остается написать?
Очень на многих просмотрах «Айболита» я побывал, и всегда его прекрасно принимала детская аудитория. И пресса была обширная, доброжелательная. И даже те товарищи, которые критиковали картину, тоже поздравляли меня и с ясными глазами хвалили… <…>
Вот так складывалась судьба одной из самых трудных и радостных работ в моей жизни…
Вениамин Каверин Евгений Шварц
…Все люди не похожи друг на друга, но отношения между Шварцем и всем остальным человечеством были столь не похожи на любые общепринятые отношения, что он сразу стал в моих глазах личностью исключительной по иронии, уму, доброте и благородству. Его любимыми писателями были Андерсен и Чехов. От первого он взял добрый, но подчас горький сарказм, от второго — благородство души (1). Лишь после его смерти мы узнали, как трудно, с какими мучительными усилиями он работал. Это относится к каждой строчке, написанной им.
Ему было свойственно то, без чего любой талант, даже такие противоположные дарования, как Северянин и Брюсов, не может остаться в литературе или даже надолго задержаться в ней. Талант этот называется просто — вкус. Я работаю в литературе много лет, но знаю только трех писателей, обладавших абсолютным вкусом. Это были Ю. Тынянов, К. Чуковский и Е. Шварц.
Когда будут наконец напечатаны мемуары Шварца (2), я думаю, в них найдется немало подтверждений этой оценке.
Понятия чести, доброты, благородства редко предстают перед нами в такой цельности, которая была свойственна его личности. Он был добр без оговорок, честен без скидок на любые обстоятельства, и благороден, как дети, еще не знающие, что такое добро и зло. Все эти черты, да и многие другие, не менее характерные, отчетливо отражены в его произведениях.
И при этом всегда казалось, что он недоволен собой. Но все, что я рассказывал выше, — результат длительного знакомства, и чтобы рассмотреть эти черты, надо пробиться через его иронию, которая занимала в его литературной и жизненной позиции, может быть, самое значительное место. Он любил меткую остроту и сам был блестящим остряком. Он не прощал ни подлости, ни лицемерия и подчас искусно прятал это под маской остроумца, любителя шутливой болтовни. Таковы же были его произведения. Он писал свои сказки корявым детским почерком, медленно, но не показывал никому, какого они стоили мучительного труда и самоотверженного терпения.
Я смело поставил бы рядом с его блестящими сказками очерки, которые, мне кажется, он даже не публиковал при жизни (3). Можно ли при одном взгляде вскрыть внутреннюю сущность человека так же, как хирург своим острым ланцетом вскрывает его тело? Читая очерки Шварца, убеждаешься, что это не только возможно, но естественно для строгого и беспристрастного взгляда на мир. При этом он каждый раз оценивает себя, он никого не судит, кроме самого себя. Великолепен очерк о том, как ему не пишется, как он идет в типографию и видит там разумных, трезво и дельно работающих людей. Он спрашивает себя: почему так же спокойно, размеренно, деловито и целеустремленно не идет работа, составляющая смысл и цель его жизни? (4) Вопрос остается открытым, тут уже нет места спасительной иронии, нет попытки скрыться от себя самого. Я не сомневаюсь, что в его мемуарах отражен контур характера, набросанный пунктиром…
Мы переписывались: первые письма относятся к тем временам, когда блокада Ленинграда разлучила нас, разорвав отношения, сложившиеся в течение двух десятков лет. Он с женой был эвакуирован в Киров, я из ленинградской блокады вышел больной и лечился в Перми, найдя после долгих тревожных поисков свою семью, о которой я долго не имел никакого представления. Пьеса, которую я написал в Перми, называлась «Дом на холме» и была поставлена во многих театрах. Шварц увидел ее в Кирове и сказал мне, что он испугался. Пьеса была, по его мнению, не только плоха, но почти неприлично плоха. Я согласился.
Другие письма относятся к более позднему времени, когда мы уже жили в Москве, а Шварцы вернулись в Ленинград. Мы увиделись, но он был тяжело болен, а когда мы снова увиделись, положение его было почти безнадежным. Но он не верил в смерть и не хотел умирать.
Последним его утешением, может быть, был вечер, которым Союз писателей отметил его шестидесятилетие. Я приехал из Москвы и, выступая, сказал на этом заседании примерно то, что вы прочитали.
1961
Ланцелот
1
Помнится, мы с тобой говорили, что иным людям удается прожить не одну, а две жизни. Биография Артюра Рембо появилась тогда в русском переводе, и мы были поражены историей поэта, который двадцати лет уехал в Африку и стал рабовладельцем, безжалостным добытчиком золота, носившим это золото в кожаном ремне, который он никогда не снимал. Он умер от опухоли, образовавшейся вследствие постоянного трения этого пояса о голое тело, умер, не зная, что вся Франция зачитывается его молодыми стихами. Если бы он это знал, ему пришла бы в голову простая мысль, что удалась-то как раз его первая, нищая, беспокойная жизнь и не удалась вторая, с ее пиратской роскошью и гаремами невольниц.
Ты не стал богатым человеком, как Артюр Рембо, и не променял свою поэзию на торговлю рабами.
Я вспомнил о нашем разговоре только потому, что все та же горькая мысль приходит всем, кто любил тебя: слава явилась к тебе, когда мы тебя потеряли…
2
Мне всегда казалось, что подлинный писатель бессознательно открывается, когда он еще не умеет не только писать, но читать.
До литературы письменной, воплощенной в романе, рассказе, пьесе, возникает литература устная, и подчас переход от второй к первой затягивается на годы. Так случилось с Евгением Шварцем. Он был писателем уже тогда, когда пятилетним мальчиком попал в кондитерскую и испытал чувство, для которого (вспоминая свое детство) не нашел другого выражения, как «чувство кондитерской». «Сияющие стеклом стойки, которые я вижу снизу, много взрослых, брюки и юбки вокруг меня, круглые маленькие столики. И зельтерская вода, которую я тогда назвал горячей за то, что она щипала язык. И плоское, шоколадного цвета пирожное, песочное. И радостное чувство, связанное со всем этим, которое я пронес сквозь пятьдесят лет, и каких еще лет! И до сих пор иной раз в кондитерской оно вспыхивает всего на миг, но я узнаю его и радуюсь».
Он был писателем, когда после первого посещения театра «вежливо попрощался со всеми: со стульями, со сценой, с публикой. Потом подошел к афише. Как называется это явление, не знал, но, подумав, поклонился и сказал: „Прощай, писаная“».
Если бы уже тогда у него не было способности по-своему относиться к явлениям внешнего мира, он не испытал бы запомнившегося на всю жизнь «чувства кондитерской» и не стал бы прощаться с афишей.
И когда девятнадцатилетним юношей я впервые встретился с ним, он еще не был писателем в общепринятом смысле этого слова, потому что ничего не писал. Но «устным писателем» он был — и выдающимся, талантливым, оригинальным.
Он приехал в Петроград вместе с маленьким Ростовским театром, вскоре распавшимся, и быстро сблизился с молодой группой «Серапионовых братьев».
На вечере, которым московский Литературный музей отметил восьмидесятилетие Шварца, выступила К. Н. Кириленко, много лет занимающаяся мемуарами Евгения Львовича, хранящимися в ЦГАЛИ. Из отрывка, который она прочитала, я впервые узнал, что знакомство с Серапионами было связано с одной из его бесчисленных попыток подойти к возможности работать в литературе.
«Я шагал по улице и увидел афишу: „Вечер Серапионовых братьев“. Я знал, что это студийцы той самой студии Дома искусств, в которой я пытался учиться. Я заранее не верил, что услышу там нечто человеческое. Дом искусств помещался в бывшем елисеевском особняке. Мебель Елисеевых, вся их обстановка сохранилась. С недоверием и отчужденностью глядел я на кресла в гостиных, пневматические, а не пружинные, на скульптуры Родена, мраморные, подлинные, на атласные обои и цветные колонны. Заняв место в сторонке, стал я ждать, полный недоверия, неясности в мыслях и чувствах. Почва, в которую пересадили, не питала. Вышел Шкловский, и я вяло выслушал его. В то время я не понимал его лада, его ключа. Когда у кафедры появился длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто и владеющий собой М. Слонимский, я подумал: „Ну вот, сейчас начнется стилизация“. К моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего не произошло. Слонимский читал современный рассказ, и я впервые смутно осознал, на какие чудеса способна художественная литература. Он описал один из плакатов, хорошо мне знакомых, и я вдруг почувствовал время. И подобие правильности стал приобретать мир, окружающий меня, едва я попал в категорию искусства. Он показался познаваемым. В его хаосе почувствовалась правильность, равнодушие исчезло. Возможно, это было не то, еще не то, но путь к работе показался в тумане. Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный, вопреки суровому выражению лица, да и всего существа, человек, я подумал: Ну, вот теперь мы услышим нечто соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске „Серапионовы братья“. И снова ошибся. Был поражен, пришел уже окончательно в восторг, ободрился, запомнил рассказ „Рыбья самка“ почти наизусть. Так впервые в жизни услышал я и увидел Зощенко. Понравился мне и Всеволод Иванов, но меньше. Что-то нарочитое и чудаческое почудилось мне в его очках, скуластом лице, обмотках. Он бы мне и вовсе не понравился, но уж очень горячо встретила его аудитория. Соседи говорили о нем как о самом талантливом. Остальных помню смутно. Не понравился мне Лунц, которого я так полюбил немного спустя. Но и полюбил-то я его сначала за живость, ласковость и дружелюбие. Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел „Бертрана де Борна“ и „Вне закона“ и понял, в чем сила этого мальчика. На вечере он читал какой-то библейский отрывок, где все повторялось „Моисей бесноватый“, что меня раздражало. В конце вечера выступил девятнадцатилетний Каверин еще в гимназической форме, с поясом, с бляхой. Уже на первом вечере я почувствовал, что под именем „Серапионовых братьев“ объединились писатели и люди, мало друг на друга похожие. Но общее ощущение талантливости и новизны объясняло и оправдывало их объединение».
С первого дня знакомства стало казаться, что не столько мы ему, сколько он нам близок и нужен. Он редко посещал серапионовские субботы, а если и приходил, никогда не высказывал своего мнения по поводу прочитанного рассказа. Зато он сразу стал душой наших, запомнившихся кино-театральных вечеров, на которых ставились импровизированные спектакли: «Памятник Михаилу Слонимскому», «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова», «Женитьба Подкопытина». Пользуясь гоголевскими характерами, Шварц коварно изображал Серапионовых братьев. Вместе с Лунцем и Зощенко он сочинял эти импровизации, а потом мгновенно превращался то в режиссера, то в конферансе, то в актера, а когда это было необходимо, становился театральным рабочим.
Он был красивый, стройный, легкий тогда, с хохолком чуть вьющихся волос над высоким лбом, с неизменной тонкой улыбкой на изящно очерченных губах, с умными, проницательными глазами. Его знаменитое остроумие никогда не было взвешенным, заранее обдуманным, рассчитанным на успех. В этом смысле он был прямой противоположностью толстовскому Билибину из «Войны и мира». Острословие окрашивало его отношения с людьми, заставляя догадываться, что оно в чем-то отражает самый способ его существования. Необычайно располагая к нему, оно и было тогда его «устной литературой».
Серапионовские вечера в Доме искусств прекратились — в 1922 году он закрылся, и тогда сценой для бесчисленных импровизаций стали редакции детских журналов. Там под руководством С. Маршака работали Е. Шварц, Н. Олейников, Д. Хармс, Н. Заболоцкий.
Об атмосфере театральности, царившей в детском отделе Гослита, пишут многие участники книги «Мы знали Евгения Шварца». <…>
Никто не мешал сотрудникам выпускать два детских журнала в атмосфере острых мистификаций, и любой из ленинградских писателей, поднимаясь на шестой этаж, сталкивался с чудачествами, от которых рукой подать было до чуда.
В журналах «Еж» и «Чиж» «устная» литература впервые потребовала реального, закрепленного воплощения. И Шварц стал записывать ее. В том сложном пути, который ему предстояло пройти до драматургии, это было важным этапом. Но почему так долго продолжался «инкубационный период»? «Как-то я пристал к нему с этим вопросом, — пишет в своих воспоминаниях Слонимский, — и он ответил:
„Если у человека есть вкус, то этот вкус мешает писать. Написал — и вдруг видишь, что очень плохо написал. Разве ты этого не знаешь?“»[45]
В своем дневнике Шварц развивал и углублял эту мысль: «Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим… Я сознавал, что могу выбрать дорогу, только органически близкую мне…»
Для того, чтобы выбрать эту дорогу, нужен был не только тонкий и беспощадный вкус — следовало побороть в себе то «не пишется», которое в жизни Шварца было всегда сложным чувством, соединявшим неуверенность с такой высокой требовательностью, что рука невольно роняла перо.
3
За редкими исключениями, он не хотел публиковать свою прозу. В ней открывался реальный мир современных явлений, герои ее, подчас не названные, были живые, а некоторые живут и здравствуют доныне. Но после его смерти были напечатаны «Детство», «Печатный двор» (5), отрывки писем к А. П. Крачковской (6) и «Страницы дневника» (7). Из оставшихся в рукописи материалов мне известны «Превратности характера» (ЦГАЛИ) и дневники (1942–1944), которые я получил от Е. В. Заболоцкой.
Казалось бы, этого мало, чтобы дать читателю ясное представление о внутренней связи трех жанров, определяющих круг деятельности Шварца: проза — мемуары — драматургия. Без сомнения, он беспредельно расширится, когда будут опубликованы мемуары писателя, хранящиеся в ЦГАЛИ и насчитывающие около ста шестидесяти печатных листов — следовательно, четыре толстых тома.
Однако и по немногочисленным источникам можно судить о многом. Можно, например, убедиться в том, что, хотя проза и мемуары как бы сливаются, они — подобно рекам Куре и Арагви — разного цвета. Можно сопоставить прозаические жанры с его драматургией. В самом деле, что связывает их? Ведь на первый взгляд проза Шварца не только не похожа на его драматургию, но представляет собой как бы ее противоположность.
4
Да, теперь ты — знаменитый писатель, твои пьесы идут во многих театрах, не только на родине, но и за границей — в Лондоне и Варшаве, в Берлине и Париже. Не все, правда. Некоторые еще лежат в архиве. Но пойдут когда-нибудь и они.
Ты был бы счастлив, увидев, с какой любовью оформил книгу твоих пьес Н. П. Акимов (8). Книга толстая, солидная, в суперобложке, которую можно рассматривать долго, потому что на ней нарисованы и море с парусной лодкой, и дорога, по которой мчится всадник, и плавные повороты грубых крепостных стен, и замковая башня, на которой рыцарь стоит у знамени, привязанном к древку, небрежно, но прочно. На знамени написано: «Е. Шварц» — и сразу становится ясно, кто приглашает читателя стать под это знамя благородства и рыцарских дел.
Пьесы выходят маленькими тиражами, и убытки, как правило, подсчитываются заранее. Но твоя книга — вышло уже второе издание — была раскуплена мгновенно, и тебе, наверное, было бы приятно узнать, что достать ее, даже втридорога, решительно невозможно. И пишут о тебе совсем иначе, чем прежде.
5
Всю жизнь ему «не писалось». Горькая нота неуверенности в себе звучит в дневниках, как камертон, к которому прислушивается, настраивая свой инструмент, музыкант.
«Есть много ощущений сильных и ясных — вдруг увидишь цвет подбородка, тень на снегу, и никуда не возьмешь. Нечем» (18 апреля 1942 г.).
«Вчера не написал ни строчки, потому что у меня болела голова, все было безразлично, и мне казалось, что не стоит и пробовать взять себя в руки. За это время я ничего не сделал… Стою как голый под дождиком» (28 апреля 1942 г.).
«Боюсь, что рассказывать я никогда не научусь. Главное не кажется мне главным, потому что каждый пустяк — вовсе не пустяк. Почему он пустяк? Может быть, он как раз и окрашивает все, что происходило, именно в данный цвет» (28 декабря 1942 г.).
«Сегодня понедельник, работа все не клеится» (8 марта 1943 г.).
Впервые он рассказал о непреодолимости своего «ничегонеделания» еще в 1924 году в очерке «Печатный двор» — произведении, как бы рожденном понятием «не пишется» и одновременно опровергающем это понятие.
Сила очерка не в том, что психологическая точность соединяется в нем с почти этнографической вещественностью, а в том, что из этого соединения рождается авторская исповедь, и рождается почти самопроизвольно.
Шварц рассказывает о типографии «Печатный двор», куда он часто ездил в 1927 году на верстку журнала, о работе наборщиков, художников, и в особенности об известном графике и живописце Владимире Васильевиче Лебедеве, строго следившем за работой своих учеников. С этим целеустремленным, ощутимым, видимым трудом Шварц соотносит свою томительную, необъяснимую невозможность писания. «Недавно я с помощью Маршака как бы выбрался на дорогу, почувствовал, во что верю, куда и зачем иду. Но почему же я так мало работаю? Почему томятся и слоняются, словно не находя себе места, мои друзья? Потом, потом, это я потом пойму, а сейчас вернусь к наборщику, верстающему „Ежа“». Это «томление духа» вставлено в описание энергично действующего устройства «Печатного двора» и повторяется как лейтмотив, все с большей силой показывающий душевное состояние писателя, который не в силах заставить себя взяться за перо. Сравнивая свою жизнь с историей легендарного наборщика Афиногена Максимовича, который жил, как ему вздумается, и тем не менее прекрасно работал, Шварц думает, что должен жить совершенно иначе. «А вдруг в этом и есть секрет, думаю я… Работа — и полная свобода! Я занимаюсь гимнастикой, бросил курить, обливаюсь холодной водой, а чтобы работать, может быть, нужна эта самая аристократическая свобода от обязанностей, когда только одни законы и признаются — законы мастерства… Не есть ли моя сдержанность — просто робость, холодность, отсутствие темперамента?»
Но и другой голос, поддерживающий веру в себя, слышится в этих признаниях: «Может быть, придет день, и исчезнет отвращение к письменному столу? И вернется тот поток, который так радовал меня в ранней молодости, когда писал я свои безобразные, похожие на ископаемых чудищ стихи? Конечно, он вернется! И я вижу, переживаю с массой подробностей себя в новом качестве. Я неутомимый работник! Я живу без вечного ужаса перед своей уродливостью! Я больше не глухонемой! Я слышу и говорю! У меня есть точка зрения, не навязанная, а найденная, органическая».
Так до последних строк идет разговор с самим собой, в котором звучит нота совести, душевной чистоты, исключительности призвания. Исключительность отбросить нельзя. Она близка к понятию закона. «Почему я так уж строг к себе? О какой, собственно говоря, работе я мечтаю? Почему я так сильно позавидовал графикам и наборщикам?.. Не о такой работе мечтаем мы… Все это так. Но и не работать во всю силу постыдно. И страшно».
Последняя страница написана с особенной силой. Здесь и строки шуточных стихов, складывающихся как бы сами собой, повторяющихся в разных вариантах, странная мысль об инвалидах гражданской войны, у которых «совесть чиста и все обязанности сняты судьбой», и озабоченные женщины с корзинками, входящие в решетчатые ворота Дерябкинского рынка. «И я сажусь в трамвай, с тем, чтобы сегодня же непременно начать работу. Начать писать. Впрочем, сегодня я устал. Начну с понедельника. Нет, понедельник — тяжелый день. Но с первого непременно, непременно, во что бы то ни стало я начну новую жизнь. И скажу все».
6
Уже и в этом маленьком раннем (9) очерке отчетливо видны особенности прозы Шварца. Она лаконична, в ней нет ничего приблизительного, она направлена к определенной цели. Шварц писал о своем учителе Маршаке как о писателе с абсолютным вкусом — это в полной мере относится к ученику. В очерке есть полстраницы, которые отданы художнику В. В. Лебедеву, и беглый набросок открывает беспредельную галерею портретов, которые Шварц писал всю жизнь.
Портретность — вот, быть может, самая сильная его черта, сливающая воедино дневники с художественной прозой. Он пишет портреты не только людей, но вещей, положений, обстоятельств. Он свободно владеет всеми особенностями этого жанра. В основе каждого портрета — характер, подчас давно изученный, хорошо знакомый, подчас схваченный с первого беглого взгляда.
Так схвачены характеры случайных попутчиков, соседей по дачному поезду в очерке «Пятая зона», — старшина с его простотой, понятливостью и здоровьем; усталый, сутулый, испуганный проводник, который жалуется на бригадиршу «с белым непоколебимым лицом, с подвитыми волосами, падающими на широкие мужские плечи»; семнадцатилетние влюбленные — они ссорятся, и разговор кончается тем, что мальчик на ходу мчащейся электрички прыгает с площадки.
В очерке, написанном как открытие знакомого, обновление привычного, за «инвентарем» подробностей угадывается почти незаметное, пунктирное, но глубоко небезразличное отношение автора к тому, что раскрывается перед его глазами. Но все это — рисунки карандашом, черновые наброски будущих глубоко продуманных портретов.
7
В своих воспоминаниях Л. Пантелеев пишет, что Шварц не любил слова «мемуары» и предпочитал этому выспреннему (как ему казалось) слову только первый его слог — «ме»: «Слово „мемуары“ ему не нравилось, но так как другого названия не было (книга его не была ни романом, ни повестью, ни дневником), я назвал его новое произведение сокращенно — „ме“, и он как-то постепенно принял это довольно глупое прозвище…» («Мы знали Евгения Шварца»).
Передо мной лишь маленькая часть этих «ме», с апреля 1942 года до декабря 1944-го. Но это та часть, по которой можно судить о целом. О чем рассказывается на этих страницах?
Здесь и запись всего, что может пригодиться для будущей работы, и случайные встречи, и подхваченные на лету выражения («это сокровище я берегу как зенитку ока» или: «чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь»). Здесь и замыслы будущих произведений. То и дело встречается: «Для сказки может пригодиться»… «хорошо бы написать сказку следующего содержания»… «надо в новой пьесе попробовать роль человека, скрытного до чудачеств».
Болезненно-острое ощущение безотлагательности работы, которая откладывается то по внешним, то по внутренним причинам, пронизывает дневники от первой до последней страницы. И вот итог: «Я почти ничего не сделал за этот год. Оправданий у меня нет никаких. „Дракона“ я кончил 21 ноября 1943 года».
Оправдания были, и он сам много пишет о них. Но, очевидно, они казались ничтожными в сравнении с могущественной необходимостью работы.
Здесь и размышления, поражающие соединением глубины с простотой. Иногда они изложены от имени героя воображаемой пьесы. Но герой и шварцевское «я» совпадают. «Искусство вносит правильность, без формы не передашь ничего, а все страшное тем и страшно, что оно бесформенно и неправильно. Никто не избежит искушения тут сделать трогательнее, там характернее, там многозначительнее. Попадая в литературный ряд, явление как явление упрощается. Уж лучше сказки писать. Правдоподобием не связан, а правды больше».
Или: «Когда смотрят пьесу или читают книгу, расстраиваются в грустных местах, даже плачут. Смеются в веселых. А в жизни те же люди черствы и угрюмы, когда следовало бы растрогаться или посмеяться. Что это значит? Это значит, что они так же мало видят жизнь, как снимающийся в фильме актер видит фильм, пока он не смонтирован. Это первая причина. Вторая — когда человек мог бы увидеть в жизни больше, чем актер в своих кусках будущего фильма, он все-таки мало видит. Он ослеплен страстным интересом к самому себе. Он все равно не зритель, а участник, больше всего сосредоточенный на самом себе и больше всего понимающий себя. Он жалеет только себя и связанных с собой. А раз он видит только себя, то общая картина опять-таки неясна. В театре, в кино, в литературе он с помощью автора видит картину целиком, плачет и смеется и размышляет».
Здесь и впечатления, их особенно много: «Когда я выхожу на крыльцо, то мне вдруг начинает казаться, что все еще наладится. Больше того, — счастье, как мне кажется, ждет меня, вот-вот придет. Что это — предчувствие, воспоминание или просто после душной комнаты свежий воздух оживляет, туманит голову?»
Здесь и описания, неизменно скупые, лаконичные, но так же, как в очерках, о которых я рассказал, соотнесенные с собственным мироощущением. Таковы первые впечатления от Сталинабада — заинтересованность, радостная попытка понять чужую жизнь, ожидание счастья. Но «на душе смутно и не может быть иначе у человека, когда идет война».
Если бы я еще подробнее рассказал содержание немногих попавших в мои руки страниц дневника, я все-таки не сумел бы добраться до самого главного. Это главное — сам Шварц. Услышать его голос, понять глубину его ума, показать его поразительную способность читать в чужой душе — вот задача.
8
Пытаясь представить себе, как Шварц рисовал свои портреты, нельзя обойти «Превратности характера» — воспоминания о Житкове, написанные по просьбе сестры покойного писателя в 1952 году и хранящиеся в ЦГАЛИ. Едва ли подзаголовок «рассказ» принадлежит Шварцу. Однако главное место в этих воспоминаниях занимает ссора Житкова с Маршаком, и, как очевидец, хорошо знавший действующих лиц этой истории, я могу засвидетельствовать, что она написана с безупречной осмотрительностью, которая согрета и мыслью и чувством.
Однажды Маршак рассказал Шварцу, что появился новый удивительный писатель. Ему сорок один год… Он и моряк, штурман дальнего плавания; и инженер — кончил политехникум; и так хорошо владеет французским языком, что, когда начинал писать, ему легче было формулировать особенно сложные мысли по-французски, чем по-русски. Он несколько раз ходил на паруснике вокруг света, повидал весь мир, испытал множество приключений.
…Гимназию окончил Борис Житков в Одессе вместе с Корнеем Чуковским и, попав в Ленинград, первую свою рукопись принес к нему. Была эта рукопись еще традиционна, литературна, мало что обещала. Но Маршак почувствовал, познакомившись с Житковым у Корнея Ивановича, силу этого нового человека. И со всей своей бешеной энергией ринулся он на помощь Борису Степановичу.
Целыми ночами сидели они, бились за новый житковский язык, создавая новую прозу, и Маршак с умилением рассказывал о редкой, почти гениальной одаренности Бориса. Талант его расцвел, разгорелся удивительным пламенем, едва Житков понял, как прост путь, которым художник выражает себя. Он сбросил с себя «литературность», «переводность».
«Воздух словно звоном набит!..» — восторженно восклицал Маршак. Так Житков описывал ночную тишину.
Так начинается эта история — с влюбленного взгляда Маршака, который, как это впоследствии выяснилось, не разобрался в сложном характере нового друга. «По всем этим рассказам, — пишет далее Шварц, — представлял я себе седого и угрюмого великана — о физической силе и о силе характера Житкова тоже много рассказывал Маршак. Без особенного удивления убедился я, что Борис Степанович совсем не похож на все представления о нем. В комнату вошел небольшой человек, показавшийся мне коротконогим, лысый со лба и с длинными волосами чуть не до плеч, с острым носом и туманными, чтоб не сказать мутными, глазами. Со мною он заговорил приветливо… а главное — как равный. Я не ощутил в нем старшего, потому что он сам себя так не понимал. Да, я сразу почувствовал уважение к нему, но не парализующее, как рядовой к генералу или школьник к директору, а как к сильному, очень сильному товарищу по работе… Да, он был неуступчив, резок, несладок, упрям, но не было в нем и следа того пугающего окаменения, которое угадывается в старших. Какое там окаменение — он был все время в движении, и заносило его на поворотах, и забредал он не на те дорожки. Он жил, как мы, и это его сближало с нами».
Однажды он рассказал Шварцу, как «бродил по улицам какого-то городишки на Красном море, в тоске, без копейки денег.
— А как ты попал туда?
— Ушел с парусника.
— Почему?
— Превратности характера».
Именно эти превратности впоследствии стали сказываться в его отношениях с Маршаком. Но вначале отношения складывались счастливо. Мало сказать, что Маршак и Житков были друзьями. «Всюду появлялись они вместе, оба коротенькие, решительные и разительно непохожие друг на друга». Вместе, «титанически надрываясь», работали они в редакции «Воробья», маленького детского журнала. Оба были вдохновенны и ясны, а Житков еще и «сурово праздничен, как старый боевой капитан в бою. Маршак любовался им: вот как повернулась судьба человека! Сказка! Волшебство!»
После «Воробья» они стали работать в детском отделе Госиздата и там тоже действовали энергично, смело, охотно ввязываясь в ссоры с теми, кто осмеливался посягнуть на детскую литературу.
Но вот начались размолвки. «Осколки собственных снарядов стали валиться внутрь крепости и сшибать своих». И причины этих сперва незначительных, а потом все разгоравшихся ссор хотя и были, разумеется, связаны с делами литературными, однако в еще большей степени — с поразительным несходством самого способа существования. Оба отличались неукротимой энергией, оба работали с утра до ночи, но Маршак, жалея себя, ничего не имел против того, чтобы его жалели другие. Он понимал, что такое усталость, и не сердился, когда кто-нибудь жаловался на нее после целого дня выматывающей работы. Он не учился играть на скрипке (как Житков. — В. К.), «потому что на этом инструменте ноты надо было находить своими силами», и не думал, что «клавиши рояля действуют на учеников развращающе, изнеживающе».
«И вот к такому характеру Маршак стал все чаще, все откровеннее поворачиваться самой трудной стороной своего многостороннего существа, — пишет Шварц. — Он стал капризничать, что понимают и прощают другу женщины и мужчины женственного характера, а чего-чего, но женственности в Борисе не было и следа… И не желал он понимать, что капризы Маршака — единственный доступный для этой натуры вид отдыха. Все это было одной стороной существа его друга, но Житков даже как бы с радостью обижался и сердился. Эта дорожка была ему привычнее. И свободолюбие его подняло свой голос».
«Я останавливаюсь на этих событиях, на этой ссоре, глупости, безобразии, пытаюсь поймать самый механизм этого дела, — пишет Шварц, — потому что всю жизнь болезненнее всего переживал подобного рода беды. Их легко объяснить, если допустить существование черта. Без него события… тех дней выглядят просто загадочными. Что им было делить? Зачем расходиться? Зачем поносить друг друга усердно, истово, не сдаваясь ни на какие убеждения?»
Я привел здесь эти строки воспоминаний Шварца для того, чтобы показать, как окрепло и развилось его дарование писателя-реалиста. Это уже не беглые эскизы, с которыми мы встречаемся в «Печатном дворе» и «Пятой зоне». Характер Житкова тонко исследован и смело оценен как глубоко оригинальное явление, Показан он со всеми своими странностями, парадоксами, смешивающимися с незаурядной внутренней силой и бессознательным стремлением к самоутверждению. История ссоры повернута таким образом, чтобы в ее ракурсе был виден как бы очерченный одной линией человек бешеного, полубезумного, шагающего через любые отношения литературного труда. И становится ясно, что к этому труду Житков готовил себя всю жизнь. За 14 лет работы были созданы сто девяносто два произведения — очерки, повести, рассказы, статьи и трехтомный роман «Виктор Вавич». Это выглядит почти неправдоподобным, однако полностью соответствует той «громокипящей» личности, неутомимо действующей во имя ясности, смелости и чистоты, которую с такой правдивостью и любовью изобразил в «Превратностях характера» Шварц.
9
Было время, когда твоя сказка надолго притаилась в самом незаметном уголке нашей литературы, мечтая только об одном: чтобы о ней — не дай бог — не заговорили. Но о ней говорили. Ее разбирали по косточкам. Над подвалом, где она ютилась, надстраивали целые этажи, и в просторных, светлых помещениях сидели хорошо одетые люди, называвшие себя педологами и утверждавшие, что «и без сказки ребенок с трудом постигает мир… Они отменили табуретки в детских садах, ибо табуретки приучают детей к индивидуализму, и заменили их скамеечками, не сомневаясь в том, что скамеечки разовьют… социальные навыки и создадут дружный коллектив. Они изъяли из детских садов куклу. Незачем переразвивать у девочек материнский инстинкт. Допускались только куклы, имеющие целевое назначение, например, безобразно толстые попы. Считалось несомненным, что попы разовьют в детях антирелигиозные чувства. Жизнь показала, что девочки взяли да и усыновили страшных священников. Педологи увидели, как их непокорные воспитанницы, завернув попов в одеяльца, носят их на руках, целуют, укладывают спать — ведь матери любят и безобразных детей» («Превратности характера»). Утверждая с полной серьезностью, что народ давно сочинил все сказки на свете, педологи пытались остановить литераторов, которые думали, что они могут прибавить хоть что-нибудь к бессмертному наследию.
Как же поступил ты в ответ на угрозы наших Самсонов Карраско, которые доказывали, что «последние достижения науки требуют, чтобы с безумцами обращались сурово»? Ты напечатал «Приключения Гогенштауфена» (10) — историю о том, как в рядовом учреждении всеми делами заправляет Упырь, питающийся человеческой кровью, а уборщицей служит добрая Фея, которой, согласно утвержденному плану, разрешено совершать только три чуда в квартал. Дорогой мой, как нам тебя не хватает! Твоей доброты и терпения. Твоего мужества и иронии. Твоей скромности — ведь ты тихо и долго смеялся бы, если кому-нибудь пришла в голову мысль, что ты — первоклассный писатель. А между тем в наши дни то и дело слышишь, что твой «Дракон» — гениален.
10
Но пригодилась ли Шварцу трезвость и проницательность писателя-реалиста, когда он писал «Дракона» или «Тень»? Воспользовался ли этот сказочник, выдумщик, любитель магических происшествий, стремившийся столкнуть «обыкновенное с необыкновенным», своим искусством раскрывать жизнь с вещественной полнотой? Да. И более того: в основе первого лежит второе. Фантастические персонажи произведений Шварца наделены естественными человеческими чертами, и трудно представить себе, что они могли быть написаны без трезвого, беспристрастного знания жизни. И это не отвлеченное, алгебраическое знание. В нем нет устоявшихся оценок, готовых представлений. Оно как бы плывет, подчиняясь невидимой воле автора, размышляющего о мужестве, справедливости, чести. Так, в фигуру Бабы Яги вложены черты самодовольной, упоенной своими мнимыми достоинствами старухи, которые на каждом шагу встречаются в обыденной жизни. Разница заключается в том, что эти живущие не в избушке на курьих ножках старухи не стали бы с такой откровенностью восхищаться собой.
«Я умница, ласточка, касаточка, старушка-вострушка», — говорит Баба Яга («Два клена»), а когда Василиса спрашивает ее: «А ты, видно, себя любишь?» — отвечает: «Мало сказать люблю, я в себе, голубушка, души не чаю. Тем и сильна». И дальше: «Меня тот понимает, кто мной восхищается».
В «Снежной королеве» Маленькая разбойница говорит Герде: «Даже если мы и поссоримся, то я никому не дам тебя в обиду, я сама тогда тебя убью, ты мне очень, очень понравилась».
В «Снежной королеве» Советник раскрывает себя, откровенно рассказывая о «ледяном» смысле своего существования. Его уверенность в том, что можно купить все, и том числе и «розовый куст», который не продается, его холодность, равнодушие, жестокость — все это черты, которыми пестрит обыкновенная обыденная жизнь.
Между понятиями «говорить» и «думать» устанавливается понятие антитезы — и здесь кроются многие открытия острой драматургии Шварца. Одни говорят то, что думают, и это производит ошеломляющее впечатление — комическое в одних случаях и трагическое в других. Другие говорят противоположное тому, что они думают, но зритель с помощью автора легко угадывает подлинный смысл. В классической драматургии был принят прием «à part» — «в сторону»: герой на мгновение как бы оставался наедине со зрителем, сообщал ему то, чего не должен был знать собеседник. Шварц раскрывает скобки, в которые ставилось это «à part». Ничего не говорится «в сторону»: напротив, мнимая или подлинная откровенность входит в художественную ткань пьесы.
В любом существовании, обусловленном множеством сплетающихся, связывающих отношений, подобная откровенность немыслима. Это — чтение собственных мыслей вслух.
Пьеса «Тень», мне кажется, в этом отношении характернее других произведений Шварца. Раздвоенность приобретает в ней философский смысл.
11
Летом 1813-го, тревожного года студент-медик Адальберт Шамиссо, француз по происхождению, бывший офицер немецкой армии, написал в несколько дней сказку для развлечения жены и детей своего друга, очевидно воспользовавшись сюжетом одной из датских народных сказок. Она называлась «Необычайные приключения Петера Шлемиля»; в ней рассказывалось о том, как некий господин в рединготе — волшебник или черт — купил у ничем не замечательного молодого человека его тень. Взамен Петер получает то, что в русском фольклоре называется «неразменный рубль», — кошелек с золотыми дублонами, который невозможно опустошить. Он утопает в золоте, его принимают за путешествующего инкогнито прусского короля. Но когда он догадывается, что вместе с потерей тени он потерял и свое место в мире, волшебник или дьявол является снова и предлагает еще более страшную сделку: Петер получит обратно свою тень, однако с условием — он должен написать завещание, согласно которому его душа после смерти перейдет в полную собственность господина в сером рединготе. Соблазн велик, в уговорах участвует и шапка-невидимка, и возможность жениться на любимой девушке, но Петер Шлемиль находит в себе силы отказаться от выгодного предложения.
Повесть еще далеко не кончена, но на этих страницах, в сущности, обрывается все, что связано с темой проданной тени. Шамиссо, без сомнения, не знал, как окончить свою повесть, и, оставив своего героя без тени и без денег, не нашел ничего лучшего, как вручить ему семимильные сапоги. Повесть теряет единство, расплывается, уходит в сторону, и остается только задуматься над причинами ее феноменального успеха. В 1919 году в Берлине вышла специальная «Шлемилевская библиотека», в которой описано — приблизительно за сто лет — сто восемьдесят девять немецких и иностранных изданий этой повести.
12
Андерсен вернулся к этой теме через несколько десятилетий, написав сказку «Тень», в которой до неузнаваемости преобразил историю Петера Шлемиля. Теперь на месте этого «неповоротливого, долговязого малого» — Ученый, добрый и умный человек, который пишет об истине, добре и красоте, но которого никто не желает ни читать, ни слушать. Господин в сером рединготе — волшебник или черт — не нужен Андерсену, ведь он сам волшебник. Никто не собирается покупать тень. Ученый сам посылает ее, чтобы узнать, что творится в доме напротив, откуда доносится музыка и где он однажды увидел стройную прелестную девушку среди цветов, озаренных загадочным светом. Тень не возвращается, и это заставляет Андерсена вспомнить историю Петера Шлемиля. «Эта история была широко известна на его родине… и если бы Ученый рассказал свою, ее сочли бы подражанием». Но вот проходит много лет. Тень возвращается к своему владельцу, у которого (он побывал в жарких странах, где все растет очень быстро) выросла новая тень, и Андерсен внезапно поворачивает сюжет, придавая занимательной сказке психологический смысл.
Дело уже не в том, что Ученый потерял свою тень, а в отношениях, которые возникают между ней и ее бывшим владельцем. Каким образом, побывав в доме, где жила Поэзия, тень Ученого стала человеком? Этого он не объясняет. Зато подчеркивает — и неоднократно, — что Тень не решилась сразу войти в «анфиладу ярко освещенных комнат». Свет убил бы ее, и она осталась выжидать своего чудесного превращения в полутемной передней. Вот почему так сильны в ней лакейские черты — ведь лакею всегда хочется видеть лакеем своего господина. Так начинается новая связь между Ученым и Тенью. Сперва она просит называть ее на «вы». Потом, явившись снова через несколько лет, предлагает своему бывшему владельцу путешествовать, но с условием: «Мне очень нужен спутник. Хотите ехать со мной в качестве моей тени? …Беру на себя все расходы». Ученый отказывается, но его начинают преследовать заботы и горе, он заболевает, и в конце концов ему ничего не остается, как принять предложение. Они отправляются в путешествие. Тень становится господином, а господин — тенью. И когда на курорте они встречаются с Принцессой, обладающей «чрезмерной зоркостью», Тень легко доказывает, что у него есть тень, но необыкновенная. «…Некоторые наряжают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем то, которое носят сами, так и я дал своей тени обличье человека».
Ученый играет роль тени до тех пор, пока она не пытается отнять у него право называть себя человеком. «Ты не должен говорить, что когда-то был человеком, и раз в год, когда я сяду на балконе при солнечном свете, чтобы показаться народу, ты ляжешь у моих ног, как и подобает тени. Должен сказать тебе, что я женюсь на Принцессе. Сегодня будет свадьба». И лишь тогда Тень сталкивается с решительным сопротивлением. Ученый отказывается обманывать Принцессу и всю страну. Он погибает в тюрьме, а Тень женится на Принцессе.
13
Нужно было обладать большой смелостью, чтобы после Андерсена вернуться к этому сюжету. И Шварц прекрасно понимал всю рискованность своего замысла, всю его сложность. Ведь Андерсен невольно состязался с Шамиссо, — теперь Шварцу предстояло состязание с Андерсеном. В преобразовании сюжета всегда есть оттенок соперничества, а ведь трудно соперничать с любимым писателем, который с детских лет украшал твою жизнь! Но «чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет» — недаром Шварц взял для своей пьесы этот эпиграф из «Сказки моей жизни» Андерсена.
В чем же заключалось преобразование чужого сюжета? Прежде всего в том, что Шварц с удивительной рельефностью написал характеры, едва намеченные у Андерсена. Он увел их от неопределенности, в которой все могло случиться иначе. Он населил свою пьесу новыми персонажами, связанными между собой сложными, противоречивыми отношениями. В сказке Андерсена Ученый, проповедующий истину, добро и красоту, далеко не уверен в том, что все в конце концов будет прекрасно. Карьера Тени, в сущности, основана на его слабости, а первая же попытка борьбы кончается смертью. В пьесе Шварца Ученый — человек, желающий всем добра, мечтающий сделать всех людей счастливыми, и это основное. Его, единственное оружие — здравый смысл и простота, помноженные на поэтическое отношение к жизни. Вот почему он не верит, что Тень может победить навсегда. Попадая в «совсем особенную страну, где то, что кажется у других народов выдумкой, происходит на самом деле», он один смело отказывается от необходимости лгать, хитрить, притворяться.
И Тень в пьесе Шварца совсем непохожа на андерсеновскую. Ведь Ученый упорно борется с ней, — стало быть, карьера Тени не может быть построена на отношениях между ними. Карьера опирается на мертвую закономерность канцелярской власти, которая беспрепятственно царит в «особенной стране», где лишь недавно умерла Спящая Красавица, а Мальчик с пальчик, женившийся на очень высокой женщине, ходит на базар и «торгуется, как дьявол». Но сказка сковала, сказка живет среди стен, имеющих уши. И Тень опирается на эту скованную, связанную по рукам и ногам фантасмагорию. Недаром же с Ученым решено покончить, потому что он «простой, наивный человек» (а это страшнее шантажиста, хитреца, злодея). Недаром, когда Тень предлагает Первому министру свои услуги, он останавливает ее: «Что с вами, любезный? Вы собираетесь действовать, пока вас еще не оформили? Да вы сошли с ума!»
Быстрое возвышение Тени, которая из помощника лакея становится сперва чиновником особо важных дел, а потом руководителем всей бесшумно, но безжалостно действующей, основанной на призрачном существовании, нерассуждающей канцелярской машины. Она внушает слепой, бессознательный страх, и недаром Доктор, тайно сочувствующий Ученому, рассказывает о том, как человек необычайной храбрости, шедший с ножом на медведя, упал в обморок, нечаянно толкнув тайного советника.
Однако для того, чтобы воспользоваться всей тупостью бумажной, но сильной власти, нужны хитрость и ум. И Тень в пьесе Шварца умна. Более того — талантлива. Для того, чтобы подчинить себе легкомысленную Принцессу и ее министров, нужны коварство, изворотливость, ум. Но для того, чтобы убедить Ученого подписать заявление, в котором он отказывается от брака с Принцессой, необходим талант. «Ведь мы выросли вместе среди одних и тех же людей. Когда вы говорили „мама“, я беззвучно повторял то же слово. Я любил тех, кого вы любили, а ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали — и я не мог поднять головы от подушки. Вы поправлялись — поправлялся и я. Неужели после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, я мог бы вдруг стать вашим врагом!» Этого мало, и Тень, притворяясь неразлучным другом Ученого, пытается разбудить в нем детские воспоминания: «Христиан, друг мой, брат, они убьют тебя, поверь мне. Разве они знают дорожки, по которым мы бегали в детстве, мельницу, где мы болтали с водяным, лес, где мы встретили дочку учителя и влюбились — ты в нее, а я в ее тень. Они и представить себе не могут, что ты живой человек. Для них ты — препятствие, вроде пня или колоды. Поверь мне, что и солнце не зайдет, как ты будешь мертв».
Что же представляют собой новые персонажи, которых читатель не найдет ни в «Истории Шлемиля», ни в андерсеновской «Тени»? Одни — на стороне Ученого (разумеется, тайно), Аннунциата и Доктор; другие — сторонники того установленного образа жизни, в котором говорить правду просто «не принято» и движениями души управляет единственный, в сущности, закон — людоедство. Людоедом может быть кто угодно — и изящный молодой человек (недаром, впрочем, получивший имя Цезаря Борджиа), и Хозяин гостиницы, Пьетро — отец Аннунциаты. Почему Шварц заставил их всех служить оценщиками в городском ломбарде? Потому что в традициях классической литературы (Диккенс, Достоевский) ломбард — место, где из человека тянут жилы, обманывают, бессовестно наживаясь. И еще одна черта лагеря людоедов, действующих в механическом, обусловленном мире, — пошлость. Недаром красавица Юлия Джули поет песенку под названием «Мама, что такое любовь» или «Девы, спешите счастье найти». В «избранном круге», к которому она принадлежит, все элегантны, лишены предрассудков и по возможности знамениты. От пошлости до подлости один шаг. Все, что подчиняется раз и навсегда установленному, застывшему, омертвевшему строю существования, безвкусно и ничтожно в нравственном отношении. Борьба Ученого против Тени — это борьба поэзии правды против пошлости лжи.
Кажется, я подробно разобрал пьесу Шварца, а между тем она заслуживает еще более тщательного разбора. Вопросы стиля остались в стороне, в то время как многие выражения из его сказок вошли в разговорный язык. «Детей надо баловать, — говорит Атаманша в „Снежной королеве“, — тогда из них вырастают настоящие разбойники». «Вы думаете, это так просто — любить людей», — вздыхает Ланцелот. «Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения», — замечает Цезарь Борджиа. «Единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного», — уверяет Шарлемань («Дракон»). Эти афоризмы тонко переплетены с общепринятыми поговорками, пословицами, образными выражениями, которым Шварц возвращает их первоначальный смысл. «Посмотрите на все сквозь пальцы, — советует Доктор, осматривая Ученого, — махните на все рукой. Еще раз». «В каждом человеке есть что-то живое. Надо его задеть за живое — и все тут», — говорит Ученый. Это не только игра слов. Укрепившиеся, своеобразные, непереводимые обороты речи оживают в своем первоначальном значении. Они рассеяны по страницам драматургии Шварца, придавая ей остроту и оригинальность.
14
Пристально наблюдая за преображением «чужого сюжета, вошедшего в плоть и кровь», можно найти убедительные черты сходства и несходства в произведениях Андерсена и Шварца. Но есть и прямой спор, далеко идущий и заставляющий задуматься о многом.
Печальная сказка Андерсена кончается победой «теневой стороны вещей». Ученый приговорен к тюрьме, и Тень коварно жалеет «верного слугу». По-другому кончает свою пьесу Шварц.
Существует формула: «Тень, знай свое место» — Доктор нашел ее в старинных трудах о людях, расставшихся со своими тенями. И когда в последней схватке Ученый доказывает, что новый властелин пуст, что он «уже теперь томится и не знает, что ему делать от тоски и безделья», — волшебные слова произнесены, и Тень падает к ногам Ученого, повторяя его слова и движения.
Зачем Шварцу понадобился этот эпизод? Ведь формула действует недолго, и Ученый лишь на несколько минут становится хозяином положения. Она понадобилась, чтобы показать нерасторжимость, неразлучность, естественное единство человека и его тени. И эта едва различимая нить единства полностью раскрывается в заключительных сценах. Ученый приговорен к казни, палач отрубает ему голову — в это мгновение слетает голова и у Тени. Живая вода — величайший фармакологический препарат сказочников всех времен и народов — приходит на помощь. Оживает Ученый, оживает и его Тень. Обоим больно глотать — подробность, подчеркивающая изящество замысла Шварца. А замысел заключается в том, что, как бы далеко ни уходила «теневая сторона вещей», повинуясь воле художника, в конечном счете она возвращается, чтобы «занять свое место».
Столкновение Ученого с его тенью — это столкновение героя с самим собой, с темным отражением собственной души в сложном, коварном и безжалостном мире. Это — единство противоположностей, невольно уводящее мысль к идее двойника, которая была так важна для Гофмана, Достоевского, Кафки.
15
Ты знаешь, а ведь и я только теперь, перечитывая твои пьесы, понял, что тебе удалось. Ты развертывался медленно, неуверенно, прислушиваясь не к искусству литературного слова, а к точности и честности детского зрения. В «Голом короле» все голы, не только король, — и улюлюкающий камергер, и марширующие фрейлины, и придворный поэт, который «просит то дачу, то домик, то корову».
…Спасибо тебе, дорогой, за Ученого, за Ланцелота, за Дон Кихота, за то, что вместе с ними ты ненавидел больших и маленьких драконов фашизма. За то, что ты нашел в себе силы, чтобы высмеять их, оставаясь серьезным. За то, что ты предсказал, как трудно будет с людьми, у которых «дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души». За «очень жалобную книгу», которую пишет мир — горы, травы, камни, деревья, реки, видящие, что делают люди.
Знаешь ли, на что похожа эта книга, лежащая далеко в пещере, в Черных горах? На «Русскую Правду» Пестеля, зарытую в землю. Или, еще больше, на толстовскую «зеленую палочку». Ланцелот, как маленькие братья Толстые, отказывает себе в праве на равнодушие и легкую жизнь. «Я странник, легкий человек, но вся жизнь моя проходила в тяжелых боях. Тут дракон, там людоеды, там великаны. Возишься, возишься… Работа хлопотливая, неблагодарная».
Вот и ты был такой же легкий человек, умевший смешить и смеяться, любивший простые вещи — солнце, хорошую погоду, прогулку в лесу. Спасибо тебе за то, что твоя жизнь проходила в тяжелых боях.
Умирая, Дон Кихот видит перед собой Альдонсу, которая запрещает ему умирать: «Вы устали? А как же я? Нельзя, сеньор, не умирайте… Уж я-то сочувствую, я-то понимаю, как болят ваши натруженные руки, как ломит спину… Не умирайте, дорогой мой, голубчик мой».
Так и нам хотелось запретить тебе умереть.
Ранчо старается доказать своему господину, что «умереть — это величайшее безумие, которое может позволить себе человек». Вот так и нам хотелось доказать тебе эту простую мысль.
Тебе некогда было умирать, когда на земле столько дела, и если уж несправедливо совершилось это «величайшее из безумств», ты знал или догадывался, что твои сказки помогут нам, «сражаясь неустанно, дожить, дожить до золотого века…»
1965–1978
Шварц и сопротивление
1
<…> Между нами долго были довольно сложные отношения, но не с моей, а с его стороны. Он с удивительной проницательностью понимал людей и судил о них беспощадно строго. Об этом почти ничего нет в книге «Мы знали Евгения Шварца», потому что он был одновременно человеком добрым, умным и остроумным, искренним — больше, чем позволял произвол, талантливым, щедрым и великодушным. Он легко разгадал мои дурные стороны: скупость, отчасти врожденную, отчасти благоприобретенную — в молодости я был беден (с годами скупость прошла), самоуверенность (которая впоследствии сменилась неуверенностью, но только в профессиональном отношении), душевную ограниченность, естественную для человека, который постоянно думает о себе. Кроме того, он считал меня писателем головным, сухим, бесполезно сложным и едва ли способным изобразить глубокое чувство. Короче говоря, он ясно видел мои дурные стороны и с трудом, медленно менял свое отношение ко мне. Оно сильно ухудшилось после одной нелепой ссоры, в которой был виноват я. Но потом Шварц стал, как бы привыкать ко мне, а может быть, понял, что я, так, же как он, меняюсь.
Отношения улучшились, и недаром, ожидая ареста в сентябре 1941 года, я пошел проститься именно с ним — ближе, чем он, у меня тогда не было никого в Ленинграде… Душевные перемены стали происходить в нем совершенно иначе, чем у других писателей, и если осмелиться выделить среди них тех, кто шел своим, независимым путем — Пастернак, Платонов, Булгаков, Ахматова, Мандельштам (в наше время этот список можно утроить), следует, мне кажется, включить в него и Евгения Шварца. Он вел двойную жизнь, напоминавшую зеркала, поставленные друг против друга. Одно зеркало — то, что он писал для себя, а на деле — для будущих поколений. Другое — то, что он писал, пытаясь найти свое место в скованной, подцензурной литературе. Это последнее было сравнительно легко для него, когда он писал для детей, — его сказки в театре и в прозе получили мировое признание. Но это было очень трудно, когда Шварц писал для взрослых, годами нащупывая тропинку, которая привела его к «Дракону». Она наметилась уже в одной из первых пьес, в «Похождениях Гогенштауфена» — истории о том, как в рядовом советском учреждении всеми делами заправляет упырь, питающийся человеческой кровью, а уборщицей служит добрая фея, которой согласно утвержденному плану разрешено совершать только три чуда в год. Пьеса написана еще нетвердой рукой, но первый опыт удался — Евгений Львович метко рассчитал, что советские чиновники никогда не унизятся до того, чтобы узнать себя в вурдалаках. Это был смелый шаг. Всеобщему, стремительно развивающемуся лицемерию и двоедушию было противопоставлено «лицемерие искусства», зажатого в тиски и нашедшего единственную (или одну из немногих) форму существования.
Наиболее полное выражение эта форма нашла, без сомнения, в пьесе «Дракон», поставившей Шварца в первый ряд русских драматургов. Свою статью о нем я недаром назвал «Ланцелот». «Дракон» в ней только упомянут. Откровенно написать о нем я не мог и попытался разобрать лишь «Тень», которую в сравнении с «Драконом» можно было бы назвать лишь «Тенью сопротивления».
Мои сверстники, пережившие годы сталинского террора, без сомнения, помнят те беспомощные и трогательные попытки найти в совершавшихся преступлениях подобие здравого смысла. Трудно было примириться с понятием «лотерея», которым через много лет И. Эренбург определил роковой выбор, падавший почему-то не на вас, а на вашего соседа. В ту пору никому в голову не могла прийти подобная мысль. Одни пробовали, разумеется, безуспешно, найти признаки последовательности, некие правила «политической игры», другие пытались притвориться (как и было приказано), что так и должно быть, что к происходящему, вопреки всей его невероятности, давно пора привыкнуть. Это чувство, возведенное в энную степень, с необычайной силой изображено в первом акте «Дракона». Страна, в которой вот уже четыреста лет господствует Дракон, свято хранит древний обычай: каждый год всемогущему повелителю о трех головах приносят в жертву девушку, и действие пьесы начинается накануне назначенного дня. На этот раз выбор падает на Эльзу, дочь архивариуса Шарлеманя. Зритель ждет, что, терзаясь мукой ожидания, отец в отчаянии ломает руки. Ничуть не бывало! Он спокоен, потому что так надо, потому что ничего изменить нельзя.
— Да уж тут ничего не поделаешь, — говорит он. — Мы сейчас гуляли в лесу и обо всем так хорошо, так подробно переговорили. Завтра, когда Дракон уведет ее, я тоже умру.
Странствующий рыцарь Ланцелот попадает в тихий город, где «никогда ничего не случается», где «можно хорошо отдохнуть».
Ланцелот. А… А Дракон?
Шарлемань. Ах, это… Но ведь мы привыкли к нему.
…Когда вторая часть романа «За правое дело» Василия Гроссмана была передана Вадимом Кожевниковым из редакции «Знамени» в НКВД или ЦК, автор был вызван к Суслову, который назвал роман мечом, занесенным над Советским Союзом. Со слов одного из видных работников ЦК Э. Г. Казакевич рассказал мне, что причиной этого приговора, погубившего одного из талантливых наших писателей, была параллель между нашими и фашистскими лагерями. В первом томе романа рассказывается о том, как Софья Осиповна Левинтон, врач-хирург, попадает в плен. И хотя нам неизвестны обстоятельства ее жизни и смерти, можно предположить, что некоторые главы второго тома (уничтоженного или хранящегося в архивах ЦК) были связаны с ее судьбой. Не надо забывать, что они принадлежат автору «Тремблинского ада». Так или иначе, за пятнадцать лет до «Архипелага ГУЛАГ» Гроссман впервые осмелился провести эту опасную параллель. Вообразите же дерзость Шварца, который в 1943 году решился изобразить ее, конечно, в преображенном, замаскированном виде.
«Дракон» — сказка, в которой свою традиционную роль играют шапка-невидимка и ковер-самолет, в которой следователи допрашивают рыб, птиц и змей. Но за привычными с детства очертаниями сказки просвечивает наша мучительно знакомая жизнь. Признаки ее встречаются на каждой странице, перечислить их — это значит переписать пьесу. О ней можно сказать, что она битком набита «трепетом узнаванья». Семья Шарлеманя, ее духовный мир, атмосфера немыслимости борьбы с насилием, попытка оправдать то, что оправдать невозможно, — все это наше, пережитое, выстраданное. Это мы — разгаданные, перепуганные, осторожные, заговорившие в пятидесятых годах и вновь замолчавшие в семидесятых.
Как известно, Гитлер уничтожал не только евреев, но и цыган. Евреи не упоминаются в пьесе, но цыгане (Шарлемань видит заслугу Дракона в том, что Дракон избавил их от цыган) не только упоминаются, но поданы, в духе Геббельса, как евреи. «Они — враги любой государственной системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили туда-сюда, — говорит Шарлемань. — Они проникают всюду. Теперь мы вовсе очистились от них, но еще сто лет назад брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови».
Пьеса Шварца полна предсказаний, но едва ли он мог предположить, что в наши дни, в конце семидесятых годов, отделы кадров будут принимать во внимание процент еврейской крови.
Да, трудно, очень трудно представить себе, что «Дракон» написан в 1943 году. Трудно, потому что, когда началась война, еще недавнее вчерашнее прошлое как бы отступило на задний план, а «чувство локтя» получило новое, всеобъемлющее значение. Вот что писал об этом Пастернак в романе «Доктор Живаго»: «Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления… И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы»[46].
Утром 23 июня я встретил Шварца на Литейном, недалеко от Союза писателей. Он ходил записываться в ополчение.
— Ты? С твоими руками?
У Шварца был ранний тремор, руки с каждым годом все больше дрожали.
— Ничего. Записали для порядка. — Мы помолчали. — Неужели ты не видишь, что с прежней жизнью покончено? — вдруг спросил он.
Это была фраза, от которой у меня захватило дыхание.
Через два года, работая над «Драконом», он уже не думал, что с прежней жизнью покончено. Его дар был сродни пророчеству. Он видел сквозь пастернаковское «веяние избавления». И тем не менее в «Драконе» бессознательно воплощена надежда, которая волей-неволей жила в душе каждого, кто осмеливался задуматься, усомниться. Надежда на то, что после войны жизнь станет другой. Никто, разумеется, не думал о кончине Сталина. В конце сороковых годов мы с женой замерли, когда один дипломат, разоткровенничавшись, задал себе и нам вопрос: «Кто способен занять его место?» Неловкое молчание воцарилось, хотя разговор не имел ни малейшего отношения к политике и дипломат говорил лишь о подорванном здоровье членов Политбюро. Сталин был бессмертен.
Но в пьесе Шварца эта фантастическая надежда осуществляется — Ланцелот убивает Дракона. И что же? Покончено ли с прежней жизнью? Нет! Власть захватывает Бургомистр, мнимый победитель Дракона. Он — «президент вольного города», в котором по-прежнему господствуют рабство, низкопоклонство, страх. К насилию и бесправию привыкли за четыреста лет, оно было продиктовано волшебной силой Дракона. Теперь с волшебной силой покончено, у Бургомистра только одна голова, он не может дыханием воспламенить озеро или уничтожить восставших жителей ядовитым дымом. Приходится управлять с помощью силы инерции — и ведь оказывается, что вполне достаточно этой силы! Видным государственным деятелем становится тюремщик, и слово «Взять!» звучит все чаще, в тюрьме пытают помощников Ланцелота. Почему же город остался «совсем-совсем таким же тихим и послушным, как прежде»? Потому что «человеческие души, любезный, — как говорит Дракон Ланцелоту, — очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, проданные души, прожженные души, мертвые души»[47].
Власть нового президента — непрочна, в ней чувствуется неуверенность, шаткость. За его спиной стоит сын и единомышленник Генрих, его двойник, молодой, энергичный, дальновидный. В нем воплощено страшное будущее «вольного города»: к рабству Генрих присоединяет некую видимость свободы. Третье действие начинается с урока:
«Горожане (тихо). Раз, два, три. (Громко.) Да здравствует победитель Дракона! (Тихо.) Раз, два, три. (Громко.) Да здравствует наш повелитель! (Тихо.) Раз, два, три. (Громко.) До чего мы довольны — это уму непостижимо! (Тихо.) Раз, два, три. (Громко.) Мы слышим его шаги!
Входит Генрих.
(Громко, но стройно.) Ура! Ура! Ура!
1-й горожанин. О, славный наш освободитель! Ровно год назад окаянный, антипатичный, нечуткий, противный сукин сын Дракон был уничтожен вами.
Горожане. Ура! Ура! Ура!
1-й горожанин. С тех пор мы живем очень хорошо. Мы…
Генрих. Стойте, стойте, любезные. Сделайте ударение на „очень“.
1-й горожанин. Слушаю-с. С тех пор мы живем о-очень хорошо.
Генрих. Нет, нет, любезный. Не так. Не надо нажимать на „о“. Получается какой-то двусмысленный завыв: „Оучень“. Поднаприте-ка на „ч“.
1-й горожанин. С тех пор мы живем оч-чень хорошо.
Генрих. Во-во! Утверждаю этот вариант. Ведь вы знаете победителя Дракона. Это простой до наивности человек. Он любит искренность, задушевность. Дальше.
1-й горожанин. Мы просто не знаем, куда деваться от счастья.
Генрих. Отлично! Стойте. Вставим здесь что-нибудь этакое… гуманное, добродетельное. Победитель Дракона это любит. (Щелкает пальцами.) Стойте, стойте, стойте! Сейчас, сейчас, сейчас! Вот! Нашел! Даже пташки чирикают весело. Зло ушло — добро пришло! Чик-чирик! Чирик-ура! Повторим.
1-й горожанин. Даже пташки чирикают весело. Зло ушло — добро пришло, чик-чирик, чирик-ура!
Генрих. Уныло чирикаете, любезный! Смотрите, как бы вам самому не было за это чик-чирик.
1-й горожанин (весело). Чик-чирик! Чирик-ура!
Генрих. Так-то лучше. Ну-с, хорошо. Остальные куски мы репетировали уже?
Горожане. Так точно, господин бургомистр.
Генрих. Ладно. Сейчас победитель Дракона, президент вольного города выйдет к нам. Запомните — говорить надо стройно и вместе задушевно, гуманно, демократично. Это Дракон разводил церемонии, а мы…
Часовой (из средней двери). Сми-рно! Равнение на двери! Его превосходительство господин президент вольного города идут по коридору. (Деревянно. Басом.) Ах ты, душечка! Ах ты, благодетель! Дракона убил! Вы подумайте!
Гремит музыка. Входит Бургомистр».
(Указ. соч. С. 361–362)
Н. П. Акимов поставил пьесу Шварца и показал ее, кажется, летом 1944 года. Я был на последней генеральной репетиции в Москве, после которой спектакль был запрещен. Чиновники из комитета, из реперткома почувствовали неладное, хотя и они вынуждены были притворно согласиться, что пьеса нацелена на фашизм. Узнавать себя в Генрихе и Бургомистре они не собирались. Пьеса, прочитанная еще в рукописи многими и многими, сразу же вошла в духовный мир интеллигенции. Так же, как это произошло с «Тенью», многие выражения вошли в разговорный язык. Однако подлинный взлет ее пророческого значения начался лишь тогда, когда она была опубликована в 1962 году (11). Дракон скончался — не только в пьесе. Его место занял Бургомистр. Он был не совсем похож на шварцевского героя, в нем блеснули черты человечности, он пытался, но не решался позволить «вольному городу» оправдать свое наименование.
Началось десятилетие, которое оказалось короче, чем казалось. Десятилетие, когда можно было не спрашивать: «Любовь к ребенку — ведь это же ничего? Гостеприимство — это же тоже вполне можно?» Когда наметилось то, что можно назвать почти чудом: самые мужественные стали думать или, точнее сказать, учиться думать, а ведь «думать само по себе мучительно», как говорит Шарлемань. Увы! Осуществилась лишь самая малая доля предсказанья.
Пьеса кончается благополучно, тяжело раненный Ланцелот возвращается и, вернувшись, приносит с собой надежду. К сожалению, в действительности этого-то и не случилось. Жители признаются в подлости, подхалимстве, лицемерии. «С ними еще придется повозиться», — думает Ланцелот. Долго ли? Десятилетие? Два, три? Столетие? Ведь в сущности «Дракон не умер, а, как это часто бывало с ним, превратился в множество людей». Вот почему, завершая пьесу, Ланцелот говорит, что в каждом из них «придется убить дракона». Мальчик спрашивает: «А нам будет больно?» И рыцарь отвечает: «Тебе — нет».
Верю и я, что когда-нибудь придут мальчики и девочки, которые ясными глазами взглянут на друга, брата, отца и не увидят в них «дракона», даже если ему удастся талантливо замаскироваться. До сих пор он маскировался бездарно. До сих пор ему самому приходится возиться с Ланцелотами, которые отказываются своим дыханием погасить свечу, едва мерцающую в холодном сумраке ночи.
2
Согласно Краткой литературной энциклопедии, Шварц прожил счастливую жизнь. Пьесы, которые он писал, ставились, сказки печатались — те и другие имели успех. На деле многие его пьесы (и в том числе первоклассная — «Одна ночь») были отклонены театрами или запрещены цензурой, проза почти полностью осталась в рукописях, а свои мемуары он не только не пытался опубликовать, но в значительной части зашифровал (12), и никто, кроме работников ЦГАЛИ, их не видел. Известно только, что они состоят из более двухсот печатных листов — об этом на вечере памяти Шварца публично заявила сотрудница архива Кириленко. По нескольким строкам, которые она процитировала в своей речи, можно догадаться о принципе, которым, зашифровывая часть своих мемуаров, воспользовался Шварц. Он приписывал свои мысли действующим лицам пьес, над которыми якобы работал или собирался работать. А мысли персонажей, подчас ложные, прямо противоположные авторским, а подчас смутно их напоминающие, излагал от своего имени, маскируясь какими-нибудь вполне естественными подробностями текущего дня. (Разумеется, это только предположение.)
Существуют сотни, а может быть, и тысячи форм тайнописи, которой пользовались уже в глубокой древности и пользуются в наши дни. Но еще никому, кажется, не приходил в голову тот простейший способ, с помощью которого превращены в тайнопись мемуары Шварца. Разгадать его сложно: для этого необходимо, по-видимому, сопоставить запись каждого дня, отмеченного в мемуарах, с теми действительными происшествиями, которые произошли в этот день. С большей или меньшей точностью это сопоставление укажет связь между происшествиями и соображениями, и станет ясно, какие соображения принадлежат автору, который скрылся под именем выдуманного персонажа. Разумеется, речь идет не только о соображениях, не только о мнениях и впечатлениях, но и об атмосфере времени в широком смысле слова. Мнения и впечатления, в свою очередь, можно сопоставить с опубликованной или незашифрованной прозой Евгения Львовича с такими, например, произведениями, как «Белый волк» (о К. И. Чуковском) или «Превратности характера» (о Б. С. Житкове). Благородный, великодушный Шварц, который — хотел он этого или не хотел — изобразил себя в Ланцелоте, отнюдь не выглядит в этих очерках всепрощающим добряком. Он судит бесстрастно, объективно и строго. «Белый волк», посвященный двадцативосьмилетнему К. И. Чуковскому, написан беспощадно, и, если некоторые черты его сложного характера изображены с жестокостью правдивого наблюдателя, нельзя не отметить, что с годами он изменился, и если бы Шварц пережил К. И. Чуковского, он написал бы о нем совершенно иначе (13). Так или иначе, при своем великодушии, душевной щедрости, рыцарской простоте, Евгений Львович, надо полагать, едва ли пощадил кого-нибудь в своих мемуарах. На редкость проницательный ум, пророческий ум, свойственный поэтам хлебниковского масштаба, тонкая изобразительность, языковые находки, подслушанные и придуманные, — все говорит о том, что, когда мемуары будут разгаданы и опубликованы, в русской литературе появится еще одна великая книга.
1988
Николай Акимов Наш автор Евгений Шварц
Это удивительно, до чего люди не похожи друг на друга! Как при такой общности физической конструкции — внешних и внутренних органов, химического состава человеческого тела, единообразия всех функций его сложнейшего организма — получаются такие разные и совершенно не похожие друг на друга результаты, каждый из которых носит название человеческой личности!
И мы живем в обществе — в громадном собрании человеческих личностей, с которыми мы общаясь, радуемся встрече с одними и страдаем от общества других, и при всем разнообразии наших отношений со всеми людьми, которых мы встречаем, исключена, пожалуй, только одна возможность: встретить двух совершенно одинаковых.
Но возможности нашего восприятия ограничены. Мы невольно отбираем для внимательного изучения одних и оставляем «вне фокуса», в расплывчатом тумане других, на восприятие которых в отдельности, персонально мы уже не способны.
В нашем языке даже выработались слова, определяющие такое восприятие «вне фокуса», обобщенно, — масса, войска, зрители, пассажиры, покупатели, толпа.
Некоторым профессиям рассмотрение людей в отдельности вообще противопоказано. Никакой полководец не смог бы послать в атаку десять тысяч человек, если бы он воспринимал их как отдельные человеческие личности, но зато он спокойно двинет в бой дивизию или корпус.
Но формирование характера, взглядов, убеждений и привычек каждого из нас, даже упомянутого выше полководца, происходит не в процессе общения с массами, толпами, армиями и прочими масштабными категориями, а от встреч и общения с конкретными человеческими единицами, с личностями, воспринимаемыми отдельно и крупным планом.
Никем еще научно не подсчитано, сколько может средний человек удержать в сознании и навсегда сохранить в памяти таких значительных для него встреч, кто из людей, с которыми он общался, займет постоянное место в его духовной жизни, сколько будет возникать в его представлении только по конкретной ассоциации, и, наконец, сколько встреченных нами в жизни людей исчезает, не оставив никакого следа.
Я тоже не взялся бы произвести такой подсчет, но мне ясно одно: первых мы можем сосчитать по пальцам, для второй категории уже нужны счеты, а для третьей — счетные машины.
Область искусства вносит некоторое усложнение в эту схему. Великие художники обладают такой способностью выражать собственную личность в своих произведениях что в сознании читателя, зрителя, слушателя создается сильнейшая иллюзия личного общения с автором. Я твердо знаю, например, что никогда не встречался с Чеховым, Достоевским, Анатолем Франсом, Марком Твеном, Боттичелли, Брейгелем и Боровиковским, но мне иногда трудно в это поверить. И если бы сегодня мне удалось встретиться с Сухово-Кобылиным, я бы гораздо больше обрадовался этой встрече, чем удивился.
И я думаю, что если бы я никогда не встречал Евгения Шварца и не был с ним дружен в течение трех десятков лет, а знал бы его только по его произведениям, я тоже воспринимал бы его как очень близкого и любимого человека, ход мыслей которого и движение его чувств постоянно вызывали бы во мне удивление и восхищение.
Но мне очень посчастливилось не только читать его произведения, не только работать над ними на сцене, но и много и часто его видеть и говорить с ним.
Во время моей работы в Москве в молодом тогда Театре имени Евг. Вахтангова мне сказали как-то после репетиции, что вечером будет читать свою пьесу ленинградский драматург Шварц. Было это в 1931 году.
Когда перед читкой выяснилось, что мы не знакомы, все очень удивились: ленинградцы! И нас познакомили. Шварц прочел «Приключения Гогенштауфена». Пьесу горячо обсуждали, признали интересной, но требующей доработки. Автор — скромный худощавый молодой блондин — сдержанной вежливостью выделялся из общего стиля более уверенных в в себе и темпераментных ораторов. Он согласился со всеми замечаниями и больше к этой работе не возвращался.
Когда через два года я организовал экспериментальную студию при Ленинградском мюзик-холле, которая должна была вырасти в синтетический театр, где искусство драматического актера сочеталось бы с музыкой, балетом и цирком, я обратился в поисках репертуара к трем драматургам: Шекспиру, Лабишу и Шварцу.
У первого я выбрал «Двенадцатую ночь», у второго — «Святыню брака» в переводе и доработке, осуществленным, согласно режиссерским планам, Александрой Яковлевной Бруштейн.
Шварц предложил сделать вольное изложение сказок Андерсена, соединив «Принцессу и свинопаса» с «Голым королем». И очень скоро написал то очаровательное произведение, которое стало известно зрителям почти через тридцать лет на сцене театра «Современник».
Я же тогда довел работу почти до половины, но она была запрещена Главреперткомом по причинам не сформулированным.
Классикам тогда повезло больше: лабишевский спектакль вышел в свет и, перенесенный потом на сцену Московского мюзик-холла, шел еще почти целый сезон. А «Двенадцатая ночь», не выпущенная ввиду расформирования нашей студии, была через несколько лет доведена до конца на сцене Театра комедии.
Однако работа над «Принцессой и свинопасом» (так тогда была названа эта пьеса автором) навсегда утвердила наш союз с Шварцем.
После долгого выбора темы для «взрослой» пьесы (за это время Шварц написал несколько пьес для детей) я предложил Шварцу продолжить опыт обращения к Андерсену и взять коротенькую сказку — «Тень», которую я всегда очень любил. Дней через десять после этого разговора он прочитал написанный залпом и почти без переделок первый акт — самый блестящий в этой пьесе.
Окончание работы — второй и третий акты — заняло много месяцев. Это положило начало нашему постоянному спору с Шварцем. Он категорически не признавал составления предварительного плана пьесы, говоря, что это его стесняет и лишает вкуса к работе, что это — французский способ, а он — русский драматург. Обвинял меня в пристрастии к французам, а французов в том, что они едят лягушек! И как бы ни был он прав в своей позиции — свободного полета не обремененной планом фантазии у него всегда хватало на первые акты, которые действительно получались замечательно, после чего неизменно начинались композиционные мучения, в которых уже и театру, и режиссеру приходилось посильно принимать участие.
Но все же в 1940 году «Тень» появилась на сцене Театра Комедии (1) и была сразу признана и зрителями, и критикой и начала свою длительную жизнь на мировой сцене.
Замечательного сказочника постоянно мучила задача — написать комедию о наших днях без всякой фантастики. Наш Театр комедии, с которым у Шварца установились прочные дружеские отношения, также добивался от него такой пьесы.
И вот за несколько месяцев до начала Отечественной войны Шварц такую пьесу написал. Она была им названа «Наше гостеприимство» (2). Политическая ситуация тогда была довольно сложная; очень нужна была героическая патриотическая пьеса, направленная против наших врагов; врагов же — всем известных гитлеровцев — называть по дипломатическим соображениям было нельзя. Исторические причины этого общеизвестны. И с этой задачей Шварц справился блестяще. Иностранный разведывательный самолет с командой, говорящей по-русски с большим акцентом, делает вынужденную посадку на нашей территории в пустынной степи на юго-западе нашей страны. На него наталкивается небольшая компания советской молодежи во главе со старым учителем, предпринявшая экскурсию природоведческого характера.
Главная задача вражеского экипажа — починить самолет и скрыться. Группа наших безоружных людей попадает в плен к экипажу самолета, ведет себя героически и в конце концов одерживает и моральную, и фактическую победу. Так в очень камерных рамках узкого круга действующих лиц была накануне войны показана страница той борьбы, которая в последующие годы приняла масштабы великой мировой войны.
Национальность самолета угадывалась, но нигде не называлась, и с этой стороны никаких упреков пьеса не вызвала. Но поставить ее не удалось, так как она была запрещена Главреперткомом по другой причине. Факт перелета иностранным самолетом нашей границы был признан нереальным и оскорбительным для достоинства нашего государства.
Никакие доводы о том, что на большой высоте, ночью, один самолет, к тому же в конце пьесы обнаруженный и обезвреженный, все-таки мог перелететь границу, — не подействовали. «Вы читали, — сказали нам строго, — что наша граница на замке? Следовательно, основная ситуация пьесы неправдоподобна и невозможна!»
22 июня 1941 года мы с горестью убедились в том, что никакие замки на границах не могут предотвратить вражеских перелетов и что запрещенную тогда пьесу Шварца можно и нужно было ставить.
Вскоре после начала войны началась эвакуация академических театров из Ленинграда, но четыре театра; ТЮЗ, Музкомедия, Театр под руководством Радлова и Театр комедии были оставлены для обслуживания населения в городе. Помимо основного репертуара хотелось, естественно, играть то, что отвечало бы переживаемым событиям. Такую пьесу можно было только написать, потому что в готовом виде ее не было. Я обратился к двум любимым моим драматургам — Евгению Шварцу и Михаилу Зощенко — с призывом оперативно создать в рамках комедийного жанра боевое произведение, подымающее дух зрителя. После кратких обсуждений они оба решили писать вместе, разделив между собою сцены совместно придуманного сценария.
Работа театра и драматургов протекала в лихорадочном темпе, написанные сцены репетировались еще до окончания всей пьесы, и через месяц с небольшим родился отчаянный спектакль (иначе я его назвать сейчас не могу) — гротесковое представление «Под липами Берлина» (3). В нем действовали Гитлер и его окружение, которым предсказывался очень быстрый крах, — значительно более быстрый, чем это оказалось на самом деле. Сыграв этот спектакль раз пятнадцать, мы сняли его с репертуара. События сгущались, кольцо блокады смыкалось вокруг Ленинграда, и оказалось, что острая насмешка над самонадеянным фашизмом плохо воспринимается в обстановке воздушных налетов. В решении снять спектакль мы были совершенно единодушны и с авторами, и с нашими руководящими организациями.
Осень 1941 года продемонстрировала такие темпы в изменении обстановки, условий жизни и облика города, какие трудно было представить заранее.
Театр наш переехал в помещение Большого драматического театра, который уехал в самом начале войны. Переезд был вызван наличием в здании на Фонтанке бомбоубежищ для зрителей, застигнутых воздушным налетом, и отсутствием таковых в нашем помещении на Невском. Вскоре выяснилось что, для того, чтобы можно было играть спектакли, актерам и всему персоналу надо жить в самом театре — иначе никто не мог гарантировать своевременную явку на спектакль или репетицию. С наступлением холодов, снегопада, постепенного ограничения электроэнергии связи с друзьями стали очень затрудняться, расстояния в городе без общественного транспорта стали ощущаться со всей их первозданной силой.
Изредка встречаясь с Евгением Львовичем, я замечал в нем эпическое спокойствие духа, сочетавшееся с сильнейшим отощанием, принимавшим угрожающие формы. Однажды я узнал, что, получив предложение эвакуироваться, Шварц отказался. Меня очень встревожило это сообщение, и я предпринял поход на канал Грибоедова (эта формулировка вполне точная!) для личного воздействия на него. Застал я его в том самом, опасном в данном случае спокойствии, в которое в те времена впадали многие. На счастье, наши личные отношения сложились так, что подвергаться нажимам с моей стороны у него вошло уже в привычку.
Привычка эта сложилась на почве создания пьес, но в данном случае она очень пригодилась. Сопротивляясь и ворча, обвиняя меня в том, что я хочу нарушить уже выработанный им ритм существования, искренне недовольный моими приставаниями, Шварц все-таки согласился на отъезд.
Я был по-настоящему счастлив. Я чувствовал, что одна из самых драгоценных частиц нашего театра сохранится для тех времен, когда снова можно будет работать в полную силу.
Через месяц после отъезда Шварца (4), в конце декабря, когда уже вообще нельзя было играть спектаклей из-за отсутствия света и воды, Театр комедии на пяти самолетах «Дуглас» был эвакуирован на Большую землю и после странствий на Урал и на Кавказ осел на постоянную работу в столице Таджикистана. Через некоторое время удалось наладить связь с Евгением Львовичем. Он оказался в городе Кирове (5).
За несколько месяцев работы в Душанбе, встретив очень радушный прием властей Таджикистана и большой интерес со стороны зрителей, среди которых оказалось немало старых ленинградцев, также эвакуированных сюда, наш театр настолько окреп после блокады и в физическом, и в творческом отношении, что я без колебаний послал вызов Шварцу, приняв его на должность заведующего литературной частью театра. Вскоре он с женой прибыл к нам, почти такой же худой, каким мы его оставили в Ленинграде, но бодрый, радостный и горячо встреченный всем театром.
Конечно, пост завлита не очень ему подходил, особенно в полной изоляции от драматургов, разбросанных по всей стране этим летом 1943 года (6), но в штатном расписании театра не было должности «души театра», на которую он по существу должен был бы быть зачисленным.
Когда мне приходилось уезжать по делам в Москву, а эти поездки по условиям того времени длились не менее месяца, он оставался моим официальным заместителем, ответственным за порядок, дисциплину и успехи театра.
Должность директора театра, которую ему фактически приходилось выполнять, была, пожалуй, самая неподходящая из всего, что ему случалось делать в жизни.
Доброта, деликатность и душевная нежность этого замечательного человека не мешали ему в своих произведениях энергично бороться со злом в больших масштабах, но сделать замечание отдельному человеку он был не в состоянии. А такой коллектив, как театр, к сожалению, иногда требует в лице отдельных своих представителей строгого обращения.
И все-таки я не мог пожаловаться на своего заместителя, вернее, на результаты его деятельности во время моих отлучек, хотя достигал он этих результатов своеобразным, одному ему присущим способом: он настолько огорчался всякой неполадкой или проступком, что наиболее «закоренелые», в театральных масштабах измеряя, нарушители боялись огорчить такого хорошего человека!
В Душанбе Шварц написал одно из самых замечательных своих произведений, начатое им перед самой войной, — сказку «Дракон».
Сказка эта писалась для нашего театра, я находился в постоянном общении с ее автором и мне были известны в деталях все замыслы и намерения Шварца, а также и многочисленные варианты второго и третьего актов — поскольку, согласно своей творческой манере, Шварц написал первый акт сразу и очень быстро. Дальнейшая судьба пьесы и различные ее толкования критиками и зрителями были впоследствии настолько усложнены, что, пожалуй, имеет смысл изложить историю создания этой пьесы.
Зная Шварца по всем его произведениям, можно себе ясно представить, как этот настоящий воинствующий гуманист ненавидел фашизм во всех его проявлениях.
И начал писать «Дракона» он именно в тот момент, когда сложные дипломатические отношения с гитлеровской Германией в попытках сохранения мира исключали возможность открытого выступления со сцены против уже достаточно ясного и неизбежного противника.
Сказочная форма, олицетворение фашизма в отвратительном образе дракона, принимавшего разные обличья, неопределенность национальности города, подавленного двухсотлетним владычеством Дракона, — давали возможность выступить против коричневой чумы без риска дипломатического конфликта.
Когда в 1942 году Шварц снова принялся за эту работу (7), никаких препятствий против открытого выступления уже, конечно, не было, но сказочная форма, блестяще удавшаяся в первом акте, сообщала всему произведению такую силу обобщения, в такой степени заостряла мысль автора, не стесненную документальными подробностями, что она оказалась более точной даже по чисто художественным соображениям.
На протяжении двух лет работы исторические события давали новую пищу для развития темы. Задержка открытия второго фронта, сложная игра западных стран, стремившихся добиться победы над германским фашизмом с непременным условием максимального истощения советских сил, говорили о том, что и после победы над Гитлером в мире возникнут новые сложности, что силы, отдавшие в Мюнхене Европу на растерзание фашизму и вынужденные сегодня сами от него обороняться, не стремятся к миру на земле и могут впоследствии оказаться не меньшей угрозой для свободы человечества.
Так родилась в этой сказке зловещая фигура Бургомистра, который, изображая собою в первом акте жертву Дракона, приписывает себе победу над ним, чтобы в третьем акте полностью заменить собою убитого Ланцелотом угнетателя города.
В этой символической сказке основные образы достаточно точно олицетворяли собою главные силы, боровшиеся в мире, и хотя сказка, оставаясь сказкой — поэтическим произведением, — не превращалась в точную аллегорию, где решительно каждый образ поддается точной расшифровке, все, читавшие ее еще до постановки, — коллектив театра, Комитет по делам искусств, Главрепертком, разрешивший пьесу без единой поправки, крупные деятели искусства и литературы, входившие в состав художественного совета Комитета, — ясно прочли иносказание пьесы и высоко оценили ее идейные и художественные достоинства.
Когда в 1944 году Театр комедии переехал из Таджикистана в Москву и показал там премьеру «Дракона» (8), одобренную и разрешенную на предварительных просмотрах, во время премьеры я был вызван к очень взволнованному председателю Комитета, который сообщил мне, что спектакль этот играть больше нельзя. Мотивировок высказано не было, да и не могло быть высказано: много времени спустя выяснилось, что какой-то сверхбдительный начальник того времени увидел в пьесе то, чего в ней вовсе не было.
И только через восемнадцать лет, в 1962 году, эта пьеса снова увидела свет рампы в Театре комедии, а затем была поставлена в Польше, Чехословакии, в Германской Демократической Республике и США, и из нее был сделан радиоспектакль в Лондоне.
Во время пребывания в Таджикистане Шварц написал еще одну пьесу — из нашей современной жизни, хотя и с небольшими сказочными элементами, — «Один год» (9), о первом годе молодого супружества. Но она почему-то вызвала сомнения Главреперткома.
Я вернулся к этой работе в 1949 году, и на этот раз она была принята. Но мне самому пришлось покинуть театр почти на семь лет по причинам, которые я опишу, когда буду писать о себе, а не о Евгении Львовиче (10).
Вернувшись в Театр комедии, первой своей постановкой я выбрал «Обыкновенное чудо» Шварца, премьера которого состоялась в апреле 1956 года (11), а в следующем году наконец поставил и «Один год» под новым названием, данным пьесе автором, — «Повесть о молодых супругах».
Этот спектакль ставился и вышел уже во время последней болезни Шварца (12). На премьере я в каждом антракте звонил Евгению Львовичу по телефону и сообщал ему о том, как прошел акт, но посмотреть спектакль ему уже не удалось.
В 1960 году — через двадцать лет после первой постановки, прошедшей сравнительно немного из-за разразившейся войны, Театр комедии вторично поставил «Тень» (13), которая до сих пор нами играется и которая является для нашего театра таким же определяющим творческое лицо театра спектаклем, как в свое время «Чайка» для МХАТа, а «Принцесса Турандот» для Театра имени Евг. Вахтангова.
Много современных советских и зарубежных драматургов вошли в репертуар нашего театра за тридцать пять лет его существования. Немало молодых драматургов получили боевое крещение на нашей сцене. Все они явились создателями театра, и мы постоянно храним к ним чувство признательности. Но два человека, два замечательных художника по праву должны быть выделены из всех, ибо не только их произведения, воплощаясь на нашей сцене, формировали творческий почерк и лицо театра, но самые их человеческие свойства и весь их духовный облик, заботливое внимание к нашему коллективу и его росту в огромной степени помогли нам сформироваться и определить путь своего развития в условиях, не всегда легких для комедийного жанра.
Это блестящий поэт — переводчик Шекспира, Лопе де Веги и Шеридана — Михаил Леонидович Лозинский, который совсем недавно снова зазвучал на нашей сцене в последней постановке «Двенадцатой ночи» Шекспира, и наш замечательный Евгений Львович Шварц.
Когда праздновался шестидесятилетний юбилей Евгения Львовича в 1956 году, я выступал с небольшим приветствием по ленинградскому телевидению. Однажды один из работников телевидения того периода любезно передал мне текст этого выступления, который у меня не сохранился.
Перечитав его, я вспомнил подробно этот удивительный юбилей, который усилиями юбиляра был совершенно лишен всякой помпы, слащавого лицемерия и тех затасканных фраз, которых Шварц органически не переносил. И мне показалось, что текст этот довольно точно выражает мое понимание роли Шварца в нашей драматургии.
Им мне и хочется закончить эти заметки:
«…На свете есть вещи, которые производятся только для детей: всякие пищалки, скакалки, лошадки на колесиках и т. д.
Другие вещи фабрикуются только для взрослых: арифмометры, бухгалтерские отчеты, машины, танки, бомбы, спиртные напитки и папиросы.
Однако трудно определить, для кого существуют солнце, море, песок на пляже, цветущая сирень, ягоды, фрукты и взбитые сливки?
Вероятно — для всех! И дети, и взрослые одинаково это любят.
Так и с драматургией.
Бывают пьесы исключительно детские. Их ставят только для детей, и взрослые не посещают такие спектакли.
Много пьес пишется специально для взрослых, и, даже если взрослые не заполняют зрительного зала, дети не очень рвутся на свободные места.
А вот у пьес Евгения Шварца, в каком бы театре они ни ставились, такая же судьба, как у цветов, морского прибоя и других даров природы: их любят все, независимо от возраста.
Когда Шварц написал свою сказку для детей „Два клена“, оказалось, что взрослые тоже хотят ее смотреть.
Когда он написал для взрослых „Обыкновенное чудо“— выяснилось, что эту пьесу, имеющую большой успех на вечерних спектаклях, надо ставить и утром, потому что дети непременно хотят на нее попасть…
Я думаю, что секрет успеха сказок Шварца заключен в том, что, рассказывая о волшебниках, принцессах, говорящих котах, о юноше, превращенном в медведя, он выражает наши мысли о справедливости, наше представление о счастье, наши взгляды на добро и зло. В том, что его сказки — настоящие современные актуальные советские пьесы».
1965
Павел Суханов Выступление на вечере памяти Е. Л. Шварца
Мне за время нашей совместной творческой работы посчастливилось сыграть во многих пьесах Евгения Львовича. В «Тени» я играл Ученого, потом Пьетро; в «Драконе» — Бургомистра, в «Обыкновенном чуде» — Короля. Несколько ролей в пьесе, которую он написал в первые военные месяцы, — «Под липами Берлина» (совместно с Зощенко).
Действительно, Евгений Львович очень трудно дописывал свои пьесы, ему всегда надо было мобилизовать себя. Но когда надо было, например, пьеса «Под липами Берлина» была написана за 12 дней.
Меня познакомил с Евгением Львовичем Николай Павлович, когда я пришел в театр Комедии, на одной из премьер. Через некоторое время, когда я был ассистентом у Акимова, он сказал, что сегодня мы идем к Евгению Львовичу, он приглашает нас обоих, он будет читать первый акт пьесы для взрослых «Тень».
Первый акт произвел на нас неизгладимое впечатление. Все знают, какое это великолепное произведение, и по мысли, и по сущности, и художественной выразительности. Это непревзойденное произведение. Так же, как и первые акты других его пьес.
Есть одна пьеса, где два акта одинаково прекрасны. Это «Обыкновенное чудо», потому что он замкнулся и написал оба акта без влияния со стороны.
Он был очень требовательным к себе человеком. Когда мы начали ставить «Тень», третьего акта еще не было. Мы ставили первые два акта по частям, много обсуждали, поэтому второй и третий акты носят иную жанровую интонацию. Это акты более публицистические. Потому что на Евгения Львовича нахлынула масса всяких новых мыслей в связи с тем, что высказывали ему самые большие доброжелатели — Акимов, я, коллектив нашего театра. Все очень хотели участвовать в пьесе, и когда мы получали роли, каждый из нас хотел, чтобы его роль была еще лучше. А так как совершенно справедливо замечено, что Евгений Львович был очень добрым человеком, он старался (во многом даже во вред пьесе) написать для каждого актера выигрышную сцену, чтобы он блеснул, хотя роль его второстепенная. Это не лучшим образом отражалось на драматургии Евгения Львовича.
«Обыкновенное чудо». Первые два акта написаны им самостоятельно (в смысле без доброжелательных высказываний друзей и знакомых), поэтому это наиболее цельная его пьеса для взрослых, с моей точки зрения (1). И кроме того, мне и сейчас кажется, что в отношении третьих актов Евгений Львович тоже иногда говорил, что нужно кончать оптимистичнее. Но для меня пьеса кончалась во втором акте.
У Евгения Львовича во всех пьесах была своя интонация, и мне кажется, что эту интонацию, как режиссер, очень хорошо воспринимал и воссоздавал на сцене Николай Павлович Акимов. Я много видел спектаклей по пьесам Шварца в других театрах и в кино, и везде, не знаю отчего, может быть, потому, что привык к интонации Шварца, — всегда огорчался. «Обыкновенное чудо» в кино, «Снежная королева» в кино — это не то, это не Шварц. По-моему, удалась только одна картина — это «Золушка». Она и сейчас смотрится и живет, потому что в ней много сохранилось великолепного Шварца.
Мы сыграли «Тень» до войны 57 раз. Началась война, эвакуация, и мы встретились с Евгением Львовичем в Сталинабаде, куда его Николай Павлович зазвал, чтобы дописывать «Дракона». Первый акт «Дракона» был готов, второй в фрагментах. Акимов сразу же засадил Евгения Львовича писать пьесу. Но он не мог писать по заказу, он отнекивался, сопротивлялся. Я был свидетелем их споров, споров жарких. Жаль, что я не записал, это были весьма интересные беседы, они содержали в себе много мыслей и много остроты. Один убеждал, другой — сопротивлялся, и неизвестно, кто из них сильнее защищал свои позиции. Доходило до того, что Николай Павлович, сердясь, запирал его у него дома.
Вот такой эпизод. Он жил в районе Комсомольской улицы и Лахути. Я прохожу и слышу меня зовут: «Павлуша!» — Смотрю, Евгений Львович сидит у окошка, грустный. — «Зайди, — говорит, — ко мне, только сперва зайди в магазин, купи чего-нибудь». — Я прихожу, Евгений Львович говорит: «Через дверь не ходи, я заперт, давай через окно». — Я забрался через окно, за что потом мне очень попало от Николая Павловича. На другой день Евгений Львович принес третий акт, хотя в нашей беседе мы говорили обо всем, о чем угодно, только не о пьесе. Мы были удивлены. Вот как хорошо иногда побеседовать ни о чем. «Ты ушел, — сказал Шварц, — и у меня все пошло гладко». С ним было легко разговаривать, это был очень хороший друг. Ему можно было говорить всё, что думаешь, не выбирая слова.
Я ему высказал, что конец неубедителен, что что-то нужно сделать. Когда закончилось собрание, он подошел ко мне: «Ну, знаешь, от тебя не ожидал, столько времени у меня просидел и не мог толком сказать. Обязательно надо на людях».
Евгений Львович очень волновался, когда шли его произведения на сцене. От того, что ему трудно было писать, он долго в голове вынашивал текст, прежде чем его записать. У него всегда было много замыслов, он был очень интересным собеседником. Он рассказывал несколько раз за чаем «Сказку о потерянном времени». Этот рассказ был для меня, слушателя, лучшим из всего, что я слышал от него. Мы смеялись до упаду, столько там было смешного, прекрасно выраженного в характерах и в тексте. Мы потом просили еще раз рассказать эту сказку. И вдруг эта сказка была напечатана. Евгений Львович дал мне почитать, я с радостью начал читать и… не узнал сказку. «Что это такое? Не сердитесь на меня, но то, что вы рассказывали, было во много раз интереснее, острее, художественнее». Он говорит: «Э, брат, рассказывать — это безответственное дело, а когда начинаешь писать, когда встречаешься с редактором, начинаешь понимать, что за каждое слово, за каждую запятую я отвечаю. Мне тоже очень жаль, но зная о цели, ради чего написана эта сказка, я должен был отказаться от многих прелестных и дорогих мне вещей» (2).
… О Евгении Львовиче можно говорить много, масса впечатлений, масса встреч. Мы с ним часто говорили на Щучьем озере, в Репино, на набережных Невы, когда он рассказывал что-нибудь новое, интересное. У него была масса новых замыслов, но он очень переживал выход каждого своего произведения на сцене. И я думаю, что это повлияло на его здоровье и преждевременную смерть, ибо так, как он переживал, как он волновался и близко принимал к сердцу — этого не расскажешь. Всегда хотелось как-нибудь его от этого дела отвлечь, чтобы он не портил себе здоровье. Очень он близко к сердцу принимал и успех своих произведений, и их трудное прохождение, ибо он писал в период сложной идеологической борьбы, и это отражалось на его «сказочных» работах. Даже такая сказка, как первая пьеса для взрослых в театре Комедии, еще до моего прихода в театр, «Принцесса и свинопас», хотя она и была сделана по заказу театра, получилась прекрасная пьеса, но в те времена нам категорически не разрешили ее ставить. Мы в течение нескольких лет обращались в Репертком, но нам не удалось добиться ее постановки.
Ефим Добин Добрый Волшебник
У близко знавших Евгения Львовича Шварца наверняка осталась в памяти особенная его улыбка при встрече. Она была заметна уже издали. Дрожала где-то на конце подбородка и, казалось, говорила:
— А сейчас вы услышите забавнейшую историю.
Или:
— А я припас вам чудную остроту. Эпиграмму. Каламбур. Шутку про нашего общего знакомого.
И вы сразу начинали улыбаться в предвкушении забавной истории. Или остроты, шутки, иронического намека.
Не следует только думать, что Женя Шварц (так звали его друзья) принадлежал к категории присяжных остряков, как правило, утомительных. Шварц не трудился подолгу над своими экспромтами. Они рождались у него свободно и легко. А главное — он испытывал жгучую потребность рассказывать людям, к которым питал симпатию, что-то веселое, комическое, остроумное. Ему очень нужно было привести своего собеседника в доброе состояние духа.
В его сказках часто фигурировал добрый волшебник. Это был он сам.
И как радовались мы каждой встрече с Евгением Львовичем! Как ободряла эманация веселости, постоянное излучение доброго душевного расположения! И как непроизвольно светлели лица собеседников при одном упоминании слов: «Женя», «Шварц», «Евгений Львович».
До конца дней своих он сохранил какую-то детскость. Старожилы комаровского Дома творчества помнят его уморительную «дуэль на животах» со сценаристом Константином («Котом») Исаевым. И Евгений Львович, и Исаев в равной мере обладали весьма солидной корпуленцией. «Дуэль» придумал Шварц. Соперники надували животы и раздувшимися полушариями старались оттолкнуть друг друга с занятой позиции.
Все проделывалось с величайшей серьезностью и спортивным азартом. А окружающие помирали со смеху.
На юбилейном чествовании старика Чапыгина (1) Шварц выкинул неожиданный номер. После торжественного, по всем правилам заседания (Чапыгина любили и почитали) Евгений Львович встал на стул и начал изображать «собачий юбилей». Он лаял на самые разные лады. Солидный, преисполненный собственного достоинства, на басах. И визгливый, с подобострастием. И заливающийся в упоении славословия. И ласково-заискивающий. И сурово-снисходительный. И трусливо-завистливый. Целая галерея «характеров».
В этой выходке проявился Шварц-сказочник, который вывел стольких героев-зверей. Он их наделял человеческими качествами, иногда даже своим собственным юмором. В пьесе «Красная Шапочка» лиса (ее бесподобно играла в ТЮЗе артистка Е. Уварова) удивляется странному вкусу осла. Чертополох, шиповник — это ведь несъедобно. «Я люблю острое», — отвечает осел (2).
Так же, как можно было безошибочно установить авторство Михаила Светлова в любой из его острот, распространявшихся со скоростью света, так же было и специфически «шварцевское» в его юморе.
— Почему кошка, выброшенная из комнаты, обязательно хочет вернуться и царапается в дверь?
Я, конечно, не знал.
— Она боится, что, воспользовавшись ее отсутствием, люди скушают всех мышей.
Не всегда юмор Шварца был таким безоблачным и безобидным. Далеко не всегда. Увидев у меня все книжки Перельмана — «Занимательная физика», «Занимательная геометрия», «Занимательная арифметика» и так далее, Евгений Львович как бы мимоходом заметил:
— А хорошо бы написать «Занимательный краткий курс истории партии».
В те годы все, что выходило из-под сталинского пера, официально обожествлялось. Намекнуть на сухость и скуку его произведения — было равносильно государственному преступлению.
Остроту эту я, разумеется, тут же «забыл». Так же, как и ядовитую «сказку об одном руководителе».
Сказка была длинной. Рассказывал ее Евгений Львович не торопясь, уснащая каждый раз новыми деталями.
«В некотором городе жило Руководящее Лицо. Все делалось благодаря ему. С его именем на устах строились заводы, шились костюмы в ателье, готовились спектакли, занимались школьники, выпекались булки. Даже заключались браки и рождались дети.
И вот завелась там шайка гангстеров. Так как детей миллионеров в наличии не было, они решили похитить Руководящее Лицо.
Шестеро молодцов в рабочей прозодежде вошли в приемную и заявили секретарше, что Хозяин приказал выбить и вычистить ковер. Она открыла французским ключом дверь в священный кабинет, и, кряхтя от натуги, шестерка вынесла оттуда свернутый в рулон огромный ковер.
В тайном загородном пристанище из ковра извлекли Руководящее Лицо, поместили в комфортабельно обставленную пещеру и роскошно накормили.
Чтобы установить размеры паники, объявшей осиротевшее население города, был послан один из членов шайки. Посланец вернулся чрезвычайно удивленный.
Ни в магазинных очередях, где он толкался, ни у трамвайных и троллейбусных остановок, ни в парикмахерских и на вокзалах — нигде не слышал он разговоров об исчезнувшем Хозяине.
— Подождем, — хладнокровно сказал предводитель шайки и через неделю послал другого лазутчика. Сведения были неутешительны. Не было никаких следов траура, смятения, даже обыкновенного волнения. Заводы дымили. Магазины бойко торговали. Ребята весело мчались из школ, на ходу лакомясь мороженым. Театры и кино были полны.
Предводитель задумался: все это было очень странно. Он сам решил пойти на разведку. Его ожидало тяжелое разочарование. Ну, то, что не было слышно разговоров о пропавшем Лице, можно было еще объяснить: на прием к нему никто не осмеливался явиться, он сам вызывал людей. А секретарша побоялась что-либо сообщить.
Но как город продолжал жить нормальной жизнью? И — самое неожиданное! — почему лица прохожих стали веселее? Почему они любезнее, нежели раньше, раскланивались друг с другом? Почему даже продавцы поражали необыкновенной вежливостью? Почему спектакли стали намного интересней?
В подавленном состоянии вернулся предводитель в логово гангстеров. Пока суд да дело, он распорядился уменьшить расходы на пленника. Руководящее Лицо лишили вина и закусок и даже третьего блюда.
Информаторы регулярно посылались в город, а желаемых сообщений о крахе не поступало. В один прекрасный день Руководящее Лицо попросило о встрече с руководителем банды.
— Я хотел бы узнать, — смиренно спросило Лицо, — как у вас организовано гангстерское дело.
— Как „как“? — переспросил предводитель.
— Есть ли у вас, например, график операций?
— Операций? — предводитель был в полном недоумении. — Мы же не хирурги.
— Вы меня не поняли, — любезно объяснило Лицо. — Я под этим подразумеваю объекты, так сказать, перемещения собственности из рук законных владельцев в… — Руководящее Лицо замялось. Но предводитель его понял. Руководящее Лицо авторитетно заявило, что оно лично может наладить организацию гангстерского дела в самом лучшем виде. Нужны только пишущая машинка (на развернутый лист бумаги), копирки, ватманские листы, скоросшиватели, тушь и тому подобное. — И, пожалуйста, — вкрадчиво добавило Руководящее Лицо, — прикажите перевести меня на прежний пищевой режим.
Согласие было дано — и работа закипела. В течение недели были готовы титульные списки, графики, объяснительные к ним записки, календарный план производственных совещаний с готовым порядком дня и даже резолюциями. Сверх обещанного была преподнесена „генеральная схема административного подчинения“ с симметрично расположенными разноцветными кружочками и пунктирами.
И… И гангстерство прекратилось».
Так заканчивалась сказка-памфлет на культ личности (хотя сам этот термин тогда еще не существовал). Шварц придумал ее в самые тяжкие годы сталинского правления. Разумеется, она не предназначалась для «эстафеты». До XX съезда я хранил ее в самых потаенных закоулках памяти.
Сказка была горькой, злой и веселой. Насмешка облегчала, духовно освобождала от тяжести. Это была сказка-надежда. На то, что неизбежно рассеются мифы культа, пустопорожняя аллилуйщина.
Евгений Шварц был сказочник-философ. Гражданский трибун. Глашатай добра и обвинитель зла.
Под неизменной улыбкой Евгения Львовича, под комическими историями, вечными остротами таилось не добродушие, ограждавшее себя от треволнений, а сердце, болезненно воспринимающее чужие (они не были чужими) обиды, остро откликавшееся на чужую (она не была чужой) боль.
В середине 40-х годов, гуляя с ним по Комарову, мы встретили композитора Ш. (3). Волей кремлевского Руководящего Лица на него тогда посыпались гонения. Ш. рассказывал нам, что он отставлен и от ленинградской, и от московской консерватории. Лицо Шварца буквально почернело. Губы дрожали: он не мог вымолвить слова.
Мы долго ходили молча. Для Евгения Львовича это было странно, даже противоестественно. Он страдал за Ш., страдал за Михаила Михайловича Зощенко (мы часто о нем говорили), страдал за многих.
Близкий мой друг, литератор, в конце 40-х годов лишившийся каких бы то ни было заработков, рассказывал мне:
«В магазинах картофеля не было (конец зимы). А на рынке он был дорог, нам не по средствам. Узнаю я, что в небольшой овощной лавке на ул. Пестеля продают картофель по государственной цене, дешевый.
Пожадничал я, взял 15 килограммов. До дому далеко, тащить не под силу. На каждом углу отдыхаю. Считаю пройденные и оставшиеся кварталы. Вдруг слышу как будто мою фамилию. Оглядываюсь — не вижу знакомых. Значит, ослышался. Иду дальше. Опять крики. И тут я увидел издали Евгения Львовича. Он нагонял меня, крича и делая отчаянные знаки, чтобы я остановился.
Как я ни отказывался, ни сердился, ни возмущался — ничего не помогло. Он ухватился за ручку сумки, не выпуская ее, и я вынужден был принять его помощь, хотя знал про его сердечную болезнь.
Ему было тяжело, и я много раз пытался его урезонить, но напрасно. Вдвоем мы дотащили картофель до самой моей квартиры. Не могу себе этого простить».
В суровую блокадную зиму 1941-42 года я прощался с ним на темной обледенелой лестнице нашего дома. Его вывозили самолетом, и я был безмерно рад этому — блокадных мук он бы не вынес. Мы смотрели друг другу в глаза, думая об одном и том же: суждено ли нам встретиться?
Встретились мы через полтора года, в Москве, в гостинице «Москва» (тогда там жили несколько ленинградских писателей). Я прибыл с черноморского побережья и должен был вернуться на Балтику. Как фронтовой корреспондент я много повидал и был полон впечатлений. Я рассказывал Шварцу о «куниковцах», легендарных штрафниках-десантниках, занявших в одну ночь окраину Новороссийска под командой недавнего газетчика Цезаря Львовича Куникова. О летчиках-смертниках, дравшихся против «мессершмиттов» и «юнкерсов» на совершенно устаревших к тому времени архаически медлительных «чайках» и «ишаках» (И-15 и И-16). О поразительной эпопее обороны Севастополя.
Женя жадно слушал. Недавняя победа под Сталинградом окрылила нас уже не верой, не надеждой, а уверенностью в окончательной победе. Я рассказывал, как плакал рослый детина-боцман, вспоминая день, когда смертельно ранили их командира, и упомянул, что Куников, редактор одной из московских газет, в 1937 году претерпел гонения.
И всплыла тема, которую мы всеми силами старались заглушить в себе, стряхнуть, забыть, — и не могли.
— Ты хорошо знал Олейникова? — спросил Шварц.
Детский писатель Олейников был очень близким другом Евгения Львовича. Я был с ним только знаком.
— Известно тебе, что он сидел в деникинской тюрьме? Что его там истязали? Что он никого не выдал и чудом спасся?
Я это знал.
— Ты можешь поверить, что он был врагом народа?
— Нет, не могу.
— Как же это могло случиться?
Вопрос был задан так, как будто я мог на него ответить… А Николай Заболоцкий? А Юлий Берзин? Кары, обрушившиеся на людей ни в чем не повинных, бесконечно терзали Евгения Львовича. И в анамнезе его сердечной болезни они тоже должны быть отмечены.
Последний раз мы виделись на праздновании его 60-летнего юбилея в Доме писателя имени Маяковского и потом на банкете. Это был удивительно праздничный вечер, без тени казенной «юбилейщины». Анна Андреевна Ахматова сказала, что никогда не наблюдала такого сердечного согласия, такой всеобщей доброй человеколюбивой настроенности, как на этом вечере.
Перед этим Шварц перенес тяжелый приступ болезни, долго лежал в постели. Лечивший его профессор Александр Григорьевич Дембо колебался, разрешить ли юбилейное чествование. И сделал доброе дело, позволив.
Евгений Львович сидел благостный, ощущая в полной мере волны любви к нему, шедшие из зала. В эти часы он был счастлив. И мы были счастливы.
Не прошло и года (4), как нам пришлось хоронить Евгения Шварца. Это был черный, страшный день. Но он не может вычеркнуть из наших душ драгоценного и светлого ощущения, что много лет мы жили рядом, часто встречались, подолгу говорили, охотно и много смеялись.
Вера Кетлинская Испытание Души
Я хочу говорить только о Евгении Львовиче Шварце, но для этого придется начать с самой себя — так уж устроена человеческая память: ярче всего отпечатывается то, что сыграло роль в твоей собственной жизни.
1929 год. В журнале «Юный пролетарий» недавно напечатана моя первая, комсомольская повесть «Натка Мичурина», в издательстве «Прибой» она должна вот-вот выйти отдельной книгой. По этому случаю губком комсомола счел меня вполне созревшей для редакционной работы и перебросил из Выборгского райкома комсомола, где я была председателем районного бюро пионеров, в редакцию журнала «Еж», поставив передо мной нелегкую задачу приблизить этот журнал к современности, к пионерской жизни. Теперь в Доме книги помещаются около десятка издательств, в те годы все здание занимало громадное единое издательство — ОГИЗ со множеством отделов, в том числе Отделом детской литературы. При этом отделе находилась и редакция «Ежа», там же впоследствии был создан журнал для самых маленьких «Чиж». Главным редактором отдела, неутомимым вдохновителем и инициатором всех начинаний был Самуил Яковлевич Маршак. Там же работал Евгений Львович Шварц. Махину Дома книги — Невский, 28, Евгений Львович называл:
Дом двадцать восемь, Милости просим!С тринадцати лет крутясь на комсомольской работе, я была литературно совершенно не искушенным человеком. Правда, читала много, но бессистемно. Свою первую повесть написала с наивным намерением писать «не как писатель, а как комсомолец, все как есть на самом деле», — а, в общем, написала плохо, потому что не имела никакого представления о сути писательского труда.
И вот я попала в центр литературного созидания, новых замыслов и воплощений, обсуждений и споров, когда взыскательно взвешивалось, переделывалось, отрабатывалось не только каждое маленькое произведение, но и отдельная строка, отдельное слово. При мне десятки книг задумывались, писались, читались и обсуждались по главам, даже по страничкам, временами все считали — «ничего не выходит!» — снова работали… И наконец, как чудо — готовая и к тому же хорошая книжка!.. Мне надо было учиться, учиться, учиться, что я и делала, каждый день впитывая множество новых мыслей и понятий. А меня месяца через три назначили руководителем Детского отдела ОГИЗа, то есть по существу — издательства детской литературы, выпускавшего сотни книг для всех возрастов. Люди там работали талантливые, увлеченные, но все делалось «по наитию», в издательских делах беспорядок был невообразимый. Встретили меня, естественно, с большой настороженностью — не наделаю ли я ошибок, не начну ли командовать и мешать. Я старалась не мешать, а помогать, но и порядок наводить приходилось. Кто-то из писателей окрестил меня «железным канцлером» и «маленьким Бисмарком», о чем мне сообщил Евгений Шварц, дав мне несколько добрых советов, как держаться, чего избегать и чем заняться в первую очередь. Всего, что он говорил, не помню, но один умный и лукавый совет запомнился:
— Когда вам нужно чего-нибудь добиться, постарайтесь всех увлечь и подсказать так, чтобы всем казалось, что они это сами придумали.
Мне, девчонке двадцати двух лет, Шварц казался уже немолодым человеком, хотя ему тогда было немногим больше тридцати. В среде, где шутки, смех и остроумные розыгрыши сочетались с самой серьезной работой, Евгений Львович был самым остроумным и к тому же самым доброжелательным человеком. С первого дня, когда я вошла в редакцию непрошеным и для всех незнакомым чужаком, я потянулась к его доброте, под его шутливую опеку. Не подпасть под обаяние его личности было невозможно, а для меня на первых порах он был еще и умным поводырем. Помогал он мне в своей обычной манере — шуточкой, намеком, остроумным замечанием, брошенным как бы случайно.
Когда вышла моя первая книжка, я подарила ее своим новым товарищам по работе, уже смутно понимая, что этим литературно взыскательным людям она не понравится. И действительно, большинство товарищей промолчало, только Маршак и Шварц высказались. Маршак сказал озадачившие меня слова:
— Вы вагон моторный, а не прицепной, от главы к главе набираете ходу.
Шварц сказал мне откровенно:
— Книжка написана слабо. Вот смотрите, сколько у вас случайных и банальных слов, вроде «голубых глаз под стрелками ресниц», — он показал мне ряд мест. — А писателем вы все же будете. У вас есть чувство композиции.
Я замерла с приоткрытым ртом.
— Два раза перечитал — с придиркой. У вас нет ничего лишнего, — пояснил Евгений Львович, — ни одного ненужного описания, ни одной никчемной сцены. Это у начинающих редко встречается.
Придя домой, я почти до утра перечитывала свою повесть, выискивая всякие «глаза под стрелками» и подчеркивая все, что и мне уже казалось плохим.
Должно быть, и в журналах, и отдельными книжками Евгений Шварц публиковал тогда немного, но его выдумки, прекрасный вкус и творческое соучастие были почти в каждом номере обоих журналов и в очень многих книгах, особенно для младшего возраста.
Мы издавали серию книжек-картинок для малышей, подписи к картинкам чаще всех писал Евгений Шварц. По своей беспечности, он обычно был в состоянии полного безденежья. Подписи под картинками оплачивались или аккордно, без последующей оплаты за переиздание и сравнительно небольшой суммой, или же по договору в три срока с последующей оплатой переизданий — в этом случае гонорар был гораздо больше. Каждый раз я пыталась склонить Евгения Львовича к подписанию договора, но он шутливо отмахивался: «Зачем мне журавль в небе, деньги на бочку!»
Ругая его, я выписывала аккордную оплату, и он, насвистывая, бежал в кассу. А подписи делал всегда с полным напряжением творческих сил, остроумно и талантливо.
Талантлив он был во всем, в любой мелочи, даже когда ему нужно было «стрельнуть» папиросу. Они всегда водились у сурового корректора со странной фамилией Фените; Шварц подходил к нему с застенчивым видом и говорил таинственным голосом:
Товарищ Фените, Пожалуйста, извините За нескромный вопрос: Нет ли у вас папирос?Фените сердился, но папиросу давал.
Талантливых людей я в те годы повстречала очень много, Маршак неутомимо собирал их вокруг себя и буквально заставлял их писать для детей. Там я узнала и поэта Заболоцкого, с которым и тогда, и всю последующую жизнь очень дружил Евгений Львович. Заболоцкий в те годы был близок с группой поэтов, называвших себя обериутами. Я с недоумением слушала программные высказывания этих молодых, явно оригинальничающих поэтов, у одного из которых в комнате висел большой лозунг: «Мы не сапоги». Ярко талантливая книга стихов Заболоцкого «Столбцы», конечно, носила в себе следы формалистических влияний, но была гораздо значительнее того, что писали обериуты. Да и склонности к оригинальничанью у Заболоцкого не было, и отношение к поэзии у него было гораздо серьезнее и глубже, в чем мне довелось убедиться… В то время около Дома книги, на углу Невского и канала Грибоедова, открылась так называемая «культурная пивная» — там было чисто, тихо, пьяные не допускались, кормили вкусно и довольно дешево. Мы часто там обедали… Однажды Шварц увлек туда после работы Заболоцкого и меня. Закусив, он сразу куда-то заторопился (в те дни он постоянно куда-то торопился с возбужденным и виноватым видом), а нам сказал: «Счастливо беседовать». Беседа оказалась действительно счастливой. Мы часа два сидели за столиком в полупустом зале, и Заболоцкий говорил о сокровенной сути литературного творчества, о том, что этот труд требует человека целиком, без остатка, и все побочное должно отбрасываться, в частности — жажда успеха и денег, что легкой жизни у писателя быть не может. Этот разговор был одним из поворотных в моей судьбе. На следующий день Евгений Львович спросил меня:
— Ну как?
И засиял, когда я ему не очень внятно, но восторженно высказала свое впечатление от разговора. Он очень любил Заболоцкого и со свойственной ему щедростью души хотел, чтобы Заболоцкого поняли и оценили окружающие. Как ни странно это теперь звучит, моим секретарем работал… Ираклий Андроников, только что кончивший Ленинградский университет. Его яркая одаренность сказывалась уже и тогда — он блестяще имитировал речь и повадки наших авторов, разыгрывал перед нами целые сцены, а после работы устраивал своеобразные концерты: предлагал нам прослушать какую-либо симфонию и тут же выпевал ее, помогая голосу ударами стеклянной вставочки по чернильницам, пресс-папье, стеклу стола, а крышкой чернильницы изображая ударные инструменты. Делалось это так музыкально, что мы, честное слово, слышали симфонию! Когда в редакцию приходили наиболее почтенные авторы — Николай Тихонов, Алексей Толстой, Ольга Форш, Юрий Тынянов, — Ираклий неслышно входил в мой «кабинет», отгороженный двумя шкафами в углу общей редакционной комнаты; согнув спину дугой, он подавал мне договор или какую-либо бумагу:
— Милостивая государыня, подпишите-с.
В иных случаях он изображал заносчивого гордеца и заявлял, что он грузинский князь и не может подшивать бумаги.
В пору осенних дождей наш маленький коллектив заметил, что у меня нет никаких галош (а с резиновой обувью тогда было плохо). Ираклий предложил поехать со мною в воскресенье на толкучку покупать резиновые боты. Я впервые была на толкучке, Ираклий тоже. Нас оглушили выкрики продавцов, ошеломили толкотня, пестрый набор самых неожиданных предметов, продававшихся на лотках и прямо с рук, удивительные типы каких-то бывших людей, которых мы определили термином «осколки разбитого вдребезги». Бдительно охраняя меня от снующих воришек, Ираклий одновременно тормошил меня: «Нет, вы посмотрите сюда!», «Глядите, это определенно бывшая бандерша!» и т. п. Затем нас прельстили уличные певцы, окруженные толпами зевак. Мы слушали их песни и частушки, в которых так своеобразно преломлялись особенности времени, скупали тексты, напечатанные тусклым шрифтом на узких полосках папиросной бумаги… Про резиновые боты мы забыли оба.
Беда разразилась неожиданно. В тот год шла чистка советского аппарата, комиссия заседала во втором этаже Дома книги, куда по очереди вызывали сотрудников. Работники нашей редакции проходили чистку благополучно, и у меня не было никаких оснований волноваться. Я училась тогда на курсах философии, созданных для редакторов ОГИЗа, и в дни занятий покидала редакцию на час раньше. Однажды, спеша на курсы, я предупредила товарищей, что с утра буду на «большом редсовете» — был такой громоздкий совет при директоре ОГИЗа. Отзанимавшись, вернулась домой часов в десять вечера. Жила я тогда на Троицкой, недалеко от Невского, в старом флигеле, куда надо было добираться через два проходных двора. Флигель глядел окнами на церквушку и в свое время был поповским подворьем. Комнаты, каждая с маленькой кухонькой и чуланом, выходили в длиннющий сумрачный коридор. В некоторых комнатах еще жили бывшие попы и попадьи, переквалифицировавшиеся в ночных сторожей и торговцев. В коридоре на полу часто ночевал обросший неряшливой бородой, крайне опустившийся и всегда подвыпивший бывший монах, к тому же нечистый на руку. Его гнали дворники, гнала милиция, он на некоторое время исчезал, а потом снова оказывался в коридоре. И тут надо было уже держать ухо востро и запираться.
Войдя в наш полутемный коридор, я с удивлением увидела Евгения Шварца. Он стоял недалеко от моей двери и рассматривал спящего монаха.
— Женечка, вы?!
Он бросился ко мне навстречу, я сразу увидела, что он взволнован. Вошли в комнату. Шварц никак не мог расстегнуть пальто, его пальцы тряслись больше обычного.
— Ираклия вычистили!..
Оказалось, шутки Андроникова по поводу его якобы княжеского происхождения дошли до комиссии, но уже отнюдь не как шутки… А в анкете происхождение Ираклия выглядело совсем иным, куда более скромным. Назавтра должно было быть подписано решение об увольнении Ираклия, и Шварц прибежал сообщить мне об этом, чтобы я вмешалась, пока протокол не оформлен. Когда я с утра пришла в комиссию, я поняла, какая нелегкая задача мне предстоит. По общительности и веселости своего характера Андроников бывал во всех многочисленных редакциях Дома книги и почти везде наболтал, что он грузинский князь. Я и убеждала, и сердилась, и смеялась:
— Поймите, что он трепач, веселый трепач!
— Кто же будет трепаться по поводу своего социального происхождения? — удивился председатель.
К счастью, в комиссию входил секретарь нашей огизовской парторганизации, техред Макушевич — человек очень славный и понятливый. Он поддержал меня — Андроников «действительно большой трепач», ради красного словца мог приписать себе и социально чуждое происхождение. Ираклия мы отстояли, и по этому поводу после работы он закатил гала-концерт, причем сияющий от радости Женя Шварц на этот раз помогал ему, чем был удвоен состав ударных инструментов.
Впоследствии Евгений Львович сам про себя как-то сказал: «У меня душа легкая…» В какой-то мере эти слова верны, потому что его отличали жизнерадостность, веселость, вера в людей и в добро. И казался он человеком, живущим легко и даже бездумно. Но под этой легкостью была большая глубина. И жил он совсем не легко. Только поздней я поняла, сколько мучительного он пережил в те годы, когда мы работали вместе, и он казался беспечным.
Я упомянула, что он часто куда-то торопился. Однажды летом мы с ним поехали под Лугу в пионерские лагеря. Шварц с огромным успехом выступал перед ребятами, потом запросто болтал с окружившими его мальчишками, это у него получалось так естественно, на равных, как будто он сам мальчишка. А затем начал меня торопить: скорее, скорее, опоздаем на поезд! На станции купил несколько букетов полевых цветов и с этой охапкой сидел в вагоне, поглядывая на часы. В Ленинграде, соскочив с поезда, он бегом увлек меня к трамваю. Жили мы почти рядом. Когда трамвай подходил к Невскому, я напомнила: нам выходить. Он привстал, потом сел, потом, поколебавшись, сказал с тем самым выражением виноватости:
— Нет, я поеду дальше, мне на Пески (Песками по старинке назывался район нынешних Советских улиц).
Больше он ничего не сказал, но всем своим видом молчаливо признался, что влюблен и тревожно счастлив, но просит об этом молчать…
Да, он был тогда очень влюблен в Катю, Екатерину Ивановну, которая стала его женой и спутницей всей его жизни. Но для того, чтобы соединиться, обоим пришлось сломать то, что у них сложилось до встречи. Евгению Львовичу это было особенно трудно и тяжело, так как он оставил жену и только что родившуюся, нежно любимую дочку. Человек глубоко порядочный, честный, добрый, он мучительно страдал из-за того, что должен поступить так, и не мог поступить иначе, потому что любое другое решение привело бы к фальши, а никакой фальши он не выносил. И любовь его была такая, какая приходит раз в жизни…
В Детском отделе ОГИЗа я проработала года три, а затем перешла на работу разъездного корреспондента «Комсомольской правды», что давало мне возможность поездить, расширить круг жизненных наблюдений. К тому времени я уже ясно определила свой путь и хорошо понимала, как много мне нужно учиться и работать. День за днем подготавливала меня к будущей профессии сама атмосфера нашей редакции, блестки замечаний, предложений, оценок, которые ежедневно рассыпал Маршак, все, что вскользь, обычно в шутливой форме, говорил Евгений Шварц. Учеба шла на ходу — что и почему одобряется, что и почему вышучивается и отвергается… Им всем, моим старшим друзьям того периода, я очень многим обязана — это была чудесная школа литературной взыскательности и безупречного вкуса. С одним из этих друзей — Евгением Львовичем Шварцем — дружба протянулась через многие годы, хотя некоторое время она была дружбой на расстоянии. Война поставила нас рядом в грозный час решающей проверки.
Начало войны застало меня на даче под Сиверской, куда я за несколько дней до того перевезла десятимесячного сынишку. На следующий день мы с большим трудом, кое-как, втиснувшись в переполненный поезд, вернулись в город, и я побежала в Союз писателей узнать, что надо делать. Моя судьба была уже определена: наш недавно избранный ответственный секретарь Борис Лихарев и большинство писателей мужчин уходили в армию, было решено оставить секретарем меня — незадолго перед тем я была выбрана «от молодежи» в новое правление. Бориса Лихарева уже не было, оргсекретарь С. Ф. Величкин тоже уходил в армию и торопливо сдал мне дела. Возле двери партбюро стояла очередь — записывались в народное ополчение. В этой очереди я сразу приметила Евгения Львовича.
Я зашла в партбюро и села в уголку. Необычно и часто неожиданно проявлялись люди в этот тревожный час. Разговорчивые становились сурово немногословными, неисправимо штатские, явно кабинетного типа, обнаруживали воинскую подтянутость. Немолодые люди с больным сердцем — такие, как литературовед Айзеншток — ожесточенно доказывали, что они совершенно здоровы, здоровяки вдруг обнаруживали у себя всяческие болезни, — один краснощекий дядечка потрясал справкой, что у него геморрой, и даже предлагал «членам правления — мужчинам» лично в этом убедиться, если они не верят справке частного врача. Всякое бывало! Евгений Шварц вошел, сцепив руки за спиной, и сказал коротко:
— Записывайте. Шварц Евгений Львович.
Записывать его не хотели — все знали, что он далеко не здоров, что он плохо владеет пальцами. Его стали убеждать, что он не сможет держать винтовку, не сможет стрелять.
— В армии не только стреляют из винтовки. Я могу пригодиться. Я не могу иначе. Вы не имеете права отказать мне.
Ему не посмели отказать. Когда он расписывался, он каким-то сверхусилием воли заставил свои пальцы не дрожать и, поставив подпись, с торжеством огляделся, сказал «спасибо» и быстро вышел. В народное ополчение его все-таки забраковали на медосмотре. Тогда он пришел ко мне:
— Ну, Вера Казимировна, давайте всю работу, какую можно.
Он выступал на призывных пунктах, написал вместе с Михаилом Михайловичем Зощенко пьесу (1), много писал для Радио. Кроме того, он продолжал работать с Театром комедии, где издавна его очень любили. И ежедневно бывал в Союзе, охотно помогая всем, чем только мог, а помощь была очень нужна, потому что в такое суровое время, не имея никакого опыта руководящей работы в писательской организации, я оказалась в положении единоличного руководителя. Трудно было не ошибиться, я, конечно, и делала немало ошибок. Довоенные руководители Союза — Тихонов, Прокофьев, Лихарев, Саянов — были в писательской группе при штабе фронта, в Смольном, и выбраться в Союз попросту не успевали. В нашем маленьком секретариате военного времени остались И. А. Груздев, Иван Крат, М. М. Зощенко, Е. Л. Шварц, а затем Леонид Рахманов, который был военкором ТАСС и, по мере приближения фронта к Ленинграду, вместе со своими двумя товарищами по службе — В. Н. Орловым и Е. С. Рыссом — все чаще подолгу бывал в городе.
Вскоре необходимость гражданского решения встала перед Евгением Львовичем, Театр комедии должен был эвакуироваться на Восток, Шварц имел полное право уехать с ним. И он, и его жена Екатерина Ивановна дежурили в группе самозащиты нашего дома на канале Грибоедова, 9, были у Евгения Львовича задания на радио, но никто не поставил бы ему в упрек отъезд с театром, с которым он работал. А немцы были уже на ближних подступах к городу. Уже были захвачены Луга, Сиверская, Пушкин. Линия обороны проходила по окраине Колпина, железная дорога на Москву была перерезана, фашистские армии с двух сторон пробивались к станции Мга, чтобы перерезать последнюю железную дорогу из Ленинграда в страну…
Евгений Львович, конечно, колебался — кому из нас в глубине души не хотелось оказаться вдали от непосредственной смертельной угрозы! А он был не один, с ним оставалась Катя, самый дорогой для него человек. Он советовался с друзьями, со мной, решал то так, то этак… И вот однажды утром вошел ко мне со своей лучезарной, слегка иронической улыбкой:
— Знаете, Вера Казимировна, оказывается, удивительно приятно чувствовать себя порядочным человеком. Вчера мы с Катей окончательно решили остаться, и вот я второй день, хожу с этим приятным ощущением.
Читатели, не пережившие войны, могут не понять этих слов: что же, все, кто работали в тылу, — не порядочные? Нет, конечно, этого Шварц не думал. Просто в той обстановке каждый для себя решал нравственный вопрос: поддаться страху или преодолеть его, рискуя жизнью. В те же дни один из писателей настойчиво добивался разрешения уехать в тыл. Он при нас позвонил по смольнинской вертушке одному из секретарей обкома и настойчиво просил срочно принять его.
— Да, из Союза, — ответил он на какой-то вопрос собеседника и покосился на меня. — Да, она здесь, рядом, но это разговор не писательский, а военный.
Когда он умчался, Шварц сказал:
— И правда, вопрос военный — как уйти от войны.
Через два дня того писателя уже не было, но, по иронии судьбы, в одной из газет появилась его пафосная статья, в которой он призывал «грудью отстоять Ленинград».
— Блестящий пример наглядной агитации, — сказал Евгений Львович, показывая мне газету.
Еще через несколько дней Мга пала, вражеское кольцо замкнулось. Мы — в блокаде! С этого часа вся наша жизнь была полностью подчинена задаче обороны города и все мы чувствовали себя солдатами его гражданского гарнизона. Тяжелым грузом для нас оказались люди, которые не только хотели, но и должны были эвакуироваться. В июле — начале августа многие престарелые, больные, обремененные семьями литераторы еще колебались, оттягивали отъезд, надеялись, что немцев вот-вот отгонят. В результате один из эшелонов, в котором после больших уговоров нам удалось отправить Ольгу Дмитриевну Форш, успел проскочить через станцию Мга, а второй эшелон, списки на который были давно подготовлены и утверждены, отправить уже не удалось… Те же литераторы, которые поначалу всячески оттягивали свой отъезд, теперь, когда мы оказались в кольце, осаждали Союз, требуя эвакуации любым способом. Были случаи паники, трусости, но в большинстве это были люди, понимавшие, что они ничем не могут пригодиться в предстоящих боях, а будут только в тягость… Мы готовы были любым способом посодействовать им. Но как? Оставался один-единственный путь: по воздуху через линию фронта. А самолетов было так мало.
После длительных настояний, с помощью Н. Тихонова и Б. Лихарева нам удалось получить разрешение на шесть посадочных мест в самолетах — шесть мест в месяц! Персональные списки на эти шесть мест утверждались Военным советом Ленфронта, и, естественно, от нас требовали, чтобы в первую очередь были отправлены наиболее известные писатели, по возрасту и состоянию здоровья не способные держать оружие. Я не раз возила в Смольный список оставшихся в городе писателей, и получалось так, что тех, кто больше всего хотел уехать, откладывали, а те, кого наметили на первоочередную эвакуацию, — уезжать не хотели.
Так было с Анной Андреевной Ахматовой. Она писала стихотворные лозунги, печатавшиеся в «Ленинградской правде», выступала по радио, шила мешки для песка, — посуровевшая от горя, особенно красивая в своей горделивой непреклонности и решимости, она ни за что не хотела покидать родной город, и мне стоило многих усилий, ссылаясь на прямой приказ Военного совета, отправить ее глубокой осенью 1941 года.
Так было и с Михаилом Зощенко. Такой же тихий и сдержанный, как всегда, деликатно вежливый даже с шумными размашистыми активистками из группы самозащиты, он еженощно дежурил на крыше нашего дома, на смотровой вышке. На эту часть крыши выходило узенькое окно, находившееся под потолком моей кухни, и я часто, поставив лестницу, разговаривала через него с Михаилом Михайловичем, который садился на покатую крышу и наклонял голову, чтобы увидеть меня. В холодные ночи я через это же окно давала ему стакан горячего чая или отвара из сушеного сельдерея, которым мы начали заменять бульон. Михаил Михайлович не хотел, вернее, стыдился уезжать:
— Мне кажется, потом мне всю жизнь будет совестно.
С помощью Евгения Львовича, который был дружески близок с ним, нам все же удалось эвакуировать Зощенко — уже в крайне тяжелом физическом состоянии.
Так было и с Михаилом Леонидовичем Лозинским, замечательным поэтом-переводчиком и обаятельнейшим человеком, который продолжал в невыносимых условиях блокады, под бомбами и обстрелами, в голоде и холоде систематически работать над переводом Дантова «Ада». В самые голодные дни он неизменно приходил в Союз пешком с Петроградской стороны — километров шесть ходу — вдвоем со своей женой, своим добрым, выносливым другом. Опухшие от голода, но всегда сдержанные, всегда подтянутые, они обедали в нашей столовой, где усиленное питание состояло из небольшой тарелки жидкой пшенной похлебки или чечевицы, — свою порцию Лозинский делил на двоих. Иногда они заходили погреться у буржуйки в бывшую кладовую под лестницей, где во время сильных бомбежек мы оборудовали нечто вроде запасного кабинета. Уезжать Лозинские отказывались категорически:
— Сын у нас под Ленинградом, артиллерист, да и не по характеру это нам — бегать…
Пришлось подсылать к Михаилу Леонидовичу многих друзей, в том числе и Евгения Львовича, пришлось даже вручить ему состряпанное мною «предписание Военного совета», чтобы эвакуировать их — уже в страшные зимние дни.
Шварц тоже был в списке на первоочередную эвакуацию и тоже решительно отказывался:
— Я еще продержусь.
Весь период ожесточенных круглосуточных бомбежек они с Катей простояли на посту на крыше нашего дома: Евгений Львович — пожарным, Катя — санитаркой. Они спускались вниз после отбоя и поднимались на крышу при первом сигнале тревоги всегда вдвоем.
— Если бомба — так вместе.
Когда Евгений Львович входил в бомбоубежище — в широкий подвальный коридор нашего дома, всегда до отказа переполненный, — буквально все люди тянулись к нему, с жадностью ловили его улыбки, его шуточки. Как бы ни было тяжело, он всегда находил для всех и улыбку, и шутку, и какое-либо утешительное сообщение. Одной из его шуточек, в ответ на слова о том, что немцы близко, было:
— Ну какое там близко! Им еще Фонтанку форсировать.
Утешительные сообщения, где-то им подхваченные или выдуманные, далеко не всегда подтверждались, но свое дело делали. В один совсем плохой день, когда немцы прорвались к Кировскому заводу, когда нас бомбили с особым ожесточением и придумать что-либо бодрящее было трудно, Евгений Львович пришел в бомбоубежище и сообщил, сияя улыбкой:
— Я сейчас разложил пасьянс — отобьемся или нет? Представьте — вышел прямо-таки блестяще с первого расклада!
И вокруг с облегчением заулыбались, хотя вряд ли кто-нибудь верил в чудодейственную силу пасьянса.
Кажется, в ту же ночь Шварц сказал, отозвав меня в сторону:
— Можете не сомневаться, я буду до конца, пока нужен, и уличных боев не испугаюсь, Но я вас прошу об одном — если настанет пора уходить, скажите. Мы с Катей хоть пешком уйдем, только бы не попасть им в лапы.
Начался голод, Шварц страшно похудел и почернел, лицо стало одутловатым, походка неверной, но он и тут пошучивал:
— Вы подумайте, как просто похудеть! А в мирное время чего я не предпринимал!
Только один раз он сказал мне очень серьезно и печально:
— Кажется, идет к концу, Вера? Сколько мы еще продержимся?..
Мы с ним часто ходили выступать в госпитали. Однажды в большом госпитале на Выборгской стороне нас роскошно угостили — перед каждым поставили полную миску рассыпчатой пшенной каши. Правда, без масла. Мы ели и удивлялись: какой дурак выдумал, что к такой каше нужно еще и масло! Конечно, часть каши мы отложили в баночки — я для сынишки, Евгений Львович для Кати. И все равно мы были блаженно сыты, и Шварц уверял, что наелся по крайней мере на два дня. А рано утром позвонил мне:
— Катастрофа! Выяснилось, что от еды желудок расширяется и на следующий день хочется есть еще сильней.
Мы с ним часто перезванивались и переговаривались. Весь день я была в Союзе, а мой сынишка с няней — дома, вернее, в бомбоубежище, откуда его выводили во двор подышать воздухом между бомбежками или обстрелами. Конечно, я очень волновалась, когда знала, что бомбы или снаряды падали в нашем «квадрате». Как бы ни было тревожно, Евгений Львович и Катя неизменно навещали моего сынишку, а потом Евгений Львович звонил мне в Союз:
— Только что встретил вашего Сережку. Он схватил меня за палец и сказал: дя-дя!
Так же неизменно он следил за семьей Заболоцких. С тех пор, как Николай Алексеевич был незаслуженно репрессирован, Шварц повседневно поддерживал его жену и двух детей — поддерживал и материально, и морально. Излишне говорить, что все ребята обожали его.
В октябре у нас в Союзе возник замысел книги «Один день». Выдвинули эту идею Л. Рахманов, Е. Рысс и В. Орлов, но ухватились за нее многие, и план будущей книги разрабатывали с азартом. Предполагалось, что писатели на сутки разойдутся по самым различным районам и объектам города — на посты ПВО, к пожарным, на хлебозаводы, на предприятия, в ближние фронтовые части, к зенитчикам, в бывшие ателье мод, где теперь шьют ватники, в библиотеки, в детские дома, к оставшимся в городе ученым, композиторам и художникам, в госпитали, в штаб фронта… В общем, коллективный репортаж должен был охватить все многообразие жизни фронтового города. Я и сейчас уверена, что книга получилась бы удивительная. Ежедневно ко мне приходили опухшие от голода литераторы, которые, казалось, давно уже не думали ни о чем, кроме тепла и хлеба.
— Когда будет делаться «Один день»? Запишите меня, я обязательно пойду на любой объект, куда пошлете.
Иные просили показать темы, долго выбирали, что для них интересней, с чем они лучше справятся. Весь наш план был обеспечен авторами, на некоторые темы авторов было несколько…
Евгений Львович активно участвовал в разработке плана, увлекался многими возможностями, а потом выбрал домовую группу самозащиты. Это было очень близко ему, здесь выпукло выступали различные человеческие характеры, причем самых так называемых рядовых людей. Думаю, что из подготовительных раздумий, соединенных с его собственным блокадным опытом, и возникла впоследствии написанная им пьеса «Одна ночь».
А с книгой так ничего и не вышло. И не по нашей вине. Дело в том, что такую книгу нельзя было сделать без специального разрешения — ведь надо разослать людей на самые различные, в том числе и непосредственно военные, объекты, включая штаб фронта, Смольный, зенитные батареи, корабли, в цехи, работающие на оборону… Когда враг стоит у ворот, соблюдение военной тайны особенно важно, и мы легко мирились с тем, что книга не будет опубликована до конца войны, да и смешно было думать о публикации в городе, где даже газета выходит с перебоями, где, случалось, печатную машину крутили вручную. Но книгу сделать надо было — впрок, для истории, и еще — для самих писателей. Однажды, когда я при Евгении Львовиче говорила по телефону с кем-то из начальства, настаивая на быстрейшем утверждении книги, Шварц подсказал мне:
— Да скажите же ему, что писатели умрут без этой работы, что они не могут без нее!
Это не было преувеличением: живя в голоде, холоде, темноте, люди держались только страстью сопротивления, только сознанием, что они нужны. Первыми умирали те, у кого не было этой страсти, не было реального дела. В сложившихся условиях многим писателям было нечего делать, и это было страшнее бомбежек… Я и тогда думала, и сейчас убеждена в том, что в затяжке с «Одним днем» было много излишней перестраховки и ничем не оправданного недоверия. Когда разрешение наконец дали, было уже поздно — шла вторая половина декабря… Уже не было ни бомбежек, ни обстрелов, немцы ждали, когда город вымрет и вымерзнет… Той многообразной картины активного сопротивления, которая получилась бы месяц-полтора назад, в период бомбежек и обстрелов, в период немецкого штурма, теперь уже не получилось бы. Да и у писателей уже не стало сил…
Все эти осенние и зимние месяцы 1941 года, видя, как угасает его жизнь, я не раз возобновляла с Евгением Львовичем разговор об эвакуации. И каждый раз он отказывался, а в дни, когда мы все были увлечены замыслом «Одного дня», даже рассердился:
— Да вы что? Теперь, когда такое дело начали!
То, что это дело сорвалось, тягостно отразилось на его настроении, да и все мы были удручены. Евгений Львович уже с трудом добирался до Союза, знакомый путь стал невыносимо долгим — расстояние, которое мы до войны проходили за двадцать — тридцать минут, теперь требовало полутора-двух часов.
— Я бы добежал, да ноги не хотят, — пошучивал Шварц…
Настал день, когда я увидела его таким опухшим и слабым, что никакие шуточки не помогали ему скрыть правду. Я спросила напрямик:
— Женечка, ведь пора?
— Кажется, пора. — Он силился улыбнуться, но это у него не получилось. — По-видимому, мне полагается произнести сейчас ритуальное: «А вы? Уезжайте и вы…» Надо это делать?
— Не надо. Я еще продержусь.
В этом не было ни рисовки, ни какой-либо доблести. Я действительно не могла уехать, потому что мой отъезд показался бы бегством или свидетельством безнадежности положения тем людям, которых я столько времени убеждала держаться. И мне действительно было легче, чем многим, потому что я была занята с утра до вечера и чувствовала весь груз ответственности, а это в то время сильно помогало. Некоторым обывателям представлялось, что у меня есть какие-то привилегии, может быть, тайное дополнительное питание или, как говорил один не очень умный товарищ, «забронированное место на самолете». Шварц прекрасно знал, что ничего подобного нет, но понимал, почему я не могу уехать, и поэтому не произнес «ритуальных слов», которые мне приходилось слышать от уезжающих. Только попросил не забывать Заболоцких и отправить их при первой возможности. Я выполнила его просьбу, как только началась эвакуация через Ладогу по «Дороге жизни». Рада я была, что удалось спасти Евгения Львовича — останься он еще, долго бы не протянул. Но после его отъезда все чего-то не хватало…
В 1945-м, когда он вернулся, мы обнялись как родные. Да так оно и было — «крещенные блокадой». А встречались не часто — от случая к случаю. Однажды он пришел ко мне на какое-то дружеское сборище, в середине ужина стал шарить по книжным полкам и отбирать книги, которые ему приглянулись. Сразу снял три тома русских сказок, подаренные мне М. К. Азадовским.
— Ку-да?? — закричала я.
— Как вам не стыдно жадничать? — откликнулся Евгений Львович. — Мне же они гораздо нужнее!
Года через два, когда я зашла к нему в Комарове на дачу, он мне сообщил, что на днях был его день рождения, и снял с полки первый том сказок:
— Надписывайте дарственную.
Я с удовольствием надписала.
В блокадную зиму он как-то сказал мне: у нас с вами есть одно преимущество — видеть людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть. В этом нам можно позавидовать. Зоркость понимания осталась у него навсегда, он как бы сам прикидывал и «выворачивал наизнанку» скрытую суть. Так, он сказал про одного приятеля:
— Он очень славный человек… когда у него полоса невезения. Когда он в полосе успеха, лучше повременить со встречами.
В 1949–1950 годах мне было очень плохо, Евгений Львович часто заходил ко мне и однажды своеобразно утешил, нарисовав в воздухе зигзагообразную линию:
— Сколько я вас знаю, девчонок, у вас вся жизнь идет так, зигзагами: то вверх-вверх, то у-ух вниз! Теперь у вас у-ух? Значит, ждите поворота к доброму.
Евгений Львович был добродушен и не любил встревать во всякие споры и дискуссии. Но своего мнения никогда не скрывал и умел быть принципиальным. Когда вскоре после выхода романа «Не хлебом единым…» у нас в Союзе неожиданно, даже не предупредив ни устроителей, ни приехавшего по нашему приглашению Дудинцева, отменили обсуждение, Шварц одним из первых подписал телеграмму протеста.
— Мне роман не очень-то нравится, — сказал он мне, — но спор должен идти открытый, без администрирования.
Повстречав Шварца на улице, один из виновников запрета (как и все, любивший Евгения Львовича) пожурил его:
— Вы-то, вы-то как подписали телеграмму?
Евгений Львович изобразил смущение, спросил:
— Признаться, что ли? — И, наклонившись к обрадовано насторожившемуся собеседнику, шепнул ему в самое ухо: — Под пытками.
В последние годы жизни он безвыездно жил в Комарове. Раза два приезжал ко мне на дачу, почему-то на маленьком дамском велосипеде. Оберегая больное сердце, вращал педали еле-еле, так что велосипед катился, вихляя, совсем медленно, а Шварц громоздился над рулем, большой, улыбающийся, с готовой шуткой на губах. Посидит, поболтает и уедет, — ничего особенного, а долго еще ходишь с улыбкой. Потом он уже не мог ни приезжать, ни приходить, я иногда навещала его, но Екатерина Ивановна не привечала гостей — уж очень много их было, допусти — в доме с утра до ночи толклись бы люди, а Евгению Львовичу было уже очень плохо. Гораздо хуже, чем казалось… Вот уже много лет его нет с нами, жизнь есть жизнь — идет дальше, а по-прежнему остро чувствуешь — чего-то в ней не хватает; очень хорошего, нужного, светлого не стало.
Владислав Глинка О Шварце. Из книги «Хранитель»
С начала 1930-х гг. я начал сочинять прозу (до того, как большинство юношей, я «кропал» только подражательные стихи). Затеял даже большой исторический роман, в котором герой — сын барина-помещика и крепостной — оказывался в промежуточном положении между средой отца и матери, делался ремесленником-часовщиком и погибал в восстании старорусских военных поселян в 1831 году. Написал подробный конспект романа и, кажется, пять глав. Писал целый отпуск на чердаке родительского дома в Старой Руссе и в рабочие месяцы по ночам, пока не понял через год, что такого труда мне не поднять при двух, а порой и трех местах службы, занимавших время с 9-ти до 9-ти. Стал писать рассказы. Испортил много бумаги, прежде чем нащупал сюжет и манеру, и решил прочесть нескольким друзьям рассказ, героем которого был мальчик-кантонист, флейтист полкового оркестра, будущий академик гравюры Серяков. Все друзья одобрили рассказ, и один из них, товарищ по музейной работе Станислав Валерьянович Трончинский, сказал:
— Надо это прочесть кому-то пишущему. У меня есть знакомая, которую печатают, пойдем, посоветуемся с ней. Она, правда, пишет стихи, но, может, что-нибудь сообразит.
С этим мы в конце декабря 1937 г. пришли к поэтессе Елене Рывиной. Черноволосая, тоненькая, хорошенькая, несмотря на слишком толстые губы, и весьма кокетливо одетая, в голубой накидке, отделанной белым мехом, она выслушала прочтенный мною рассказ, сказала, что он ей нравится, и обещала попытаться устроить мне встречу с детским писателем Евгением Львовичем Шварцем.
Каюсь, я тогда ничего не знал об Евгении Львовиче, но спутник бурно одобрил этот выбор. Он много лет работал в музее Революции и несколько раз слушал чтение Шварцем его ранних пьес, происходившее у Михаила Борисовича Каплана, беспартийного директора этого музея (в то время бывали и такие штуки!). Брат М. Б. был режиссером того театра в Ростове-на-Дону, где играл молодой Евгений Львович до переезда в Ленинград, и в 1920-х гг. познакомил своего талантливого актера и начинающего писателя со старшим братом.
Через несколько дней Рывина сообщила мне телефон Евгения Львовича, он назначит мне время прийти со своим рассказом. Я позвонил и получил приглашение и адрес — канал Грибоедова 9, кв. 79, последний подъезд со двора, четвертый этаж. С большим волнением я позвонил у двери, которую открыл сам Шварц. Он был дома один, принял меня приветливо и ввел в свой кабинетик. При этой первой встрече я так волновался, что плохо рассмотрел наружность Евгения Львовича. Однако заметил, что и тогда он был склонен к полноте, прост и естествен в движениях, и что улыбка очень шла к его правильному, я бы сказал, породистому лицу, освещала и красила его, что бывает далеко не у всех людей.
Я не случайно написал «кабинетик» — это была малюсенькая комнатка, не больше четырех кв. метров, в которой помешались: слева — книжная полка, прямо, у окна — столик конца 18 в. типа «бобик», перед ним — кресло нач. 19 в. с резными лебедями на спинке и тонкими, очень хрупкими локотниками (они не раз отламывались, что огорчало Е.Л.), и — справа, вдоль второй длинной стены, узкая кушетка на ножках в виде птичьих лапок, державших шары, крытая коричневым бархатом. Я как музейный работник сразу отметил хороший вкус всех предметов.
Евгений Львович взял в руки мою рукопись, взглянул на почерк, похвалил его красоту, но нашел мелким и малоразборчивым.
«Читайте сами, но не спешите», — сказал он. И пока я читал, ещё раза два повторил последние слова. А потом произнес приговор: «Рассказ хороший, и я постараюсь его пристроить в „Костер“. Вы можете отдать его на машинку в трех экземплярах? А то я отдам, и Вы мне вернете из гонорара».
Таково было наше первое знакомство.
Когда я спускался с лестницы, навстречу мне поднималась очень красивая дама в манто котикового меха, выгодно оттенявшего ее свежее лицо с большими серыми глазами. Она только что сняла и встряхнула мокрую шапочку, и контраст темно-русых волос с нежным румянцем был очень хорош. Как я узнал вскоре, это была жена моего нового знакомого — Екатерина Ивановна.
Через несколько дней я принес переписанный на машинке рассказ и получил в подарок только что вышедшую книжку Шварца «Красная Шапочка» с надписью: «Владиславу Михайловичу (Глинке) образец настоящего плохого (почерка) на добрую память (от ходатая по его делам) и автора 17/1 1938 г.». А вскоре Евгений Львович позвонил мне и сказал, что рассказ принят и будет напечатан в № 4 журнала «Костер».
К слову о «Красной Шапочке»: после ее прочтения мы с Марианной Евгеньевной решили, что нашей дочке, которой было в то время пять лет, надо обязательно посмотреть этот спектакль в Новом ТЮЗе на Конюшенной. Вернувшись после представления, обе зрительницы рассказали, что рядом с ними на крайнем месте у прохода к сцене сидела моя сослуживица по музею Маргарита Михайловна Заботкина, держа на коленях дочку Олю. И вот, когда в последнем действии, волк уже проглотил бабушку, лег в ее кровать и в дом входит Красная Шапочка, Оля неожиданно для матери мгновенно соскользнула с ее колен, бросилась к сцене и закричала на весь театр:
— Шапочка! Не ходи, там волк, а не бабушка!
Когда я рассказал об этом случае Евгению Львовичу, он очень смеялся и был доволен воздействием своей пьесы.
После опубликования моего первого рассказа Шварц как бы взял надо мной шефство по части писательства. Он вполне одобрял, что я пишу на исторические или, точнее, историко-бытовые темы, то есть о том, что лучше всего знаю. При этом Евгению Львовичу казалось, что мне удаются диалоги, и он посоветовал мне написать пьесу. В 1938-39 гг. я написал их две. Первая предназначалась для ТЮЗа. Темой ее была трагическая история крепостного художника. Она не тронула Б. В. Зона — главного режиссера театра, но Евгений Львович утешил меня, говоря, что не сразу приходит успех, и она, мол, дождется своего времени. После войны я посылал эту пьесу в Московский ТЮЗ, но и там ей не повезло: ответ гласил, что она не актуальна.
Судьба второй пьесы на тему 1812 года, главным героем которой был Денис Давыдов, также не задалась. По мнению многих друзей, она динамична, остра и даже является, будто бы, моей лучшей работой. Писал я ее по заказу театра Комедии. Н. П. Акимову, с которым я в это время познакомился, показалось по «детской» пьесе, что я могу написать для его театра нечто подходящее.
С этой пьесой я совершил две «тактические» ошибки. Не помню почему, но Николай Павлович очень меня торопил и просил, чтобы я прочитал хотя бы часть работы труппе. Я не выдержал натиска и согласился, хотя чувствовал, что крепко сделан только первый акт, второй сыроват, а третьего и четвертого еще не было вовсе, кроме общего плана. Не посоветовавшись с Евгением Львовичем, я читал перед труппой. Первый акт заслужил даже аплодисменты, но второй всех расхолодил, и сам я почувствовал, что провалился. Речи о постановке больше не было. Мне выплатили 60 % заказной суммы и «погасили» соглашение. Как сетовал Евгений Львович, что я не рассказал ему о настояниях Акимова! Он уговорил бы меня до конца работы никому ее не читать. По его совету я дописал-таки пьесу и, когда закончил, огласил перед небольшим кругом друзей. Между ними находился уже упомянутый С. В. Трончинский. Его сестра была замужем за К. М. Злобиным, ведущим актером театра Радлова, тогда соперничавшего с акимовским. Злобин, услыхав похвалы Трончинского, просил дать ему экземпляр пьесы, прочел, одобрил и отнес ее в театр. Через сутки Константин Михайлович по телефону сообщил, что Радлову пьеса чрезвычайно понравилась, он говорил о ней на собрании труппы и уже распределил роли. А вслед за тем позвонил сам Радлов и пригласил меня прийти в театр для переговоров. Я явился, был встречен Сергеем Эрнестовичем и его женой, переводчицей Анной Дмитриевной, очень любезно и мне сказали, что пьеса принята и будет вскоре поставлена, что уже подготовлен для меня договор. Но тут вышло характерное «кви-про-кво». Радлов спросил, как это я так умело построил сюжет, диалоги и т. д., писал ли я уже для театра? Я ответил, что написал пьесу для ТЮЗа, которая не пошла, а эту комедию писал по договору с Акимовым, но после чтения двух незаконченных актов ее там не приняли, после чего я все-таки ее доработал. Тут произошла удивительная метаморфоза: лица Сергея Эрнестовича и Анны Дмитриевны застыли и превратились в маски разочарования.
— Ну, что же, мы подумаем, — сказал Радлов, вставая и давая понять, что аудиенция окончена.
Я вышел, как оплеванный, — стало ясно, что написанной для другого театра и отвергнутой им пьесы Радлов не возьмет. Костя Злобин жестоко бранил меня за то, что «раскрыл свои карты».
— Смолчал бы о Комедии, подписал договор, начали репетировать, сшили костюмы, вошли во вкус — тогда уж не повернуть назад, — говорил он. — Придумали бы даже козырь — натянуть нос Комедии!
— Но ведь все равно узнали бы, хоть не сразу, что я читал там два акта, — оправдывался я.
— Вот и важно, что не сразу.
Евгений Львович сокрушался вместе со мной об этой неудаче, но одновременно хвалил, что не стал хитрить.
Чтобы не возвращаться больше к судьбе этой незадачливой пьесы, скажу, что она чрезвычайно нравилась также Льву Львовичу Рыкову, который не мог забыть моего провала и уже в апреле 1941 г., собираясь ехать в Москву, чтобы консультировать какую-то историческую пьесу в Камерном театре, попросил у меня экземпляр «Пари» и передал его А. Я. Таирову. В мае я получил сохраненное мною письмо Таирова, в котором сообщалось, что пьеса понравилась и о постановке ее в следующем сезоне Камерным театром он поговорит со мной во время гастролей в Ленинграде в июле. Дальнейшее, я думаю, не требует объяснений.
Я бы не стал столь подробно описывать свои неудачи с театром, если бы они не сблизили нас с Шварцем и не послужили поводом к нескольким важным для меня его «наставлениям». Во-первых, Евгений Львович втолковывал мне, что нередко половина работ писателя остается в его столе. Важно не только написать нечто «стоящее», но еще попасть «во время» и найти таких сильных людей в издательстве или в театре, которые помогли бы воплотиться в наборе или в спектакле твоему творению. Во-вторых, что труд, затраченный на создание каждой пьесы или повести, — не зряшная потеря времени: размышления, навыки и т. д., бесспорно, помогут в следующих трудах.
За время злоключений с моими пьесами я написал повесть «Бородино», которую уже без помощи Шварца взял «Костер» и поместил в №№ 7-10 за 1940 г. Верно, чтобы загладить горькое ощущение моих неудач с театром, Евгений Львович придумал ход, приведший к изданию «Бородина» отдельной книжкой. Он дал прочесть повесть старой писательнице Т. А. Богданович, жившей в той же «писательской надстройке». Татьяна Александровна очень дружила с Евгением Викторовичем Тарле. Расчет был верный, понравившуюся повесть Т. А. показала академику, чьи книги о Наполеоне и 1812 годе тогда были у всех на устах, повесть ему «показалась», и Шварц с торжеством вручил мне письмо Тарле с весьма благожелательным отзывом о ней. Мало этого — он сам отнес его в Детгиз и предложил включить повесть в план издания 1941 г. Она вышла в августе, и весь тираж остался в блокированном городе или разошелся по Ленинградскому фронту. Экземпляр повести я видел в экспозиции исчезнувшего музея обороны Ленинграда в Соляном городке.
Таким образом, первыми своими шагами в литературе я обязан сердечному участию Евгения Львовича. Вероятно, доброе отношение и доверие ко мне Шварцев, хотя бы отчасти, определили отзывы уже упомянутого М. Б. Каплана, с которым, после его замены в Музее партийным директором, я продолжал общаться, а также талантливой театральной художницы Елизаветы Петровны Якуниной, пользовавшейся моими консультациями для нескольких спектаклей. Радушно приглашенный, я стал заходить на канал Грибоедова два-три раза в месяц, всегда ненадолго и после предварительного звонка. Я боялся помешать работе Евгения Львовича и общению с более близкими друзьями, тем более, что квартира 79, кроме описанного уже кабинета, состояла только из одной комнаты, правда, метров 16–18 и также в одно окно. Против него в глубине стоял буфет, в верхней застекленной части которого красовались любимые Екатериной Ивановной предметы старого фарфора, в длину, посредине комнаты, — обеденный стол, обставленный редкой формы стульями с остроугольными спинками, которые я классифицировал как китаизированный чиппендель, слева у окна — туалетный столик Е. И. и дальше до входной двери тахта, покрытая большим ковром в красных тонах, половина которого поднималась на стену.
Несмотря на неизменную краткость моих визитов, мы в довоенные годы смогли выяснить общность взглядов на многое и на некоторых знакомых. Кажется, единственной более продолжительной была хорошо запомнившаяся мне поездка летом 1939 г. во Всеволожскую, где Шварцы жили в принадлежащей Литфонду даче. Я привез туда какую-то нужную Евг. Льв. книгу, обедал у них, и потом Шварц пошел провожать меня через лесок на станцию. Тут мы где-то присели на край сухой канавы, спустили в нее ноги, и Е. Л. под шелест листьев говорил о верности и вечности сказочных добрых и злых персонажей, о их известных нам обоим прототипах в окружающей жизни, вплоть до Бабы Яги, от прикосновения которой гибнет все живое, о естественности в произведениях искусства некоторого сгущения красок в изображении характеров. Но что и в жизни бывают такие люди с одним белым или черным нутром, он может назвать таких, — хотя, разумеется, у большинства эти качества причудливо перемешаны[48].
Постепенно я был введен в творчество Евгения Львовича. На моих глазах пошла в Новом ТЮЗе «Снежная королева» с декорациями и костюмами по эскизам Е. П. Якуниной. Евгений Львович был в основном доволен режиссурой Б. В. Зона, оформлением и актерами. Действительно, Кадочников — сказочник, Деливрон — Герда, Уварова — разбойница и др., вплоть до эпизодических ролей Ворона и Вороны, были очень хороши, отзываясь всеми способностями на талантливый текст пьесы. Одноцветные иллюстрации в изданной тогда же книжечке с текстом «Снежной королевы» не дают и малого представления о красивых по цвету и вполне созвучных сказке декорациях Якуниной. Можно сказать, что при мне писалась и ставилась в театре Комедии «Тень», открывшая собой ряд прекрасных сказок Шварца для взрослых, которые ставил и оформлял Акимов.
Если не ошибаюсь, осенью 1940 года в одной из клиник Военно-медицинской академии скончался отец Евгения Львовича, старый врач — Лев Борисович, и я был на похоронах его на Богословском кладбище. После смерти отца на Евгения Львовича как бы нахлынули воспоминания детства и юности, проведенных в очень любимом им Майкопе. Но при этом Шварц умел не только увлекательно рассказывать, но также расспрашивать и слушать, вникать в судьбы неизвестных ему дотоле людей, запоминать их надолго, выводить из них вместе со своими наблюдениями некие общерусские заключения о «типическом». Вспоминаю, как он расспрашивал меня о детстве, о родителях, братьях, нянюшке, товарищах по классу, о родной Старой Руссе.
Началась война и с нею для меня очень напряженное участие в упаковке и эвакуации эрмитажных коллекций. Буквально с темна до темна мы паковали первый эшелон, на который была заранее заготовлена тара. Работали так напряженно, что иногда оставались ночевать в кладовых на коврах. В августе, во время упаковки второго эшелона, начались налеты фашистской авиации, и я был назначен командиром отделения пожарной команды из сотрудников музея. Другим отделением командовал Пиотровский, мы дежурили по суткам, т. е. по тревоге «бойцы» бежали по постам, а мы их «проверяли» на лестницах и крышах. В перерыве между ночными тревогами спали не раздеваясь на «раскладушках» в помещении команды, на антресолях у Советского подъезда. Тогда я как-то ночью видел, с крыши Зимнего, как сыпались на Кунсткамеру зажигалки и как сбрасывали их на мостовую подобные нам пожарные из научных сотрудников. Видел и длившийся несколько дней и ночей начавшийся 8 сентября пожар Бадаевских складов — черный дым от горящего масла и сахара вздымался в чистое осеннее небо. Мы тогда не сознавали, что это горит жизнь тысяч и тысяч ленинградцев, что этот страшный пожар приближает голод, хотя и понимали, что не рассредоточить продовольственные ресурсы в условиях войны могли только преступно легкомысленные люди.
В те месяцы я реже, но все-таки заходил или, вернее, забегал к Шварцам по дороге домой на Басков переулок. Он также дежурил на чердаке и крыше «надстройки», Екатерина Ивановна — в санзвене на медпункте, и оба менялись на глазах, как все ленинградские интеллигенты, у которых отродясь не было запасов продовольствия. Эту осень я помню сбивчиво и смутно — все силы уходили на труды и беготню по лестницам и крышам в Эрмитаже и на борьбу с голодом, с унизительным чувством «пищевой доминанты», как наукообразно назвали ее позже врачи. Вечерами мы, дежурные по команде, между тревогами сидели над книгами и рукописями, пытались отвлечься от нее и работать. Наши, переведенные в подвальные убежища, семьи трудно и голодно жили тут же. Мы видели, как жены и дети худели и бледнели. Я наведывался на Басков и дважды заделывал фанерой выбитые взрывной волной окна.
В конце ноября Шварцы сказали мне, что решили эвакуироваться, что их обещали вывезти на «Большую землю» самолетом. Будут добираться до Кирова, где с Большим драматическим театром находилась первая жена Евгения Львовича Гаянэ Николаевна Холодова с их дочкой Наташей.
Несколько раз отлет откладывался. Наконец, 9-го или 10-го декабря Евгений Львович, позвонив мне в Эрмитаж, сообщил, что в эту ночь их обещают увезти на аэродром. Под вечер я пришел проститься. У двери мы встретились с шедшим туда же облаченным в форму капитана интендантской службы писателем Е. С. Рыссом. Мы с ним таскали чемоданы обессиленных Шварцев на большие весы, почему-то стоявшие в западине коридора «надстройки», — проверяли, не превышают ли они веса, допускаемого в самолете. Потом одевали Евгения Львовича, который так похудел, что втиснули его в два костюма, в драповое и зимнее пальто. Правда, в таком снаряжении он двигался с трудом, по его словам, «как водолаз на свинцовых подошвах». В этот вечер Екатерина Ивановна передала мне на хранение два любимых предмета — золоченую полоскательницу с отличной росписью — букетом цветов завода Зиновьева и гарднеровский кувшин — оба предмета 40-х гг. XIX века. А Евгений Львович, как всегда с шутками, что приглашает меня на первый послевоенный обед, просил сохранить три ложки, три вилки и три ножа нержавеющей стали. Мы с Рыссом ждали машину, которая должна была прийти в 10 часов, чтобы помочь Шварцам погрузиться. Но без четверти одиннадцать, не дождавшись ее, я убежал в Эрмитаж, у меня не было ночного пропуска, а Рысс остался с тем, чтобы переночевать в квартире Шварцев после их отъезда.
Через неделю, 18 ноября 1941 г., я, будучи уже «на пределе», попал в Мечниковскую больницу, где вскоре прекратилась подача тепла и освещения. Потом, благодаря настойчивым стараниям А. И. Ракова, был переведен в военный госпиталь на военный паек (тогда еще он был одинаковым для красноармейцев и командиров), за что меня обязали ежедневно читать лекции раненым у сложенной ими печурки. Пробыл я в госпитале до 15-го февраля. Об этих двух месяцах и людях, которых тогда видел, следовало бы написать особую книгу, но она не идет к этой главе, посвященной Шварцам, хотя, конечно, и о них вспоминал, стоя, казалось, у последнего рубежа, как о всех близких людях, и радовался, что уехали. Вызван я был из госпиталя запиской Марианны Евгеньевны, сообщавшей, что отопление в эрмитажных убежищах-подвалах прекратилось, все оставшиеся в живых перебираются по домам. Надо и нам делать то же: поселиться в меньшей из двух наших комнат, поставить там буржуйку, менять, что возьмут на рынке, на продовольствие и решать вопрос об эвакуации. Да, вся эта зима и все пережитое и виденное в самую страшную пору блокады, — уже другая тема, Скажу только, что после возвращения из госпиталя я нашел дома открытку от Евгения Львовича, сообщавшую, что они после остановки в Костроме добрались-таки до Кирова, где приходят в себя и собираются соединиться на юге с труппой театра Комедии, вылетевшей из Ленинграда почти одновременно с ними. В Эрмитаже мне нечего было делать после эвакуации коллекций и нужно было добыть рабочую карточку, по которой выдавали на 125 гр. хлеба больше в сутки, чем по карточке служащего. Взяв расчет в Эрмитаже, я поступил санитаром приемного покоя в 78-й эвакогоспиталь (на Кирочной) и проработал там четыре месяца, после чего, оставшись уже один — семья моя выехала в эвакуацию 23 марта, перешел на работу в Институт Русской литературы (Пушкинский дом) на должность заведующего музеем. Такового, собственно, не существовало, он был свернут и его экспонаты спущены в первый этаж под своды здания бывшей таможни, построенной в начале XIX века. Но дела нам, не уехавшим в эвакуацию, трем научным сотрудникам вполне хватало по охране здания, отеплению водопровода, заделке пробоин на крыше, добыче и пилке дров и т. д.
Помянутая выше моя номинальная должность важна для настоящих воспоминаний потому, что весной 1944 года я получил от Евгения Львовича письмо из Сталинабада, сообщавшее, что они вместе с театром Комедии перебираются в Москву. Это письмо[49] заканчивалось сердечной припиской М. Б. Каплана, волей судьбы оказавшегося еще до войны в Сталинабаде и занимавшего там некую должность по части управления искусствами. Вскоре же я получил открытку от Н. П. Акимова, писавшего, что театр уже в Москве, а в конце июля мне было приказано вылететь туда же для поездки с правительственной комиссией в Пушкинские Горы, чтобы зафиксировать состояние заповедника после изгнания фашистов. Прошло двое суток, прежде чем мне доставили билет на самолет (хотя поезда по московской дороге ходили уже вполне исправно), и 26 июля я вылетел на «Дугласе» с аэродрома где-то за Охтой вместе с десятком командировочных, которые роптали, что не едут поездом, потому что нескольких тошнило от «болтанки», и мы все очень мерзли — самолет был без отопления. Добравшись в Москве до Нескучного дворца, я узнал, что комиссия в это же утро специальным самолетом уже вылетела в Пушкинские Горы, но мне надлежит ждать ее возвращения — может, чем-нибудь пригожусь по своей должности, т. к. заповедник был тогда филиалом музея ИРЛИ. Мне выдали талоны на питание в Доме ученых и направление в общежитие Академии наук, наказали звонить каждое утро по некоему телефону и осведомляться, не нужен ли я. В тот же день я встретил на улице актера театра Комедии В. Г. Киселева и узнал, что Шварцы живут в гостинице «Москва». Назавтра утром я пришел туда, но застал дома одну Екатерину Ивановну. Наскоро напоив меня кофе, она растолковала, как добраться до здания Театра музыкальной комедии, где происходил «чистый» прогон новой пьесы Шварца «Дракон», а вечером будет генеральная репетиция, на которой, она полагала, его и запретят.
Когда я приехал в театр, действие уже началось. Встреченный в вестибюле зав. труппой Зинковский провел меня в темный зал и указал место сзади Евгения Львовича и Николая Павловича, сидящих рядом. До антракта я их не беспокоил. Не буду описывать, как мы обнимались, когда осветили зал и они меня увидели. Несмотря на волнение за судьбу спектакля, встреча была самая сердечная. Мы не виделись более двух с половиной лет. И каких!
О спектакле скажу, что Эльза и Ланцелот мне решительно не понравились. И еще, что третий акт показался «недотянутым» — он шел как-то неуверенно и вызвал ряд энергичных замечаний вошедшего по окончании его на сцену Николая Павловича.
В этот вечер я не пошел к Шварцам, зная, как они оба волнуются. На другой день мне сказали, что комиссия из Пушкинских Гор еще не вернулась, я отправился в «Москву» и узнал, что спектакль безоговорочно «зарубили». Мне кажется, что тогда и Евгений Львович не очень надеялся на его разрешение. Разговор наш шел больше о том и тех, кто оставался в Ленинграде. Я медлил сказать, что в квартиру Шварцев попал артснаряд, — ведь Екатерина Ивановна была такая домоседка и хозяйка. Но оказалось, что им об этом уже написали и что мебель не очень пострадала.
Вечер и ночь я провел у Акимова, который жил в квартире А. И. Ремизовой, своей бывшей жены и неизменно доброго друга. Мы долго лежали рядом на стащенном на пол матрасе, и я рассказывал о Ленинграде, а он о том, что видел в Сочи и Средней Азии, что пережил. Елена Владимировна с Анютой в это время еще находились в США. Мне было приятно сообщить Николаю Павловичу, что оставленные мне на хранение папку с любимыми рисунками и шкатулку с фарфоровыми фигурками работы Н. Я. Данько — персонажами «Двенадцатой ночи» и «Тени» — я сумел сохранить.
Через два дня, так и не встретив членов возвратившейся из Пушкинских Гор комиссии, я был отпущен с миром.
От этого краткого упоминания о встречах в Москве я хочу шагнуть в сторону — к любви Евгения Львовича к животным, на возню с которыми он никогда не жалел времени. У них в гостинице «Москва» я впервые увидел очень красивого серого с белым котенка, который потом превратился в столь же красивого Котана, много раз сфотографированного с Евгением Львовичем, Екатериной Ивановной и отдельно на буфете, на диване, на книжной полке.
Мои воспоминания о Котане начинаются с эпизода, полагаю, оставшегося навсегда неизвестным его хозяевам. В гостинице «Москва» Шварцы делили трехкомнатный номер с К. Я. Гурецкой и И. А. Ханзелем. Телефон стоял в средней комнате, представляющей нечто вроде общей гостиной. Я только что позвонил от них в Академию наук, чтобы узнать, приехала ли комиссия, когда некто попросил к телефону Ханзеля и я позвал его через дверь. И. А. вошел стремительно и, не заметив котенка, крепко поддал его ногой, очевидно, по голове. Раздался глухой звук, похожий на удар деревянным молотком по крокетному шару. Я замер. Котенок отлетел шага на четыре и упал у стены. Ханзель, еще не взявши трубку, испуганно прижал руку к сердцу. Я поднял котенка, думая, что он уже мертв. Мое удивление было очень велико, когда мягкий комочек зашевелился на моих ладонях и замурлыкал. Ханзель облегченно провел рукой по лицу, по груди и взялся за трубку, а я ушел с котенком в комнату к Шварцам и скорей передал «младенца» Екатерине Ивановне, ожидая, что с ним еще случится что-нибудь вроде «родимчика».
Подтверждая пословицу о живучести своего племени, Котан не получил сотрясения мозга, не оглох, не ослеп, не онемел и много лет радовал хозяев умом, добронравием и живостью. Он часами лежал на кушетке в кабинете Евгения Львовича, подобрав «муфтой» передние лапы и внимательно наблюдая за работой писателя, не смущаясь стуком машинки. Но также был готов в любой момент к игре с бумажкой на бечевке, висевшей на спинке кресла с лебедями, которой они с Евгением Львовичем увлекались, по-моему, в равной мере. Часто, когда я приходил, Шварц, взяв мою трость, начинал водить ею по ковру над тахтой, и Котан без устали прыгал, стараясь схватить ее рукоятку слоновой кости, пока, наконец, не повисал на ней, победив уловки хозяина. Умел он также приносить в зубах брошенную конфетную бумажку, свернутую шариком. Впрочем, этому научивались и некоторые наши кошки, не притязавшие на гениальность. Но верхом проявления ума Котана было пользование человеческой уборной и своевременное мяуканье, приглашавшее дернуть за цепочку. Этим, конечно, он восхищал хозяев и всех их друзей. Евгений Львович уверял, что кот так умен оттого, что первым слушает его наставительные комедии, когда автор читает себе вслух написанное. Но после водворения Шварцев в голубом домике в Комарово Котан проявлял слабость, свойственную его заурядным родичам: влезши играя на дерево, не умел сам спускаться вниз. Тогда Шварцы звонили по телефону в пожарную часть, которая находилась от них в одном квартале, и мигом появлялись двое пожарных, неся длинную лестницу. Сняв кота с дерева, они получали по трешке и удалялись, как уверял Евгений Львович, нашептав коту совет как можно скорее повторить то же упражнение.
Кроме Котана, в их комаровском доме появилась собака вроде лайки, кажется, жившая еще у арендовавших ранее голубой домик Германов. Она быстро привязалась к новым, очень ласковым хозяевам и так же быстро растолстела, хотя постоянно сопровождала Евгения Львовича на дальних пешеходных прогулках. Для пса был заказан ошейник, на металлической пластинке которого выгравировано: «Томочка пос. Комарово Морская улица 4». Евгений Львович говорил, что боится только, как бы Томка, у которой толщина шеи стала равна объему головы, почесываясь, не сняла ошейник и не потерялась, забыв свой адрес, потому что ее свел с ума кудлатый красавец Джонни, пес, якобы принадлежавший академику Полканову, убежавший от скупого хозяина и превратившийся в романтического бродягу. «Безнравственный босяк!» — говорил Евгений Львович, возвращаясь с прогулки, пропустив Томку в калитку и закрыв ее перед носом Джонни. После чего прибавлял — «Погоди! Я сейчас тебе что-нибудь вынесу!» Джонни садился у калитки и ждал, зная по опыту, что этот толстяк его не обманет.
Евгений Львович очень любил и хорошо знал птиц. После его кончины Екатерина Ивановна подарила мне целый набор книг по орнитологии. Я, развесив уши, слушал не раз его рассказы о птицах, когда мы вдвоем гуляли в Комарове, и они становились еще красноречивее, если с нами гуляла подростком его дочь Наташа. Рассказы о птицах были на дневных прогулках, а вечерами он рассказывал ей об астрономии. Тут я поражался не только объему сведений, которыми располагал Евгений Львович, но и его педагогическому дару — как он умел интересно и живо рассказывать девочке о звездных мирах, о возможной жизни на других планетах.
Прогулки с Наташей, на которых я бывал их спутником, относятся к тому времени, когда Шварцы еще живали в старом деревянном Доме творчества и мы с Евгением Львовичем ходили на прогулки после обеда и перед сном. На прогулках с дочерью Евгений Львович умел смешить нас разнообразными выдумками и рассказами. Он удивительно подражал крикам ворон и лаю собак, так что вороны слетались к нам, а собаки за заборами отвечали лаем и виляли хвостами, всматриваясь в двуногого собрата. Я уверен, что присутствовал при том, как Евгений Львович впервые выпустил в свет широко разошедшуюся позже остроту о высокой трансформаторной будке на Большом проспекте. Мы шли втроем по этой улице в сверкающий февральский день, когда навстречу промелькнули, пробежав на лыжах, очень высокий и тонкий Черкасов с сыном-подростком. Евгений Львович проводил глазами лыжников и перевел их на недавно построенную ярко-желтую будку, похожую на башню.
— А ведь, наверное, это просто одиночная туалетная комната для Коли Черкасова! — сказал он с задумчивым выражением. — Все-таки народный СССР, надо заботиться об его удобствах во время занятий спортом…
Евгений Львович был замечательным рассказчиком, чуть-чуть игравшим за каждое действующее лицо. Помню рассказ о том, как, приехав в Тбилиси на празднование юбилея Шота Руставели и поселясь в гостинице в одной комнате с Ю. П. Германом, они обнаружили, что в поезде сильно испачкали паровозной копотью свои рубашки и, главное, различные по цветам очень пестрые пижамы. Рекомендованная в гостинице прачка-грузинка принесла выстиранное белье и записку со счетом, в которой на первом месте стояло: «Клована — 2». Евгений Львович тотчас же подтвердил старухе, что они с Германом ленинградские клоуны, будут выступать в тбилисском цирке, и тут же перекувырнулся на ковре, вспомнив школьные годы. Другой раз, замечательно имитируя мещанский брюзгливый говор, он рассказал, как, едучи почтовым поездом в Москву, попал в компанию с глуховатым стариком, который непрерывно ворчал на все новое в жизни — на видимые на пашнях трактора, от которых нет навоза для удобрения, на «глупую» игру в футбол, на бесформенные, «без изюма», булки на станциях и, совершенно изведя Евгения Львовича, наконец заснул. Уже подъезжая к Москве, он, казалось, дремавший, услышал, как третий сосед по купе сказал Шварцу, что хорошо бы выпить чайку.
— Это за что же меня в Чеку?.. — взвился попутчик, пользуясь устарелой терминологией 1920-х годов, когда он, очевидно, начал свое ворчанье.
Прекрасно разыгрывал Евгений Львович сцену, как в банях, — а он любил париться, — его по трясущимся рукам принимали за контуженного, и все инвалиды наперебой предлагали помыть и потереть ему спину, расспрашивая, в какой части и в каких боях участвовал. А он, не желая врать, ворчал нечленораздельно, делая вид, что и речь у него тоже не в порядке.
Примером шутки Евгения Львовича может служить надпись на одной из подаренных мне книг. Это — «Первоклассница», изданная в Братиславе. Даря ее мне, Шварц сказал, что напишет по-словацки, потому, мол, что легко понимает весь текст книги. Написал он следующее: Dragomu Glinke na dobruj pamjats ot starogo druga. Jiwi bodro! E. Svarc.
В конце 40-х годов Евгений Львович стал со мной сух и недоверчив. Екатерина Ивановна старалась сгладить это отчуждение, но я сократил свои посещения и, кажется, с полгода вовсе не бывал у Шварцев, покуда сам Евгений Львович не позвонил мне и настоятельно не просил прийти. Через несколько лет я спросил его, что было причиной его охлаждения. И услышал в ответ — «Не все ли равно теперь, стоит ли про то вспоминать? Наврали мне на тебя бог знает что. Забудь, пожалуйста, очень тебя прошу». — А кто и что наврал, я так и не знаю. Может быть, когда будут опубликованы его дневники, хранящиеся в Московском литературном архиве, это станет ясным, но, увы, это будет не скоро и я не узнаю имени своего «доброжелателя».
В начале 50-х годов Евгений Львович начал работать над пьесой-сказкой, которая долго шла в наших разговорах под именем «Медведь». Я даже подарил ему «для вдохновения» купленную в комиссионном магазине маленькую посеребренную фигурку сидящего медведя. А однажды, читая мне и коту уже последнее действие, он сказал, что, наконец, нашел для пьесы название — «Обыкновенное чудо».
Пожалуй, за время нашей дружбы самым памятным мне было раннее утро 17 апреля 1951 г. Вечером 16-го Н. П. Акимов праздновал свое пятидесятилетие. Это был тот период, когда он, будучи изгнан из театра Комедии и оплеван на собраниях и в печати как формалист и космополит, держал себя с редкой твердостью и достоинством. Праздничный ужин был особенно знаменателен: собрались только те, кто остались ему верны в дни «опалы». Под конец ужина Акимов и Шварц выпили со мной на «ты», что и сейчас вспоминаю как большую честь. Но главное воспоминание связано с ранним утром, когда мы вышли из гостеприимного дома на Кирпичном переулке и, простившись с другими гостями на углу Невского, вдвоем со Шварцем пошли направо по Невскому. Было сыроватое и серое утро, безлюдное и тихое. Одни постовые милиционеры вышагивали на перекрестках — тогда еще существовали такие круглосуточные посты. Мы медленно шли, с удовольствием дыша чистым от автомобильной гари воздухом, и вспоминали вечер, когда много было говорено острого и смешного. Как-то разговор перешел на поэзию и на Пушкина. Раньше Евгений Львович на прогулках в Комарове не раз просил меня читать «Медного всадника» и «Онегина», многие главы которого я знал наизусть. Но в это утро он стал читать сам. Мы, верно, больше получаса ходили по Екатерининскому каналу вдоль их дома, и он очень хорошо читал свои любимые стихи. Неторопливо, немонотонно, с тонким чувством настроения, владевшим автором. В то время в большой славе был Антон Исаакович Шварц — двоюродный брат моего друга. И слава его была не зряшная, чтец он был превосходный. Но Евгений Львович говорил совсем в другой манере, не на публику, а только для нас двоих, негромко, очень проникновенно и печально, словом, так, что для меня навсегда памятны прочитанные стихи. Это были: «Когда за городом задумчив я брожу», «Безумных лет угасшее веселье», «Стихи, сочиненные во время бессонницы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных» и, наконец, «Октябрь уж наступил».
Мы медленно ходили по тротуару, и Шварц читал, порой приостанавливаясь, смотря поверх домов в серое небо и в промежутках, как бы прислушиваясь к чириканью воробьев и шуму просыпающегося города. Должен сказать, что ни одна фотография не передает прелести его лица — духовной, внутренней прелести, умного и гуманного человека, лица, на которое мне всегда было радостно смотреть.
[Помню, когда умер Сталин, Женя сказал, что подобного больше уже не будет, но сразу ничего не изменится, потому что все лучшие люди, которые могли бы что-то изменить, все были вытравлены на два десятка лет вперед, а осталась или мелочь, или люди, выросшие под Его влиянием.
У нас по большинству вопросов были совершенно одинаковые взгляды. Когда был процесс безвинных врачей, мы с ним пришли к общему соглашению, что кто из наших друзей поверит в это, они нам больше не друзья.
С одного из заседаний ленинградского отделения мы шли не проронив ни слова. Сюда приехали Кочетов и Симонов, дабы заставить покаяться Ахматову и Зощенко. Ахматова сделала очень умно и не явилась, а Зощенко был. После выступлений сих трибунов выступил Зощенко. Он сказал, что ему не в чем признаваться. «Вы хотите, чтобы я признал себя подонком, так это ложь. Вы хотите, чтобы я признал себя трусом, это тоже неправда. Это я доказал и в первую империалистическую, когда получил пять наград, и во вторую, когда оставался в Ленинграде, прекрасно понимая, что если немцы возьмут город, меня повесят одним из первых. И выехал я только в приказном порядке». Он говорил сумбурно, на надрыве, но каяться он не собирался. Когда он закончил, бурно ему зааплодировал один Меттер. Рядом со мной сидел Эйхенбаум, его всего трясло. Женя тоже чувствовал себя отвратительно, и я пошел его провожать. Дома он всю свою боль излил Екатерине Ивановне.] (1)
В последние два-три года жизни, когда Евгений Львович часто прихварывал, я, можно сказать, систематически носил ему книги по русской истории, преимущественно мемуары из библиотеки Эрмитажа. Я подбирал их по своему вкусу, и, естественно, мы обменивались невеселыми мыслями о прошлом России. Если мне случалось долго не бывать, Евгений Львович звонил мне, просил принести новых книг. А когда я приходил (уже на улицу Васильевых), то неизменно слышал вопрос с дивана, стоявшего в правой комнате их квартиры так, что он видел входивших в прихожую:
— Куда ты пропал?..
Долго еще после кончины Евгения Львовича я вспоминал эту фразу, ее добрую интонацию.
К слову и почти в заключение — о лексиконе Шварца. А. И. Пантелеев в своих воспоминаниях несколько раз повторяет, что Е. Л., добродушно смакуя, говаривал о ком-то — «Сволочь такая…» Я же никак не могу вспомнить это выражение в устах Шварца. Его речь неизменно казалась мне в основном очень близкой к воспоминаниям моего детства — речью русских интеллигентов начала XX века, почти что речью Чехова и его героев, в которой любые чувства, самые гневные и резкие, могли быть выражены без бранных слов.
Идут годы, время затушевывает, гасит облики ушедших друзей, их голоса. Но от Евгения Львовича остались его пьесы. Как несправедливо, что наиболее полное издание их напечатано только после смерти автора. Однако все-таки они напечатаны и несут людям свет души Шварца, его доброту, ум и тонкий юмор, радуют и облагораживают читателей и зрителей.
В юности одна старая любительница-хиромантка, рассматривая ладонь моей руки, сказала, что мне повезет в будущем — я буду знать несколько людей большого таланта и высокой души. Она оказалась совершенно права, и думаю, что Евгения Львовича следует поставить едва ли не первым по обоим этим качествам в списке тех, кого я любил.
Александр Штейн «Никогда бы не узнал того, что узнал…»
Ночую на канале Грибоедова, в писательской надстройке, в бывшей моей квартире. Измученный корабельными непрестанными боевыми тревогами, добираюсь до дивана, заваливаюсь, не в силах раздеться, прямо, как есть, и сплю, сплю…
Утром у дома несколько человек с повязками ПВХО, завидев меня, бросаются навстречу. С ними Евгений Львович Шварц, тоже с повязкой ПВХО. Жмут руки, поздравляют. Проходит немало времени, пока я начинаю соображать.
Пока я спал в пустой квартире, Ленинград бомбили. Бомбили отчаянно. Сбросили несколько зажигательных бомб и на писательскую надстройку.
А мне снилось что-то очень длинное, очень довоенное и очень светлое, и я ничего не слышал.
В разгар налета на крыше нашего дома возник, как черт из коробочки, человек в черной флотской шинели. Шипели зажигалки, скатываясь по покатой крыше вниз, к желобам, — попробуй подойди.
Дому грозил пожар.
Человек в черной шинели с трудом добрался до зажигалок, спихнул вниз одну за другой все четыре, вызвав ликование у женщин, дежуривших на крыше.
Кончился налет, хватились черной шинели — пропала в ночной мгле. Столь же внезапно, как возникла. Вечером дежурные видели, как я входил в подъезд дома. На крыше в темноте толком не разглядели моряка, стало быть, герой — я.
Нелегких трудов стоило мне отречься от чужой славы. Никто не верил, да и самому было жаль.
Шварц сказал мне с милой укоризною:
— Ах, Шура, тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман!
Потрогав черную кобуру моего нагана, заглянув и в сумку моего противогаза, где были папиросы, письма, корочка хлеба — все, кроме самих средств химической защиты, — добавил:
— Жаль, что ты не герой, но зато ты — солдат. Я бы хотел в эти времена, чтобы мной кто-нибудь командовал, не одна Катерина Ивановна.
Евгений Львович был уже тогда болен, в армию его не взяли. Сдавало сердце, тряслись руки, помню, все не мог, прикуривая, соединить спичку с папиросой.
Не знал, как собою по-хозяйски распорядиться.
Эвакуироваться? На это не пошел. Как и жена его, Екатерина Ивановна. От двух мест, предложенных в самолете Военным советом Ленфронта, отказались оба, из списка эвакуируемых попросили себя вычеркнуть. И оба, в ватниках, в асбестовых рукавицах, с щипцами и баграми наготове, дежурили на чердаке, где стояли чаны с водой, — туда кидали зажигательные бомбы.
Шварцев можно было видеть на чердаке каждый вечер: в сентябре немцы бомбили Ленинград педантично, не манкируя.
Не уехали Шварцы и в октябре, и в ноябре.
Ему, больному, особенно тяжко было нести блокадный крест.
Я разучился в блокаде чему-либо поражаться и все-таки, увидев его снова в начале декабря 1941 года, отступил. Доброе лицо приобрело землисто-желтоватый оттенок, казалось, кости просвечивали под тонкой кожей, да они и на самом деле просвечивали. И лицо словно бы стало вдвое меньше. В шубу, которая болталась на нем, как на вешалке, — до войны он был тучен, — свободно можно утолкать еще трех человек.
— Аббас-Туман! — внезапно воскликнул он, повелительным жестом руки показав на дверь в Дом писателя имени Маяковского, где находился стационар для писателей-дистрофиков.
И мы оба улыбнулись, смеяться тогда не было сил.
В тридцать пятом году несколько ленинградских литераторов — Виссарион Саянов, Евгений Шварц, Юрий Герман, Лев Левин, Яков Горев и я — путешествовали по Грузии, были в Аббас-Тумане, и в названии этого грузинского горного курорта Женя почему-то услышал нечто схожее со сказочным заклинанием, что-то вроде «Сезам, откройся» из сказки про Али-бабу и сорок разбойников. И мы играли с ним всегда при встрече «в Аббас-Туман», и, услышав это его восклицание, я, изображая верноподданного, бросался и открывал перед ним дверь.
И сейчас я тоже бросился вперед и распахнул перед ним дверь в стационар для дистрофиков.
Леониду Рахманову, встретившему его тогда, он сказал, похлопав себя по впалому животу:
— Надо будет запомнить эту диету.
Потом, много лет спустя, как-то он сказал мне сдержанно, нисколько не приподнято, не патетически, что счастлив тем, что не уехал тогда из Ленинграда: «Никогда бы не узнал того, что узнал. Не жалею и ничего не отдаю».
Сразу после войны написал очень камерную пьесу — про эпическое, очень тихую — про сентябрьские бомбежки (1).
И, восстанавливая в памяти героев пьесы, людей одного из ленинградских домов, подвергшихся нападению с воздуха, людей негромких, деликатных, сдержанных, вижу подле них фигуру самого Шварца, такого же негромкого, деликатного, блокадного — то в ватнике с повязкой ПВХО, в асбестовых рукавицах, то в болтающейся, как на вешалке, довоенной шубе.
— Аббас-Туман!
Большинство пьес Евгения Шварца обрело широкую, не боюсь сказать, мировую известность после его смерти. Да и сам он как художник по-настоящему признан и оценен громогласно в статьях и книгах тоже после смерти. Хотя сказки его, пьесы и фильмы при жизни входили в биографию нескольких поколений детей — и «Красная Шапочка», и «Два клена», и «Новые приключения Кота в сапогах», и «Ундервуд», и «Снежная королева», и «Клад», и «Золушка».
«Голого короля» он написал в 1934 году (2). Эта пьеса при жизни Шварца не ставилась. Ее нашли у него в письменном столе, разбирая архивы.
Пьеса «Голый король», как и «Дракон», была издана впервые после его смерти (3). Шварц писал «Голого короля» в те вовсе не сказочные времена прихода фашизма к власти, когда, как говорится в этой пьесе-сказке, «пришла мода сжигать книги на площадях. В первые три дня сожгли все действительно опасные книги. А мода не прошла. Тогда начали жечь остальные книги без разбора. Теперь книг вовсе нет. Жгут солому».
«Голого короля» поставили в 1960 году в театре «Современник», рожденном энтузиазмом воспитанников студии МХАТ и в еще большей степени — духом новых времен.
Я видел пьесы раннего Шварца в ТЮЗе конца двадцатых и начала тридцатых годов, где начинали Черкасов и Чирков — Дон-Кихот и Санчо Панса. Уже и тогда шварцевские пьесы, хотя их смотрели дети, казались пьесами и для взрослых. Дети могли не разобраться в их скрытой иронии, в неуловимых порой, а порой подчеркнуто конкретных, привязанных к времени понятиях, толкавших к размышлениям, отнюдь не отвлеченным, и заключениям, отнюдь не сказочно-абстрактным.
В этом, по-моему, и заключается обаятельнейшая и своеобразнейшая особенность шварцевского таланта. В «Снежной королеве» рядом с жестокой Властительницей живут и думают по-своему, по-современному обыкновенные дети — Кай (4) и Герда. В «Ундервуде» Баба Яга в облике мерзкой старухи Варварки рядом с чудной девочкой с красным пионерским галстуком, и она-то, девочка Маруся, — истинный герой пьесы, спектакля.
Вплетал в канву детской сказки, знакомой нам с детства, внезапную, все поворачивающую сюжетную линию. В невинные по видимости андерсеновские коллизии — одно-два современных словечка, одну-две современные ситуации. И тихий, милый, добродушный сказочник, с деликатной улыбкою расставляющий по сцене оловянных солдатиков, снежных королев, ткачей, бургомистров, голых королей, тюремщиков, ланцелотов, драконов и первых министров, оказывался вовсе уж не столь тихим, вовсе и не столь уж добродушным, и не таким-то деликатным, и вовсе не сказочником!
Шварц, подобно Андерсену, смело заимствовал свои сюжеты. Монтировал несколько сказок, как, скажем, смонтирована сюжетная «болванка» «Голого короля» из «Свинопаса», «Нового платья короля» и «Принцессы на горошине», Шварц цитирует слова Андерсена: «Чужой сюжет как бы вошел в мою кровь и плоть, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет».
Шекспир, как известно, свободно распоряжался чужими сюжетами, как и Пушкин.
Я смотрел в 1958 году на Бродвее «Вест-Сайд Стори» — театральное представление, в котором шекспировских Монтекки и Капулетти представляли две враждующие уличные компании нью-йоркских молодых парней, мешавших соединению любящих друг друга англосакса Ромео и пуэрториканки Джульетты, — и как же это было потрясающе современно по мысли, по форме, по идее, наконец! (5).
Стало быть, можно и должно перелицовывать старые сюжеты, если не подпускать к ним холодных сапожников, не так ли?
Очевидно, так.
Шварц вырос со временем, его сказки набрали скорость после его смерти.
До войны Шварц редактировал вместе с Олейниковым журналы для маленьких — «Чиж» и «Еж». Олейников был другом Шварца, не только товарищем по работе. В часы досуга они издавали, уже для собственного удовольствия, шуточный журнал под названием «Веселое олимпиадничество и затейничество».
Олейников — странный человек, казавшийся даже по первому знакомству чудаковатым.
Писал шуточные четверостишия:
Маленькая рыбка, Жареный карась, Где твоя улыбка, Что была вчерась? (6).Шварц был беспартийным, Олейников — членом партии и, кажется, с первых лет революции.
Они всегда ходили вместе, литературные неразлучники.
Олейникова в тридцать седьмом году арестовали, он исчез, как исчезали тогда многие, бесследно.
Шварц был растерян, потрясен, выбит из седла надолго.
Он, беспартийный, не мог понять, как Олейников, член партии, которого он знал близко, интимно, изо дня в день, мог оказаться заклятым врагом народа.
Олейникова реабилитировали после 1953 года[50].
В сорок шестом году я встретил Евгения Шварца, подавленного, растерянного…
Вернулся с собрания, где исключили из Союза писателей Ахматову и Зощенко, в их отсутствие. Зощенко был назван подонком, Ахматова — блудницей.
Шварц не мог и не хотел говорить со мной ни о чем, даже не произнес свое повелительное «Аббас-Туман!».
Так мы и разошлись, не поговорив…
В чудесном оформлении Николая Павловича Акимова в 1962 году (7) вышел объемистый однотомник пьес Евгения Шварца, и потом он вновь и вновь переиздавался, мгновенно исчезая с книжных прилавков. Вышла и книга воспоминаний «Мы знали Евгения Шварца», в которой можно прочесть и Веру Кетлинскую, и Льва (8) Пантелеева, и Леонида Рахманова, и Эраста Гарина, и Николая Чуковского, и многих других литераторов, артистов, режиссеров, знавших и, главное, любивших выдающегося нашего драматурга.
Эпиграфом к воспоминаниям были слова, принадлежавшие самому Евгению Львовичу, взятые из его «Снежной королевы»: «А я вот — сказочник, и все мы — и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники — все мы работаем, и все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди»…
А мне видится тот Евгений Шварц — блокадник, с повязкой ПВХО, в асбестовых рукавицах, дежурящий со своей женой Екатериной Ивановной каждую ночь на чердаке в сентябрьские ленинградские ночи…
«Никогда бы не узнал того, что узнал. Не жалею и ничего не отдаю».
1964 (9)
Леонид Любашевский <Старайтесь иметь такого друга…>
[Евгений Львович Шварц. Удивительный рассказчик. Как редкостный путешественник, он увлекательно рассказывал обо всем том, чего никогда не видел, но прекрасно знал. Человека же он просвечивал насквозь, будто в глазах у Шварца был рентгеновский лучик, особенно отчетливо выявлявший темные пятна, так что человеку нечистоплотному лучше держаться подальше от него, а то ведь и слово, самое меткое и разящее под рукой у сказочника. Он совсем не всегда был добрый.][51] (1)
О таком интересном человеке, как Евгений Львович Шварц, надо бы и писать интересно, то есть — так же вдохновенно и глубоко, и неожиданно, и умно, и остроумно, каким мы и знали Шварца. Увы!
Шварц предстает нам в своих пьесах, как ласковый, лукавый, очень любящий детей (и взрослых) сказочник и увлекательно умный гид в страну фантазии и поэтического бытия.
Дети (и взрослые) с полным доверием следуют за ним по его причудливым фабулам, радуясь находкам, огорчаясь потерям, дивясь добру, лия слезы от злодейства и торжествуя потом над поверженным лихом, и как весело и на весь зал раскатываясь смехом над потешным словом. А еще потом, уже после спектакля, хочется, вспоминая доброго сказочника и его артистов, хочется тоже сделать что-то такое доброе, заступиться за обиженного, улыбаться встречным дядям и даже выучить урок на отлично.
Но глубоко ошибается юный (и не юный) читатель его произведений, если подумает, что Шварц в жизни был всегда такой же ласковый и добрый, как в своих сказках. Отнюдь! Совсем не всегда. Очень ко многому был нетерпим Шварц и в жизни и в литературе. И в принципах своих был тверд и неуклонен. Ничто человеческое не чуждо сказочнику, вплоть до самого гнева.
Я видел Шварца в годы раскола чувств, когда пронизанное культом общение людей было изуродовано, превращено во взаимное недоверие, в прямое предательство, в боязнь, в подозрение. Я видел Шварца, когда бледнело его лицо от гнева.
Нет, не мог сказочник быть только добрым.
И вот, Дракон фашизма становится главным действующим лицом его новой сказки. Страшная, истребительная, злодейская война обрушилась на нашу голову извне. Страх, подхалимство, наветы лезут в сказку, как реально существующие персонажи.
Дракон — Гитлер! Шварц пишет Гитлера! А вам что кажется?
Шварц умеет видеть в людях не одну их показную сторону, но и очень тщательно скрываемую. Внимательный глаз сказочника умеет узреть по любой малейшей промашке, по проскользнувшей бытовой мелочи весь характер человека. Ведь на каждом шагу разбросаны черточки нашего характера — в походке, в манере речи, в костюме, словом, не спрячешься никуда от наблюдательного глаза. А у сказочника будто еще рентгеновский лучик в глазу, особенно отчетливо выделяющий темные пятна, так что человеку нечистоплотному лучше держаться подальше от него, а то ведь и слово, самое разящее и меткое под рукой у сказочника. <…>
Но как же хорошо иметь его своим другом! В доме его всегда людно — гостеприимны хозяева. Закусывают ли за столом, играют ли в карты или лото, — в дыму сигаретном кружат над столом острые слова, умная беседа, веселая шутка.
Очень хорошо было иметь его своим другом!
Не умея произносить речи, самые малые, если они заранее не написаны, я попадал в труднейшее положение, когда председательствующий предоставлял мне слово. Выручал Шварц. Он поднимался (иногда с бокалом) и начинал так: «Мой глухонемой друг думает по этому поводу следующее…» Дальше шла речь, полная юмора, из которой явствовало, что его подзащитный не настолько глуп, как о нем думают, и что он, то есть я, молчу потому, что достаточно умен, чтобы не демонстрировать перед высоким собранием свою… свое красноречие. Посему он, то есть Шварц, как ближайшее доверенное лицо глухонемого друга, скажет за него все, что думает по поводу сегодняшнего собрания.
Удивительно хорошо было иметь его своим другом!
Вспоминаю себя на приеме в Комитете по делам искусств в Москве. Зная мою способность промолчать даже там, где слова расцениваются на вес золота, Шварц вошел в кабинет к Заву вместе со мной. На вопрос начальства, какая у меня тема для Госзаказа на пьесу, Шварц начинает развивать Заву пространно, что именно я имею в виду написать в той будущей моей пьесе, на которую здесь и должны со мной заключить договор. Зав спрашивает о подробностях пьесы, Шварц подробно отвечает. Это длится довольно долго, пока наконец Храпченко, удивленно уставившись на меня, спрашивает: «А почему, собственно, молчит сам автор?» Но и на этот вопрос, обращенный прямо ко мне, я не нашелся, что ответить. Смутился на секунду и мой защитник. Этой секунды было достаточно, чтобы договор со мной на Госзаказ не был заключен. Старания моего друга на сей раз пропали даром.
Я считал себя счастливцем. Я гордился дружбой с ним.
И скажу в заключение. Старайтесь иметь такого друга, и вам будет хорошо, очень хорошо.
Ноябрь 64 г.
Леонид Малюгин Евгений Шварц
Евгений Львович попал в Ленинград, в сущности, уже сформировавшимся человеком — актером ростовской труппы; казалось бы, провинция должна была наложить на него свой неизгладимый отпечаток.
Но на каждого, кто встречался со Шварцем впервые, он производил впечатление коренного ленинградца из тех, кого принято называть петербуржцами. Трудно дать исчерпывающую характеристику этого редкого, к сожалению, типа, одним из признаков его является большая культура, не односторонняя, не ограниченная рамками своей профессии, но свободно переходящая в соседние, а подчас и в весьма отдаленные области знаний.
Широта культуры соединяется в этом типе с безупречным вкусом. В коренных ленинградцах это не только понятно, но даже естественно: город, построенный как произведение искусства, с детства воспитывает в человеке чувство прекрасного, если, разумеется, этот человек не страдает природной эстетической глухотой. Но Шварц, повторяю, вырос в провинции, и безошибочность вкуса у него была качеством не врожденным, а благоприобретенным.
Было в нем еще одно качество, которое также служит одним из главных признаков истинного петербуржца, — его можно назвать воспитанностью.
— Воспитанность ты почитаешь предрассудком, — упрекал Чехов брата литератора.
Увы, у нас она до сих пор считается предрассудком. Учтивость и такт, хорошие манеры, приветливость, улыбка признаются необходимыми главным образом для продавщиц, парикмахеров и стюардесс. Для всех остальных воспитанность считается совсем не обязательной. Мало ли работников искусства, для которых искусство, прекрасное, остается только в сфере работы, никак не отражается на манере жить, на поведении в быту.
Вряд ли кому-нибудь удавалось увидеть хоть раз Евгения Львовича в дурном настроении: это почти так же невероятно, как застать его небрежно одетым. Даже если вы появлялись у него на минутку, невзначай, без предупреждения, он встречал вас как званого гостя — учтивый, элегантный, подтянутый, с доброй приветливой улыбкой и изящной шуткой. Приходил ли он к вам в дом по приглашению, на какое-нибудь семейное торжество или просто забегал мимоходом, сразу же с его приходом возникала особая праздничная атмосфера. Куда бы ни приходил Шварц — в редакцию или в семейный дом, в театр или на заседание — сразу сдувало скуку, словно пыль — ветром.
Это был человек удивительного обаяния. Впрочем, что ж тут удивительного? Это естественное обаяние ума — тонкого и изящного, щедро одаренного юмором.
Юмор, ирония — это ведь тоже одно из слагаемых типа петербуржца, а может быть, главная отличительная черта.
Я не знал Шварца в его молодые годы: мы познакомились, когда ему было уже за сорок. Но нетрудно представить, как чувствовал себя молодой провинциал, очутившись в Доме искусств (с этого началось его знакомство с Ленинградом) — этой цитадели петербургских остроумцев.
Рафинированные интеллигенты, люди с ироническим складом ума, осмеивали здесь все, не щадя никого: ни отца родного, ни даже самого себя. Были здесь и люди, шутившие тонко, умно и незаметно. Были и блестящие остроумцы, подававшие свои остроты как репризы, их афоризмы передавались из уст в уста. Были и просто острословы, которые острили без умолку, обрушиваясь на слушателя каскадом изысканных каламбуров, — в своем бессмертном стихотворении Блок назвал их испытанными остряками.
В такой компании легко было растеряться, оробеть, даже потерять дар речи. Шварц не стушевался в этом разноголосом хоре мастеров иронии и шутки, его голос был услышан.
Гейне писал в одном из писем, что острота, взятая сама по себе, ничего не стоит, она хороша только тогда, когда покоится на серьезной основе. Он сокрушался, что иногда опускается до острот.
Шварц был человеком неистощимого юмора, но он редко опускался до острот. Его юмор был построен на серьезной основе. Он был добрым человеком, но, как верно было сказано, добро невозможно без оскорбления зла. Его шутки далеко не всегда были добрыми, острил он нередко зло и беспощадно. Он никогда не подавал свои остроты, никогда не превращал собеседников в зрителей. У него был тот, может быть, высший сорт юмора, который англичане называют юмором со спокойным лицом, та еле уловимая ирония, которую надо было распознать и оценить по достоинству. Он острил мимоходом, между прочим, но его шутки, в частности те, в которых давалась меткая, точная и образная оценка спектакля или кинофильма, романа или картины, быстро распространялись по Ленинграду.
Шварц был веселым человеком, и тот, кто встретился с ним впервые, получив наслаждение от общения с тонким и изящным умом, мог подумать, что живется такому человеку, избалованному успехом, легко и приятно.
У кого из художников жизнь бывает легкой?
Вероятно, у каждого драматурга есть непоставленные пьесы, у Шварца их было больше, чем сыгранных.
У нас, драматургов, стали, к сожалению, распространенными слова «первый вариант». У нас нередко сдают в театр или киностудию незавершенную работу, черновик будущего произведения. Для Шварца это было так же невозможно, как показаться на людях в дурном расположении духа или небрежно одетым.
Шварц, не возражая, выслушивал все предложения и замечания, и лицо, дающее указания, могло подумать, что завтра же покорный автор сядет за переделку. Шварцевскую деликатность принимали за покорность.
Этот мягкий и деликатный человек в творчестве был мужественным и несгибаемым.
Переделывать пьесы и сценарии Шварц не умел, он умел только писать (1). Он прятал в стол отвергнутое произведение и, пережив аварию, принимался за следующее.
В жизни Шварца, вероятно, самыми трудными были годы эвакуации. Это понятно — истинного ленинградца перенесли в другой мир. Самым тяжелым для него оказался не первый, а второй год эвакуации, когда человек, казалось бы, должен уже прижиться на другой почве.
Позже, это было уже после войны, Шварц рассказывал мне замысел задуманной им пьесы для школьников. Она должна была называться «Самый трудный день».
— Какой, по-вашему, для ребят самый трудный день недели? — спросил он меня.
— Понедельник, — ответил я, не задумываясь.
— Это, если придерживаться поговорки — понедельник день тяжелый, — улыбнулся он. — Нет, понедельник для школьников, пожалуй, самый легкий день. Они рады встрече после разлуки, даже учителя кажутся им милыми. Они еще не остыли от воскресных удовольствий. Самый тяжелый день недели — четверг. Середина. Перевал. Воспоминания об отдыхе уже улетучились, а новый еще далеко. В пятницу легче, перевал пройден, впереди суббота и желанное воскресенье. Четверг, — сказал он убежденно.
Мне хочется подробнее рассказать о шварцевском «четверге», хотя в этом тяжелом году — 1943-м — мы с ним почти не встречались: он жил в Кирове, а я в Ленинграде. Виделись мы лишь несколько дней — в Москве (2). Но мы часто переписывались, а в письмах Шварц был подчас откровеннее, чем в разговорах, позволяя себе даже жаловаться. Правда, всегда сдабривая печаль шуткой.
Первый год эвакуации Шварц прожил сносно. Попал он в Киров, пережив самое трудное, самое голодное время ленинградской блокады. Он въезжал в Киров с естественной радостью человека, обманувшего собственную смерть, ускользнувшего от нее в самый последний момент.
Он поселился в общежитии и на следующее утро отправился на базар. После ленинградской голодовки, микроскопических порций, он ахнул, увидев свиные туши, ведра с маслом и медом, глыбы замороженного молока. Денег у него не было, да торговцы и брали их неохотно, интересуясь вещами. Шварц в первый же день, видимо, думая, что это благоденствие не сегодня-завтра кончится, променял все свои костюмы на свинину, мед и масло — он делал это тем более легко, что они висели на его тощей фигуре, как на вешалке.
В эту же ночь все сказочные запасы продовольствия, оставленные им на кухне, напоминавшей по температуре холодильник, были украдены. Украли их, вероятно, голодные люди; кто был сытым в эту пору, — только проходимцы да жулики. Но все равно тащить у дистрофика-ленинградца было уж очень жестоко.
Однако Шварц не ожесточился, успокоил жену, которая перенесла эту кражу как бедствие, и сел писать пьесу.
Пьеса писалась вдали от Ленинграда. Ленинград, изолированный кольцом блокады, был словно на другом континенте, но ленинградцы, созданные шварцевским воображением, были рядом. Впрочем, не только воображением, но и наблюдением. Пьеса «Одна ночь» занимает особое место в драматургии Шварца. Герои ее — жильцы одного из ленинградских домов (этот дом находился на канале Грибоедова — на этой же улице жил и Шварц), действие ее происходит в конторе домохозяйства, где немало ночей на дежурствах провел и сам Шварц. События в пьесе развиваются в течение одной ночи, самой долгой ночи, самой тяжелой поры ленинградской блокады.
Начиналась эта пьеса не печалью, не жалобой, а мечтой.
«Эх, праздничка, праздничка хочется, — говорил электромонтер Лабутин, — ох, сестрицы, братцы, золотые, дорогие, как мне праздничка хочется. Чтобы лег я веселый, а встал легкий!» Он продолжал, обращаясь к радиорепродуктору, откуда слышался монотонный стук метронома: «Что ты отсчитываешь? Сколько нам жить осталось до наглой смерти или сколько до конца войны?»
Пьеса была написана очень быстро. Он сложил пьесу, как песню.
Находясь вдали от Ленинграда, Шварц продолжал жить им. Он поехал в область, в пионерский лагерь, с мыслью написать пьесу для тюза. И здесь — в глубинке — он натолкнулся на ленинградских детей. С ребятами он сходился удивительно быстро. Одна девочка показала ему драгоценный сувенир, который она хранила уже год, — ленинградский трамвайный билет. Ребята мучились тоской по родителям и тоской по Ленинграду. Один из подростков признался Шварцу, что он надумал бежать в Ленинград, к отцу, уже насушил на солнце сухарей, экономя из своего скудного пайка, — и поведал ему тщательно продуманный план бегства. В «Одной ночи» мать пробиралась к сыну в Ленинград через фронтовое кольцо, теперь сын собирался к отцу через ту же преграду. Шварц пытался отговорить его, не словами, а пьесой, — история этого парня легла в основу сюжета.
Пьеса называлась «Далекий край». Драматург старался внушить ребятам, — а сколько их было оторвано от родных гнезд, — что жить не только нужно, но и можно и в далеком от своего города, от родного дома, краю. Внушая это другим, Шварц словно уговаривал и самого себя, стараясь излечиться от ленинградской ностальгии.
В начале 1943 года было прорвано кольцо ленинградской блокады. Вскоре пришло письмо от Шварца. «Я все больше и больше склоняюсь к мысли о Ленинграде, — писал он. — Я не укладываюсь, но с нежностью поглядываю на чемоданы. Я ужасно боюсь, что когда можно будет ехать — сил-то вдруг и не хватит. Впрочем, это мысли нервного происхождения».
Я знал о плохом физическом состоянии Шварца и советовал ему не торопиться в Ленинград, тем более что прорыв блокады имел скорее моральное значение. Положение ленинградцев, в сущности, почти не изменилось. Мало того, как бы в отместку за прорыв блокады немцы начали усиленно обстреливать город.
Но уговоры никак не действовали. Возвращение в Ленинград стало у него навязчивой идеей, он писал о нем в каждом письме.
«О Ленинграде мы знаем более или менее все. И тем не менее завидуем!»
«Все больше и больше склоняюсь к мысли ехать в Ленинград, несмотря ни на что». Он подчеркнул «несмотря ни на что» и добавил со свойственной ему шуткой: «Умирать — так с музыкой, и в компании».
Он жаловался на свое одиночество в многолюдном общежитии.
У Шварца были два любимых занятия — писать и читать. Если нагрянуть к нему внезапно, его можно застать за рукописью или за книгой. Он писал одну за другой пьесы, но его меньше всего можно было назвать театралом. Он признавался, что даже на свои пьесы ходит не очень охотно. Я, бывая с ним на спектаклях, наблюдал больше за ним, чем за происходящим на сцене. Он шептал слова своей пьесы, болезненно морщась при каждом вольном обращении артиста с текстом.
Шварц был домоседом, но его меньше всего можно было назвать нелюдимом. Он не мог жить без общения с друзьями, без беседы, в которой шутливое чередуется с серьезным.
В каждом письме из Кирова он напоминал о Ленинграде. Он был человеком деликатным и никогда не докучал просьбами, но напоминал об этом шутками. Он писал, что ежедневно работает над пьесой под заглавием «Вызови меня!». (Тогда появилась пьеса Симонова «Жди меня».)
Я ведал репертуарной частью Большого драматического театра имени М. Горького и, вероятно, мог бы помочь Шварцу получить вызов. Пропуска в Ленинград давались весьма осмотрительно, вызовы подписывал непосредственно председатель Ленсовета. Но, думается, театру не отказали бы в пропуске для Шварца, тем более что он был нашим автором — он передал нам пьесу «Одна ночь».
Но я, признаться, не торопился с хлопотами. Я по рождению ленинградец и по себе знаю, какой колдовской силой обладает этот город. Но я понимал, что Шварцу не по плечу тяготы жизни в осажденном городе. Тоска, думалось, пройдет, Шварц успокоится, как всегда, работой. Ведь первый год эвакуации оказался для него весьма плодотворным: кроме тех двух пьес, о которых я уже говорил, он написал сказку для кукольного театра, продолжал работу над «Драконом».
Я полагал, что, увлеченный «Драконом», он забудет о Ленинграде.
Но случилось самое печальное — он написал, что, впервые с тех пор как уехал из Ленинграда, у него не клеится работа.
«Я тут сделал открытие, — писал он в следующем письме, — мелкие периферийные неприятности хуже артобстрела. Они бьют без промаха. Если не верите — приезжайте к нам и поживите зиму-другую. Не могу я тут больше писать. Хочу писать в боевой обстановке».
Если Шварц потерял возможность работать, значит, надо ему уезжать из Кирова.
Н. П. Акимов, находившийся с Театром комедии в Таджикистане, усиленно приглашал к себе. Казалось бы, все складывается хорошо: Шварц, правда, удалялся от Ленинграда, но, попав в творческую среду, смог бы работать плодотворно.
Еще недавно он писал, что его мысли о собственной слабости — нервного происхождения. Оказалось — совсем не нервного. Когда все было готово: достали с громадными трудностями билеты, уложили вещи, сдали карточки, Шварц, пройдя все предотъездные хлопоты, вдруг понял, «что истратил все силы и ему не одолеть дальнюю дорогу». «Я обнаружил вдруг, что мне, пожалуй, не доехать, — писал он, — а если и доехать, то на новом месте я буду очень плохим работником, и я струсил и отступил».
Напугало его больше всего то, что он будет на новом месте плохим работником.
Подписано это горькое письмо было так — «известный путешественник Е. Шварц». Я вспомнил реплику из его пьесы «Одна ночь» — «шутки шутят в условиях осажденного города». Юмор не покидал его ни при каких обстоятельствах.
Жизнь строит подчас неожиданные сюжеты. Я, только что мысленно прощавшийся со Шварцем надолго (шутка ли, судьба бросает его на другую окраину страны — на Памир), вскоре встретился с ним в Москве. О встрече друзей позаботилось ведомство — Комитет по делам искусств вызвал нас на драматургическое совещание.
Я опоздал к открытию совещания по причинам вполне уважительным.
Я вошел в зал во время выступления одного известного режиссера. Он призывал драматургов писать патриотические пьесы. Он не говорил, а почти кричал, отчаянно жестикулировал, вел себя так, как будто звал всех ринуться в атаку. Я начал оглядывать зал и отыскал глазами Шварца. Он тоже заметил меня, мы переглянулись и улыбнулись, как заговорщики.
Следом за режиссером вышел литератор и начал бубнить по бумажке:
— Мое творчество… Я создал… Моя биография…
Тут Шварц не выдержал и пошел к выходу. В коридоре было оживленней, чем в зале. Жизнь разбросала людей по разным фронтам и городам, и они, встретившись после долгой разлуки, никак не могли наговориться.
— Тот — артист, он не может не играть, — возмущался Шварц. — Но мог бы играть по системе Станиславского, а не каратыгинствовать. Но наш-то хорош! Видимо, считает ниже своего достоинства пользоваться обыкновенными словами. К чему «творчество», когда можно сказать «работа»? Почему «создал», а не «написал». Обожают говорить красиво. Ну, шут с ними! Почему вы опоздали? Неужели в Ленинграде плохая погода?
Мы стояли у окна, куда врывалось весеннее солнце…
Я рассказал ему, что в день моего отъезда Ленинграду досталось и с воздуха, и с земли. Я ехал на аэродром мимо горящих зданий. В наш транспортный самолет усаживался солдат-стрелок, деловито проверяя, безотказно ли действует пулемет. Мы поднялись, но нас сразу же вернули обратно: погода была хорошая, но не летная.
— Самая отвратительная манера вранья — вранье с подробностями, — усмехнулся Шварц. — Хватит вести среди меня агитационную работу!
— К сожалению, я ничего не преувеличиваю.
— Когда вы наконец пустите меня в Ленинград? Живут же там люди! Я сам буду пробиваться в Ленинград. Я там нужен… Вы начинаете репетировать мою пьесу, я должен быть рядом. Завтра в Комитете по делам искусств я сам попрошу, чтобы меня направили в Ленинград.
Пьесу «Одна ночь» наша труппа приняла очень хорошо. Был назначен режиссер, распределены роли. Художник В. В. Лебедев увлекся пьесой и написал превосходные эскизы декораций и костюмов. Репетиции не начинались из-за того, что задерживалось разрешение на постановку пьесы.
Мы отправились с Шварцем в Комитет выяснить — почему задерживается разрешение. Наш разговор с театральным начальником был длинным и тягостным. Он очень долго говорил о блокаде Ленинграда. О пьесе он сказал совсем мало — величественная блокада Ленинграда должна быть воплощена в жанре монументальной эпопеи, а в пьесе «Одна ночь» отсутствует героическое начало, ее герои — маленькие люди, и этот малый мир никому не интересен.
Я пробовал возражать. Шварц сидел молча. Начальник вернул Шварцу пьесу, а мне дал другую.
— Вот, рекомендую познакомиться!
— Почему вы молчали? — спросил я, когда мы вышли на улицу. Вдвоем мы переубедили бы его.
— Не думаю. Спорить с ним — это все равно, что возражать радиорепродуктору. Вы ему что-то говорили, а он продолжал свое. И потом он все время говорил — «мы считаем». Не «я», а «мы». И сколько человек стоит за ним, кто уходит в это понятие — «мы»? И зачем так подробно он говорил нам о блокаде, словно мы не нюхали ее, а приехали из Калифорнии… Не нужен я в Ленинграде, — сказал он, помолчав.
— Я отговариваю вас от Ленинграда не потому, что там опасно. Неизвестно, где и когда подстережет нас смерть. Вам надо написать «Дракона». А в таких условиях вы его не напишете!
— «Дракона» я напишу даже в аду.
— Вы напишете его в Москве! Вам надо хлопотать, чтобы вас оставили здесь. Уже многие писатели вернулись из эвакуации в Москву. Вас наверняка оставят.
— В порядке компенсации за убитую пьесу, — усмехнулся он. — А что же за пьесу он вам рекомендовал? Покажите, это, наверное, образец, по которому надо равняться! Как хочется научиться писать рекомендуемые пьесы!
Мы стали рассматривать рекомендованную пьесу. Называлась она «Власть тьмы». Что такое: время ли сейчас для толстовской драмы? Но оказалось, что толстовской вывеской прикрывалась примитивная ремесленная пьеса о захвате Ясной Поляны немцами. Пьеса, напоминавшая пародию, открывалась списком «действующих лиц» и «действующих вещей» — халат Л. Н. Толстого, туфли Л. Н. Толстого и т. п.
— Это же находка! — улыбнулся Шварц. — Не написать ли мне пьесу об Иване Грозном под названием «Дядя Ваня». Нельзя ли подписать договорчик? И начальство одобрит!
Именно тогда началась «реабилитация» Ивана Грозного. Я напомнил Шварцу, что это все он уже предугадал: в его пьесе для детей «Клад» был сторож из заповедника — Грозный Иван Иванович.
Следующее письмо пришло не из Москвы и не из Кирова, а из Таджикистана.
«В Москве надо было, по крайней мере, спрятать самолюбие в карман, — писал Шварц, — забыть работу, стать в позу просителя. А я человек тихий, но самолюбивый. И даже иногда работящий. И легко уязвимый… Выносить грубость сердитых и презрительных барышень — для меня хуже любого климата. И вот мы уехали в Сталинабад».
Следующее письмо было совсем мажорным — Шварцу некогда было отдыхать от дальней дороги, не было времени на акклиматизацию в непривычном и трудном климате, он сразу же сел за работу. «Дракон» был написан очень быстро. Он сообщал, что Акимов уже уехал с пьесой в Москву. Можно было представить, в каком тревожном состоянии пребывает Шварц, но письмо его было спокойным: «Пока что я не жалею, что повидал настоящую Азию. Пишу. А это, честное слово, извините за прописную истину, все-таки самое главное. В настоящее время я занят пьесой под названием „Мушфики молчит“. Мушфики — это таджикский Насреддин. Когда мы увидимся? Вести с фронтов подают надежду, что скоро».
Нельзя было не радоваться за него — он только что окончил пьесу и уже принимается за следующую.
Пьеса «Мушфики молчит» не была написана — Шварц вместе с Театром комедии вскоре переехал в Москву, В августе 1944 года я получил телеграмму: «Для восстановления вашего душевного равновесия к вам едет Шварц».
Наконец мы встретились с ним на ленинградской земле. Я сказал, что подготовил ему небольшой сюрприз.
Сюрприз был действительно небольшой, совсем крохотный. В учебном классе студийцы Большого драматического театра сыграли ему сцену из пьесы «Одна ночь». Играли они не бог весть как, но искренне и горячо; они были подростками в первый год войны и сами пережили то, что происходило с юными героями пьесы. Будущие артисты, сыграв сцену, пытались убежать из класса, они впервые выступали перед автором. Но Шварц буквально схватил их за руки. Через несколько минут они уже забыли свою робость и разговаривали с ним откровенно и увлеченно.
— Я перестану вас уважать, — сказал Шварц, когда мы остались в классе вдвоем, — если вы не напишете для этих ребят пьесу.
Шварц не раз укорял меня в письмах, — «только болезненное самолюбие мешает Вам писать пьесы». Эти слова и, конечно, влюбленность в студию заставили меня решиться на отчаянный шаг. Этой осенью я написал «Старых друзей». Шварц не был моим литературным наставником, но я могу считать его крестным отцом своего драматургического первенца.
После войны жизнь опять развела нас, я переехал в Москву. Но как только мы оказывались в одном городе — приезжал я в Ленинград или он — в Москву, — мы встречались в первый же день. Разлука не ослабляла нашей дружбы, наоборот, мы стали ближе, перешли на ты, что для той и другой стороны представляло немалые трудности.
К Шварцу пришла известность, которую он давно заслужил, — его пьесы ставились уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Пришла слава, был достаток, было все, кроме здоровья.
В Москве, в Театре киноактера, поставили его пьесу «Обыкновенное чудо» (3). Болезнь уже не позволила ему приехать в Москву посмотреть спектакль. Я написал ему подробную рецензию на спектакль. В ответ пришло письмо, написанное уже не корявым почерком Шварца, а отстуканное Екатериной Ивановной под диктовку на машинке.
«Спасибо тебе за обстоятельное письмо, — писал он. — После него спектакль мне стал совершенно понятен.
Насчет третьего акта ты, конечно, прав (я писал, что третий акт в пьесе слабее первых двух. — Л. М.).
Напомню только, что говорит об этом Чапек. Он пишет, что, по общему мнению, первый акт всегда лучше второго, а третий настолько плох, что он хочет произвести реформу чешского театра — отсечь все третьи акты начисто.
Говорю это не для того, чтобы оправдаться, а чтобы напомнить, что подобные неприятности случаются и в лучших семействах.
…Все как будто хорошо, но у меня впечатление, что мне за это достанется. Я бы предпочел, чтобы все проходило более тихо. Хорошие сборы?! Простят ли мне подобную бестактность? Открываю газеты каждый раз с таким чувством, будто они минированы.
У меня было сочинено нечто для программы, вместо либретто. Там я просил не искать в сказке скрытого смысла, сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а чтобы открыть свои мысли. Объяснял, и почему в некоторых действующих лицах, более близких к „обыкновенному“, есть черты сегодняшнего дня. И почему лица, более близкие к „чуду“, написаны на иной лад. На вопрос, как столь разные люди уживаются в одной сказке, отвечал: — очень просто. Как в жизни.
Театр не собрался напечатать программу с этими разъяснениями, но, тем не менее в основном зрители разбираются в пьесе без путеводителя. В основном. И я пока доволен. Но открывая газеты… и т. д.».
Он боялся не суровой критики, он боялся быть непонятым.
Последний раз я виделся с ним в дни празднования его 60-летия (4) — мы поехали праздновать его юбилей целой компанией москвичей — бывших ленинградцев.
Он был болен тяжело и понимал, конечно, серьезность своей болезни. Но когда я спросил его о самочувствии, он сразу же перевел разговор на другую тему:
— Неужели ты такая же зануда, как все! Расскажи лучше о поездке в Лондон.
— Нет, сначала я расскажу о Майкопе.
Он заволновался от рассказа о городе своего детства.
— Как быстро все это прошло, — сказал он с удивлением и обратился к жене: — Катя! Переедем на юг?! Я всю жизнь мечтал жить на юге. И всю жизнь прожил на севере. Переедем!
Он задумался и сказал с горечью:
— Поздно!
— Женя! — сказал я, разряжая тяжелую паузу. — Тебе нельзя уезжать отсюда, как-никак ты уже достопримечательность Ленинграда.
— Юбилей еще не начался! — иронически улыбнулся он. — Уцененная достопримечательность.
Через год с небольшим я приехал проводить Шварца в последний путь.
Пробиться к мертвому Шварцу было невозможно. Гражданскую панихиду устроили почему-то не в большом зале писательского клуба, а в маленькой комнате. Кто-то из похоронной комиссии оправдывался — не ждали, что придет так много народа.
Я ехал в автобусе с мертвым Шварцем и думал о том, что он прожил жизнь трудную, но счастливую. Он не знал суеты, все его дела, мысли, интересы были отданы одному — литературе. У него были произведения сильные, средние и просто слабые, но не было ни одного, написанного по расчету, в угоду обстоятельствам времени. О нем можно было говорить разное, но никто не мог упрекнуть его в неискренности, Он ни разу в жизни не солгал в искусстве, никогда не приукрашивал, ни разу не покривил душой, не слукавил.
Все люди смертны. Но нет горше конца жизни для художника, когда он еще жив, а уже бессилен создать новые произведения, а старые уже забыты. Когда художник еще живет, но искусство его умерло, Что может быть трагичнее такого конца?
Шварц умер сразу после премьеры своей пьесы «Повесть о молодых супругах». После его смерти продолжают выходить на сцену и на экран его произведения. Они волнуют зрителя, заставляют его радоваться и смеяться, и многие зрители не знают, что автора, веселого и душевного человека, уже давно нет в живых.
Слово «бессмертие» — торжественное, Шварц боялся таких слов. Но что может быть радостнее для художника, когда его творения выдерживают проверку временем, когда они волнуют не только современников, но и потомков.
По непонятным причинам продолжает лежать без движения пьеса «Одна ночь». Вероятно, она небезупречна, мне трудно ее анализировать, я смотрю на нее, как на страницы автобиографии Шварца — никогда в его пьесах не отражалось так ясно и непосредственно им пережитое.
Герои этой пьесы, люди чудаковатые, немного смешные, но трогательные и душевные, временами начинают разговаривать языком самого Шварца.
Пьеса заканчивается словами электромонтера Лагутина, который и начинал пьесу: «Будет, будет праздник! Доживем мы до радости. А если не доживем, умрем, пусть не забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. Пусть приласкают, пусть похвалят за терпение, за твердость, за верность!»
Слова эти звучат как завещание Шварца, обращенное к современникам и потомкам. Эти слова должны быть произнесены со сцены.
Леонид Рахманов Поздняя дружба
Летом 1942 года, когда Шварц приехал к нам из областного Кирова в районный Котельнич, мой отец, который видел его впервые, решил, что он всегда был такой тощий. А я и в самом деле помнил Евгения Шварца еще худым, в обмотках, в широком и плоском английском кепи с наушниками, нависавшем над острым, как у Шерлока Холмса, профилем. Но это было давно, в двадцатые годы. С тех пор Шварц постепенно грузнел и внешне солиднел вплоть до войны и блокады. Впрочем, когда кто-нибудь из друзей тыкал его пальцем в объемистый живот, он уверял, что жира там нет, что там просто воздух.
Шварц приехал в Котельнич (1), не только перенеся перед этим первые, самые тяжкие месяцы ленинградской блокады, но и переболев в Кирове скарлатиной: подхватил ее у приехавших также из Ленинграда детей репрессированного поэта Николая Заболоцкого. Сам Заболоцкий был родом из Уржума, то есть прирожденный вятич, дети же его родились и выросли в Ленинграде, под боком и под опекой Евгения Львовича. Они были соседями по дому на канале Грибоедова, Шварц был очень привязан к ним и с радостью приютил их в своей маленькой эвакуационной комнате в Кирове.
— Да, Леня, — наставительно говорил он, — чтобы в сорок пять лет суметь захворать скарлатиной, надо быть детским писателем — только для нас существует возрастная льгота. Вы пока ее не заслужили. Скорее начинайте писать для детей!
В Котельниче мы с Шварцем спали на сеновале, где, разумеется, долго перед сном разговаривали, а рано утром будила нас курица, виртуозно певшая петухом. Шварц не раз потом о ней вспоминал, считая такое диво тоже подарком судьбы в этот страшный год. Оба мы нашей встрече невероятно обрадовались, как обрадовались за месяц перед тем, узнав, что нас разделяют всего сто километров по железной дороге. Оба лишь недавно справились с дистрофией, а Шварц еще и с болезнью), оба тосковали по Ленинграду, но главное, что угнетало тогда всех, были черные вести с фронтов. Блокадные испытания уже казались какими-то бесконечно далекими, словно бы потусторонними, — столько военной беды грохотало в стране этим летом.
Знакомы с Шварцем мы были давно, но подружились только во время блокады. И вот встретились здесь, в условиях, далеких от нормальных, но все же не ленинградских. Мы знали, что это как бы бивуак в нашей жизни, и потому особенно ценили эту встречу «на перевале». За короткие дни пребывания в Котельниче Шварц успел побывать в детском доме, эвакуированном из Ленинграда, из Кировского района в Кировскую область, и помещавшемся километрах в двадцати от Котельнича. Именно об этом детдоме он написал через несколько месяцев пьесу «Далекий край» (2), которая пошла потом в Московском ТЮЗе и в других детских театрах страны. Увы, число тюзов в военные годы резко сократилось, — большинство их до войны приходилось на западные и южные области.
В Котельниче же Шварц прочел нам вслух другую свою пьесу — «Одна ночь», о ленинградской осаде, о жакте, где он с женой Екатериной Ивановной дежурил на чердаке, на крыше, сражаясь с «зажигалками». В этой пьесе отлично были написаны женщины. В поэтичном образе Марфы мы ощутили столь присущую Шварцу-сказочнику волю к добру, помогающую преодолеть и большую беду и житейские горести, прибавляющую сил, чтобы жить и работать.
Начался 1943 год. Перед тем как мне переселиться в Москву, мы с женой приехали в Киров. Шварц нам устроил ночевку в местном театре, где он служил завлитом. Еще шел спектакль «Синий платочек» (3), а мы, утомившись за долгий, ненастный мартовский день, уже завалились спать в директорской аванложе под звуки душещипательного романса, сопровождавшего лейтмотивом этот спектакль. Шварц ушел из нашей «спальни» не раньше, чем убедился, что нам удобно, что промокшие наши пальто висят на спинках кресел, а разбухшие от снежной жижи башмаки аккуратно приставлены к радиаторам, которые, правда, были уже выключены на ночь.
Утром мы со Шварцем отправились на базар — купить картошки и молока: вечером предстоял «кутеж» в честь приезжих гостей. Я редко встречал людей более легкомысленных по части своего материального обеспечения, но тут он счел хозяйским долгом непременно пробовать покупаемое молоко, наливая несколько капель на ладонь. (Возможно, что таков был местный обычай, который он не считал себя вправе нарушить!) Бабы с любопытством и жалостью смотрели на его трясущиеся руки, но цен отнюдь не сбавляли. Шварц, пересиливая себя, сказал с вымученной улыбкой:
— Наверно, думают, что это у меня от жадности. Или что я кур воровал. Леня, скажите им, что я не украл даже вашей чудо-курицы…
Днем, пока я хлопотал о пропуске и железнодорожном билете в Москву, Шварц читал труппе областного театра мою новую пьесу, которая ему, кажется, не очень-то нравилась, но товарищеский долг превозмог личные вкусы. Его поддерживала, пошутил Шварц потом, надежда на то, что директор театра угостит его после читки папиросой «Казбек», как угостил в первый день меня, — увы, надежда не оправдалась…
А затем мы простились до встречи в Москве в 1943 и 1944 году. Москва 1944 года и спектакль Театра комедии «Дракон» — это особая тема, пусть расскажет об этом кто-то другой, ближе в то время стоявший к театру, скажу лишь, что, на мой взгляд, это был наивысший подъем, наилучшее достижение Шварца в драматургии. Через четырнадцать лет, когда поздним январским вечером я узнал о его смерти, первое, что я сделал, чтобы продлить связь с живым Шварцем, я взял стеклографическое издание «Дракона», которое опубликовал в 1944 году ВУОАП (Всесоюзное управление по охране авторских прав), — взял и до трех часов ночи не выпускал из рук, пока опять не прочел всю пьесу. Что говорить о художественной ее силе? Скажу о пророческой силе: сколько фашистских режимов и путчей она предсказала — в Греции, в Чили, недавние попытки в Италии, да разве все перечислишь! Хорошо, если рано или поздно они кончаются победой добра, олицетворенного в бесстрашном Ланцелоте…
Летом 1943 года, когда Шварц еще только задумывал «Дракона» (4), он ненадолго приехал в Москву, и мы почти каждый день встречались либо у него в гостинице, либо у меня на Трубниковском, благо этот переулок недалеко от центра. Я жил в первом этаже, и если кто-то стучал по железному козырьку наружного подоконника, я не глядя знал — это Шварц. Я пускал его в полуразрушенную квартиру, жильцы которой эвакуировались из Москвы в 1941 году, мы садились в плюшевые плешивые кресла и толковали; затем я его провожал в гостиницу «Москва» и скорее бежал назад, чтобы успеть домой до комендантского часа.
О своих литературных делах мы говорили мало, основной темой была война, события на Орловско-Курской дуге и… Лев Толстой. Впрочем, одни ли мы вспоминали тогда «Войну и мир»? Но у нас нашелся еще один повод поговорить о Толстом, повод уже случайный: на столе лежал том «Литературного наследства», посвященный Льву Толстому. Мы обнаружили в нем новые, доподлинные штрихи к известному нам по ранее изданным дневникам Софьи Андреевны Толстой ее увлечению (в весьма немолодом возрасте) композитором Танеевым. Шварц меня удивил. Он никогда не осуждал за любовь, за влюбленность (сам расстался когда-то с первой женой, расстался жестоко, сразу после ее родов, без памяти влюбившись в Екатерину Ивановну), но тут неожиданно «заявил протест».
— Леня, как вы не понимаете, — чуть не сердясь, говорил он. — Толстой всю жизнь не выходил из боев. Истекая кровью, бился с самим собой… Уж это-то Софья Андреевна хорошо знала. Могла она его пощадить? — Он хмурил свои густые, кустистые, почти толстовские брови. — Нет, недаром, недаром он написал «Крейцерову сонату»!
Я не выдержал:
— Написал за пять лет до встреч Софьи Андреевны с Танеевым… И влюбленность ее была платонической. Истеричная и обиженная Софья Андреевна сама ее выдумала.
— Все равно! — упорствовал Шварц. — Она его мучила… а он мучил себя!.. — Он помолчал и вдруг заключил свою необычную для него азартную речь типично шварцевским оборотом, одновременно лукавым, серьезным, а главное, объяснившим мне — почему, заговорив о Толстом, он употребил столь знакомые нам в то военное лето слова «не выходил из боев», и вообще, что его тут взволновало.
— Интересно знать, — сказал Шварц, — живи этот великий пацифист сейчас, во время такой войны, как отнесся бы он к ней и к стихам «Жди меня» и «Убей его»? Помните вчерашнее собрание?
Еще бы! Вчера в Союзе писателей докладчик упомянул эти два знаменитых стихотворения Симонова подряд одно за другим, отчего возник новый смысл: жди меня и убей его, то есть будь верной женой и убей моего соперника! Как пишут в газетных отчетах, последовало веселое оживление в зале, что в те напряженные дни было как бы разрядкой…
Чаще всего встречались мы в конце сороковых, в начале пятидесятых годов. Я много тогда жил в Комарове под Ленинградом, а Шварц жил почти постоянно, лишь изредка наезжая в город. Об этих поездках он написал чудесный рассказ «Пятая зона», который, надеюсь, будет издан. При жизни Шварц не печатал своей «взрослой» прозы, все считал ее только «опытами». Он вообще был творчески мнителен, боялся, что чего-то не умеет, чему-то не научился и по-настоящему не нашел себя, тогда как на самом деле был одним из самых оригинальных писателей.
Но при всей своей мнительности и неуверенности в себе (а может быть, благодаря им) Шварц постоянно трудился над одним, над другим, над третьим, пробуя все жанры, до цирковой феерии и до балета включительно. Он увлекался тогда русскими сказками (сборники Афанасьева, подаренные Верой Кетлинской, вернее, выпрошенные у нее в подарок, всегда лежали у него на столе) и написал прелестную пьесу-сказку «Два клена», лирическую по складу и духу, но с убийственно сатирической бабой-ягой, которая нежно любит себя, называет ласковыми именами и прозвищами: «Я в себе, голубке, души не чаю… Вы, людишки, любите друг дружку, а я, ненаглядная, только себя самое».
1948–1949 были годами, когда много говорили о нашем приоритете во всех областях искусства и техники. Тогда находились и такие, которые, бия себя в грудь, утверждали, что больше никто в мире ничего толкового не открывал и не изобретал. Эти люди были убеждены, что, к примеру, пьесу Шварца «Обыкновенное чудо» не следует ставить, поскольку сюжет ее основан не на русском фольклоре. Перестала идти на сценах «Тень», и лишь для «Снежной королевы» театры делали исключение: приходилось же что-то ставить из того, что любили дети.
Именно тогда мы больше всего нуждались друг в друге, — я, по крайней мере. Мы с Шварцем встречались в Комарове ежедневно, вернее — по два раза в день. Днем он заходил ко мне, и мы гуляли, а вечером я шел к нему. Однажды, помню, была такая метель, что на дороге местами намело сугробы чуть не по пояс, но Шварц все равно провожал меня, и мы, как всегда, говорили и говорили.
О чем же мы разговаривали? Обо всем на свете. Беседы наши нередко были бестолковы, то есть не имели определенной цели, определенного предмета обсуждения, но редко бывали бессодержательны. И это понятно: ум и память Шварца были необычайно активны, мозг его все подвергал живому исследованию и воспроизведению. Обычно считается, что в пожилом возрасте человек хорошо помнит (и любит вспоминать) прошлое: детство, юность, молодые годы. Шварц помнил все: и детство, и то, что он видел или о чем ему рассказали вчера, неделю, месяц назад. Причем это были самые разные области: быт, житейские мелочи, политика, литература. Например, он обстоятельно объяснял мне повадки жуков, о которых рассказывал ему зять, энтомолог. Такие подробности никогда не выглядели в его пересказе отдельным курьезом, а как бы естественно входили в общую картину мироздания, прибавляли к ней какие-то очень живые черточки. Нельзя сказать, чтобы Шварц специально интересовался естественными науками, читал биологические книги, но то, что узнавал хотя бы случайно, навсегда западало в его память, из этих сведений делались своеобразные выводы, и вообще это становилось интересным для всех, а не только для специалиста или для самого Шварца. Кстати, это не означало, что Шварц обладал научным складом ума — отнюдь нет. Он много раз с доброй завистью говорил мне о способности нашего друга Н. К. Чуковского предельно четко и ясно излагать и, если надо, разъяснять незнакомые нам научные законы и факты.
Ближе всего Шварцу были общественные науки — всемирная и русская история и история искусств и литература. Чтобы не быть голословным, приведу одну выдержку из его письма, сравнительно позднего (1955 год), когда он уже перенес первый инфаркт и был уложен в постель, хотя чувствовал себя хорошо и называл себя «невинноуложенным» или «невинноосужденным».
«Я пробую писать, но больше читаю. Взялся за „Илиаду“ в гнедичевском переводе — и ужаснулся, в библейском смысле этого слова. В Библии после каждого решения царя Соломона говорится: „и народ ужаснулся“… Я не представлял, что это такое! Ручаюсь вам, что Гомер был, что бы там ни открывали в 19 веке немцы. Впрочем, утверждать, что „Илиада“ гениальное произведение — тоже не открытие. После „Илиады“ прочитал я Аристофана. И тоже был близок к тому, чтобы ужаснуться. Надо бы взяться за ихние трагедии, но боюсь, что там отсутствует именно то, что меня столь прельстило в вышеперечисленных произведениях: быт. Хочу достать „Анабазис“ (Ксенофонта. — Л. Р.). В „Литературной газете“ вы прочли, вероятно, подвал о том, что вышла в научных записках Московского университета новая книжка о греческих мифах. Эту книжку обещал принести Глинка.
Кроме того, удалось мне прочесть Уоллеса „Сын палача“, Уильяма Дж. Локка „Скоморох“ и „Великий Пандольфо“ и книжку рассказов Фонвизина. Не классика, а бульварного. Вышел двухтомник „Толстой в воспоминаниях современников“… Составлен сборник не ахти. Воспоминания подобраны и обструганы произвольно. Вы, например, можете подумать, что Толстой очень любил Островского. Хотя, как Вы знаете, высказывался он так и этак. И это еще не самое главное… Но тем не менее — интересно. Сколько тут ни стругай — человека подобных масштабов не обстругаешь. И все же „Гоголь в воспоминаниях современников“ и „Чехов в воспоминаниях“ — куда лучше. Простите, что пишу о книгах, но у нас, невинноуложенных, других новостей мало… Сейчас принесли анализ крови. Ура! РОЭ всего семнадцать! Походить бы! Невский проспект кажется мне сейчас просто раем!»
В это грустное письмо и в перечисление серьезных книг не случайно вклинились развлекательный Локк и «бульварный» предреволюционный беллетрист Фонвизин. Аристофана и Гомера Шварц просто читал, а дешевый детектив «Сын палача» ему удалось прочесть… Конечно же, слышишь тут добродушный смешок! Но к этому стоит добавить, что Шварц любил читать второстепенных, а то и третьестепенных писателей, вроде Потапенко, Боборыкина, Авсеенко, Муйжеля, Салова, Чирикова. Он считал, что по ним точнее узнаёшь подробности прошлой жизни: не отвлекает гениальность психологических озарений. Это, пожалуй, скорее шутка, но зато его всерьез порадовало намерение Гослитиздата выпустить «Оскудение» Сергея Атавы (Терпигорева), несправедливо забытого писателя, который, по его мнению, в чем-то не уступал Щедрину: без его публицистических обобщений, но и без его желчи. Атава мягче относился к своим героям, пореформенным разорившимся помещикам, и его юмор, гибкий язык, сочность бытовых деталей нравились Шварцу.
Шварц бывал в жизни разным. Я эгоистично любил тихого Шварца, Шварца-собеседника. Знавал я и громкого Шварца, каким он бывал в большом обществе, на банкете, когда, встав на стул, осанистый, с римским профилем, он зычно провозглашал остроумные тосты. Многие знали его только таким, особенно до войны. Таким, повторяю, я любил его меньше, но все равно любил и вряд ли в этом оригинален! Шварца любили все или почти все, кто его знал, и когда затевался сборник воспоминаний о нем, мне в какой-то момент подумалось: «Если все авторы станут писать о своей любви к Шварцу, не утомит ли это читателя? Не лучше ли вынести эти признания за пределы отдельных очерков, объединить их, скажем, в виде эпиграфа к сборнику, или еще проще — так и назвать книгу: „Мы любили Шварца“». Но потом подумал: «Зачем лишать авторов радости — самим выразить свою любовь? Тем более что и я, вероятно, от этого не удержусь» (5).
Это неверно, что Шварц всегда пребывал в хорошем расположении духа, вечно был благодушен и весел. Так могли полагать только те, кто видел его исключительно на людях. Порой настроение у него бывало ужасное, он весь морщился от неприязни к себе и к другим, — на свет смотреть не хотелось. Вот тут он хватался за любую подвернувшуюся шутку. Шутил через силу, улыбался сквозь отвращение к своему острословию.
И шутка вдруг помогала, настроение исправлялось сразу, становилось легко и молчать, и разговаривать. Иногда же казалось, что ничто не поможет, лучше разойтись по домам, но мы упрямо продолжали прогулку, и постепенно дурной стих рассеивался: то ли пересиливало благоразумие то ли вступали в ход какие-то внутренние резервы душевного оптимизма.
Однажды вечером мы с ним поссорились. По-видимому, я был неправ, а он вспылил, так что я ушел, едва попрощавшись. Утром он пришел ко мне с только что изданным «Тристрамом Шенди» Стерна (не издававшимся с 1892 года), смущенно улыбаясь, протянул мне его, ни слова не говоря о вчерашнем, и мы пошли гулять раньше, чем обычно, сияющие, благорастворенные, как двое Маниловых… Но потом, бывая у меня в городе дома, он иногда подходил к полке, брал эту книгу в руки, ласкал, любовался и всячески делал вид, что ему с ней трудно расстаться, а я притворялся, что хочу отдать подарок обратно, и вместо этого ставил на полку.
— Да, — говорил Шварц со вздохом, — убыточная вещь ссоры!
На память о его городских «набегах», которые всегда были неожиданны, что называется — «без звонка», у меня остался силуэт из бумаги, запечатлевший Шварца с папиросой. Тогда он еще курил, но скоро должен был бросить.
— Меня огорчает, — сказал он однажды, — что я легко бросил курить. Значит, организм струсил, стал беречь себя. Предпочитает жить на коленях, некурящим, чем умереть стоя, с папиросой во рту!
И все же порой брал у Екатерины Ивановны беломорку — затянется и отдаст обратно.
Все знают, как нежно любил Шварц детей, как доверительно и изобретательно общался с ними и как дети к нему льнули. Но иной раз из-за его доброты происходили и нелепые недоразумения. В Комарове у Шварцев жила женщина, которая хорошо к ним относилась, равно как и они к ней. Шварцы посоветовали ей на зимние каникулы вызвать из деревни двенадцатилетнего сына. Она очень охотно согласилась, мальчик приехал, и тут для него начался сплошной праздник: елка у Шварцев, подарки, елки в городе, снова подарки, билеты в кино, в театр, в цирк… Мальчик уехал, очарованный волшебно проведенным временем. А мать… Мать стала заметно хуже относиться к Шварцам, подозревая, что они серьезно перед ней провинились, иначе для чего бы им так задаривать мальчика… Шварц грустно улыбался, рассказывая эту историю:
— Надо было внимательнее читать сказки, хотя бы свои, — наверно, там найдутся похожие случаи. Но как исправить теперь ошибку?
Шварц любил слушать музыку, и чаще не в Филармонии, не на больших концертах, а на даче у академика Владимира Ивановича Смирнова, где математик-хозяин и математики-гости музицировали (по воскресеньям или по субботам, не помню), играя квартеты Гайдна. Обычно словоохотливый, любивший, а главное, умевший быть душой общества, Евгений Львович тут безмолвно слушал часами музыку, а затем вел разговоры о старой и новой музыке: уже Бетховен был для этих ценителей старины молодым бунтарем, да, пожалуй, и Бах был на подозрении… Шварц с увлечением рассказывал мне об этих беседах, к которым относился с огромным пиететом, как, впрочем, и ко всему, что он узнавал из первых рук, был ли его собеседником Дмитрий Дмитриевич Шостакович или двенадцатилетний нумизмат, показывавший Шварцу свою коллекцию.
Шварц сравнительно мало и редко говорил о своей литературной работе, но и не избегал этой темы, как некоторые писатели. На моих глазах проходила работа над сценарием «Дон Кихота», и Шварц делился тем, что задумал, что делал, что получилось, а что не вышло, от чего пришлось отказаться. Например, от привычной для Шварца сказочности начала сценария его убедил отказаться постановщик фильма Г. М. Козинцев, склонявшийся к тому, чтобы сразу, с первого кадра, показать Испанию подлинную, чесночную, в чем Шварц охотно с ним согласился.
Шварц послушался не только из творческого азарта и любопытства, не только ценя и уважая мнение знаменитого режиссера, но и веря, что Г. М. Козинцев искренне любит его. Недаром, когда Шварц был уже болен, он написал мне: «Козинцев в Ялте. Пишет необыкновенно смешные письма. Одно из них, составленное из вырезок из „Курортной газеты“, наклеенных одна за другой, просто гениально…» Шварц отлично понимал, что Козинцев это делал, желая развеселить его, удрученного не только болезнью, но и неопределенностью судьбы сценария «Дон Кихота», который, как сообщал мне сам Шварц, «залег в Москве, и наступил знакомый Вам период таинственного молчания».
Но в это время литературные дела у Шварца шли уже лучше, а в конце сороковых годов ему приходилось браться и за такую работу, которая, казалось, ниже его творческого ранга… Вот это как раз никогда его не «шокировало»: он с удовольствием инсценировал для кино книгу одного московского детского писателя и огорчался лишь тогда, когда что-нибудь не получалось у него или неважно получилось у самого автора. Шварца возбуждало сопротивление материала, он любил преодолевать его, хотя бы этот материал был бесконечно далек от его кровных интересов, от его прихотливой фантазии.
Шварц был всегда увлечен своей сегодняшней работой. Он почти никогда не вспоминал (по крайней мере, вслух) о своих старых вещах, новые же работы, иной раз и более слабые, занимали его целиком. Из них он читал куски, с интересом обсуждал причины неудач, подходя к этому объективно, как к анализируемой чужой вещи. Так, скажем, он последовательно прочитывал мне очередные варианты финального действия «Обыкновенного чуда» (которое тогда еще называлось «Влюбленным медведем») или «Повести о молодых супругах», к которой он, в нарушение своих правил, вернулся через десять лет после того, как в 1947 году написал первоначальную ее редакцию.
Характерно, что даже такой широко известной теперь вещи, как пьеса «Голый король», я не знал до его смерти: рукопись непоставленной пьесы, которую Шварц написал в 1933 году, так и лежала в его столе, и ему не хотелось прочесть ее вслух — такую молодую, веселую. А вот с новым вариантом концовки «Повести о молодых супругах», которую в последнюю зиму его жизни я успел посмотреть в Театре комедии (а он так и не видел, как и «Дон Кихота» на экране (6), он познакомил дней за десять до смерти… Встал с кровати, сел в угол, под елку (это происходило в первые дни нового, 1953 года), придирчиво расспрашивал об актерах, о молодом Кириллове в роли Юры, друга молодых супругов.
Еще реже делился Шварц хотя бы страничкой из своих «ме», как в шутку называл Пантелеев, по первому слогу, его мемуары, вернее что-то среднее между мемуарами, дневником и записной книжкой. Шварцу понравилось такое условное определение этого неопределенного жанра, комически снизившее солидный литературоведческий термин до овечьего или козьего блеяния, и он его узаконил. Шварц почти каждый день писал эту своеобразную прозу, «вырабатывая, — иронически говорил он, — повествовательный слог»; на самом деле это было, по-видимому, гораздо важнее для его внутренней жизни, для его души. Писать «ме» он любил в толстых конторских книгах, — не знаю, кто ему их дарил, — а так как с годами почерк его становился все более дрожащим, то в итоге получилась многотомная, очень трудная для чтения рукопись, которая сейчас находится в ЦГАЛИ[52], в Москве. У меня есть лишь часть, малая доля «ме»; это немногое разобрала, перепечатала на машинке и подарила мне копию вдова Шварца Екатерина Ивановна. Однажды вечером я ей позвонил; сняв трубку, она долго молчала, и я с тревогой спросил, здорова ли она, не поздно ли я звоню. Екатерина Ивановна ответила, что она поражена совпадением: я позвонил как раз в тот момент, когда она читала в «ме» обо мне. И тут пришла моя очередь растерянно замолчать: Шварц никогда не говорил, что упоминает меня в своем дневнике. Я невольно подумал: сколько же неожиданных, но наверняка метких характеристик и наблюдений разбросано в его записках и какой это клад, какое открытие для будущего читателя и исследователя творчества Евгения Шварца.
Екатерина Ивановна после смерти Шварца еще некоторое время жила в Комарове. Жила в их доме и располневшая Томка, любимая Женина собака, которая была к нему страшно привязана. Спина ее стала похожа на спину цирковой лошади — плотная и широкая… Но Томка сделалась нервной, беспокойной и все ждала и ждала хозяина, и каждый раз с надеждой выбегала к приходившей машине. Машину эту Шварц купил незадолго до смерти, когда у него стало больше денег, и, в сущности, не успел на ней поездить — только от Комарова до города и обратно, — но Томка отлично запомнила эти его короткие путешествия, отъезды и приезды. Новая точка зрения — из окна машины — явно занимала Шварца, он с жадностью смотрел на мир, сжавшийся для него до пределов Карельского перешейка: на сосны Приморского шоссе, на залив, на мелькавшие мимо домики. Скоро мир ограничится стенами комнаты и экраном подаренного ему в день юбилея телевизора. Даже для сказочника невыносимы такие ограничения!
Несомненно будут написаны веселые воспоминания о Шварце, особенно о молодом Шварце, когда он щедро шутил и смеялся. Мои воспоминания чаще грустные, потому что я знал его ближе к старости, когда он уже в основном отшутил… Нет, это не надо понимать так, что, встречаясь, мы разводили с ним меланхолию: без шуток, без острых слов не обходилась ни одна встреча. Но чаще мы говорили серьезном, тем более что и время было серьезное, многое заботило и печалило в происходивших событиях конца сороковых — начала пятидесятых годов.
Мы так много гуляли с ним в Комарове, главным образом зимой, что долго еще после его смерти, когда я туда приезжал, мне казалось, что я не один иду по узкой косой Родинке вверх и вниз по снежным увалам к Дому композиторов, а это мы идем опять вместе, один за другим, гуськом, и сейчас я услышу его голос… Трудно было оказаться в Комарове без Шварца. Да трудно и теперь, спустя семь лет, и не только в Комарове, как ни уговаривай себя, что все это в порядке вещей. Жизнь друга — это ведь и твоя жизнь. И насколько же богаче была она в его присутствии!
1964
Илья Эренбург Из книги «Люди, годы, жизнь»
15 января 1958 года скончался Е. Л. Шварц.
В Ленинграде издан сборник «Мы знали Евгения Шварца» — это воспоминания писателей, главным образом ленинградцев, которые в течение долгих лет встречались с Евгением Львовичем и действительно знали его. Мне обидно, что познакомился я с ним поздно, виделся редко, помню, как я пытался спасти в 1944 году «Дракона», помню его у меня в Москве (ему нравилось жаркое из баранины на французский лад, нашпигованное чесноком), встречались мы и в Ленинграде — у О. Ф. Берггольц, у Г. М. Козинцева, приходил он ко мне в гостиницу, но всего этого было мало, чтобы узнать, и если я пишу о нем, то не потому, что я подметил какие-то не открывшиеся другим черты, а только потому, что полюбил его. (Я хорошо знал некоторых писателей, часто встречался с ними, порой они вмешивались в мою жизнь, но порога моей книги не перешли.)
Почти всегда люди, которым удавалось смешить миллионы людей, сами были мрачными. Можно припомнить описания Н. В. Гоголя современниками, можно — и это куда ближе — задуматься над природой М. М. Зощенко. Оба в определенное время пренебрежительно отзывались о своих прекрасных произведениях и безуспешно старались написать книги высокой морали. Е. Л. Шварц не походил на них, хотя и умел рождать улыбку, он был человеком жизнерадостным, общительным, любил выступать, дурачиться, ходить в гости, много ел, много пил и запомнился всем как веселый собеседник. Однако не это притягивало меня к нему, а доброта и глубокая постоянная печаль, она скорее скрывалась, никогда не была навязчивой, но я ее неизменно чувствовал.
Не всегда шутки Евгения Львовича были веселыми. Помню вечер вскоре после конца войны у О. Ф. Берггольц. Мы долго рассуждали, что означают некоторые перемены в составе правительства (1). Шварц молчал. Потом, мягко улыбаясь, сказал: «А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте». Это было неожиданно, и, конечно, мы рассмеялись, но смех был невеселым.
В другой раз я рассказывал Шварцу московские новости, сказал, что над Камерным театром снова нависли тучи. Шварц огорчился: он хорошо относился к А. И. Таирову. Да и наступление сил, враждебных искусству, не могло не опечалить его. Однако, пять минут спустя, он не выдержал и начал декламировать шутливые стихотворения А. К. Толстого:
Таирова поймали! Отечество, ликуй! Конец твоей печали — Ему отрежут… нос… (2)Потом он начал рассуждать: «Конечно, Александр Яковлевич не знал этих стихов, когда выбирал актерский псевдоним. В общем, псевдонимы — опасное дело. Лидин — хороший псевдоним, у Пушкина „смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет“. А вот Андрей Белый стал почти что красным, Демьян Бедный, по нашим понятиям, жил богато, Артема Веселого посадили — это совсем невесело…» (3).
Мы шли по ленинградской улице в книжный магазин. Шварц был, как всегда, весел. Потом он спросил меня, кого из русских писателей я больше всего люблю. Я ответил, что Чехова. Евгений Львович остановился и отвесил мне церемонный поклон, как придворный в одной из своих сказок: «Приветствую! Чехова любят, наверное, миллионы, но миллионы одиночек. А Льва Николаевича любят дивизии, мощные коллективы, дружные семьи…»
Когда в 1948 году шла борьба с «низкопоклонством», Шварц рассказывал о том, что мы открыли, и добавил: «У Чехова патриот говорит: „Русские макароны лучше итальянских“. Антон Павлович многое предвидел. Небо в алмазах мы тоже видели — в сорок первом, на крыше…»
Я долго рассказывал Шварцу о домике Андерсена в Одене, о чемоданах, о большущих зонтиках; он расспрашивал детально, как будто речь шла о доме его прадеда. А потом сказал: «Андерсена датчане сильно прорабатывали. Это очень старая привычка… В общем, короли не любят, чтоб их показывали нагишом, их можно понять — это прежде всего неуютно».
Шварц был прирожденным сказочником, и, на счастье, много лет его называли «детским писателем», хотя его сказки зачастую были понятны только взрослым. Детям у нас везло, я говорю без иронии, скорее с гордостью, даже в самые черные годы советские дети знали лагеря пионеров, а о других лагерях не догадывались. Детским писателям было легче, чем тем, которые писали только для взрослых. Любой тупой педагог все же менее страшен, чем следователь. Шварц как-то сострил по этому поводу: «Лучше получить кол, чем попасть на кол…» Помню, на Втором съезде писателей одну из сказок Шварца назвали «вредной пошлостью» (4). Евгений Львович был болен и тяжело переживал обиду. Но это был глупый укол булавкой, копьем его не прокалывали. Да на этом же съезде О. Ф. Берггольц взяла под защиту Шварца (5).
Были, однако, у Евгения Львовича долгие и унылые неприятности. Я думаю сейчас о пьесе, которая мне кажется самой сильной из всего, что он написал, о «Драконе». Он начинал эту пьесу еще до войны, а написал ее в Душанбе в 1943 году. Год спустя Н. П. Акимов поставил «Дракона» в Москве. Пьеса была разрешена Главреперткомом, одобрена всеми, кому полагается одобрять или не одобрять, а после первого спектакля ее неожиданно запретили.
Я никогда не вмешивался в решения Комитета по делам искусств: не верил, что у искусства есть «дела», которыми могут ведать люди, весьма далекие от искусства. Но на этот раз я не выдержал и пошел на совещание, посвященное «Дракону», в Комитет по делам искусств. Я не говорил ни об искусстве, ни о той вечной правде, которой посвящена пьеса Шварца. Шла война, совещание происходило 10 ноября 1944 года — за две недели до того наши войска прорвались в Восточную Пруссию. Я говорил о том, что «Дракон» — удар по моральной стороне всех закамуфлированных покровителей фашизма. Защищал пьесу Н. Ф. Погодин, страстно говорил С. В. Образцов. Никто из присутствующих ни в чем не упрекали Шварца. Председатель Комитета (6), казалось, внимательно слушал, но случайно наши глаза встретились, и я понял тщету всех наших речей. Действительно в заключение он сказал, что из всех мнений вытекает: над пьесой нужно еще подумать. Он хорошо знал, что совещание — пустая формальность. «Дракон» был поставлен восемнадцать лет спустя, четыре года спустя после смерти автора.
Евгений Львович всегда мучился над последними актами своих пьес, они ему давались с трудом. Он хотел, чтобы его пьесы были поставлены, а это далеко не всегда удавалось. В «Дракона» он внес много изменений, он, например, выбросил трогательные воспоминания об убитом драконе. (Не помню точно текста, но был в первом акте горожанин, который грустно вспоминал, что, когда дракон дышал на город, можно было приготовить глазунью, не зажигая печи). Однако и в исправленном виде сказка не потускнела (7). Я еще раз убедился, что художественное произведение, написанное на злободневную тему, если оно создано подлинным художником, не умирает.
Недавно опубликовали фантастический роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный тридцать пять лет назад. Ершалаим — живой город, и главы, посвященные Понтию Пилату, я читал, как замечательное повествование о нашем современнике, а главы, сатирически изображающие московский быт двадцатых годов, на мой взгляд, устарели. «Дракон» Шварца не зависит от того, какой канцлер теперь в Западной Германии, и пьеса, кажется, будет волновать даже наших внуков. Перед нами город, который находится под властью дракона четыреста лет. Каждый год дракон убивает девушку, и вот отец очередной жертвы говорит: «У нас очень тихий город. Здесь никогда ничего не случается… На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это уже не такое большое событие». Странствующий рыцарь Ланцелот удивляется: «А дракон?» — «Ах, это? Но ведь мы так привыкли к нему… Он так добр… Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии… Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного». Кот понимает, почему его хозяин и дочка накануне гибели веселы: «Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются». Обреченная девушка рассказывает, что после ее смерти горожане три дня не будут есть мяса, «к чаю будут подаваться особые булочки под названием „бедная девушка“ — в память обо мне». Сын бургомистра называет дракона «дракошка… драдра». Бургомистр, как испытанный подхалим, говорит своему сыну: «Он, голубчик, победит! Он победит чудушко-юдушко! Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, как люблю его!.. Ну вот так и доложи!» Отец знает, что сын подослан драконом, и в умилении говорит ему: «Ах, ты мой единственный, ах, ты мой шпиончик!.. Карьерку делает крошка…» Дракон презрительно поучает Ланцелота: «Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней и только… Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, прожженные души, мертвые души».
Конечно, в итоге пьеса кончается хорошо: в сказке, где имеются дракон, шапка-невидимка и ковер-самолет, плохой конец был бы такой же нелепостью, как счастливая развязка в «Анне Карениной» или «Госпоже Бовари». Шварца ругали не за концы, а за начала. Евгений Львович шутил: «Знаете, почему запретили „Дракона“? Освобождает город некий Ланцелот, который заверяет, что он дальний родственник знаменитого рыцаря, возлюбленного королевы Гиневры. Вот если бы вместо него я показал Тита Зяблика, дальнего родственники Алеши Поповича, все было бы легче…» Однако у запрещающих пьесу были куда более веские резоны: Шварц бичевал деспотизм, жестокость, приспособленчество, подхалимаж. «Цепные» души рассердились: это было в 1944 году не по сезону.
Е. Л. Шварц был не только большим художником, но и воистину добрым человеком. Доброта, вопреки мнению многих, не столь распространенное свойство, это скорей дефицитный товар.
Незадолго перед смертью Шварц написал сценарий по «Дон Кихоту» для режиссера Г. М. Козинцева. Все эпизоды фильма созданы Сервантесом, но в картине нет ни одной фразы, переписанной из романа: диалог написан Шварцем. «Дон Кихот» Шварца и Козинцева резко отличается от того образа Рыцаря печального образа, который был распространен в нашей стране, он соответствует пониманию испанцев Мигеля Унамуно и Антонио Мачадо: Дон Кихот и Санчо — два выражения одного лица и нельзя отделить Дульцинею от Альдонсы; жестокий реализм сплавлен с вечной романтикой.
Я смотрел «Дон Кихота» в Стокгольме и чувствовал, как оттаивали сдержанные, молчаливые шведы. А когда, умирая, Дон Кихот прощается с «дамой его сердца», когда он садится на Росинанта, а Санчо на своего осла, чтобы продолжать странствия, я настолько был растроган, что не сразу очнулся.
Что к этому добавить? Когда Евгению Львовичу исполнилось шестьдесят лет, я его поздравил и в ответ получил от него ласковое письмо. Я и раньше замечал, что руки Шварца часто дрожали: в последний год его жизни это, видимо, усилилось. Я гляжу на лист с большими буквами, которые содрогаются, как фигуры людей на рисунках Джакоментти. Так мог бы подписаться Дон Кихот, избитый «реалистами», или смертельно раненный Ланцелот (8).
<1967>[53] (9)
Исидор Шток Мудрец
Мы сделали из этой сказки музыкальную комедию, понятную даже самому взрослому зрителю.
Е. Шварц. «Золушка»Мудрых людей я знал много. Мудреца — только одного, Евгения Шварца.
На Невском меня остановил молодой критик:
— Почему вы не у Евгения Львовича? Он ведь знает, что вы в Ленинграде. И он огорчен, что вы к нему не заехали.
Я был здесь только один день, проездом из Кронштадта. Ночью должен уехать в Москву и встречать новый, тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год дома.
Бросил все дела, подошел к телефону-автомату и через час сидел уже у Шварца. Пробыл у него весь вечер и от него поехал на вокзал.
Он полулежал в подушках. Непривычно бледен. Нашей встрече был рад. Интересовался новостями. Шутил… Однако было что-то такое, от чего замирало сердце. Ощущение, что это наша последняя встреча, что я его никогда уже не увижу… Незримое присутствие смерти.
Ему было запрещено двигаться, делать резкие движения. На столике лекарства. Встревоженные глаза жены. И что-то совсем новое в его лице. Отрешенность? Нет, нисколько! Живая, как всегда у Шварца, заинтересованность.
— Откуда ты? Почему раньше не заехал? Как у тебя прошла премьера? (1) Опять связался с моряками? Вчера у меня был Шура Крон… Ты прочел моего «Дон Кихота»?
Это была последняя работа Шварца.
«Дон Кихот» Сервантеса — любимая книга Шварца. Он читал ее, перечитывал, не уставал восхищаться и друзьям показывал отдельные места, отчеркнутые им.
Перед ним стояла труднейшая задача: по классическому роману, который сотни раз инсценировался и экранизировался, создать свое, оригинальное произведение, заново раскрывающее красоту творения бессмертного испанца, не повторяющее приемов предшественников — инсценировщиков и экранизаторов. Воссоздать Дон Кихота так, чтобы он стал «понятен даже самому взрослому зрителю».
И он написал такое произведение. Уже после смерти Шварца кинофильм с триумфом обошел все экраны мира, получил множество премий и восторженных газетных статей…
Но мне все же кажется — да простят меня те, кто увидит в этих словах хоть малейшую обиду, ей-ей, я не хочу никого обижать, — мне кажется, что сценарий лучше фильма. Читать этот сценарий, так же как и все произведения Шварца, наслаждение. Какое мужество, смелость, глубина мысли. Как верно понят замысел великого романа и как просто и удивительно передан он нам через сотни лет. Как много мыслей вызывает этот сценарий о Рыцаре печального образа, рассчитанный на представление в кино. Какие новые, великолепные сцены, не написанные Сервантесом, а дописанные за него Шварцем.
Дважды доблестный рыцарь убегает из своего уютного домика в Ламанче. Дважды его ловят и водворяют назад. В первый раз привозят домой в деревянной клетке. Рыцарь примирился с тем, что он не Дон Кихот, а просто Алонсо Кехано. Он будет жить дома, с племянницей и экономкой, с цирюльником и обывателями Ламанчи, романов читать больше не станет. Но ночью в спальню к нему приходят вместе с шумом ветра и шелестом ветвей за окном голоса людей.
«Рыцарь приподнимается на локте.
— Кто это?
— Бедный старик, которого выгнали из дому за долги. Я сплю сегодня в собачьей конуре! Я маленький, ссохся от старости, как ребенок. И некому вступиться за меня.
Стоп.
Дон Кихот. Кто это плачет?
— Рыцарь, рыцарь! Мой жених поехал покупать обручальные кольца, а старый сводник ломает замок в моей комнате. Меня продадут, рыцарь, рыцарь!
Дон Кихот садится на постели. Детские голоса:
— Рыцарь, рыцарь, нас продали людоеду! Мы такие худые, что он не ест нас, а заставляет работать. Мы и ткем за него, и прядем за него. А плата одна: „Ладно уж, сегодня не съем, живите до завтра“. Рыцарь, спаси!
Дон Кихот вскакивает. Звон цепей. Глухие, низкие голоса:
— У нас нет слов. Мы невинно заключенные. Напоминаем тебе, свободному, — мы в оковах! — Звон цепей. — Слышишь? Ты свободен, мы в оковах! — Звон цепей. — Ты свободен, мы в оковах!
Дон Кихот роется под тюфяком. Достает связку ключей. Открывает сундук в углу. Там блестят его рыцарские доспехи. Рассветает. Дон Кихот в полном рыцарском вооружении стоит у окна».
Дон Кихот снова пускается в путь. Освобождать заключенных, защищать обездоленных, возвышать униженных, мстить за оскорбленных.
Дон Кихот продолжает свой славный и горький путь.
«Дон Кихот» Шварца — единственное произведение с грустным концом. Утомленный бесплодными подвигами, лишенный возможности защищать людей, рыцарь, у которого отняли право даже фантазировать, умирает.
До этого в финалах шварцевских пьес падали от руки героя только злодеи. На этот раз умирает герой…
Я пишу это совсем не для того, чтобы провести аналогию между Шварцем и Дон Кихотом. Они оба совсем не похожи друг на друга…
Но чем-то и похожи. Оба любили людей, поэзию, романтику. Оба были благородны. И оба не жалели себя.
— Нет, Женя, я не читал еще твоего сценария. Дай мне его с собой в Москву.
— У меня нет сейчас свободного экземпляра. Но в следующий раз, когда приедешь в Ленинград, я тебе его дам обязательно. В следующий раз… А пока, хочешь, возьми на память «Медведя». Катя, дай из стола пьесу.
Жена подала ему рукописный экземпляр. Там были оторваны две первые страницы. Он взял две чистые и написал на первой: «Евгений Шварц. МЕДВЕДЬ. Сказка в трех действиях».
На второй — список действующих лиц. У него очень дрожали руки. Всегда, сколько я его знал, у него дрожали руки. Мы острили: до первой рюмки. Но и после первой они у него все равно дрожали.
— А «на память»? — спросил я.
— Не надо. Раз от руки, и так понятно, что на память.
…Четырнадцать месяцев до этого мы справляли его шестидесятилетие. Каверин, Казакевич, Николай Чуковский и я специально приехали для этого из Москвы.
В Доме писателей имени Маяковского состоялся юбилейный вечер.
Мы приветствовали юбиляра. Шли отрывки из его пьес. Потом он говорил ответное слово. Я так волновался после своей поздравительной речи, что плохо запомнил, что говорил Шварц. Помню только, что было что-то очень хорошее, доброе, благородное. Может быть, велась стенограмма? Вряд ли… В большинстве случаев у нас в Союзе писателей стенограммы ведутся для того, чтоб потом никогда не понадобиться.
Затем ночью был устроен для ближайших друзей ужин в «Метрополе» на Садовой. Шумно, весело. Говорили Акимов, Чирсков, Натан Альтман. Слово для тоста взял Зощенко.
— С годами, — сказал он, — я стал ценить в человеке не молодость его, и не знаменитость, и не талант. Я ценю в человеке приличие. Вы очень приличный человек, Женя.
Таков был тост Зощенко.
Да, он был очень «приличный человек». Как будто это мало для характеристики человека. И вместе с тем как это важно всегда оставаться «приличным», не поддаваться собственным слабостям, не малодушествовать, быть принципиальным.
С Евгением Львовичем мы познакомились перед войной. Но это было официальное, шапочное знакомство. Во время войны, когда Ленинградский театр комедии, ведомый Н. П. Акимовым, возвращаясь восвояси из Средней Азии, из эвакуации, застрял в Москве, много месяцев жил в столице, а я вернулся с Северного флота и проживал на улице Грановского, недалеко от гостиницы «Москва», где остановился весь командный состав Комедии, вместе с завлитчастью Шварцем, — пути наши сошлись.
В конце сорок третьего и в сорок четвертом мы встречались почти ежедневно. У меня, у него, у наших друзей, в Союзе писателей, в Театре комедии… Подружились. Перешли на «ты». Если происходило в наших жизнях что-либо особенно интересное, моментально звонили друг другу по телефону.
Он писал, писал каждый день. Закончил «Дракона», которого Акимов показал в помещении Театра оперетты. Это был яркий антифашистский спектакль. Но кому-то показалось, что данная сказка стоит не на уровне грандиозной схватки советского народа с гитлеровскими полчищами и оскорбляет чувство священной ненависти. Спектакль был снят. И совершенно напрасно. Впрочем, об этом мы еще поведем речь.
После неудачи Шварц продолжал работать. Написал киносценарий, несколько рассказов и прелестную детскую пьесу. Она с успехом была поставлена тюзами. Вообще у него с детьми отношения складывались легче, чем со взрослыми. Они сразу его понимали. И он их. Никогда не сюсюкая, не подделываясь под тон ребенка или под тон взрослого, разговаривающего с ребенком, он беседовал с ними всегда серьезно, внимательно. И они платили тем же.
В то время, когда, вернувшись из Полярного, я оказался в своей квартире, в Москве, у меня неожиданно появилась четырехлетняя дочка.
Евгений Львович подружился с Галей. Укладывал ее спать. Рассказывал ей на ночь всякие истории. Она потом утром старалась мне их пересказывать. Но так интересно не получалось, и она мне советовала:
— Папа! Пусть он сегодня тебя уложит спать вместе со мной, и ты послушаешь.
Ободранная моя квартира напоминала постоялый двор из «Обыкновенного чуда». Через комнаты тянулась труба от железной печки, тут же дрова и уголь. Недалеко детская кровать. Постоянно ночевал кто-нибудь из друзей-моряков, проезжавших через Москву с Баренцева, Белого, Черного морей, с Тихого океана или с Каспия. Вечная толкучка. Первое время после детского дома Галя не могла хорошо понять, кому из нас следует говорить «папа». Встречи, расставания, известия о потерях, спирт, консервы и долгие задушевные беседы.
Как-то сидели мы в затемненной квартире с выбитыми от бомбежки стеклами и забитыми фанерой окнами. Были Шварц, я, Герой Советского Союза командир знаменитой подводной лодки Израиль Фисанович (2) и еще один подводник, капитан третьего ранга. Кто-то привез с севера свежезасоленную семгу. Я достал водку-тархун и полбуханки черного хлеба. Мы прихлебывали водочку, заедали семгой с хлебом. Беседовали. Шварц и Фисанович встретились впервые.
Они сразу понравились друг другу. Фисанович, двадцатидевятилетний подводный ас, и сорокавосьмилетний пожилой литератор. Оказалось, что Фисанович знает наизусть не только Лермонтова, но и всех интересных современных поэтов.
Во время боевого похода на подводной лодке Фисанович распевал песенку на слова Олейникова: «Неприятно в океане почему-либо тонуть: рыбки плавают в кармане, впереди неясен путь».
Шварц прочитал стихи поэта, неизвестные Фису… Под утро Фис рассказал о том, как года полтора назад (мы в то время жили с ним в Полярном в одной комнате, и я, естественно, знал все его жизненные перипетии) его вызвал к себе командующий Северным флотом Головко и предложил поехать в Среднюю Азию в Военно-морскую академию (она туда была эвакуирована) учиться.
Фис отказался.
— Почему? — заинтересовался Шварц. — Война продлится долго, возможны впереди и другие войны. Нужны образованные и опытные флотоводцы. А вы ведь и так потопили тринадцать кораблей.
Фисанович рассказал о своем ответе командующему. Он поблагодарил за высокую честь и доверие. «Но, видите ли, товарищ вице-адмирал, я моряк, командир подводной лодки. Ну как я брошу свою команду, с которой ходил в тринадцать походов! И есть еще одно обстоятельство. Я еврей… У меня еще особые счеты с Гитлером».
Потом Евгений Львович часто вспоминал Фисановича, этот вечер, эти слова…
Через несколько месяцев Фисанович погиб в море. Погиб как герой, в бою… Как огорчился Евгений! Как будто потерял сына.
Шварц легко сходился с людьми. Был добр, ужасно смешлив. Ненавидел грубость, хамство.
Однажды мы стояли с ним в кабинете директора Управления по охране авторских прав. Я был очень беден, пьесы не шли. Просил аванс под будущие пьесы. Директор отказал, кипятился и ругал меня.
Шварц повернулся и вышел, громко хлопнув дверью.
— Ты знаешь, — потом говорил он мне. — Из-за этого разговора я решил как можно скорее возвратиться домой в Ленинград. Ведь он неплохой парень, этот директор. Он, наверное, добрый. Но этот стиль начальника над писателями, напускная грубость…
Он был деликатен, воспитан удивительно. Умел снисходить к недостаткам друзей. Грубость, небрежность, халтуру, двоедушие ненавидел откровенно. В театр ходить не любил. Только в крайнем случае… Прекрасно рассказывал эпизоды своей театральной юности, описывая Ленинград двадцатых годов, охотно делился замыслами.
* * *
Вот он уже у себя дома, в маленькой квартирке на канале Грибоедова, окруженный, как всегда, друзьями. С любимой женой. С пушистым котом Барсиком. Снова стал полнеть. Немного, не так, как перед войной, но округлился, что к нему шло. Писал… Я часто после войны приезжал в Ленинград, подолгу там жил. В «Астории» или неподалеку от него, в «Европейской». Был частым его гостем. Вечерами мы гуляли по городу, я ему рассказывал о цыганах (я тогда работал завлитом в «Ромэн»), об их нравах и истории, мы с ним играли импровизированные диалоги двух философов на Одесском бульваре или председателя комитета по делам искусств с Борисом Годуновым, много смеялись, вспоминали…
По предисловиям к изданиям Шварца у многих может создаться впечатление, что он был вроде ласковой старой няни, вяжущей чулки и рассказывающей разные разности.
Его называют «добрым сказочником», «ласковым волшебником», «фантазером»…
Ни дать ни взять, бабушка в чепце с немецкого надпостельного коврика.
Нет-с, он не был таким. Ошибка! Штамп! Он был молод, задирист, бесконечно изобретателен, весел. Он был легко подвижный и мгновенно зажигающийся лицедей. Умел видеть сущность людей и событий. Легко подмечал смешные стороны. Был вспыльчив. Умел любить и ненавидеть. Знал, что такое страдание и сострадание. Он был талантлив, воинствен, романтичен. Не старая добрая бабушка, и не Дед Мороз, и не волшебник с неподвижно улыбчивым ликом, в балахоне с широкими рукавами. Его произведения запрещали. Его ругали в газетах и в журналах. Его пьесы проваливали иногда нарочно, чтоб доказать, что он бездарен. Были и такие методы борьбы. А пьесы пробивались. Если сравнивать его с персонажами его произведений, он был Рыцарь, странствующий Рыцарь, живущий для блага людей.
Когда Ланцелот отрубил Дракону все его три головы, они, издыхая, бормочут последние слова:
— Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души…
Шварц любит людей нежно, пламенно. Ради них он пошел на бой с драконом, и с бургомистром, и с его сыном. В бой за души.
На мой взгляд, Евгений Шварц и его литературное наследство занимают в современной драматургии место не меньшее, чем Бертольт Брехт. Конечно, теперь пьесы Шварца идут во многих театрах и в кино, печатаются… Но не настала ли пора один из ленинградских или московских театров, близких ему по духу и мироощущению, по художественному восприятию искусства, сделать театром Евгения Шварца? Ставить там пьесы Шварца и, разумеется, не только его. Собрать актеров, которые любят и умеют играть Шварца. Может быть, тогда новую жизнь обретут и «Красная Шапочка», и «Снежная королева», и «Голый король», «Тень», «Золушка», «Сказка о потерянном времени», «Дракон», «Царь Водокрут», «Клад» «Повесть о молодых супругах», «Обыкновенное чудо», «Новые приключения Кота в сапогах». Смотрите, какое богатое наследство оставил нам этот такой непохожий на других писатель.
Как хотелось бы, чтоб это наследство было собрано в одном театре. И тут же открыть музей Шварца. Показать, как писатель был связан с жизнью, с героями этой жизни, с художниками, артистами, писателями, музыкантами, учеными, как живо интересовался не только литературой, но и наукой, ее новыми достижениями.
Много интересного и поучительного можно было бы показать юношам в музее Евгения Шварца…
…Через несколько дней после нашей последней встречи Шварца не стало. Он ушел от нас… Но работа странствующего рыцаря продолжается.
«— Работа предстоит мелкая, — предупреждает горожан, избавившихся от Дракона и Бургомистра, рыцарь Ланцелот. — В каждом из них придется убить дракона.
Мальчик. А нам будет больно?
Ланцелот. Тебе — нет.
1-й горожанин. А нам?
Ланцелот. С вами придется повозиться.
Садовник. Но будьте терпеливы, господин Ланцелот. Умоляю вас, будьте терпеливы. Прививайте. Разводите костры — тепло помогает росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтоб не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают тщательного ухода.
1-я подруга. И пусть сегодня свадьба все-таки состоится.
2-я подруга. Потому что от радости люди тоже хорошеют.
Ланцелот. Верно! Эй, музыка!
Гремит музыка.
Эльза, дай руку. Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!»
…Так писал Евгений Шварц.
Когда мне бывает грустно, я перечитываю пьесы Шварца. И становится не так грустно.
Советую и вам это делать время от времени.
Ольга Берггольц Встреча в «Астории»
1
…Делегация почти целиком состояла из коммунистов или близких к партии антифашистов. Среди них были: замечательная писательница Анна Зегерс, маститый Бернгард Келлерман с супругой, Стефан Хермлин, поэт, беллетрист, критик, в прошлом старый комсомолец, ныне — то есть уже тогда, в 1948 году, — коммунист; Вольфганг Лангхов, актер и режиссер, член партии со «спартаковских» времен, автор книги «Болотные солдаты», побывавший в гитлеровском лагере, а в те дни и посейчас руководитель театра имени Макса Рейнгардта. Был профессор Юрген Кучинский, известный экономист, автор многих капитальных трудов по политической экономии, старый член партии; Эдуард Клаудиус, прозаик, старый антифашист, сражавшийся в Испании, а во Вторую мировую вместе с партизанами Северной Италии сражавшийся против Гитлера; Гюнтер Вайзенборн, поэт и драматург, участник движения Сопротивления группы «Красная капелла», освобожденный из тюрьмы нашими войсками; Михаэль Чесно-Хелль, старый член партии, был в эмиграции в Швейцарии, тельмановец, один из авторов сценария о Тельмане. И другие.
И вот мы уселись за стол, ломившийся от пищи, от дорогих вин, в банкетном зале, в том зале, где во время блокады был морг.
И был поднят первый бокал, произнесен первый тост. Раздались шумные, но холодные аплодисменты. Мы сидели рядом с антифашистами, с коммунистами, и все-таки буквально каждый из нас (я говорю о ленинградских писателях) ощущал, что между нами и немцами стоит некая невидимая, но нерушимая стена, вроде как бы стена из особого стекла или льда, через которую мы видим друга, пытаемся объясниться, но друг друга не слышим. Они были немцы, они приехали из той страны, из того города, откуда ринулась на нас, на нашу Родину, несколько лет назад озверевшее, лязгающее железо, под рев людоедских фанфар, откуда пришли в наш город непроглядная тьма, ледовый холод, жажда и голодный мор и безвозвратно унесли тысячи и тысячи ленинградцев, среди которых были люди такой душевной чистоты и отваги, и беззаветности, как покойный мой муж Николай (1), как работник Радиокомитета Яков Бабушкин (2), как старая няня моя Авдотья и тетя Варя, как Николай Верховский и Николай Римский-Корсаков, умершие в этом здании.
Я вспомнила, что в этих самых залах Гитлер собирался устраивать торжественный банкет для офицеров по случаю взятия Ленинграда, что были даже заготовлены пригласительные билеты на этот банкет и медали за взятие Ленинграда. Я подняла тост за то, что мы пируем в «Астории» с другими немцами и по другому поводу. Тосту удовлетворенно и прохладно поаплодировали.
И мы улыбались друг другу, но чувство отчужденности, больше — чувство глубокой усталости и необратимой утраты никак не могло сойти у меня с души. Это чувство утраты — огромной, общечеловеческой — даже как будто проросло с новой силой во время встречи с немцами здесь, в «Астории». Я чувствовала какую-то саднящую сухость в глазницах, сухость во рту, сухость в душе.
Тамадой с нашей стороны был Евгений Львович Шварц, изумительный драматург и, несомненно, последний настоящий сказочник в мире, человек огромного, щедрого, чистого, воистину сказочного таланта. Невозможно было не поддаться обаянию Евгения Львовича… Но о нем и дивном творчестве его я буду говорить еще много… потом…
И вот он встал и на смешанном русско-немецком языке начал представлять немецкой делегации нас, ленинградских писателей.
— Их бин дер Шварц, — важно сказал он, указывая на себя. А мы все засмеялись, потому что манера говорить и интонация Евгения Львовича не могли не вызвать веселящей душу улыбки.
— Их бин ди пьесы, — продолжал он… — Дас ист поэтесса Ольга Берггольц, она шрейбен ейне стихи…
Так он представлял всех ленинградских писателей, милый, веселый, изобретательный, и поднял тост за нашу дружбу, и мы снова выпили за нее.
И вновь наступило некое отчуждение, точно дышал на нас кто-то холодом.
После Евгения Шварца выступил профессор Юрген Кучинский. Он говорил о том, как они ходили сегодня по весеннему Ленинграду, любовались этим неповторимым городом, видели его еще не зажившие раны…
— И мне было странно, — говорил он, — что в этом городе в нас никто не бросает камнями. Сидящие здесь не виноваты в том, что произошло, но чувство стыда и вины за свой народ не покидало нас. А вы, вместо того, чтобы бросать в нас камни, встречаете нас гостеприимно и дружелюбно.
Он говорил, и по щекам его бежали слезы. Мы видели, что немцы взволнованы и потрясены тем приемом, который оказал им город, так тяжко пострадавший в дни Великой Отечественной войны…
Июнь 1960
2
В день шестидесятилетия Не только в день этот праздничный — в будни не забуду: Живет между нами сказочник, обыкновенное чудо. И сказочна его доля, и вовсе не шестьдесят лет ему — много более! Века-то летят, летят… Он ведет из мира древнейшего, из недр человеческих грез. Свое волшебство вернейшее к нашим сердцам принес. К нашим сердцам, закованным в лед (тяжелей брони!), честным путем, рискованным дошел, растопил, приник. Но в самые темные годы от сказочника-поэта мы столько вдохнули свободы, столько видели света. Поэзия — не старится. Сказка — не «отстает». Сердце о сказку греется, тайной ее живет. Есть множество лживых сказок, — нам ли не знать это! Но не лгала ни разу Мудрая сказка поэта. Ни словом, ни помышлением не лгала, суровая. Спокойно готова к гонениям, к народной славе готовая. Мы день твой с отрадой празднуем, нам день твой и труд — ответ, что к людям любовь — это правда. А меры правды нет. 21 октября 1956 * * * Простите бедность этих строк, но чем я суть их приукрашу? Я так горжусь, что дал мне Бог поэзию и дружбу Вашу. Неотторжимый клин души, часть неплененного сознанья, чистейший воздух тех вершин, где стало творчеством — страданье, — вот надо мною Ваша власть, мне все желаннее с годами… На что бы совесть оперлась, когда б Вас не было меж нами?! 21 октября 195.3
Нет — Дракону!
В этом театральном сезоне ленинградские зрители получили большой, чудеснейший подарок — я говорю о пьесе Евгения Шварца «Дракон» в постановке и декорациях народного артиста СССР Николая Акимова в Театре комедии (3).
Для меня лично, как для множества писателей и работников искусства, этот спектакль был еще одной незабываемой встречей с Евгением Шварцем. Как я вспоминала его таким, каким он был в дни жестокого штурма Ленинграда и свирепые первые месяцы блокады! В те дни мы не вели друг с другом сколько-нибудь продолжительных бесед на общие темы о человеколюбии и совсем не говорили о своей ненависти к фашизму, — некогда было, к тому же мы были переполнены всем этим, — надо было как можно оперативней и действеннее реализовать эту ненависть в слове, в выступлении, в стихе, в газетной корреспонденции. Евгений Шварц воплотил свою великую любовь к людям, свою неукротимую ненависть к фашизму в патриотической, глубоко идейной, художественно прекрасной антифашистской пьесе «Дракон». Все понятия, которые я отношу к этой пьесе и также к спектаклю Николая Акимова, употреблены здесь в своем прямом, строгом и точном значении.
Я хочу обратить внимание читателей на то, что Шварц написал свою пьесу в разгар ожесточеннейшей битвы (точнее — единоборства!) советского народа с фашизмом, в 1943 году, и что с тех пор, несмотря на сложную судьбу пьесы, не вносил в нее ни разу никаких конъюнктурных или иных поправок. Она увидела свое долгожданное нами сценическое воплощение в том виде, как была написана почти двадцать лет назад. И вот обнаружилось, что «сказка в трех действиях» не только не утратила своей идейно-политической остроты, но как истинно художественное произведение вобрала в себя опыт протекших лет — стала богаче, значительнее, полнозвучнее.
Автор назвал свою пьесу «сказкой», но «сказочный город», где развертывается действие (и «сказочность» подчеркивается декорациями и костюмами Акимова-художника), не предстает перед зрителями как загадка: ее прообраз — фашистская и неофашистская Западная Германия. Над городом этим сотни лет владычит Дракон, который обложил город, кроме «обычной» ежемесячной дани в тысячи коров, овец, кур и прочего, еще одной ужасной данью — ежегодно он берет себе в жены самую прекрасную девушку города, которая в тот же день умирает в его пещере от отвращения. Но самое страшное в том, что горожане не ропщут! В домик архивариуса Шарлиманя приходит странствующий рыцарь Ланцелот и узнает от мудрого говорящего Кота, что дочь Шарлиманя Эльза должна завтра стать очередной жертвой Дракона. И Ланцелот больше всего поражен тем, что ни Эльза, ни ее отец не только не сопротивляются своей участи, наоборот, они спокойны, они улыбаются, они давным-давно смирились с существующим в городе порядком, они в общем… оправдывают «своего собственного дракона», потому что, как говорит Шарлимань, «он убивал всех своих противников… он удивительный стратег и великий тактик. Пока он здесь, ни один другой дракон не осмелится нас тронуть…»
Дракон терроризировал людей, он запугал их вечным призраком войны, «другими драконами», он прикрывается этим призраком, потому что он сам — грабитель, насильник, а прежде всего — война.
Дракон так рекомендуется Ланцелоту: «Я — сын войны. Война — это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах — это холодная кровь…»
Далее Дракон, продолжая запугивать Ланцелота, вызвавшего его на бой, пускает в ход свою действительно страшную угрозу: он угрожает рыцарю, решившему освободить людей… этими же людьми!
«Мои люди — очень страшные люди, — говорит Дракон. — Моя работа! Я их кроил… Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души… Дырявые души, продажные души, мертвые души».
Упаси бог художественное, философское произведение толковать буквально! И все же — разве это не прямое обличение грабительской, захватнической войны, ее пропаганды, которая калечит и уродует души людей, нравственно растлевает народ?! Которая порождает целые полчища мещан, себялюбцев, карьеристов — мелких «драконишек», тех, кто позволил на своих спинах взойти к власти Гитлеру, тех, у кого и сейчас не хватает мужества к активному протесту — против разжигателей новой, еще более страшной войны. «Создание» этаких «цепных, глухонемых душ» — не самое ли страшное преступление дракона-фашизма?
Ведь они даже протестуют, когда Ланцелот вызывает на бой Дракона, они трепещут от страха, когда идет бой!
Но вот кончается бой Ланцелота с Драконом. Все три головы Дракона, отсеченные рыцарем, лежат на опустевшей площади перед ратушей. Некоторое время головы еще живут (режиссерски и художнически сделано это Николаем Акимовым современно, сказочно, смело). Они сетуют, что неверно вели бой, они чувствуют приближение конца, они умоляют своих приближенных дать им хоть глоток воды. Напрасная просьба! Бургомистр и его достойный сынок стоят рядом с поверженными головами Дракона. Несколько минут назад они готовы были ради Дракона на любое преступление, сейчас они захвачены только одним: «Ах, сынок! — говорит Генриху Бургомистр. — В руки мне сама собою свалилась власть!»
Ланцелот смертельно ранен, ковер-самолет унес его неизвестно куда, и вот у власти Бургомистр. Он объявил себя победителем Дракона и готовится к свадьбе — он женится на Эльзе, на той самой девушке, которую год назад выбрал Дракон, которую так пламенно и чудесно полюбил Ланцелот. И те, кто помогал Ланцелоту в победе над Драконом, — простые рабочие люди — заточены в тюрьме… И вновь гнут перед Бургомистром спину, угодничают и подхалимничают, и непристойно чирик-чирикают ему славословия те, кто проделывал это перед Драконом. Сказка, да еще философская, не терпит прямых толкований, но разве же не вызывает это беспощадных ассоциаций с боннской действительностью, например, да и с другими «драконовскими» городами?
Бургомистр упоен, самодоволен, он страшится только одного — появления Ланцелота.
И вот в разгар «добровольного» венчания Бургомистра и Эльзы входит Ланцелот…
Ланцелот, как и Дракон, не характер: он сказочный, поэтический образ, скорее напоминающий нашего русского Ивана-царевича, чем средневекового рыцаря, образ, в котором Шварц обобщил и сконцентрировал самые светлые, самые смелые и человеколюбивые свойства народа.
Но любовь Ланцелота к людям — это не пассивная, не филантропическая любовь, неразрывно с ней связана не только ненависть к драконам, бургомистрам и прочим мучителям человечества, но и потребность во что бы то ни стало уничтожить их.
«Вы против меня, значит, вы против войны?» — надменно спрашивает Дракон Ланцелота. А тот ему отвечает: «Что вы! Я все время воюю!»
Да, он все время беспощадно воюет с драконами и людоедами, он воюет против войны, против растлевающего военного психоза, он воюет во имя прямых душ, свободных душ, бескорыстных и отзывчивых.
…Я пишу эти строки о спектакле «Дракон» в то время, когда в штате Невада произведено уже более сорока подземных взрывов, а в Тихом океане над островом Рождества — более двадцати пяти взрывов в атмосфере. Произошел чудовищный, преступный взрыв в космосе. Смертоносные атомные грибы поднялись над прекрасными островами. Медленно убивающие облака, исторгающие медленно убивающий дождь, движутся над миром, над его счастьем, над его детьми. А в это время один из бургомистров совсем не сказочной страны цинично заявляет: «Испытания служат нашим интересам»… в ответ на тревожные запросы ученых мира, обеспокоенных будущим человечества, здоровьем граждан мира, утверждающих, что взрывы несут горе и болезни людям, — тот же бургомистр с не меньшим цинизмом утверждает: «На сегодняшний день… в нашей стране нет никаких опасностей для здоровья, и в результате наших испытаний они не появятся».
Взрывы — в «наших интересах», «в нашей стране нет опасности для здоровья». Вот он, античеловеческий, гнусный эгоизм бургомистров и драконов! Да уж не переродились ли бургомистры в настоящих драконов? А впрочем, в чем существенная разница? У дракона была хотя бы солдафонская прямолинейность: «Да, я — война. Да, захочу — и убью безоружного. Да, хочу — и калечу ради своей власти человеческие души». А ведь бургомистры, готовящие реванш в Западной Германии, швыряющие ядерные бомбы и отравляющие воздух, воды и недра планеты, прикрываются словесами о «свободном мире», о «демократии», о «необходимости» этих испытаний, в результате которых якобы вообще «исчезнет опасность от атомных бомб».
Нет, они отравляют не только воздух и воды Земли, а теперь и сам Космос, — они отравляют сознание, в первую очередь, своих народов, они растлевают души своих граждан. О, как все это отомстит им когда-нибудь! Вспомним сцену-легенду о трех поверженных, издыхающих головах Дракона, которым никто из растленных душ не пришел на помощь… Ядерными взрывами в недрах Земли и высоко над нею, в том самом голубом сиянии, которое видели с кораблей своих первые наши космонавты — Гагарин и Титов, — пытаются бургомистры застращать человечество, вызвать перед мысленным взором его призрак новой войны и тем держать его в страхе и покорности.
Но в дни, когда я пишу эти строки, я думаю и о только что закончившемся в Москве Конгрессе за всеобщие разоружение и мир, о его непреходящем значении, о том, что силы мира победят войну.
«Нет — драконам, нет — бургомистрам, неофашистам и недобитым гитлеровцам, нет — изуродованным человеческим душам. Да — миру и жизни» — так говорят во всем мире прямые души, смелые души, человеколюбивые души. И это уже не сказка, а правда, самая чистая правда, какая есть на свете.
1962
[…О некоторых писателях и их трудах именно в связи с проблемой советского гуманизма — о тех писателях, которые внесли бесценный художественный вклад, огромный и духовный опыт в нашу советскую гуманистическую литературу, — следовало сказать наконец полным голосом. Я говорю в первую очередь о блистательном, и не побоюсь этого слова, гениальном драматурге Евгении Шварце. Его драматические произведения, такие, как «Тень», как «Дракон», особенно острая, великолепная пьеса-сказка «Дракон», вся идущая против фашистского насилия, много лет была под запретом и считались крамольными. Кто-то что-то в ней «усматривал» и «ущучивал»… А Евгений Шварц — поэт необыкновенной формы, это последний сказочник в мире, это человек, так яростно ненавидел всяческих драконов, насильников, искажающих человеческую душу, так беспощадно и страстно любил людей, их добро, их свет, так умел утешить в горестях, от души рассмешить и так рыдать над тем, что в людях плохо, что его просто нельзя было в докладах о гуманизме обойти, хотя все его персонажи сказочные. «Сказка — ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок».
Не говорить об Евгении Шварце и писателях, подобных ему, это и значит то и дело говорить не о любви, а о чем-то другом. Необходимо было говорить еще об одном замечательном советском писателе-гуманисте, который всеми силами своей души ненавидел зло. Это Михаил Михайлович Зощенко… Как и Е. Л. Шварц, он любил людей беспощадно и страстно. Все глубоко гуманное творчество его было борьбой за прекрасного, за нового человека. О, как бы засверкал его талант сегодня, если б не преждевременная гибель…] (4).
Елена Юнгер Последний взгляд
Милый Евгений Львович! Как написать об этом умном и тонком, веселом и грустном, остроумном и добром человеке?
О том, какой он талантливый, какой замечательный писатель и драматург, уже написано немало.
Мне хочется рассказать один случай, в котором, мне кажется, сказывается характер этого удивительного человека.
Евгений Львович был человек невероятно общительный. Эта общительность часто даже мешала ему работать. Вечно у него был полон дом людей. Так что его друзьям, да еще особенно заинтересованным в его работе, приходилось иногда принимать кое-какие меры.
1949 год. Жаркие солнечные дни в Сочи. Идут гастроли Театра комедии. Евгений Львович пишет для театра пьесу.
В первые дни по приезде в это пекло, конечно, невозможно сразу сесть за рабочий стол. В театре у него много друзей, со всеми хочется пообщаться. Наконец решено. Надо приниматься. «Сегодня до вечера не выйду из гостиницы», — говорит он.
Излюбленное место актеров, когда они не на репетиции или не на пляже, — задняя колоннада театра у служебного входа. Своего рода клуб — «паперть», как ее прозвали. Душа общества, конечно, Евгений Львович. Сегодня его не будет. Сегодня он работает. Но совсем немного времени спустя после начала репетиции (когда художественный руководитель театра Николай Павлович Акимов поднялся на самый верх в репетиционный зал) из-за угла противоположной улицы появляется Евгений Львович. С милой своей лукавой улыбкой приближается он к «паперти», и сразу же раздаются взрывы веселого смеха. Однако когда стрелки часов показывают скорое окончание репетиции, Евгений Львович предпочитает временно удалиться, чтобы не попадаться на глаза главному режиссеру, который торопит его с пьесой. И так почти каждый день. Не всегда удается вовремя улизнуть, и Евгению Львовичу приходится очаровательно оправдываться.
Наконец терпение Николая Павловича истощается. Мы жили тогда, не помню почему, в каком-то страшном громадном помещении напротив театра. Две большущие комнаты во втором этаже и колоссальный балкон, выходящий на улицу.
Как-то утром Николай Павлович ушел в театр, вдруг слышу его шаги по лестнице и чьи-то еще. Смотрю — смущенный Евгений Львович.
— Вот что, — говорит Николай Павлович, — я его сейчас запру в нашей комнате. Пусть сидит и работает. Иначе мы никогда не получим пьесу.
Огромным ключом (соответствующим помещению) запирается дверь, и наступает тишина. Я, стараясь не шуметь, чтобы только не помешать, на цыпочках спускаюсь по лестнице и ухожу на пляж. Возвращаясь с моря, перед самым поворотом к нашему дому слышу знакомые раскаты смеха. Подхожу — большая группа актеров весело хохочет, а на балконе второго этажа запертый Евгений Львович что-то им с удовольствием рассказывает.
Самое интересное, что пьеса все-таки была окончена. Называлась она «Один год» или «Первый год» (1). В связи с этой пьесой мне хочется привести одно замечательное письмо Евгения Львовича, написанное в том же, сорок девятом, году.
Человек удивительно мягкий и добрый, больше всего на свете боялся он кого-нибудь обидеть, огорчить. Нередко сам страдал от собственной доброты, но в творческих вопросах был строг и непримирим. Никакие самые нежные личные отношения, самые глубокие дружеские чувства не могли поколебать его принципиальных позиций, сдвинуть с твердой точки зрения.
Для постановки «Первого года» была приглашена Александра Исаковна Ремизова.
Привожу текст письма без комментариев, из него все будет понятно и так:
«Дорогие Леночка, Александра Исаковна и Николай Павлович!
Вопрос о распределении ролей в моей пьесе — очень сложный вопрос.
Если я его буду обсуждать с вами устно, то непременно собьюсь, запутаюсь, начну перескакивать с предмета на предмет, словом, окажусь менее полезен, чем любой другой нормальный автор в данных условиях. Я слишком свой человек в театре для того, чтобы быть разумным, спокойным и беспристрастным в столь непростом деле. Поэтому я пишу. И буду писать по пунктам, для ясности и убедительности.
Более того, я постараюсь на этот раз, для пользы дела, переломить свою натуру. У меня есть довольно опасное свойство — желание покоя, свободы и мира, и благодати во что бы то ни стало. Поэтому я, бывает, прекращаю спор и уступаю в ущерб самому себе, в ущерб делу. Говоря проще и короче — я все это делаю потому, что не хочу расстраиваться. Обещаю на этот раз — не уступать.
И я очень попрошу тебя, Николай Павлович (напоминаю, что мы выпили у Нади (2) на брудершафт), чтобы и ты отказался на этот раз от кое-каких свойств твоей натуры. Они заключаются в следующем: если кто-нибудь с тобой не согласен, ты искренне начинаешь считать противника своего негодяем, дураком, человеком с нечистыми намерениями и заражаешь своей уверенностью других. Это свойство твоей натуры — тоже иногда опасно для дела. И тоже прекращает спор раньше времени — стоит ли спорить (думаешь ты) с подобными личностями? Короче говоря, ты так же не любишь расстраиваться, как и я, но добиваешься покоя другими путями.
Умоляю тебя: давай на этот раз будем еще умнее и симпатичнее, чем обычно. Ты, я, Леночка, театр, Александра Исаковна — все кровно заинтересованы в том, чтобы задача была решена со всей добросовестностью, на какую мы способны.
Ты, Николай Павлович, можешь сказать: роли еще не распределены. Чего ты шумишь? Увы! Я чувствую, друзья мои, что вы их уже распределили в сердце своем. Я понимаю, как трудно спорить с сердцем, со стихией, так сказать, — но тем не менее начинаю это делать. Иначе меня замучает совесть.
Впрочем, не буду затягивать вступительную часть, а перейду к существу дела.
1. О пьесе.
Ты сказал мне в Москве, Николай Павлович, что пьеса „Первый год“ — не из лучших моих пьес, поэтому ее не жалко переделывать. Я готов согласиться, что пьеса моя далеко не гениальное произведение. Но тем более не следует ее переделывать слишком уж решительно. Это классики так мощны, что им ничего не делается, как их ни переделывай. А „Первый год“ требует отношения в высшей степени осторожного. Я говорю об этом не потому, что ты требуешь переделок, а по поводу того, что распределение ролей может до того переосмыслить и переиначить пьесу, что она развалится скорее и вернее, чем от реперткомовских поправок.
И в особенности это касается роли Маруси.
2. О Марусе.
Она непременно должна быть чуть-чуть заурядной. Она обязана быть похожей на любую молодую женщину. Она обязана вызывать жалость своей неопытностью и беспомощностью. Если Марусю не узнают и если она не вызовет к себе жалости — дело пропало.
3. О Леночке.
Прежде всего и раз навсегда — вопрос о возрасте давайте снимем. Хорошая актриса сыграет и грудного ребенка, если характер младенца будет совпадать с ее данными. Не внешними, а актерскими. Несколько минут зритель будет удивляться, видя взрослую женщину в пеленках, а потом привыкнет и поверит. Не возраст меня смущает, Леночка. Ты актриса хорошая и молодая. А я глубочайшим образом убежден, что актерские твои свойства противоположны тем, которые необходимы для Маруси.
Ты можешь на сцене быть кем угодно — но только не заурядной драматической инженю. Ты всегда создаешь образ своеобразный. Острый. Непременно сильная женщина у тебя получается. Непременно! Хочешь ты этого или не хочешь. И много пережившая. И умеющая постоять за себя. Тобою можно любоваться, в тебя можно влюбиться, но жалости, той жалости, которую должна вызвать беспомощная, почти девочка Маруся, тебе не вызвать. Ни за что. Когда ты играешь Ковалевскую (3) — ты вызываешь сочувствие. Сочувствуют всей душой много пережившей и перестрадавшей героине. Для этого в роли Маруси — нет, начисто нет материала. Она тоже не слаба, тоже по-своему воюет, — но по-своему. А не по-твоему. Слабее всего у тебя Ковалевская-девочка, хотя внешне ты выглядишь в первом акте прелестно. Не дал тебе бог красок, которые имеются в изобилии у любой травести и инженю. И не ропщи. У тебя есть гораздо более редкие дары. И радуйся этому. Не искушай судьбу! Умоляю!
4. О судьбе.
У меня, у тебя, Леночка, у тебя, Николай Павлович, судьба не слишком легкая. Нам прежних заслуг не засчитывают! Нельзя сказать, что их не помнят, — нет, помнят, и очень даже хорошо. И на этом именно основании ждут, чтобы мы если не перекрыли, то хоть повторили прежние свои рекорды. С нами всегда строги, взыскательны, зорки…
Умоляю, Леночка, — не искушай судьбу!
Время суровое…
5. Обманы зрения.
Когда талантливый человек берется не за свое дало, а другой талантливый человек помогает ему в этом, то в результате происходит следующий невольный обман зрения. На десятой репетиции талантливый человек играет настолько лучше, чем на первой, что режиссер и актеры приходят в восторг и умиляются. На двадцатой — дело идет еще лучше. Но вот, наконец, приходит премьера и — о ужас! Зрители яростно ругаются. Им дела нет, что талантливый человек играет в миллион раз лучше, чем в начале репетиционной работы. Им подавай безотносительно хорошую игру.
И тут начнется…
Влетит прежде всего мне. Вот, мол, писал сказочки — получалось. Потом влетит Акимову. За что? Так просто. Его считают ответственным за все, что делается в театре. И не без основания. Потом начнут по косточкам разбирать Леночку. Причем я не услышу, что говорят обо мне. Но подробно услышу, что говорят о тебе, Леночка. Услышу то, чего ты, слава богу, никогда не услышишь. Но зато ты обо мне услышишь такое, чего мне и не снилось. Меньше всего достанется Александре Исаковне, потому что она приезжая.
И вот вместо праздника, по нашей общей вине, произойдет нечто унылое, натуралистическое, осеннее. Наслушавшись друг о друге невесть чего, мы невольно выбраним друг друга, как враги. Словом… Умоляю, товарищи, — не будем искушать судьбу.
Если вы со свойственным вам упрямством не сразу согласитесь со мной, то послушайтесь хоть постепенно. Пересмотрите вопрос о Марусе со всей беспристрастностью, на какую способны. Давайте будем мудры и осторожны. Целую вас.
Ваш Е. Шварц».
Мы все трое, к кому было обращено это письмо, сразу же послушались Евгения Львовича и не стали искушать судьбу.
Роль Маруси была поручена прелестной нашей молодой актрисе Людмиле Александровне Люлько. По непредвиденным обстоятельствам, уже совсем не зависящим от нас, спектакль этот тогда так и не вышел. Потом Евгений Львович значительно переделал пьесу, и много позже она была поставлена у нас под названием «Повесть о молодых супругах».
Л. А. Люлько к тому времени несколько повзрослела и перешла на роль старшей подруги, а Марусю играла совсем еще юная тогда В. А. Карпова.
Евгению Львовичу так и не удалось увидеть эту пьесу свою на сцене. Он был уже очень болен. В день премьеры, лежа в постели, он был связан с театром только по телефону. Николай Павлович звонил ему в антрактах и подробно рассказывал о ходе спектакля, о реакциях зрительного зала, об особо успешных местах. Он волновался, радовался и огорчался, как всегда на всех своих премьерах. Это была последняя.
До войны ленинградский Дом писателя славился своими вечерами. Они находились в ведении Евгения Львовича. Он их устраивал, был их хозяином и, главное, их душой. Я уж не говорю о веселейших, остроумнейших встречах Нового года, куда стремился попасть весь Ленинград. Неистощимая его фантазия, ошеломляющий юмор создавали такие аттракционы и развлечения, что, как вспомнишь о них, в ушах так и звучат взрывы бурного хохота. Казалось, что зеркальные окна старого особняка, выходящие на Неву, сотрясаются и звенят от неудержимого смеха.
Вечера бывали самые разнообразные — встречи с музыкантами, учеными, чтецами, артистами — и ленинградцами, и приезжими гостями.
Для каждого театра было честью приглашение показать свою новую работу на подмостках Дома писателя. Обычно устраивался прогон спектакля в незавершенном еще виде — без гримов, без костюмов. Потом было обсуждение, в котором принимали горячее участие видные писатели и критики Ленинграда. Почти всегда вел обсуждение сам Евгений Шварц, подбадривая и увлекая выступающих безграничной своей доброжелательностью. Эти показы были настоящими праздниками для театра — и радостными, и полезными.
А какие прелестные и изящные — просто вечера отдыха! В большом белом зале убирались стулья, вдоль стен ставились столики, покрытые белыми скатертями (кстати сказать, ресторан там в ту пору был первоклассный). Неназойливо, под сурдинку, звучала танцевальная музыка. Можно было и потанцевать, и побеседовать, и послушать стихи. Просторно, не душно, никакой давки. На столики записывались заранее — людей было столько, сколько можно было с удобством разместить. Вечера эти были очень популярны.
За сдвинутыми вместе двумя-тремя столами можно было увидеть Алексея Николаевича Толстого, хлебосольно угощавшего компанию приезжих гостей. Он жил тогда в Пушкине и считался ленинградцем.
Опершись на привычную палку, в кругу жадно слушавших его почитателей сиживал там и Юрий Николаевич Тынянов. Его смуглое, чем-то напоминающее пушкинское лицо резко выделялось на светлом фоне стены.
Внимательные, восточного разреза глаза, слегка прикрытые веками, печальные глаза Михаила Михайловича Зощенко следили за танцующими парами.
С детским простодушием приветливо поглядывал по сторонам умнейший и милейший Борис Михайлович Эйхенбаум… <…>
Иногда озаряли зал своим присутствием, окруженные роем поклонников, две блистательные подруги — Татьяна Вечеслова и Галина Уланова.
Спокойная в своей неподвижной красоте, с толстой косой, венком уложенной вокруг головы, возвышалась над столом первая красавица писательского дома — Екатерина Ивановна Шварц.
А сам Евгений Львович, радушный хозяин, всегда оживленный и веселый, с бокалом в руке, появлялся с милой шуткой то у одного, то у другого столика.
Для всех находилось приветливое слово. От одного его присутствия становилось уютно и радостно на душе. <…>
[…Улетали мы из Ленинграда на трех самолетах… (4). Потом бесконечная однообразная тряска в теплушках… Сознание вдруг пробуждалось и исчезало куда-то… И наконец — город Киров! Неустойчивая память сохранила о нем какие-то обрывки.
Помню, мы тащимся с Николаем Павловичем (он с палочкой) по длинному, пустому коридору какой-то школы. Впереди шагает парень с двумя ведрами воды. Из одного идет пар. Какая-то школьная «умывалка» с длинными раковинами на стене. Вода из кранов не идет. Холодно. Как капустные листья, сдираем одежки, наверченные на себя еще в Ленинграде. Поливаем друг друга теплой водой. Неужели это правда? Боже мой, как невероятно похудел Николай Павлович! Это уже даже и не скелет, а что-то совсем неосязаемое.
А потом начинается фантасмагория. Мы сидим на мягком диване за круглым столом, покрытым скатертью. Звучит милый голос Евгения Львовича Шварца… Екатерина Ивановна хлопочет, накладывая что-то на тарелки. На столе котлеты. Огромные. Никто никогда не видел таких котлет. Глаза слипаются, все пропадает куда-то… и возникает опять. И вдруг — лицо Николая Александровича Подкопаева, нашего близкого друга. Мы не видели его с начала войны. Как очутился он здесь? Николай Александрович — физиолог, один из ближайших учеников Ивана Петровича Павлова… Какой счастливый случай занес его именно сейчас, именно сюда, в Киров, в комнату Евгения Львовича… Да ведь это же колдовство!.. Ну, конечно, мы в доме у нашего любимого ленинградского волшебника Евгения Шварца, это его рук дело… Глаза закрываются, открываются, мысли путаются… Как в зачарованном сне возникают милые, удивительно довоенные лица, мелькают огромные котлеты, проносится запах пирогов… Дремота охватывает все плотнее…
А с дремотой никак не совладать, но, несмотря на нее, присутствие этих дорогих, любимых лиц вселяет уверенность в будущем, успокаивает, и сон окончательно побеждает затуманенное сознание.
И опять стук колес и подрагивание поезда…] (5).
Фантазер, выдумщик, неутомимый рассказчик, он обожал сочинять всякие смешные небылицы про своих друзей и знакомых. Впрочем, на довольно правдивой основе. У нас в театре долгое время работала одна очень хорошая актриса. Славная, добрая, но ужасно рассеянная. Евгений Львович всегда подтрунивал над этой ее особенностью и любил рассказывать про нее всякие истории. Делал он это очень мягко, увлекался и потешался сам своим рассказом. То он сообщал нам, как она сидела на балконе, что-то шила, и вдруг приносят с улицы выброшенные ножницы, а карман нового халатика дымится от горящего окурка; то рассказывал, как она принесла на именины аккуратно перевязанную коробку с пирожными, а в ней оказался приготовленный на выброс мусор, и Шварц сокрушался, кому же достались попавшие на помойку пирожные, — хорошо, если какому-нибудь бездомному голодному щенку, а то вдруг недостойному алкоголику, и он будет так несправедливо вознагражден за свои безобразные пороки.
Но самая любимая его новелла была о том, как она однажды ехала в метро. Евгений Львович принимал вид заговорщика и, сотрясаясь от характерного для него внутреннего смеха, таинственно повествовал, что вагон был набит до отказа, и вдруг она почувствовала, что кто-то ее ущипнул. Возмущенная, она обернулась — за ее спиной стоял солидный, пожилой полковник. Она обожгла его испепеляющим взглядом, но щипок повторился опять и опять. С гневным возгласом: «Прекратите это безобразие!» — она обернулась вновь и встретилась со спокойными глазами полковника, несколько удивленного таким странным выпадом.
Подъехали к остановке, большинство публики вышло из вагона. Что-то царапнуло ее по ноге, раздались голоса оставшихся пассажиров: «Из вас! Из вас!..» По проходу неслась испуганная, но счастливая мышь, вырвавшаяся на свободу.
Сама героиня этих рассказов ничуть не огорчалась, хохотала вместе со всеми и даже была несколько польщена.
Удивительно наблюдательный Евгений Львович все подмечал и, казалось, видел человека сквозь увеличительное стекло.
Людей он очень любил. Подшучивания его, иногда довольно острые, никогда никого не обижали. Наоборот — веселили и радовали.
[…Когда грянула ждановская речь (6), мы были в Риге, шли съемки картины «Золушка» (7). Через несколько дней мы вернулись в Ленинград.
К нам зашел Евгений Львович Шварц. Николая Павловича не было дома. «Пойдем навестим Анну Андреевну, — сказал Шварц. — Я думаю, каждый визит ей сейчас дорог и нужен». Мы вышли на Невский, прошли пешком до Фонтанки. Почти всю дорогу молчали.
Поднялись по лестнице. Входная дверь в квартиру была не заперта. Мы вошли в широкий светлый общий коридор. Комната Анны Андреевны находилась как раз напротив входа. Дверь в ее комнату загораживала высокая стремянка. На ее верхушке, под потолком, сидел человек и возился с электрическими проводами. Мы постучались. После паузы в щель выглянула незнакомая женщина. «Подождите, пожалуйста, немного, Анна Андреевна сейчас выйдет», — сказала она. Мы сели на широкий подоконник. Человек спустился с лестницы, отодвинул ее вдоль стены от двери, забрался на нее опять и продолжал свою возню с проводами. «Это устанавливают приспособление для подслушивания», — сказал Евгений Львович. Я с ужасом посмотрела наверх.
Вышла Анна Андреевна. Такая же, как всегда, сдержанная, приветливая, пожалуй, несколько бледнее обычного. Извинилась, что заставила ждать, сказала, что очень рада нас видеть, пригласила в комнату.
— Как назло, еще перегорел свет, пришлось вызвать монтера.
Шварц поделился с ней своими предположениями.
— Нет, вовсе нет, — даже засмеялась она, — хотя это было бы неудивительно.
Внешне она была совершенно спокойна. Никому бы и в голову не пришло, что случилось нечто экстраординарное. Поразительная, нечеловеческая сила духа.] (8).
Последний раз я мельком видела Евгения Львовича совсем незадолго до его смерти. Я шла по Невскому. На углу улицы Толмачева остановилась машина. В ней сидели Евгений Львович и Екатерина Ивановна. Они ехали к врачу. Евгений Львович широко улыбнулся, помахал рукой, и машина завернула на Невский. Я еще подумала, какая у него удивительная, радостная и веселая улыбка. Так с этой улыбкой он и ушел для меня в небытие.
Михаил Шапиро Строки воспоминаний
От Нью-Йорка и до Клина На устах у всех клеймо Под названием: Янина Болеславовна Жеймо.Так начинается шуточная поэма, которой Евгений Львович Шварц приветствует актрису, празднующую двадцатипятилетие своей творческой деятельности (юбилярше в ту пору лет двадцать восемь). Читает Шварц серьезно и торжественно, и зал очень смеется. Затем он вручает всхлипывающей виновнице торжества экземпляр поэмы и держит речь (1). Жеймо в то время «специализировалась» на роли травести, и Шварц заговаривает о глубине душевного мира маленьких детей. Он намерен говорить совершенно серьезно, но делает это без всякого перехода, а зал, им же самим настроенный на смешливый лад, считает, что шутка продолжается, и реагирует по инерции. Не всякий сумел бы выкрутиться из такого положения. Но оратор владеет аудиторией. «Ти-и-хо!» — рявкает он с такой неожиданной силой, что лампы замигали бы, будь они керосиновыми. Взрыв хохота, аплодисменты, и вслед за тем — мертвая тишина. Шварц как ни в чем не бывало развивает свою мысль: сила чувств у ребенка не меньше, чем у взрослого (2).
Он вспоминает свое детство: однажды он стоял у входа в кино, мимо проходил отец с каким-то своим знакомым. Тот погладил маленького Шварца по голове и сказал: «Счастливый возраст! Никаких забот!..» «Я с негодованием посмотрел на него! — говорит взрослый Шварц. — В этот момент я испытывал страшные душевные терзания, потому что никак не мог решить — идти ли мне в кино или отправиться домой и сесть делать уроки…» Сила дарования Жеймо и заключается, по мнению Шварца, в том, что она с величайшей серьезностью и уважением относится к своим героиням.
Это в полной мере относится к самому оратору. Уважение к своим персонажам превращает его труд в пытку (по крайней мере, на посторонний взгляд). Из-за этого он работает очень медленно, добиваясь точности, переписывает без конца уже готовые и приводит в отчаяние режиссеров, томящихся без дела…
Иногда он удостаивает вас чести и читает что-нибудь вслух из того, что находится в работе. Жаль, что никто не догадался записать на пленку его чтение. Много раз я старался понять, в чем состоит сила его исполнения, но так и не открыл секрета. Помню только, что читает он медленно и тихо. Голос чуть дрожит. Персонажей он не изображает, ничего не выделяет, читает ровным голосом. Но слова становятся какими-то выпуклыми, мысль отчетливой. Иногда он замолкает, макает перо в чернильницу и пляшущим почерком (руки у него всегда слегка трясутся) тут же правит что-то в рукописи. Потом продолжает читать тем же глуховатым и сдавленным голосом. Это совсем не похоже на то, как играют Шварца. И не знаю, можно ли так играть. Но того ощущения цельности, торжественности и вместе с тем непринужденности, гармонии всех частей и единства настроения, какие присутствуют в чтении, добиться никому никогда не удавалось.
Находки, особенно любимые, он с удовольствием рассказывает. В «Дон Кихоте» зубодер пытается заставить пациента открыть рот. Он всячески расхваливает свое умение; но пациент непреклонен: «Если мужчина сказал „нет“ — значит, нет». Эту фразу Шварц повторяет так, словно он ее не сочинил, а где-то услышал, и очень развеселился. В течение работы над сценарием я слышу рассказ о стойком мужчине несколько раз, и всякий раз Шварц хохочет от удовольствия.
Вообще он обожает рассказывать.
Среди его историй есть, мягко говоря, довольно неожиданные: горестно-философский монолог бывшего содержателя публичного дома, поклонника Декарта (!) и обладателя драгоценной трости «с набалдашник — голова Лев Толстой…»; рассказ о том, как поэт К. Р. (3) отвадил знаменитого актера, назойливо пытавшегося втереться к нему в дом… Или странное открытие князя монакского — крупного биолога…
Передать на бумагу эту странную смесь мог бы только сам рассказчик, который, кстати говоря, обладает завидным умением не только рассказывать, но и слушать; слушать с каким-то благодарным вниманием, заставляющим собеседника лезть из кожи вон, чтобы заинтересовать такого слушателя. Впрочем, он, по-моему, никогда не использует слышанного. Да и зачем? Он сам умеет сочинять. Ему просто доставляет удовольствие общаться с людьми. А может быть, это наталкивает его на какие-то мысли? Кто знает! Во всяком случае, общение с ним — большая радость.
Считается, что великие люди сохраняют в себе на всю жизнь черты детской непосредственности, искренности и веры во «всамделишность» игры. Если так, Шварц велик!
…Из-за забора его дачи несется яростное рычание. Хозяин и его гость — драматург И., огромный, страшно близорукий человек в очках с толстенными стеклами — прыгают на одной ноге и с размаху сшибаются чугунными животами, стараясь опрокинуть противника (Шварцу под шестьдесят, и у него больное сердце). Гость конфузливо смеется, а Шварц яростно рычит, заложив по правилам игры руки за спину и подскакивая, словно мустанг. Он дерется, как Ланцелот, с полным самозабвением. Ошеломленные прохожие глядят из-за штакетника. Наконец гость теряет очки. Пока их извлекают из кустов черемухи, куда их заслал пушечный удар живота маститого драматурга, победитель, пыхтя и приговаривая — «Будешь?.. Будешь?..» — показывает побежденному язык. Сколько ему лет в этот момент?..
Затем Шварц садится отдыхать. На его коленях оказывается кот. Если бы коты играли в баскетбол, из-за этого наглого верзилы перецарапались бы команды всех ленинградских помоек. Он был бы ихним Круминьшем (4). Чудище зовется Котик. Он ходит по головам (в точном смысле этого слова), ложится посреди накрытого к обеду стола. Если хозяин работает, кот глядит в рукопись. Когда ленивого бандита купают, сообщает Шварц, он сначала цепенеет от ужаса, а потом лихорадочно кидается лакать воду из корыта. «Он рассчитывает, что, если выпьет всю воду, его не в чем будет мыть!» — комментирует, давясь тихим смехом, рассказчик. Про котов он знает все. Как-то я спрашиваю, почему мой кот не выносит закрытых дверей: он долго кричит, но стоит его выпустить из комнаты, как через минуту он просовывает лапу в щель под дверью и пытается проникнуть обратно. «Да, — рассеянно подтверждает Шварц, думая о другом, — коты думают, что люди запираются от них, чтобы тайком есть мышей». Можно побиться об заклад, что он не шутит. Коты в «Драконе» и «Двух кленах» написаны с Котика. Автор это не очень отрицает.
…Шварц похож на римлянина. Гордо посаженная голова, великолепный нос, атлетическое сложение, хоть и располнел с годами. Весь облик его совершенно не вяжется с его почерком. Можно подумать, что он пишет в идущем поезде или даже в дилижансе и все время пытается перехитрить дорожную тряску. Буквы плоские, угловатые, непривычно широкие, прерывающиеся какими-то узелками. Они мучительно скачут и прихрамывают одновременно. Так маленькие дети рисуют морские волны. Знаток почерка сделал бы, наверное, какие-то обескураживающие выводы о душевном строе писавшего. На самом деле — Шварц человек редкого душевного здоровья, хотя и способен огорошить любого неожиданностью поступков. Своим мощным медным голосом он заглушает гул банкета в сто человек. Говорит же он тихо, не быстро. Весь он — воплощение деликатности и предупредительности. При этом он совершенно лишен ханжеской скромности. Когда на каком-то обсуждении хваливший его оратор на мгновение запинается, Шварц с места кричит ему ободряющее: «Давай еще!» Можно подумать, что он делает только то, что ему нравится. Вероятно, это так, но, странным образом, это одновременно приятно всем окружающим.
Он необыкновенно «контактен». Прощаясь с ним, каждый думает: как он хорош! А потом ловит себя на неожиданной мысли: а ведь и я ему понравился!.. Пусть это покажется суетным, но человек, умеющий внушить такую уверенность своему собеседнику, много стоит. И Шварц при этом не позирует, не хитрит. Рассказывая что-нибудь, он обязательно назовет фамилию того, от кого слышал эту историю, и не упустит случая добавить о собеседнике несколько хороших слов. Он берется экранизировать книгу, которую считает заведомо слабой. Делается это из глубокого уважения к автору, очень хорошему человеку, чтобы не обидеть того отказом. Конечно, из этой затеи ничего не выходит. Больше года Шварц трудится впустую. Кто осудит его за такое донкихотство?.. (5).
…Если он сталкивается с подлостью, предвзятостью или злонамеренной глупостью, Шварц резко меняется. Он начинает говорить тихо, без интонаций, словно через силу. Руки трясутся сильнее. Разговор словно доставляет ему физическую боль. Он старается переменить тему. Подлость просто оскорбляет его, в чей бы адрес она ни направлялась. Чувства его всегда открыты, хоть он и сдержан безупречно. Из себя выхолит редко. Помню только один случай, когда он просто растоптал своего оппонента за допущенную им недобросовестность. Присутствующие при этом сидели, втянув головы в плечи, до того Шварц был страшен в эту минуту. Через полчаса он приносит извинения «за непарламентский способ разговора». Не дай бог кому бы то ни было выслушать такое извинение. Уж лучше схлопотать пощечину.
…В годы «малокартинья» Евгению Львовичу приходится очень туго. Его учат, поправляют, наставляют… Он мрачен, озабочен. Морщась, терпеливо выслушивает он все, что заблагорассудится сказать его наставникам. Иногда он пытался возразить, что-то объяснить, но тоскливо замолкает. Чувствуется, что он совершенно растерян. Иные его наставники растеряны не меньше и честно пытаются растолковать ему то, чего сами не могут взять в толк (6). Другие же… Что можно сказать о человеке, написавшем о Шварце: «Мысль узкая, как куриная попка»?.. Евгений Львович никогда не упоминал о таких отзывах, но всем хорошо известно, какой кровавый след оставался в его душе.
Сегодня, когда творчество Шварца завоевывает все новых и новых почитателей, когда его фигура все отчетливее вырисовывается во весь свой рост, это кажется невероятным. А ведь мог же он дожить до подлинного, широкого признания. К его римскому профилю так подошел бы лавровый венок. Как понятна его шутка, когда, получив извещение о Художественном совете, который должен был разбирать его очередную работу, он сказал: «Хорошо бы делать это под наркозом».
Кто-то считал его ненародным. Какой-то другой умник договорился до того, что нашел в его творчестве космополитические тенденции. Шварца усиленно пытались в те годы «подровнять», натянуть на колодку. А колодка была мала, и он соскальзывал с нее, словно туфелька, которая была Золушке «чуть великовата». Он тоже оказался «чуть великоват», и чем больше проходит времени, тем его «великоватость» становится заметней и радостней…
<1962>
Ольга Эйхенбаум Воспоминания
1
Из «Воспоминаний об отце»
<…> Мариенгоф и М. Э. Козаков вместе написали неплохую пьесу, но ее не пропустили на сцену, — их вообще печатали туго, и они вечно ходили без денег, занимали друг у друга. А Женя Шварц занимал у нас — потом его начали печатать, и все пошло хорошо. А прежде он приходил: «Братцы, одолжите триста рублей на двадцать дней». Через двадцать дней он отдавал эти триста рублей и на другой день брал их опять.
Шварца увидела впервые, наверное, в 34-м году, когда все писатели получили квартиры в «надстройке» на канале Грибоедова, и у папы тоже было новоселье, но этого я не помню. В те годы Евгений Львович бывал у папы не очень часто. Но в 50-е годы, когда в новом доме на Малой Посадской нас поселили в соседних квартирах, он приходил к нам каждый день, и мы очень подружились. Он был очаровательный человек, хотя вовсе не такой добрячок, как иногда вспоминают. Он приходил, когда ему хотелось. Папа сидел за столом, работал — Женя, как творческий работник, должен был бы понимать это и спросить: «Боречка, я не помешал?» А он садился на диван, и папа выходил из-за стола — надо было его занимать, и Женя отнимал иногда много времени.
Он жил жизнью домашней, странной. У него была очень красивая жена, но она не любила людей, все время занималась своей красотой — всегда намазанная, с длинной косой. Мне кажется, Женя последнее время страдал от ее характера. Когда я читаю его письма к ней, мне становится не по себе: почему они какие-то извиняющиеся, за что он все время как будто просит простить его? (1). Женя ходил в магазин, Катя — никогда. Он брал саквояж и все покупал, обычно в «Елисеевском» гастрономе, это была его обязанность. Катя, когда у них появились деньги, ходила по антикварным магазинам и покупала там фарфор, всякие чашечки, тарелочки. Она не облегчала Жене жизнь, хотя любила его очень. После его смерти она покончила с собой.
Если Женя приходил к нам, когда мы собирались в гости, он спрашивал: «Братцы, вы куда?» Мы говорили: «Вот идем к Резниченко» — а он: «И я с вами». Все, куда мы приходили вместе с Женей, были счастливы, потому что он был чудным тамадой, очень веселил всех и сам веселился. Но если он приходил с Катей (на Новый год или день рождения), то был совершенно другой: вялый и скучный.
Я ему печатала на машинке — он верил в мою «легкую руку», и когда ему надо было что-то перепечатывать, как бы я ни была занята, он говорил: «Не принимаю никаких отказов. Оля, это надо перепечатать — и все»…[54]
2
Из беседы 1966 года[55]
Детство у Кати, по-видимому, было тяжелым. Она не ладила с матерью, и вышла за Зильбера (2), чтобы только уйти из дома. И потом она никогда с матерью не поддерживала никаких отношений.
В 1923 году мы жили в Павловске. У нее был сын — Леня. Когда ему было три года, он умер. Она хотела покончить с собой. Когда она рожала, врачи сказали ей, что больше иметь ребенка она не сможет. Потом в 34-м ей сделали операцию, и она стала меняться и внешне, и внутренне.
В году 26 или 27 я помню Евгения Львовича и Екатерину Ивановну у нас в гостях. Но Екатерина Ивановна была не с Женей, а с кем-то другим.
1938 год. Мы живем на даче в Мельничном Ручье. Наши дачи рядом. У меня родилась Лиза, тогда ей было что-то около года. Катя очень возмущалась тем, как я обращаюсь с ребенком, часто уезжаю в Ленинград, а Лиза ползает по давно немытому полу. Чистота у них всегда была идеальная. Катя всегда сама следила за чистотой.
Перед войной мы жили в Сестрорецке. Катерина Ивановна дружила с моей мамой. С одной стороны она была прелестна и не глупа (Женя читал ей все свои произведения и считался с ее мнением), а с другой стороны, последствия операции как-то сказывались на всей ее жизни.
Во время войны отец и Женя переписывались.
В 46-м году на дне рождения Жени был весь театр Комедии. Екатерина Ивановна была очень весела.
В 49 году папу выгнали из университета, а в газетах писали всякую гадость. Жилось нам тогда довольно тяжело, и Женя носил мне печатать свои пьесы. Когда к нам собирались друзья, они тащили все с собой. На кухне начиналось разворачивание и сортировка. Папе поначалу было неловко так принимать гостей, но я сказала, что люди не хотят идти в ресторан, а идут к тебе, и ты должен их так и принимать. Тогда он успокоился.
К 60-летию одна из папиных учениц собирала на подарок по всему Ленинграду. Подарили шубу и фисгармонию. Однажды пришел Евгений Львович. Папа стал брать бетховенские аккорды, а Женя козлетоном ему подпевал. В это время пришел Ираклий (3), он еще раздевался, а Женя своим высоким голосом под басовые аккорды спел какие-то слова:
А Ираклий, этот гад, Зачем приехал в Ленинград?В 54-м году Шварцы получили квартиру на Малой Посадской, на втором этаже — трехкомнатная квартира. На канале Грибоедова у них были две маленькие комнатушки. Наши квартиры были через площадку, и Женя часто к нам заходил, мешая папе работать. У Жени была удивительная черта — он мог работать в любой обстановке. Он выходил к гостям, шутил, исчезал, потом опять появлялся, потом приходил и говорил, что может прочесть кусок, который он сейчас написал. Папе нужно был войти в работу, сосредоточиться и малейшие помехи выбивали его из колеи. Когда он садился за работу, и та у него шла, он молился, чтобы только не зашел Шварц.
Новый 1955 год встречали у нас. Сохранилась фотография об этом.
Юбилей. Как ни старался Женя, а юбилей был грандиозный. Отец в свое время сделал правильно, он уехал от юбилея. Он говорил, что юбилеи отнимают последние силы. Правда, в Союзе было очень весело, адреса в большинстве были шуточные, кроме некоторых официальных. Насколько в Союзе было весело, настолько грустно было на банкете в «Метрополе». Выступил Зощенко с невероятно грустной и очень трогательной речью. Он говорил чудесно о честности, о подвиге его жизни. Женя уже тогда был болен. Это было последнее его появление на людях.
Первое самоубийство Екатерины Ивановны. Она попросила меня зайти к ней. Нужно было купить конфет Андрюше на день рождения (4) и отвезти деньги (около 1000 руб.) Евгении Марковне, секретарю Союза, которой она была должна, по-видимому, за перепечатку. Когда я завезла конфеты, она, прощаясь, первый раз в жизни поцеловала меня. Я еще тогда задумалась — с чего бы это. В ту же ночь она отравилась. Тогда я поняла значение поцелуя: она прощалась со мною, — выполнила последние свои дела: конфеты Андрюше и долг машинистке. Правда, потом она отрицала, что пыталась покончить с собой… Говорила, что дала слово Женичке, и никогда она об этом даже и не думала.
А вот второй раз, похоже, на случайность. Я звонила ей в этот же вечер, она говорила, что собирается в Москву, спрашивала, что мы будем делать летом и т. д. Машина стояла, собиралась на ней куда-то съездить. Вам известно, что она принимала наркотики? В последнее время ей выписали очень сильное средство — нембутал. Она принимала по 3–4 таблетки, и ей не помогало. В этот раз она наверно перебрала. Умерла сидя, пыталась встать или еще что-то. В первый раз в квартире была Нюра, она и вызвала неотложку, а на этот раз никого не было — так она и умерла.
3
Борис Эйхенбаум. Шварцу (5) Евгений Шварц, печальный мой сосед! Люблю тебя — как друга многих лет, Тебя, товарищ мой отборный, Хотя судьбы коварною игрой На месяц мы разлучены с тобой Стеною, ванной и — уборной. Целую тебя! Боря. 15. V.57.Памяти Е. Л. Шварца[56]
Синий домик в Комарове Навсегда закрыт, А хозяин в тесном гробе Наглухо зарыт. И прозрачная, как льдинка, Прислонивши лоб к стеклу, Катя призрачно и дико В городскую смотрит мглу. Но хозяина не видно, Пуст и мрачен кабинет. Не вернется Женя, видно: Был, писал — и нет! Помню я Гуммолосары[57] (Катя там жила!); Был я молод — нынче старый: Память ожила. Помню я… но вспоминать ли? Разве можно вспомнить жизнь? Вряд ли жил я — жил я вряд ли, Вот теперь — теперь я жив! То есть: ем, пишу, читаю… Только вот задумчив стал — И, ложась в постель, глотаю Нам-бу-тал!Даниил Данин <1950. Комарово>
Из книги «Бремя стыда»
Сколько не говори теперь о 49-м годе, а уже ничем не заглушить пастернаковскую полустрочку — «о стыд, ты в тягость мне!» <…> Стыды 49-го угнетали тем тягостнее, что корни их не таились ни в каких глубинах, а торчали наружу, как у старых стволов на речных обрывах. И были всем видны. Стыдное и бесстыдное поведение гонимых, равно как бесстыдное и стыдное поведение гонителей, определялось одним и тем же: над всеми властвовал непреодолимый страх! Застарелый. Всепроникающий. <…>
Но я сейчас не обо всех. Только о двоих. О тех друзьях моих, что оказались самыми первыми жертвами борьбы с космополитизмом: 11 января 49-го, еще за две недели до сигнального удара по театральным критикам, прозаики Эммануил Казакевич и Наум Мельман были должным образом разоблачены! Я присоединился к ним, оцененный по достоинству, лишь в феврале. И клянусь — алчнее, чем нынешние алкаши в подворотнях, скидывались мы той зимою строптивостью на троих!.. <…>
А со мною было так… Во время первомайской демонстрации 50-го года, когда писательская колонна весело паслась у Никитских ворот, он (К. Симонов. — Е. Б.) подошел и с нарочитым громогласием объявил: «Дорогуша, не пора ли вам начать печататься снова, а?» И тут же, тоже громогласно, предложил мне полуподвал в «Литгазете», редактором которой он становился той весной: «Для начала полуподвал, хорошо, а? Только не о Пастернаке — это еще рано! — хохотнул он дружески. — О ком-нибудь молодом. Поищите…» А я пребывал в недовосстановленных штрафниках, и немало знакомых на той демонстрации кивали мне без готовности к рукопожатию. <…>
А потом — поздним летом — был день в Комарово под Ленинградом, когда по желтой тропе бежал, задыхаясь, через зеленый сад «дядя Женя» — Евгений Львович Шварц. В его паркинсоновой руке дрожала газета, и он кричал:
— Напечатали! Напечатали!
И вся наша сердечно дружная компания ленинградцев и москвичей, населявшая многопалубную путаницу террас и комнат старинной дачи Дома творчества, поспешила вниз — так вдохновляюще звучало то обыкновеннейшее: «На-пе-ча-та-ли!»
О Господи или черт возьми, — в который раз повторяю я на полюбившийся мне лад, — подумать только: ту жалкую новость, как символическую весть издалека, патетически провозглашал полный чувства юмора и трагизма, истинный гений сказки Евгений Шварц, а навстречу ему спешили, дабы самолично и тоже патетически убедиться в маленьком чуде, уже столько повидавшие на свете и в литературе Борис Михайлович Эйхенбаум с дочерью Ольгой, Анатолий Мариенгоф с Нюшей Никритиной, Михаил Эммануилович Козаков с Зоей Александровой Никитиной, Иван Антонович Ефремов, чета Слонимских и чета Адмони и, наконец, наша чета, то есть я с Тусей Разумовской… Кое-кого память, наверное, перенесла в ту мизансцену из соседних дней или даже соседнего комаровского лета, а кое-кого склеротически упустила… Но шестерых близких друзей — Юру Германа с Таней, Селика Меттера с Ксаной, Ольгу Берггольц и Юру Макогоненко — память приберегла на вечер того дня, когда они появились с копчеными незабываемыми предпоследними ленинградскими сигами в авоське… Это было продолжением еще днем начавшихся вроде именин, ибо сразу за шварцевским «Напечатали!» сделалось ясно, что надо обзавестись в пристанционной забегаловке «у Вали» всем, чем обзаводятся люди для именин. И за мною увязались в ту увлекательную экспедицию двое мальчишек — живший с родителями пятнадцатилетний Миша и гостивший у Шварцев двенадцатилетний Леша.
Обоим, как всем каникулярным лоботрясам, хотелось поучаствовать во взрослом деле, а заодно расспросить — отчего заслуживает ликования такая ерундовина, как крошечная статейка в газете, если их отцы, равно как и все дяди-тети вокруг (включая и «дядю Даню»), умеют печатать сочинения покрупнее и при этом вовсе не целуются, будто гол забили… Да ведь оттого припоминаю я тут тех каникулярных мальчиков, что были они нашими будущими кино-теа-знаменитостями, каждый — со своей судьбой, у обоих — не всегда сладкой, а у младшего — притчево-драматической, в середине 80-х привлекшей к нему внимание коллег во всем мире. Это Михаил Козаков и Алексей Герман пустились тогда на станцию, чтобы помочь, «кажется, прощенному» космополиту, и спорили, кому нести кошелку, и оба, несмотря на вопиющую неозабоченность ничем серьезным, честно говоря, совсем не нуждались в моем просветительстве: не мог я прибавить хоть что-нибудь к тому, чего они уже вдоволь наслушались дома, да и неозабоченность их была уже, возможно, только мнимой! Недаром же оба во взрослой жизни не стали своим искусством льстить и прислуживать времени…
В тот день и вечер, когда пили-гуляли на чьей-то террасе, — а под конец на голубой дачке Евгения Шварца, — в застольном шуме не раз повторялось: «А все-таки Константин Симонов — человек!» И это «а все-таки» и это «человек» делало его в свой черед, «кажется, прощенным» гонителем космополитов…
Дмитрий Молдавский Человек, живший в сказке
Есть такая страна… Мы не найдем ее ни на одной географической карте. А между тем эта страна существует — и любой гражданин в возрасте от трех до десяти лет может точно описать ее реки (с кисельными берегами), ее сине-море (откуда выходят богатыри) и ее обитателей: Золушку, Красную Шапочку, Кота в сапогах и других.
Это — страна легенды, это — страна сказки. Иногда она называется иначе — театральный мир. Названия эти сопредельны.
Непреложной чертой Евгения Шварца была театральность.
Много-много лет назад, в детстве, прочитав роман Юрия Олеши «Три толстяка», я спросил у матери, в какой стране все это происходит. Она, бывшая актриса, не задумываясь ответила: «В театральной». И каждый раз, когда я видел пьесы Евгения Шварца, или читал их, или просто разговаривал с писателем, я думал, что и этот человек оттуда — из театральной страны.
Впрочем, из взрослых очень немногие знают вход в эту страну. И уж совсем немногие могут съездить туда — на день, на два, на год. Одним из них и был Евгений Шварц.
Я познакомился с Евгением Львовичем задолго до войны. Был я как раз в том возрасте, когда к сказке начинаешь относиться со всем скептицизмом видавшего виды, пожившего, искушенного, умудренного опытом двенадцатилетнего человека… Короче говоря, я учился тогда не то в шестом, не то в седьмом классе. Посещал занятия деткоровского кружка (был такой при газете «Ленинские искры», и руководил им превосходный журналист М. Л. Фролов.
На одно из таких занятий был приглашен Евгений Львович. Мы сидели в длинной узкой комнате, а против нас — рыхловатый немолодой человек.
Он очень сосредоточенно занимался каким-то странным делом — поочередно сжимал запястье левой руки правой рукой, а потом запястье правой руки левой. Упражнение это как бы аккомпанировало его словам.
Начал он с того, что сказал:
— С детства для меня «писатель» — очень дорогое слово. И очень ответственное. Я и сейчас не знаю, вправе ли считать себя писателем…
Мы переглядывались — пьесы Шварца шли в ТЮЗе, мы читали его стихи в «Еже», потом в «Костре». Он казался нам не просто писателем, а писателем большим, почти классиком, вроде Даниэля Дефо или братьев Гримм. (Кстати, скажу, что много лет спустя в болгарском городе Тырнове я разговорился с мальчишкой примерно стольких лет, сколько было мне, когда я увидел Шварца впервые, — парнишка был на пьесе «Снежная королева». Когда я сказал, что встречался с писателем, мальчишка не поверил, — Шварц был для него современником Даниэля Дефо).
Наверное, Е. Л. Шварц был первым человеком, от которого мы услышали о таком серьезном и ответственном писательском деле. Его слова я запомнил точно и много лет спустя повторил их ему вместе со стихами: «Зайцы, братцы, время подниматься!». Он сказал, что помнит эту встречу и даже то, что после этого разговора он читал сцену из «Красной Шапочки».
Я тоже вспомнил. И вспомнил, как все мы — забияки и сорванцы, — слушая Е. Л. Шварца, вдруг очутились в сказочном мире; в великолепном мире благородной фантазии…
Конечно, понадобилось немало времени, чтобы мои сверстники поняли, что большой человек и большой драматург был не просто гражданином сказочного королевства — он был гражданином нашей страны в самом высоком понимании этого слова. И в какой бы уголок сказочного мира ни приводил нас драматург, с какими бы героями ни сталкивал он нас — будь это Баба Яга (из сказки «Два клена») или злобная Тень (из сказки того же названия), или министр-администратор из «Обыкновенного чуда», — мы видим не только их сказочные черты, мы видим черты весьма реальные, мы видим, как озлобленность, корыстолюбие, тупость отступают с пути героев, на чьем знамени написано: «Весь мир держится на нас, на людях, которые работают!»
Реальность и сказочность проходят через все творчество Шварца — это уже не дискуссионно.
Интереснее поговорить об отношении Евгения Львовича к народному творчеству — фольклору.
Моя вторая встреча с Е. Л. Шварцем произошла во время войны в Душанбе, куда драматург приехал вместе с Ленинградским театром комедии (1) (впрочем, я несколько раз видел его до этого в Доме писателей — перед войной, на чтении первого акта пьесы «Дракон», на премьере пьесы «Тень»).
К моменту встречи за мной уже была жизнь в блокированном Ленинграде, госпиталь, и я уж, казалось, совсем не был расположен к сказочному восприятию мира.
Я встретил Евгения Львовича на базаре, который был тогда экономическим центром города — бойкие спекулянты торговали чем угодно: от «американских подарков» — чаще всего тщательно залатанных синих рубашек — до вставных челюстей, которые любезно предлагали примерить. Ботинки снашивались на руках, так и не попадая на землю; спекулянты перепродавали их друг другу. Колхозники вывозили на базар рис и табак. Они продавали их втридорога, но если покупатель был уже очень истощен и нищ, могли отсыпать немного «бе пуль» — то есть без денег.
Евгений Львович ходил с таким видом, будто он идет по фойе Театра комедии и разглядывает веселые и яркие макеты акимовских декораций. Он покупал табак. Или, может быть, делал вид, что покупает его… Во всяком случае, вежливо осведомлялся о цене, извинялся и шел дальше… Я подошел, поздоровался и напомнил, что много лет назад видел его в «Ленинских искрах». Он обрадовался, увидев земляка, расспрашивал о новостях из Ленинграда; поинтересовался моей судьбой, узнал, что до войны я был студентом и посещал семинар при кафедре фольклора у М. К. Азадовского.
Разговор пошел о народном творчестве.
Выяснилось, что Евгений Львович собирал материалы для пьесы о Мушфики — герое таджикских народных сказок.
Мулло Мушфики! Кто в Таджикистане не знает этого имени. Герой бесчисленного количества сказок и анекдотов, остроумный и находчивый, он стал воплощением вековечной мудрости народа. Сотни людей в кишлаках и городах Таджикистана могут похвастаться знанием похождений Мушфики, но лишь немногие знают о том, что давно, еще в XVI веке, жил поэт, носивший это имя. Он прославился своими лирическими газелями и сатирами.
Но кроме того, он был еще знаменит своей находчивостью и независимостью характера, своими веселыми ответами.
О его остроумии знали и рассказывали в народе.
Постепенно, говоря о Мушфики, рассказчики стали припоминать веселые ответы и приключения совсем других сказочных героев и приписывали их тому же Мушфики.
Вот почему очень многие из сказок Мушфики похожи на общевосточные сказки о Ходже Насреддине (Афанди), на русские анекдоты о пошехонцах и произведения фольклора других народов.
Сотни лет прожил сказочный Мушфики, борясь со скупостью ростовщиков, глупостью чиновников эмира, шейхов и кази. Посмеивающийся над собственной нуждой бедняк и друг бедняков, он стал любимым героем сказочного фольклора.
Мы шли по базару, важно прицениваясь к самым разнообразным вещам, разумеется, без малейшей мысли об их покупке, и разговаривали о похождениях этого очаровательного плута и веселого победителя богатеев, вельмож и просто дураков.
Пьеса так и не была написана, но помню, что Евгений Львович просил специально переводить ему тексты таджикских сказок о Мушфики и не раз в разговоре возвращался к их сюжетам.
Правда, не следует думать, что разговор шел у нас «на равных», — Е. Л. Шварц как-то незаметно ввел меня в свой сказочный мир и разговаривал так, будто он был волшебником, а я так и остался мальчишкой из «Ленинских искр» (сперва я даже немножко обиделся, а потом все-таки включился в эту игру).
Интересно, что с моим малолетним сыном (это было уже потом, после войны) Евгений Львович, напротив, разговаривал, подчеркивая, что имеет дело со взрослым и солидным человеком. При встречах в Комарове или в Доме писателей он серьезно спрашивал его, как идет воспитание родителей и не обжуливаю ли я его в шашки. Естественно, что сын был в восторге и в возрасте шести или семи лет любил говорить: «Мой друг Евгений Львович…»
Всерьез о фольклоре мы говорили уже в 1947 году. В газете «Смена» я напечатал довольно посредственную рецензию на кинофильм «Золушка», поставленный режиссерами Н. Кошеверовой и М. Шапиро по сценарию Е. Шварца (2). Я писал, что Золушка — «глубоко традиционна, но рассказана она совсем по-своему, веселым и очень мягким голосом человека наших дней, прекрасно знающего отличие действительности от сказки и порой, в целях назидательности, придающего сказочным героям реалистические черты».
Дальше речь шла о том, что Е. Шварц по-своему талантливо и остроумно развил сказочные образы. Его добрая фея с удовольствием превратила бы злую мачеху в лягушку, но у мачехи «такие связи!». Его король — чудак и весельчак, поминутно кидающий свою корону в сторону и совсем по-мальчишески клянущийся — «честное королевское!».
«Нам кажется, — писал я, — что эти новые черты в создании сказки вполне законны. Если мы сравним романтическую Золушку из западных сборников с глубоко реалистичной, трудовой и совсем не сентиментальной девушкой из русских сказок, — мы увидим, что каждый сказитель вкладывал в образы повествования новые детали и черты. С этой точки зрения, драматург-сказочник Е. Шварц вполне правомочен на дальнейшее расширение образа».
Я тогда был аспирантом первого курса и поэтому считал себя главным хранителем фольклорных традиций. Ничего более умного, чем упрек в том, что авторы фильма пропустили какой-то сказочный мотив, я не мог придумать…
Через несколько дней после выхода рецензии я встретил Евгения Львовича. Сперва он пошутил со мной, спросил, в строгости ли держит меня мой сын, потом поблагодарил за дружелюбную заметку и вдруг очень серьезно заговорил о народном творчестве.
Он сказал, что для писателя есть два пути следования фольклору. Первый — это путь сохранения внешних форм старины, перенесения отдельных выражений и даже сцен из далекой сказочной страны в наше время. Другой — он кажется более плодотворным — путь проникновения в самую суть фольклорного образа, поиски таких черт сказочного героя, которые можно было бы развить, углубить, довести до сложного реального образа нашего современника.
Речь пошла о пьесах Ирины Карнауховой, талантливой собирательницы фольклора и автора многих сказочных книг. Она шла путем точного воспроизведения мотивов сказки…
Это был интересный и поучительный разговор, который я хорошо запомнил.
— Перед каждым писателем, увлеченным сказкой, есть возможность или уйти в архаику, туда, к сказочным истокам, или привести сказку к нашим дням, — сказал мне Евгений Львович.
Сам он, разумеется, шел вторым путем, и сказки, принесенные им в современность, не теряли своего колорита, своей условности. Народность его пьес-сказок не в подражании старым образцам, а в том, что он сумел, опираясь на черты образов старых сказок, создать галерею современных действующих лиц.
Кто бы ни писал о Евгении Шварце, он почти неизбежно говорил об удивительном умении этого писателя войти в сказочный мир, проникнуться подлинной сказочной условностью. Понимание этой условности и помогло писателю заставить своих героев жить в мире двух измерений — одновременно в сказке и в нашей реальной жизни.
Кто не знает сказку о человеке, потерявшем тень? Старые герои этой сказки ожили под рукой советского драматурга. Тень стала воплощением интриганства, тупости и ханжества. Ближайший помощник Тени — палач, и палач этот обожает канареек, устанавливает свою плаху возле статуи Купидона, маскирует ее незабудками.
Кто не помнит Снежную королеву? У Евгения Шварца она идет, отравляя сердца холодом равнодушия.
Кто не помнит злобного купчишку-торгаша, готового продать всех и вся? Драматург поднял этот образ до высоты отвратительнейшего пройдохи, твердо убежденного, что все на свете можно купить и продать, что нет и не может быть честных и благородных людей.
Теперь, когда я вспоминаю все виденные и прочитанные пьесы Шварца, я понимаю, что он шел путем очень смелой интерпретации классических образов. Опираясь на некоторые черты героев старого эпоса, он сумел создать галерею действующих лиц, которые несут черты современности. Пьесы «Дракон», «Два клена», «Снежная королева», «Золушка», «Обыкновенное чудо», «Тень» и др. учат нас помнить о тех человеческих чувствах, без которых невозможно жить, работать, строить.
В творчестве Е. Шварца мы не найдем абстрактной символики, романтики ухода от мира, от жизни, от общества.
Любимые герои Шварца — Василиса-работница, идущая на подвиг ради своих детей; Герда, спасающая своего маленького друга; отважный ученый и преданная Аннунциата, готовые идти на муки ради правды, — это не так люди из сказки, как люди наших дней. Я бы сказал, не боясь этого термина, — «идеальные герои». И они обязательно живут в каждой пьесе Е. Шварца. Все они полны мужества и веры в человека. Больше всего им ненавистны трусость, равнодушие, способность отречься от друга в трудную минуту. Весь гнев драматурга обращен на мещан, предателей, трусов. И хотя в каждой его пьесе приоткрыт какой-то уголок волшебной страны, где все представлено так, как может быть только в сказке, мы узнавали то, что ненавистно нам и в жизни.
Когда министр-администратор из пьесы «Обыкновенное чудо» начинает рассуждать: «Чего тут стесняться, когда весь мир создан совершенно не на мой вкус. Береза — тупица. Дуб — осел. Речка — идиотка. Облака — кретины. Люди — мошенники. Все! Даже грудные младенцы только об одном мечтают, как бы пожрать да поспать», — мы думаем отнюдь не о сказочном герое; перед нами во весь рост встает фигура приобретателя и пошляка, стяжателя и тупицы.
Вот другой образ из этой же пьесы — охотник. Он уже давно бросил охотиться. Его беспокоит лишь одно: что о нем говорят, что о нем думают.
Атаманша разбойников из «Снежной королевы» уверенно заявляет: «Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие разбойники».
Когда в чудесном кинорассказе «Золушка» наталкиваемся на мечты Мачехи о придворных связях, мы думаем не об источниках пьесы Шварца; мы вспоминаем вполне реальных любителей окольных путей и «черных ходов»…
Всех этих персонажей, пожалуй, не найти в указателях сказочных героев и сказочных сюжетов. Но, увы, мы их знаем по именам, отчествам и фамилиям. Они живут около нас. Они притворяются добрыми и хорошими. Они делают красивые мины и говорят красивые слова. Но это — враги. И враги отнюдь не сказочные.
В самые последние годы, уже после смерти Евгения Шварца, шумный успех выпал на две его пьесы — «Голый король» и «Дракон». В этих пьесах искали и находили черты той критики, которая могла возникнуть лишь три десятилетия после их создания. Думаю, что сам Евгений Львович был бы сильно удивлен теми параллелями, которые вдруг возникли в головах режиссеров и зрителей!
Пьеса «Голый король», написанная вскоре после прихода Гитлера к власти, и пьеса «Дракон», начатая перед самой войной и законченная в конце ее, — пьесы антифашистские и антимилитаристские. Так они были задуманы, так и создавались, наполненные клокочущей ненавистью к фашизму.
Повесть о благородном рыцаре Ланцелоте, об отвратительном-чудовище, о мужестве, о любви, о силе была легендой, рассказанной языком человека эпохи Отечественной войны. Мы, видевшие или читавшие эту пьесу в военные годы (в окончательном виде автор читал ее в ЦК КПСС Таджикистана; в Душанбе был осуществлен первый вариант акимовской постановки), очень ясно ощущали ее направленность. Не было ни малейшего сомнения в том, кто такой дракон и кто такой «господин президент вольного города», который приписывает себе подвиг Ланцелота. Удар пьесы был по западным любителям загребать жар чужими руками — недаром понятие «второй фронт» в те годы стало синонимом слов «медлительность», «оттяжка» и пр.[58]
Великолепное умение оживить уже стершиеся, привычные обороты речи, дать насыщенную и поражающую богатством речевую характеристику героя, стремительность действия и одновременно развития образов героев — все это характерно для Евгения Шварца.
Иногда сказка Шварца — это рассказ о современности, уснащенный сказочными деталями. В пьесе «Повесть о молодых супругах» действие происходит в наше время, в среде обыкновенных советских людей. Но рядом с ними «живут» два сказочных персонажа — Кукла и Медвежонок. Эти старые игрушки помогают раскрыть образы героев, комментируют события, рассказывают о том, чего не знают герои пьесы.
Молодые супруги рассорились. Маруся тяжело заболела, лежит с высокой температурой. Ей хочется поговорить с Куклой и Медвежонком:
«Маруся. Пока вы со мной разговариваете, все кажется печальным, но уютным, как в детстве, когда накажут ни за что, ни про что, а потом жалеют, утешают, сказку рассказывают. Не оставляйте меня одну! Помогите мне! Очень уж трудная задача. Если бы мы ошиблись друг в друге и он меня разлюбил, а я его, как задача легко решилась бы… Убивают нас беды мелкие, маленькие, как микробы, от которых так болит у меня горло. Что с ними делать? Отвечайте! Не бойтесь. Да, у меня жар, а видите, как я рассуждаю. Стараюсь. Рассказывайте о тех ваших хозяйках, что были несчастны. Ну же!
Кукла. Будь по-твоему. Слушай. Звали нашу первую хозяйку Милочка, а потом превратилась она в Людмилу Никаноровну.
Медвежонок. И вышла замуж за Анатолия Леонидовича. Мужчина мягкий, обходительный.
Кукла. При чужих. А снимет вицмундир да наденет халат — беда. Все ему не по нраву… Систематичес-ски, — шипит наш Анатоль, — систематичес-с-ски, транжжирка вы этакая, тратите на хозяйство по крайней мере на с-семь целковых больш-ш-ше, чем с-с-следует. Поч-чему вы покупаете с-с-сливочное… Вы з-з-забываете, что я взял вас-с-с бес-с-сприданницей, вы хотите меня по миру пус-с-стить…
Маруся. Нет! У нас с Сережей никогда не было столкновений из-за денег. И не могло быть. Подумать смешно. Рассказывайте дальше!»
В этой сцене очень ясно проявились характерные для Е. Шварца черты — соединение реальности и сказки и неколебимая вера в нашу мораль, в нашего человека, воспитанию которого Евгений Шварц и посвятил свое творчество.
В творчестве Е. Шварца, как и, разумеется, в творчестве других наших сказочников, мы не найдем абстрактной символики, романтики ухода от мира, от жизни, от общества. Особенно это становится заметным, если мы сравним сказки наших писателей с зарубежными сказками, хотя бы и очень одаренных беллетристов.
В переведенных сказках Кристиана Пино (3) есть фантастический этюд «Затерявшийся самолет». Кончается он так: «А между тем самолет все поднимался, и уже встревоженные астрономы наблюдали за его полетом в телескоп. Никто никогда не видел, чтоб этот самолет вернулся, и никто не узнал, цел ли он или упал где-нибудь в далеком море. А если спустя месяц или полтора один выдающийся астроном и подметил двигающийся на огромной высоте аэролит, которому он дал очень длинное название, то этот научный факт не имеет, разумеется, ни малейшего отношения к сказке о затерянном самолете».
Что ж, сказка о «красивой смерти»…
Можно перебрать все сказки — большие и малые, веселые и грустные, но ни в одной из них мы не найдем романтики смерти, романтики ухода от бытия!
Он был сказочником из тех, кто умеет провести вас по всем волшебным лабиринтам и ткнуть носом в реальную жизнь. Он любил жизнь в сказке и сказку в жизни.
Был такой эпизод. Принимали в Союз писателей одного критика, которого мы для простоты назовем Н. (4). Евгений Львович, как член правления, пришел на заседание, узнал, о чем идет речь, и наклонился к ожидающему своей участи литератору:
— Вот я сейчас выступлю и скажу: «Никакой он не критик. Имейте в виду — он писал стихи и, наверное, пишет сейчас». И тогда вам будет плохо. Встану и разоблачу. И другие критики побьют вас камнями, а может быть, сожгут на костре!
Критик взмолился о пощаде. Евгений Львович сказал:
— Промолчу при одном условии — при каждой встрече со мной отдавать королевские почести — снимать шляпу и падать на колени.
Первые две или три встречи произошли в помещении как-то безболезненно. Евгений Львович застывал в царственной позе, а Н. рушился на пол.
Но вот однажды, в дождливый день, на углу Садовой и Невского они встретились — Шварц и бывший поэт. Было, как пишется в очерках, сыро, мокро, холодно. Сверкали лужи.
Н. подошел вплотную к Евгению Львовичу и плюхнулся в воду, обдав его брызгами.
Перепуганный Шварц кинулся в какой-то магазин. Через несколько минут он вышел.
Н. снова плюхнулся в лужу. Евгений Львович опять вернулся в магазин, где, очевидно, для того, чтобы как-то объяснить свое возвращение, купил какую-то ерунду. Снова вышел с каким-то пакетом.
Н., уже мокрый и грязный с головы до пят, снова упал на колени.
Рядом терпеливо мокли прохожие, ожидающие, что будет дальше. Шварц сказал, простирая руку с бумажным свертком:
— Именем данной мне королевской власти вы освобождаетесь впредь от оказания мне царских почестей. Идите и не пишите стихов!
После войны я чаще всего встречал Евгения Львовича в Комарове (Келломяки). Он постоянно жил там, писал, читал, прогуливался по пляжу, собирая «дары моря» — всяческие предметы, выброшенные волной. Однажды он подарил мне найденный им большой стеклянный шар, который еще долго катался у нас под кроватями и под столами, вызывая смятение в душе моего кота.
Ходил он гордо, выпятив живот, в полотняном картузе (он даже плавал в нем) и говорил, что является по совместительству губернатором Комарова и губернатором острова Борнео.
Сочинял шуточные стихи.
Одно из стихотворений, написанное им вместе с О. Берггольц и посвященное табунам гостей, устремлявшихся в это дачное место и отчаянно мешавших работать, начиналось строками:
Гей вы, Келломяки, — горькое житье! Гости, как собаки, прыгают в жилье…Моя жена принимала известное лекарство АСД (антисептик-стимулятор Дорогова). Рассказывали, что лекарство это делается из каких-то мертвых тканей. Евгений Львович подходил к окнам комнаты, где мы жили, и восклицал:
— АСД — своею кровью начертал он на щите!
Или (загробным басом):
— Молдавские! Дайте мертвой ткани!
Или (на мотив частушек):
— Как у нашей Тани нету мертвой ткани!
О Леониде Пантелееве (Алексее Ивановиче — он звал его сокращенно АИ) говорил восторженно и часто цитировал А. Блока: «…золотого, как небо АИ» <…>
В оценках был беспощаден и воинственно остроумен. Когда узнал о моей скромной попытке полемизировать с Дм. Нагишкиным (5), обрушившимся на Е. Шварца с позиций «истинной народности», сказал мне, явно пародируя какого-то сытого полуклассика:
— Хороший критик — это тот, кто меня хвалит. Плохой — это тот, кто меня ругает.
О писателе, который сперва считался детским, а уж потом стал просто кумиром определенных кругов, как-то походя сказал:
— Красивая проза. Как карамель. Блестит. Яркая. Надкусишь — сладко; а потом еще долго во рту сахариновый привкус.
…Идут по улице в Комарове Евгений Львович и Г. Ягдфельд — драматург-сказочник. Ягдфельд жалуется (дело происходило где-то еще в конце сороковых годов), что сказки «не проходят», что «со сказками плохо» и т. д.
Евгений Львович размышляет вслух:
— Представьте себе, пожар. Дом горит. Переполох. И вдруг в окно всовывается торговка и спрашивает: «Малины не надо?»
О писателе, избравшем себе странный псевдоним Ганнибал, Е. Шварц сказал:
— Это не писатель, а глагол прошедшего времени: «Я Ганнибал, ты Ганнибал, он Ганнибал, мы Ганнибалы, вы Ганнибалы, они Ганнибалы» (6).
Евгений Львович умер вскоре после своего юбилея, который оказался его триумфом и полным признанием и который стал радостью для нас всех — литераторов и читателей. Кажется, лишь один человек был грустным на этом вечере — он сам.
Михаил Козаков Из «Записок на песке»
…Начиная с сорок четвертого года, после возвращения в Ленинград из эвакуации и до моего поступления в пятьдесят втором году в школу-студию МХАТ, моя жизнь проходила на канале Грибоедова в писательской надстройке. Она называлась так потому, что старое петербургское здание на бывшем Екатерининском канале было надстроено двумя этажами, и там поселили писателей. На этом доме и сейчас висят две мемориальные доски, возвещающие, что здесь жили и работали прозаик Шишков и поэт Саянов. Виссарион Саянов, стихи которого, по-моему, теперь мало кто знает, не знаю их и я… <…> А вот мемориальных досок с именами Михаила Михайловича Зощенко, Бориса Викторовича Томашевского, Евгения Львовича Шварца, Бориса Михайловича Эйхенбаума там нет. Будут ли? (1).
Кроме названных, в надстройке жили Вениамин Александрович Каверин, Михаил Слонимский, Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Ольга Форш, Елена Тагер…
В доме была коридорная система, и близкие друзья ходили друг к другу на огонек иногда даже без предварительного телефонного звонка. Харч у всех был скудный, но с этим не церемонились, прихватывали свой. Насколько я помню, больше всего общались Эйхи (так Эйхенбаумов называли друзья), мои родители и почти ежедневно приходившие со своей улицы Бородинки Мариенгоф с женой Анной Борисовной Никритиной, когда-то актрисой Московского Камерного театра, а в Ленинграде работавшей в БДТ. Борис Михайлович с семьей жил в соседней квартире, поэтому являлись друг к другу в пижамах, как тогда было принято. Лизка, внучка деда Эйха, и я постоянно крутились под ногами, а если я мешал взрослым разговаривать, дядя Толя Мариенгоф тоном, не терпящим возражений, говорил: «Мишка! Сыпь отсюда!» Это всегда обижало меня, но делать было нечего, и я «сыпал». А иной раз они забывались, и тогда моя мама говорила по-французски: «Диван лез анфан», что означало: «здесь дети». Этот «диван» я возненавидел на всю жизнь.
Приходил еще один человек, которого мы, дети, обожали: дядя Женя Шварц. Мы его считали всецело принадлежащим нам, так как думали, что он пишет только для детей; поэтому висели на нем и не пускали к взрослым, пока толстый, веселый дядя Женя не расскажет что-нибудь смешное. А Шварц, который когда-то был актером, сопровождал остроумные рассказы чудесными показами людей, волшебников или животных. Иногда изображал даже предметы. Он предлагал нам игру: в покупателя и кассиршу, а сам изображал и кассиршу, и кассу. Покупатель, например, говорил: «Выбейте, пожалуйста, 28 рублей 43 копейки…» — «Вам в какой отдел?» — «Где конфеты». Наша кассирша повторяла: «28 рублей 43 копейки» и выбивала на своем лице поочередно мигая то левым, то правым глазом и шевеля носом. Потом крутила ручку кассы около уха, открывала рот и высовывала язык — чек, при этом так смешно тараща глаза, что мы помирали со смеху… «Дядя Женя! Ну еще что-нибудь!» — не унимались мы. Но тут на выручку приходила жена Бориса Михайловича Рая Борисовна: «Ребята, дайте Евгению Львовичу побеседовать со взрослыми», — и уводила Шварца в кабинет Эйхенбаума.
В 48-м году Е. Л. Шварц читал друзьям свою пьесу «Обыкновенное чудо», — называлась она тогда «Медведь». Происходила читка в Комарове, бывших Келломяках, в Доме творчества писателей, где летом обыкновенно жили мои родители. Евгений Львович предложил отцу прихватить на читку меня: мне стукнуло уже 13 лет, и ему была интересна реакция подростка, потенциального зрителя будущего спектакля.
Шварц принес огромную кипу исписанной бумаги. У него в это время уже тряслись руки, и он писал крупным прыгающим почерком, отчего пьеса выглядела объемистой, как рукопись, по крайней мере «Войны и мира». На титульный лист он приклеил медведя с коробки конфет «Мишка на Севере». Большой, полный, горбоносый — таким он мне запомнился на этой читке. (Про него говорили: «Шварц похож на римского патриция в период упадка империи»). Читал он замечательно, как хороший актер. Старый Эйх, папа, дядя Толя и я дружно смеялись. А иногда смеялся один я, и тогда Шварц на меня весело поглядывал. Чаще смеялись только взрослые, а я с удивлением поглядывал на них.
Пьеса всем очень понравилась. Когда Евгений Львович закончил читать, дядя Толя Мариенгоф сказал: «Да, Женечка, пьеска что надо! Но теперь спрячь ее и никому не показывай. А ты, Мишка, никому не протрепись, что слушал».
Современному человеку это может показаться по меньшей мере странным. Признаюсь, теперь и мне кажется преувеличенной такая реакция А. Б. Мариенгофа. Но он-то трусостью не страдал, просто шел тот самый 48-й год, и в писательских семьях уже недоставало очень многих…
Сергей Цимбал Сказочник по-прежнему среди нас!
Я познакомился с Шварцем очень давно, почти сорок лет назад. Знакомство это было во многих отношениях неравным, и, должно быть, именно поэтому мне так хорошо запомнилась на редкость непринужденная манера, в которой взрослый писатель заговорил с едва вступавшим в совершеннолетие первокурсником. Мне шел восемнадцатый год, а Евгению Львовичу двадцать девятый. И вот, несмотря на столь очевидное неравенство, он сразу же обратился ко мне так, словно давным-давно знал меня и будто у него были вполне основательные причины прислушиваться ко мне.
— Помните, у Гейне говорится, что в каждой пьесе Шекспира действует свой климат; в одной идет снег, а в другой такая духотища, что дышать невозможно.
Я, разумеется, ничего такого не помнил, но был до крайности польщен тем, что мой собеседник считает меня человеком осведомленным и принимает, так сказать, всерьез. Только много лет спустя я понял, что он намеренно и сознательно пропускал целую стадию, через которую проходят, как правило, новые знакомства, для того чтобы как можно скорее достичь поры, когда близость с людьми становится не только интересной, но и плодотворной. Ему нужны были любые знакомства, и в любых он находил пользу для себя.
Мгновенные сближения Шварца с людьми всегда были непосредственны, искренни и по сути своей серьезны. Его внешняя манера держаться далеко не во всем соответствовала его подлинной натуре. Он был нетороплив, насмешливо важен, казалось, что изо всех сил старается придать самому себе побольше весу. Однако поразительное, сохраненное им до последних дней жизни умение отрешаться от всего, что принято именовать житейской суетой, вовсе не следовало принимать за чистую монету.
Надо было очень хорошо знать его, чтобы правильно понять и оценить его подчеркнутую сдержанность и чуть абстрактную, почти всегда неожиданную любознательность. Он вторгался в самые различные области знания по причинам, которые никто не мог бы объяснить сколько-нибудь точно. На какое-то время он становился энтомологом или историком Древней Руси, внезапно погружался в тайны павловской физиологии или вдруг оказывался придирчивым и хорошо разбирающимся в предмете лингвистом. За одно я могу поручиться: все эти интересы никогда не были у него прикладными и возникали вне всякой видимой связи с тем, что он в данный момент делал. Накапливавшиеся им знания нужны были не его героям, а ему самому.
Он вбирал в себя впечатления, не давая отдыхать собственной памяти, неизменно проявлял удивительную внутреннюю подвижность, способность вкладывать себя всего в самый процесс восприятия жизни. Он никогда не уставал от этого процесса — жизнь, люди, звери, вещи не могли быть безразличны ему даже тогда, когда лично его существования не затрагивали. Вещи в его понимании не были ни в какой мере бездушны и безответны. Не собираясь шутить, он утверждал, что неодушевленные предметы ехидно подсматривают за ним, провожают, если он уходит из дому, пристальным взглядом, усмехаются, если он что-нибудь делает не так.
В этом не было и тени умышленного, показного чудачества или тайного кокетства. Все, что только открывалось ему в окружающем мире доброго и злого, прекрасного и уродливого, близкого и чужого, уподоблялось им человеческому, имело свой естественный и неоспоримый человеческий смысл. Однажды в Комарове, спускаясь к заливу и проходя мимо косо растущего (по-видимому, из-за оползня) дерева, он сказал, не поворачивая головы, с величайшим презрением: «Холуй». Поза человека, походка, жест, движение головы были в его представлении «откровенностью природы», характеризовавшей свои создания со всем возможным прямодушием.
Я не хочу бросать тень на его эстетическую образованность — сомневаться в ней не приходилось, — но мне кажется, что теоретические исследования по искусству не были его любимым чтением. Объясняется это, вероятно, тем, что все психологические и умственные явления существовали для него только в той степени, в какой могли быть выражены в пластической форме. Он буквально проглатывал книги, в которых прошлое воссоздавалось в конкретном, материально ощутимом виде, так, что его можно было коснуться рукой. Этому требованию он оставался верен во всей своей писательской работе. Жизнь в его сказках была слышима и зрима, звенела, плескалась, скрипела или шелестела. Она была колючей или шершавой, прозрачной или душной, ровной или перекошенной.
Как-то я показал ему попавшуюся мне в руки нелепую книжонку — «Джентльмен, или Настольная книга изящного мужчины» (1). Он взял ее в руки и, перелистывая страницу за страницей, громко, раскатисто хохотал и что-то проговаривал губами. Тут еще не было ничего удивительного — книжка эта способна была развеселить каждого. Смехотворны были и самый предмет изложения, и многозначительность, даже философичность языка, каким она была написана. Но Шварц, листая ее, проигрывал про себя весь процесс превращения невоспитанного и неуклюжего простака в заправского «изящного мужчину». Он чуть щурил глаза, почти закрывал их, потом задирал высоко голову, опускал ее и снова начинал хохотать.
Но больше всего — и совсем по-другому — любил Евгений Львович читать книги по орнитологии и энтомологии. Его привлекали не популярные и поверхностные пересказы, а серьезные научные исследования, из которых он умудрился вычитать множество поразительных новостей, касающихся повседневного быта птиц и насекомых, осенних перелетов журавлей или героических горестных зимовок синиц. Все, что он узнавал о необыкновенных путешествиях угрей или о «боевых порядках» перелетных птиц, вызывало у него такую искреннюю, такую ненаигранную гордость, что можно было подумать, будто он имеет к этому делу самое прямое отношение.
— А знаешь ли ты, — как-то спросил он меня со всей строгостью, — что муравьи до сих пор не могут избавиться от матриархата?
Трудно сказать, что именно имел он в виду под этим «до сих пор», но получалось так, что в словах его звучал скрытый упрек. Дескать, мы, люди, давным-давно покончили с этим недопустимым явлением, а они все еще не могут справиться с ним.
Он надменно смотрит на своего униженного собеседника, не способного предложить муравьям сколько-нибудь реальный выход из положения. Он весь светится от чувства собственного превосходства и так счастлив, что можно предположить, будто муравьиная косность приносит ему личное удовлетворение. Ничего не поделаешь, так уж он устроен — все интересное, что он узнает, все самые поразительные чудеса мира и все разгадки жизни оказываются в конце концов подтверждением его личной правоты.
— Я же говорил, что в собачьем языке есть глаголы и есть существительные.
Он не довольствуется одной только констатацией этого ошеломляющего факта, а еще и показывает, как именно собака лает глаголами, а как существительными. Но не такой Евгений Львович человек, чтобы при этом еще и улыбаться. Он смотрит на собеседника серьезно, величественно и торжествующе. Сомнений в его взгляде нет. Ему и в голову не приходит, что сделанное им открытие может кому-нибудь показаться шуткой. При чем тут шутки?
С вопросом о муравьях он расстается тоже не сразу. Удерживаясь от чрезмерной экзальтации, но все же, будучи не в состоянии скрыть от окружающих испытываемое им душевное волнение, он с размеренной доскональностью излагает факты и только факты. В ритме его речи всегда есть что-то от неторопливого, тщательно обдумываемого перечисления. Кажется, что все произносимые им слова заранее расставлены по местам, занумерованы, и ему не остается ничего иного, как слепо подчиниться этой нумерации.
— Сидит, видишь ли, главная муравьиха и делает муравьям одолжение — великодушно принимает знаки их восхищения. От толщины она уже не может подняться с места, ей уже и дышать невозможно, а она все жрет и жрет. Можешь себе представить, каждый муравей после работы тащит с собой что-нибудь съестное, и вовсе не для себя, а для нее. Сам умирает с голоду, но все-таки пихает, несчастный лакей, пережеванную им самим еду прямо в пасть прожорливой муравьихе. И ко всему еще кланяется ей за это.
Последнюю знаменательную подробность, касающуюся кормления бесстыдной муравьихи, он припасает на конец своего рассказа. Именно в ней Евгений Львович усматривает поразительный психологический феномен, способный вызвать многочисленные и горькие житейские ассоциации. Впрочем, если говорить по правде, то никаких отчетливых ассоциаций тут и не требуется. Шварц не только рассказывает, но и одновременно показывает разбухшую паразитку, и не только показывает, но и срывает с нее позорную муравьиную черноту. Лишенная этого наряда, она оказывается до нелепого знакомой, хоть и безымянной, личностью, и совсем не муравьихой, а целым явлением, самим пороком, злом, сгустком низости и мерзости самовозвеличения и бесцеремонности.
Мне кажется, что где-то внутри себя Шварц жил напряженной и трудной жизнью следопыта и фантазера, искателя и алхимика, вечно смешивающего разные зелья и никогда не знающего, что из этого получится. Главное, что ему требовалось, — это материальное, весомое, ощутимое подтверждение той вечно важной истины, что творческие и нравственные силы человека безмерны, что добро — это порядок, а зло непорядок. Как художник, распоряжающийся судьбами своих героев, он был уверен, что еще далеко неисчерпаны средства, при помощи которых созидатель мог бы одерживать новые победы над потребителем, человек, живущий для общества, одолевал бы презренного тунеядца, думающего только о себе.
Я не встречал в своей жизни людей, которые столь же ясно и предметно, как он, столь же определенно и зримо представляли бы себе одновременно и силу человека и его слабость, красоту и уродство, значительность и мизерность. Можно сказать без всякого преувеличения, что он не только представлял их себе, понимал их, но и видел их и слышал. Казалось, что если он прикоснется к этой самой значительности или мизерности, то услышит звон стекла или громыхание железа, стук дерева или плеск воды, скрип или шорох.
— Как, — сказал он мне однажды, — разве ты не знаешь, что у скупости есть свой фасон?
Он тут же показал мне этот фасон руками. Получалось что-то вроде гроба, нечто отталкивающе неприятное. Когда я увидел его жест, мне показалось, что нельзя представить себе более подходящее вместилище для всего, что урывает от жизни проклятая человеческая жадность, не знающее цели жесткое и тупое накопительство.
Если бы кто-нибудь задался целью охарактеризовать Евгения Львовича Шварца как человека при помощи ходовых, широко распространенных и на все случаи годных определений, он потерпел бы решительную неудачу. Можно, конечно, сказать с полной уверенностью, что он был необыкновенно добрым художником, и не просто добрым, а активно добрым, именно добротой своей побуждаемый к творчеству. Но в нем не было ни капли той всеядной и жалостливой доброты, заметить которую проще всего, но которая зато и стоит не так уж много. Все его человеческие свойства были окрашены его индивидуальностью: он был по-своему добр и по-своему проницателен, скрытен какой-то особенной скрытностью и откровенен тоже особенной, так сказать, в цвет характера, откровенностью. Если бы речь шла не о нравственных чертах, а об одежде, можно было бы сказать, что он никогда не носил готового платья.
Однажды мне пришлось наблюдать его в момент, когда он оказался вынужденным лгать и притворяться. Было это в 1946 году, в Ленинградском Театре Комедии, к работе которого были причастны и Евгений Львович и я. Мы собрались в кабинете художественного руководителя театра Н. П. Акимова, чтобы слушать новую пьесу М. М. Зощенко. Пьесу Зощенко написал по договору с театром, читка была назначена заблаговременно, и ничего из ряда вон выходящего случиться не должно было. На такого рода читках всем нам приходилось присутствовать по многу раз, и только обстоятельство очень неожиданное придало ей поистине драматическую окраску.
Замысел новой пьесы Зощенко не вызывал ни у кого из нас никаких сомнений. Речь в ней шла о краже какой-то знаменитой картины, стоимость которой исчислялась миллионами. Вор сумел сделать все. Он отлично организовал похищение, проявил незаурядную изобретательность в утайке украденной картины. Однако единственное, чего он не понял, — это того, что непреодолимой преградой на пути к богатству встанут перед ним законы нашего общества, социалистические отношения людей (2).
В самый день читки в одной из газет появилась крайне резкая статья об опубликованном незадолго до этого рассказе Зощенко «Обезьянка». По статье легко было понять, что печаталась она не по инициативе самой газеты и имела в виду не один только разбираемый рассказ писателя. Каждый из нас отдавал себе отчет в том, что появление статьи способно поставить под сомнение будущую постановку новой пьесы Зощенко, но опережать события тоже не было ни причин, ни желания. Тем более не хотелось раньше времени наводить на столь мрачные размышления самого Зощенко.
Велико было наше удивление, когда мы увидели пришедшего без минуты опоздания, как всегда, подтянутого, с чуть нарочито приподнятыми плечами, не улыбающегося — он улыбался очень редко — и с ходу готового приступить к читке Михаила Михайловича. Как выяснилось гораздо позже, Зощенко еще не успел прочитать газету, о нависшей над ним беде ничего не подозревал.
Убедившись в этом, Шварц буквально побелел. Всегда необыкновенно корректный, он вдруг стал раздраженно посматривать на часы. Заметив, что Акимов вышел на минуту из комнаты, он довольно открыто выразил свое недовольство. И когда наконец читка началась, он уселся так, чтобы смотреть Зощенко прямо в лицо, и приготовился слушать. Акимов подвинул ему листок для записей, но он очень решительно отодвинул листок в сторону.
Читка продолжалась около двух часов, и на всем ее протяжении можно было видеть настоящие страдания Евгения Львовича. Он то смотрел в какую-то одну точку на пустом столе, то опускал голову, то снова поднимал ее, и все это было так непохоже на его обычно независимую и естественную манеру держаться, создавать вокруг себя атмосферу дружеской, облегчающей жизнь полушутки. В тот раз он не только не шутил, но и вообще не сказал ни одного слова. Только спустя несколько дней он признался мне: «Какие бы я слова ни произнес в ту минуту, слова сочувствия или огорчения, они все равно были бы ложью».
Когда читка кончилась, наступило самое страшное. Еще ничего не подозревавший Зощенко как на грех был настроен очень воинственно и деловито. Не удовольствовавшись общими и ничего не означающими словами Акимова и какими-то очень, должно быть, банальными фразами, сказанными мной, он обратился к Шварцу, и тот вдруг впервые за это утро улыбнулся и сказал непривычно тихим голосом: «Ну уж мы-то сумеем поговорить по дороге, домой-то нам вместе идти!» Зощенко был очень гордым и ранимым человеком. Не услышав сколько-нибудь определенного слова о судьбе пьесы, он явно обиделся и, не дожидаясь Шварца, удалился. Что же касается Евгения Львовича, то он уселся в акимовское кресло, положил руки на подлокотники и сказал медленно и совершенно серьезно: «Я сегодня был в аду».
Именно потому, что Шварц не был ни в коей мере сентиментальным добряком, легко пользующимся общепринятой фразеологией сочувствия и сопереживания, он совершенно терялся в присутствии людей огорченных, попавших в беду, нуждающихся в поддержке. Когда вскоре после окончания войны в Ленинград приехала группа немецких писателей-антифашистов и в «Астории» состоялась дружеская встреча с ними писателей Ленинграда, тамадой на этой встрече стихийно стал Евгений Львович. Все шло великолепно, и Шварц, как говорится, превзошел себя в искусстве веселого председательствования. Но, как только наши гости заговорили о том, как тяжело им сознавать, что именно из их страны пришло сюда, на советскую землю, и, в частности, в Ленинград, столько непоправимого человеческого горя, Шварц умолк, опустил голову и на некоторое время замолчал. На протяжении этих нескольких минут у него был такой вид, будто он, именно он, в чем-то провинился перед гостями. Произносить вслух, да еще на виду у многих, слова сочувствия и утешения он не умел и не хотел.
Впрочем, он был необыкновенно чувствителен не только на людях, но и наедине с собой. В мемуарном рассказе «Печатный двор», повествующем о днях литературной молодости Шварца, есть такие строки: «… Едва я начинал перебирать то, что пережито с утра, как все впечатления, словно испугавшись, убегают, расплываются, перемешиваются. Попытки их передать, робкие и осторожные, кажутся в картонажном мире непристойными, грубыми. — Потом, потом! — приказываю я себе». Оказывается, далеко не всегда художнику легко и просто возвращаться к своему прошлому, ибо возвращаться стоит только ради правды. Строить декорации на развалинах прошлого он считал делом по меньшей мере бесцельным.
Воспоминания могут самым неожиданным образом вступить в противоречие со взглядом в завтрашний день, в будущее. Бывает и так, что непрошенное умиление перед тем, что было, мешает художнику бесстрашно и убежденно идти навстречу тому, что будет. Шварц всегда вспоминал о давно прошедших днях без тени подобного умиления. Он судит об этих днях со всей строгостью, а если надо, то и со всей жестокостью, которой во многих случаях требует бескомпромиссная и безоговорочная правда жизни.
При этом о людях он высказывается, не унижая их своей снисходительностью; о самом себе говорит с холодной и безоговорочной прямотой, избегая интригующих иносказаний и многозначительных недомолвок. Художник не устраивает, подобно иным слишком уже радушным мемуаристам, особого рода экскурсию в свой внутренний мир и не выставляет напоказ достопримечательности этого мира. Такого рода гостеприимство в большинстве случаев выдает известную нескромность авторов воспоминаний, и, в конечном счете, оно не столько гостеприимство, сколько хвастовство.
Он был убежден, что нельзя погружаться в процесс сочинительства, как в нирвану, или превращать этот процесс в священнодействие, унижающее всех непосвященных. Он и с пером в руках оставался человеком, продолжающим жить и мыслить естественно и непринужденно, ни на шаг не отступая от самого себя, от сложившегося в трудных поисках и раздумьях восприятия жизни.
Отвращение к позе, к наигрышу, к притворству носило у Шварца почти маниакальный характер. Едва заподозрив или обнаружив искусственность в речах своего героя, он безжалостно зачеркивал целые страницы текста, как бы боясь, что, удалив явную фальшь, он оставит метастазы — тайно зараженные ею соседние реплики. Рассказывая о годах своего детства, Шварц вспоминает о заброшенном деревянном доме, в одном из окон которого была выбита форточка. Однажды, гуляя с матерью, он увидел, как фланировавший с барышнями студент пытался влезть в форточку и делал вид перед своими спутницами, что не может вылезти. «Мы с мамой, — вспоминал Шварц, — осудили студента. Он совершил страшный грех. Он ломался».
Из отвращения к ломанью в жизни родилась настоящая ненависть к ломанью в искусстве, к нечестным и недостойным ухищрениям во имя дешевого мгновенного успеха, ко всем видам художественного обмана. Удивительно, но, вероятно, закономерно, что именно сказочник, выдумщик и фантазер испытывал такую непримиримую вражду к мистификациям и притворству. Художник, безбоязненно уводивший своих зрителей в мир самого смелого и живого воображения, понимал, что настоящий, глубокий художественный вымысел не имеет и не может иметь ничего общего с антихудожественным беспардонным враньем.
Поведение многих из его сказочных необыкновенных героев подчиняется в иных случаях какой-то причудливой, трудно объяснимой логике. Можно было бы подумать, что поведение это сконструировано писателем, изготовлено лабораторным путем. В этом не было бы ничего из ряда вон выходящего. Я вспоминаю в этой связи одно странное открытие в области музыкального творчества: кому-то пришло в голову, что можно сочинить музыку, перевернув наизнанку процесс музыкальной записи. Если в результате звуковых колебаний на воске возникает борозда, которая их как бы повторяет и дает возможность воспроизвести, то можно, вероятно, идти обратной дорогой, сочинять не музыку, а сначала вычерчивать эту самую борозду.
Всякая претенциозность в искусстве имеет в основе своей такой именно противоестественный обратный ход. Художественное мышление Шварца было непримиримо чуждо подобного рода фокусничанью по той простой причине, что удивительное в его персонажах он черпал из собственного опыта. Многое такое, что удивляло и даже ставило в тупик каждого из нас, с его точки зрения вообще не требовало объяснений. Таким естественным оно казалось ему самому.
Врачи потребовали, и притом в самой категорической форме, чтобы Евгений Львович бросил курить. Ему это было ничуть не менее трудно, чем любому другому человеку. Я подозреваю, что железным характером он не обладал. Тем не менее он курить бросил, и бросил способом совершенно немыслимым. Своим обычным «перечислительным» тоном он изложил мне свою «методу», которую считал самой совершенной из всех существующих. «Делается все очень просто. Ты покупаешь не одну, а две пачки „Беломорканала“ и кладешь их в карман. Меньше чем с двумя пачками ты вообще на улицу не выходишь. Каждый раз, когда тебе захочется курить, ты закуриваешь. Ты это делаешь с удовольствием и не торопясь, так, как будто и не собираешься расставаться с курением. Однако, затянувшись, ты неожиданно вспоминаешь, что это вредно, сломаешь папиросу, как будто не ты ее закурил, а она тебя закурила».
Портить бесчисленное множество папирос до тех пор, пока это занятие не осточертеет окончательно, — такова была его поразительная «метода», благодаря которой он действительно курить бросил. Я перечитываю нередко сказки Шварца, снова и снова встречаюсь с его героями, и иной раз мне хочется уличить их в том, что они меня разыгрывают. Но они вовсе не разыгрывают меня, как не разыгрывал меня и сочинивший их сказочник, бросивший курить при помощи курения.
Рукописный архив каждого яркого и требовательного художника, строго и безжалостно наблюдавшего жизнь, не отводившего, как говорится, глаз от окружающих людей, чаще всего открывает новые стороны его внутреннего облика. Поначалу это ощущение только что открытой новизны особенно сильно. Кажется, что вновь узнанное невозможно или, во всяком случае, очень трудно согласовать со всем тем, что принято было думать о художнике, и всем тем, что было известно о нем раньше. Нечто подобное пришлось пережить мне после смерти Евгения Львовича, когда я впервые познакомился со многими страницами его воспоминаний.
Но очень скоро я убедился в том, что нельзя слишком доверяться этому ощущению. В памяти людей, близко знавших Евгения Львовича, живет необыкновенно светлый, цельный, сосредоточенный человек, человек, которому мудрость его давно уже принесла душевную непоколебимость и высокое сознание художественной правоты. Именно таким Евгений Львович и был на самом деле. Иначе он не мог бы стать сказочником, иначе воображение его не обрело бы такой удивительной власти над всеми нами. Во всяком случае, воображение писателя не сумело бы нам внушить веру в подлинность изображаемого им мира и населяющих этот мир добрых или отвратительных, веселых или мрачных, близких нам или беспросветно чуждых существ.
Только людям, владеющим всесильным чувством правды, дано стать сказочниками, и только истинные жизнелюбцы, всем сердцем и душой привязанные к реальному миру, в котором мы живем, без страха и колебаний удаляются из этого мира в далекую страну чудес.
Но как же объяснить в таком случае некогда пережитые Шварцем мучительные сомнения, приступы неверия в себя, испытанные им ощущения нереальности или «картонажности», как он говорил, жизни, которой он жил? С отчаянием и болью, тоской и обидой вспоминал он о днях, когда почему-то, неизвестно почему, не влекла его работа, не торопило его собственное воображение, когда не испытывал он постоянной и воодушевляющей необходимости во «встречах с самим собой». Он вспоминает об «аристократической свободе от обязанностей» и задает сам себе один за другим нелепые, неестественные, прямо и непосредственно противоречащие нашему представлению о нем вопросы: «а что, если в порочности истина?» или «не есть ли моя сдержанность — просто робость, холодность, отсутствие темперамента?»
Не один раз встречаются в неопубликованных рукописях писателя строки, открывающие как бы другого, неведомого нам, беспокойного и будто бы потерявшего веру в себя Шварца. «Может быть, придет день и исчезнет отвращение к письменному столу? И вернется тот поток, который так радовал меня в ранней молодости, когда я писал свои безобразные, похожие на ископаемых чудищ стихи? Конечно, он вернется! И я вижу, переживаю с массой подробностей себя в новом качестве. Я неутомимый работник! Я живу без вечного ужаса перед своей уродливостью! Я больше не глухонемой! Я слышу и говорю!..»
Как будто бы и в самом деле неожиданны и не согласуются это тоскливое беспокойство и возбужденная, мучительная надежда с образом проницательного, далеко и ясно видевшего художника… Нет, подлинные надежды и ожидания писателя нисколько не были похожи на эти обгоняющие друг друга, судорожные, самообманные восклицательные знаки. Все вновь выяснившееся и как будто бы неожиданно открывшееся — не что иное, как сложное и глубокое подтверждение того, что можно было и следовало предполагать раньше. Настоящий художник неделим, и притом неделим даже в противоречиях своих, в пережитых им тревогах и поисках, неделим в главном, в том, ради чего неутомимо и бурно, день ото дня кипело его воображение.
Неоткуда было бы, вероятно, взяться его мудрости, если бы он шел в своей внутренней жизни гладкой и кем-то, еще до него, укатанной дорогой.
Легкие праздничные прогулки художника не умудряют. Негде было бы взяться его душевному покою, покою правоты и убежденности, если бы не прошел художник сквозь огонь сомнений и тревог, через пережитую им тяжкую неуверенность в себе и даже непонимание собственного поприща. Можно не сомневаться в том, что на всем, когда-либо придуманном, познанном и сочиненном писателем, остались живые, нестираемые следы побежденных им внутренних испытаний.
Очень часто душевная застенчивость мешала Шварцу говорить обо всем этом вслух. Должно быть, именно поэтому он часто, очень часто доверялся своему «гроссбуху», в котором с годами копились заветные раздумья, признания, подробности прожитого и пережитого. Вспоминая и записывая, он, по его собственному выражению, испытывал «некоторое наслаждение от собственной правдивости», и главным образом потому, что не имел перед глазами воображаемого читателя. Воображаемый читатель не заставляет его вспоминать именно то, что ему, читателю, особенно интересно было бы узнать. Ему не мешает назойливая мысль о том, что его неправильно поймут. Перед самим собой он может остаться точным и откровенным до конца.
В одном из сохранившихся в архиве Шварца рассказов — «Пятая зона — Ленинград» — описывается короткое, занимающее не более часа путешествие из дачного поселка Комарово в Ленинград. В рассказе этом ничего не происходит и скорее всего ничего и не должно произойти. Шаг за шагом описываются в нем станционные платформы и павильоны, неуклюжие бетонные вазы, установленные вдоль ограды, предупредительные плакаты, на которых изображены страшные последствия пассажирского легкомыслия. Точно воспроизводится картина появления поезда: «Кажется поезд черным и не по рельсам узеньким. Но вот он приобретает цвет и объем. Когда поднимается он из выемки уже перед самой нашей станцией, то мы видим сначала один верх моторного вагона с прожектором, который днем только поблескивает на солнце».
Весь рассказ этот состоит из подробностей и деталей. Тут и «смуглые от старости» карты, которыми пассажиры перебрасываются в «шемайку», и врывающиеся в вагон школьники, которые «так рады своему освобождению, что места себе не находят», и татуировка на руке у нищей: писатель прочел слово «два» и не мог понять, что бы оно могло значить, а оказалось, не «два», а «Эва». Все эти подробности и наблюдения нагромождаются одно на другое, как кадры документального кинематографа, и, в конце концов, все вместе образуют картину, полную истинного напряжения жизни.
Шварц не любил рассказывать о собственных печалях, и, может быть, поэтому, рассказывая о других, умел быть таким откровенным и доверчивым. Вот входят в его повествование артиллерист, которого он полюбил «за простоту, понятность и здоровье», продавщица эскимо — «смуглая, худая, словно опаленная внутренним пламенем», жена футболиста, которая рассказывала, что «нет для нее дня счастливее последнего матча». Жизнь входит в вагон и выходит из вагона, а писатель все едет, и все думает, и глядит, ведет дальше. И это совсем не потому, что такая у него профессия, что приходится, хочешь не хочешь, наблюдать, присматриваться, интересоваться. Ему самому, независимо от его профессии, кажется, что если он что-то пропустит, не заметит, не поймет, жизнь станет для него много беднее.
Впрочем, он и здесь, в вагоне электрички, остается сказочником, который только для того и живет на свете, чтобы обнаруживать вокруг чудеса. Далеко не всегда чудеса эти сотворены добротой человеческой, не во всех случаях они достигают цели. Иной раз они маленькие, а иной — большие, ночью они могут ослепить, а при свете солнца их вовсе не видно, но все равно — они чудеса, заслуживающие того, чтобы люди им удивлялись.
Кто знает: чудом может оказаться татуировка «Эва» на руке у наголо остриженной нищей — ведь что-то очень важное могло оказаться связанным в ее жизни с этим странным именем, иначе зачем было бы выжигать его на запястье? И счастливая улыбка на лице у девушки, возвращающейся со свидания, — тоже чудо, о котором, быть может, она будет вспоминать долгие годы. И рассказ матери о сыне — солдате, спасшем тонувшего мальчика, — кто дерзнет утверждать, что нет ничего чудесного в гордости, заливающей теплом и светом сияющие материнские глаза!
…Есть у Пушкина такие горькие и печальные слова: «Забвение — естественный удел всякого отсутствующего». В жизни чаще всего так оно и бывает. Человеческая память, увы, далеко не всегда справедлива и не всегда достаточно дальновидна. Люди, которые так ощутимо заполняли до краев нашу жизнь, вносили в нее столько живых красок, столько ума и таланта, уходят, и даже по отношению к ним разрушительное время делает свое дело. Образ их тускнеет, черты их день за днем блекнут.
Но, может статься, что мысль, высказанная Пушкиным, имеет не только прямое, но и обратное значение: те, кого не коснулось забвение, те, кого взыскательная память сохранила нам, не должны считаться отсутствующими. Велико это чудо — жизнь, продолжающаяся после того, как ее носители и творцы ушли от нас. Снова и снова совершается оно на глазах каждого из нас. Совершилось оно и со сказочником Евгением Шварцем.
Он сам ушел, а его веселые и печальные, необузданные, самоотверженные герои, его короли и министры, его клены и ужи, олени и принцессы продолжают вести с нами свой необыкновенный, свой сказочный разговор. Они произносят диковинные, в самое сердце западающие слова, и мы знаем, что это его, только его, сказочника слова, которые не мог бы подсказать своим героям никакой другой сказочник. Забвение не коснулось созданного, сказанного, открытого художником, и это залог того, что он не отсутствует, что он по-прежнему среди нас!
Раиса Берг Из книги «Суховей»
…Его синенький домик находился между железной дорогой и почтой в поселке Комарово по другую сторону железной дороги, чем Академический поселок. Домик ему не принадлежал. Союз писателей предоставил ему дачу в пожизненное пользование. Низкий забор окружал дачу. Молоденькие рябины уже плодоносили. Колпачки снега венчали алые гроздья.
С Лизой и Машей, им было 5 и 4, мы были первый раз в гостях у Евгения Львовича. Девушка-домработница, надевая на Машу пальто перед нашим уходом, спросила ее, почему не стало видно девушку, с которой они гуляли раньше. «Маруся уехала в деревню и там женилась на другой», — сказала Маша. Маша перепутала — женился на другой ее папа, а Маруся уехала в деревню и вышла замуж. Шварц слышал Машин ответ, и по лицу было видно, что он придает значение не столько форме, сколько содержанию.
А познакомились мы с Шварцем в декабре 1952 года при следующих обстоятельствах. Мы шли с Лизой на почту отправлять заказные письма. Из синенького дома вышел человек в фетровой шляпе. Он шел впереди нас, и продавцы всех ларьков приветствовали его. Очередь на почте состояла из меня с Лизой и человека в фетровой шляпе. Мы терпеливо ждали, пока он выпишет все журналы и газеты, какие только есть на свете. «Я вас задерживаю, — сказал незнакомый человек. — Сдавайте ваше письмо, я подожду», — предложил он. «Спасибо, мы подождем. Писем у меня масса». «Масса», — повторил незнакомец. Ситуацией овладела Лиза. «А вы можете сложить пять и семь?» — спросила она незнакомца. «Могу, — сказал он. — А ты можешь?» «Я совсем не зря вас спрашиваю, — сказала Лиза. — Вот на этом плакате пять листиков и семь цветочков». Плакат украшал почту. Декабрь. На плакате «Да здравствует Первое Мая!» и ветвь цветущей яблони. «Только и делает, что считает, — сказала я незнакомцу. — Сегодня такой разговор слышала. Младшая моя говорит ей: „Когда сто пакетиков освободятся из-под горчичников, попросим их у мамы“. А она отвечает: „Пакетиков не сто. В каждом пакетике пять горчичников. Пакетиков, значит, двадцать!“» «Сто горчичников», — сказал незнакомец. У нас была причина ставить горчичники. Она обнаружилась год спустя. Маша болела бронхиальной астмой. Но тогда приступы еще не разыгрались во всей жестокости, и мы то и дело пускали в ход горчичники…
«Сто горчичников», — сказал человек в очереди на почте.
В ту секунду, как девушка в окне закончила оформлять квитанции для незнакомца и я получила возможность сдать свои письма, Лиза сказала: «Мама, уйдем. Мне жарко». Я расстегнула пуговицу воротника ее пальто. «Я выйду с ней. Мы вас подождем», — сказал незнакомец. Лиза дала ему руку, и они вышли. «Знаете, кто это? — спросила девушка в окне. — Это Евгений Львович Шварц». Имя это я, конечно, знала, — детский писатель, драматург, конгениальный Андерсену, чьи сказки он инсценировал. Через окно было видно, как Шварц дрожащими руками застегивает Лизе пуговицу на воротнике пальто. Когда я вышла, оказалось, что дружбе заложено прочное основание. «Вон в том ларечке живет медведь, а в этом ящике под крышей почты, — видишь, провода к ящику идут, — живет птичка. Она по телефону с медведем разговаривает». «Мы подружились, — сказал Евгений Львович. — Я уже знаю, что вы живете в розовой даче номер 27. Пожалуйста, приходите ко мне в гости». «Не бросайтесь словами, — сказала я. — Мне теперь отбоя не будет — мама, пойдем в гости к новому академику». «Скажите, а меньшими категориями ваши дети не мыслят?» — иронически спросил он. «Не меньшими, а иными», — иронически поправила его я. «Нет, правда, приходите с ней», — сказал Шварц. «Я не могу одного ребенка вести в гости к знаменитости, а другого оставить за бортом». — «Приведите и другого». — «Но вы не знаете, сколько у меня детей!» — «Сколько бы ни было».
Сейчас я докажу Вам, что люди не равны друг другу, даже люди одной профессии, даже одного и того же профсоюза, в данном случае члены Союза писателей. В 1963 году меня пригласили создать лабораторию популярной генетики в Академгородке Новосибирска. <…> Я удостоилась визита Гранина, автора книги «Иду на грозу», где он чуточку лягнул Трофима Денисовича Лысенко, выведя его под именем ученого Денисова. Гранин входил в силу. <…> Я рассказала ему о моем знакомстве с Шварцем и про то, как Шварц не обратил внимания на поразительные способности его новой знакомой, повторил: «Сто горчичников». Гранин тоже не обратил внимания на слова вундеркинда. «Вид горчичника волнует меня, — заговорил он очень живо. — На изнанке каждого горчичника напечатано: тираж — один миллион». Дружбы с Гранином у меня не возникло. <…> А с Шварцем у нас возникла пламенная дружба… <…>(1)
У колыбели моей карьеры писателя стоит Евгений Львович Шварц…
Самое острое из всех ощущений моей жизни — чувство стыда, которое я испытала, когда Шварц, выслушав мои рассказы, сказал: «Такая литература карается арестантскими ротами». Я испытала непреодолимое желание: желание исчезнуть с лица Земли немедленно. Мое горло не бредило ни бритвой, ни намыленной петлей, мой висок не жаждал прикосновения заряженного пистолета. Я точно знала, чего я хочу. Бездна должна разверзнуться подо мной и поглотить меня. Я поняла точный и буквальный смысл выражения «хотеть провалиться сквозь землю». И как я могла, нашаляв, накаляв, наваляв пять маленьких рассказиков, — так моя дочь Лиза позже характеризовала способ приготовления уроков ее младшей сестрой Машей — пойти читать их Шварцу? Затмение на меня нашло.
Шварц сказал:
— Работайте, приходите через месяц.
— К вам, наверное, многие ходят и всякую дрянь читают? Что вы им говорите? — спросила я.
— Говорю, что печатать так трудно, что лучше и не начинать.
— А мне почему так не говорите?
— Потому что вам — есть что сказать.
Я пришла через два месяца и принесла десять рассказов.
Когда я уходила, Шварц сказал: «Об арестантских ротах не может быть и речи». <…>
Летом 1995 года я очутилась на Корсике. Синева Средиземного моря так живо напомнила мне арену, где разыгралось действие рассказа «Раковина», что я решила восстановить его. Рассказ посвящен Евгению Львовичу Шварцу.
Евгений Львович говорил мне: «Пользуйтесь самыми обыкновенными словами. В них вся сила и прелесть языка». Бессчетные сонмища черноморских маленьких, темненьких ракушек-башенок не привлекали тех, кто собирал красивые сувениры. Мне они казались прообразом самых простых слов Евгения Львовича. Начав с рассказа «Раковина», я восстановила весь сборник…
«Байки» из «Биневины»[59]
Родословная зависти
«Стремление к равенству — дитя зависти», — сказала я как-то раз Евгению Львовичу Шварцу.
«Отец», — сказал Евгений Львович.
Кто из нас ботаник?
Мой отец Л. С. Берг рассказал мне, что первым, кто описал карликовую березу в горах Крыма, был А. С. Пушкин.
* * *
Зятю Евгения Львовича Шварца посчастливилось побывать в тропиках. «Он пишет о гигантском фикусе, говорит Евгений Львович. Ствол в обхвате чуть ли не парсек». «Какого же размера листья у этого фикуса!» — восклицаю я. «Листья могут быть самые обыкновенные», — говорит с оттенком замешательства Евгений Львович. Ботаник-то все-таки я.
6 IX 70 г. Р. Берг.
* * *
Звать его Андрей, Дед его еврей, Бабушка — армянка, Мама — хулиганка, Папа — кандидат, Плохо дело, брат!Это стихотворение Евгений Львович Шварц сочинил про своего внука.
6 июня 1970
* * *
Е. Л. Шварц сказал, что ему понравились чьи-то слова — смерть, как горизонт. По мере того, как приближаешься к нему, он удаляется. Но те, кто сзади, видят, что горизонт все ближе, не к ним — к тем, кто идет впереди.
15 ноября 1970, Р. Берг
Юрий Слонимский Из сборника «Мы знали Евгения Шварца»
В многосторонней деятельности Евгения Львовича Шварца была одна сфера, не получившая развития. Это — балетная драматургия. Хотя его замыслы в этой области не нашли сценического воплощения, они бесспорно входят в общий поток исканий нашего балетного театра.
У Евгения Львовича было много возможностей стать драматургом балета. Прежде всего, он страстно любил музыку, умел ее слушать и слышать. С давних пор Шварц был настоящим почитателем Д. Д. Шостаковича и С. С. Прокофьева. Был у Евгения Львовича еще один «свой» композитор — А. С. Животов. Он платил Евгению Львовичу взаимностью — любил его творчество, посещал представления его пьес, к некоторым писал музыку.
Последние годы жизни Евгений Львович, по состоянию здоровья, совсем перестал бывать в филармонии, но устроил, как говорил шутя, «филармонию на дому» — вдумываясь в музыку, подолгу проигрывал пластинки, слушал радиопередачи.
Музыка была для Шварца больше чем отдыхом и развлечением: в ней находил он опору и вдохновение. Исключительная память, тонкий слух и еще более тонкое восприятие слышанного позволяли ему говорить о музыке всегда по-своему, не раз открывая хорошо известное с новых сторон. Его впечатления, которыми он делился с собеседниками, будь они записаны, составили бы чрезвычайно интересный свод размышлений истинного меломана. И главное — они всегда были в опосредствованной связи с его литературно-поэтическими образами.
Самый характер творчества Шварца располагал к правильному восприятию не только музыки, но и балета. Евгений Львович поразительно точно различал правду и фальшь, поэтичность и прозаичность сценической ситуации. У него было природное чувство меры, позволявшее ему верно определять степень отдаления сочиняемого от натуры. Разную в разных жанрах. А это, пожалуй, одно из самых важных качеств для балетного драматурга, который проектирует спектакль в образах танца — прихотливого, не терпящего бытовизма, всегда находящегося на грани необыкновенного, фантастического. Редкая способность Евгения Львовича наделять сценическое действие качествами «обыкновенного чуда» особенно драгоценна для сочинителя балетного сценария.
На балетных спектаклях я встречал Евгения Львовича редко. Не знаю, что именно — интуиция или предварительная информация — безошибочно приводили его в театр в те вечера, когда мы становились свидетелями больших удач новых постановок или артистических находок. Он видел, помнится мне, «Бахчисарайский фонтан» и «Ромео и Джульетту». Однако на премьере «Золушки» я его не обнаружил; быть может, потому, что он был полон собственных представлений об этом сюжете, существенно отличавшихся от того, что следовало ожидать от спектакля в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова. Сравнительно часто Евгений Львович бывал на выступлениях Улановой.
В начале пятидесятых годов Евгений Львович подолгу жил в Комарове и очень любил беседы во время прогулок. Я интенсивно работал над сценарием балетов о наших днях («Берег надежды», «Тропою грома» (1) и другие) и часто рассказывал о своих замыслах Евгению Львовичу. По исключительной скромности он выражал свое мнение весьма деликатно и мягко, словно считал себя всего лишь слушателем, а не профессионалом-драматургом.
Между тем эстетические воззрения Евгения Львовича на балет были гораздо правильней и значительно дальновидней воззрений многих профессионалов танца. То было «смутное время» в балетном театре: под лозунгом «сближения с жизнью» в нем развивались натуралистические тенденции. Высшим их выражением явился балет «Родные поля» (в Театре имени Кирова) (2): здесь «сближение» привело к пародии и на жизнь, и на балет. «Бытовизмов» Евгений Львович не выносил и, в частности, молниеносно замечал мои прегрешения на сей счет. Не столько по склонности к сказочному жанру, сколько по искреннему и верному убеждению, он высказывался за широкое использование в балете фантастических мотивов. Его привлекали возможности балета смешивать реальность с фантастикой, повествовательность — с метафорической образностью лирику (глубоко запрятанную, а не открытую) — с смешным на грани буффонады.
В то же время Евгений Львович настойчиво подчеркивал, что ведет речь не о бегстве от реального сценического действия, а о поисках такого его ракурса в балете, при котором достигалось бы свободное смешение красок жизни. Тогда броская, самая натуральная деталь, становясь связующим звеном в повествовании, «остраняла» бы бытовое правдоподобие, и наоборот, деталь, подсказанная миром чудесного, озаряла бы светом поэтического обобщения кажущуюся будничность повествования. Было удивительно, до какой степени естественно и просто Евгений Львович понимал и трудность осуществления, и необходимость этого в балетном спектакле. В ту пору эти его взгляды были для меня особенно важны; если я в чем-то преуспел, работая над сценариями, то в этом немало обязан Евгению Львовичу.
Когда я впервые предложил Евгению Львовичу сочинить балетный сценарий, он нахмурился и промолчал. Чуть позже я повторил свое предложение — отказ. Чем больше я убеждал Евгения Львовича заняться сценарием, тем сильней он сопротивлялся. Можно было подумать, что когда-то он жестоко поплатился за уступчивость в этом вопросе. Когда же я сказал, что надеюсь на Театр имени С. М. Кирова, возражения Евгения Львовича стали еще более категорическими. «У них нет балетмейстера, который бы за это взялся и делал бы то, что мне нравится», — сказал он, и разговор на эту тему прекратился. Вскоре, однако, я почувствовал почву под ногами для возобновления своих настояний.
В те годы начинала поиски нового молодежь Театра имени Кирова во главе с И. Бельским и Ю. Григоровичем; второй уже дебютировал в качестве балетмейстера во Дворце культуры имени М. Горького. В 1948 году он заново поставил популярный балет-сказку «Аистенок» (3), а двумя годами позже осуществил балет «Семеро братьев» (по известной сказке «Мальчик-с-пальчик»), представлявший собою обработку старинного балета А. Е. Варламова.
Уже тогда Григоровича отличало чуткое отношение к балетной драматургии, потребность понять ее внутренний смысл, найти особую выразительность танцевальной речи. Две его постановки показали, что формируется оригинальный и благородный поэт танца.
Все это я рассказал Евгению Львовичу при следующей нашей встрече. Постарался, сколько мог, описать находки Григоровича в его постановках, подчеркнул, что он человек, родственный нам по духу, беспокойный, ищущий, с которым легко говорить, притом не на балетном волапюке[60], как со многими его товарищами по профессии. Это последнее даже рассмешило Евгения Львовича. Потом он задумался, и некоторое время мы гуляли молча.
Мне показалось, что разговор о Григоровиче сдвинул с места интересовавший меня вопрос. Действительно, следующую нашу беседу Евгений Львович начал так: «Знаете ли вы сказки Афанасьева?» Я ответил утвердительно, и тогда Евгений Львович стал говорить об этих сказках, проявив завидное знание их вариантов и подробностей. При этом он обращал особое внимание на те эпизоды, в которых течение действия получало внезапный поворот, придавая сказке особую остроту, глубокий смысл.
«Знаете сказку о царевне Несмеяне? Можно ли сделать такой балет?» — спросил он. Признаться откровенно, сюжет этот рисовался мне в привычных очертаниях таких спектаклей, как «Волшебная фата» и т. п., и потому не вызывал никакого энтузиазма. Евгений Львович продолжал: «Несмеяна больна, она утратила способность смеяться, и никто не может заставить ее даже улыбнуться. Очевидно, ей жилось так, что смех был изгнан из ее обихода. Одни церемонии, дурацкое чинопочитание, низкие поклоны, раболепие — черт знает что. Где уж тут смеяться? От тоски помрешь. А доктора и другие претенденты на исцеление Несмеяны тем же мирром мазаны. И потому бессильны».
Евгений Львович говорил как будто сам с собой, размышляя вслух, короткими фразами.
«Что делать Несмеяне, если она родилась для нормальной человеческой жизни? А ее не выпускают в сад, в лес, в поле. Боятся, что сглазят? Или считают, что природа сама по себе безобразна, безобразен простой народ, и оберегают царевну от встречи с ними? Какие же радости во дворце, где все искусственное, вплоть до нарисованных пейзажей и механических животных? Как в сказке Андерсена о соловье, изготовленном для китайского богдыхана. Мир игрушек, кукол, людей, больше похожих на марионеток, глупых и смешных для зрителя, но настолько привычных для царевны, что ей только грустно…» Тут я выразил догадку: «Значит, это грустная сказка?» Евгений Львович решительно воспротивился: «Нет, не грустная, а смешная. Грустно только Несмеяне. Она томится. Мертвый мир, игрушечное окружение. Дурашливый царь, по-своему любящий дочь, но не понимающий, как ей помочь».
Я спросил: «Почему же для Несмеяны чуждо все, чем живут ее родные?» Евгений Львович задумался. «Не знаю. Думаю, что это не существенно. Как вам кажется?» Конечно, Евгений Львович был прав. Существенно не то, как Несмеяна заболела. Существенно, что она выздоровела, порвав с неживым, кукольным миром пустого вымысла.
Тем временем фантазия Евгения Львовича продолжала обогащать сюжет. Экспозиция — жизнь Несмеяны и окружающего ее мира — представала в рассказе Евгения Львовича рельефно и красочно, по-настоящему балетно. Картины дворцовой жизни не были лубочными или сатирическими, как, скажем, в классических русских операх. Они приобретали оригинальную окраску, напоминая аналогичные мотивы в других пьесах Шварца. И все же балетная сказка Шварца была чуть грустной, что придавало ей неизъяснимую прелесть.
К несчастью, я не могу восстановить полностью весь ход размышлений драматурга. Помню только рассуждения Евгения Львовича насчет героя; они захватили меня сложно-опосредствованным чувством современности.
Как известно, в сказке Афанасьева герой — простой деревенский парень, мастер на все руки, проявляющий незаурядную сметку русского человека. У Евгения Львовича биография его героя богаче. Он — солдат. Воевал со своими начальниками, воевал с врагами, бывал бит и давал сдачу с приплатой. Сам черт ему не брат. В образе, нарисованном Евгением Львовичем, было что-то от пушкинского Балды. Но одновременно он напоминал и Василия Теркина, — быть может, солдатским балагурством, заразительным юмором, огромным запасом жизненных сил, активным характером.
Герой будущего балета Шварца служит здесь же, во дворце, на нескольких должностях сразу — колет дрова и топит огромные дворцовые камины так жарко, что искры, вылетая из камина, пляшут вокруг него, как бешеные. По совместительству он приставлен к маленькому царевичу, которому заменяет отца и мать; совсем как Балда — попенку. И он же в часы досуга, которых, по сути дела, почти не остается, развлекает дворню игрой на балалайке и скоморошьими забавами. Тут Евгений Львович подходил к одной из лейттем своего замысла. Искусство обладает великой целительной силой: глухой, немой, слепой — никто не может устоять перед ним. Искусство исцеляет и Несмеяну.
Ее «лечение» складывается из нескольких больших танцевальных эпизодов и занимает добрую половину спектакля. Герой один разыгрывает целые истории, заставляя ошалевших бояр исполнять роль глупых статистов, как им это и положено по чину. Он держит себя с Несмеяной, как солдат, встретивший девицу, которая не то задирает нос, не то просто капризничает. Героя мало заботят проблемы этикета, чинопочитания и т. п. Он может шлепнуть царевну, может дать ей тумака, может погладить ее по голове, сунуть ей в рот морковку, утереть нос. Он работает, выполняя трудное задание — во что бы то ни стало излечить Несмеяну.
Так сложился чудесный сценарий. В Комарово приехал Григорович. Разговоры его с Евгением Львовичем привели к полному творческому единодушию. Об этом мы сообщили дирекции Театра имени Кирова, и было решено поручить постановку Ю. Григоровичу. Но в самый последний момент, насколько я понял из слов Шварца, произошло следующее. Евгений Львович сказал, что не умеет записывать балетный сценарий, и просит приставить к нему сотрудника литературной части театра, который помог бы ему. Театр прислал кого-то, кто объявил для начала, что считает себя соавтором Евгения Львовича. Думаю, что это не сыграло бы решающей роли, если бы претендент на соавторство не стал читать лекцию о том, как надо сочинять балетные сценарии. Это было уже выше сил Евгения Львовича. И все распалось, причинив ему душевную боль (4).
Тут можно было бы поставить точку, если бы мой рассказ нежданно-негаданно не получил продолжения.
Несколько лет назад, просматривая картотеку балетных сценариев в Ленинградской театральной библиотеке имени А. В. Луначарского, я обнаружил карточку с записью «Снежная королева — балет». Перелистывание машинописного экземпляра сценария (их ошибочно частенько называют либретто, что не отвечает существу дела) не открыло ничего нового. Правда, на титульном листе стояло: «Евг. Шварц. Балет в III действиях. 27.I.1940 г.»; рукопись содержала 62 страницы. Но кто же сценарист? Кто-то «по Шварцу» или сам автор?
Тогда я не стал вникать в это. Но теперь выяснилось, что после войны из Управления культуры поступил архив, состоявший из старых оперных либретто и балетных сценариев, среди которых находились и три экземпляра «Снежной королевы». Мне дали все экземпляры. В одном из них оказался документ, даже не взятый на учет, — печатный бланк, заполненный редактором и датированный 14 февраля 1940 г. Нетрудно представить себе волнение, с которым я взялся за него. Слева размещены вопросы, справа — ответы:
Фамилия, имя, отчество или псевдоним автора: Евг. Шварц
Форма произведения: Либретто балета
На вопрос о теме редактор отвечает: «Либретто написано по одноименной пьесе того же автора, идущей в Новом ТЮЗе». Итак, вопрос об авторе сценария решен: это сам Евгений Львович. Бланк проливает свет и на происхождение этого сценария: он поступил из Театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Не потому ли, кстати говоря, Евгений Львович так остро реагировал на мое предложение сочинить балет для Кировского театра, что однажды он уже пережил там нечто неприятное?
Сделанное Евгением Львовичем двадцать пять лет назад сегодня уязвимо. Драматург исходит из той структуры балетных спектаклей, какая была наиболее распространена в тридцатые годы: пантомимное в своей основе действие развивалось, обогащалось и украшалось танцевальными номерами и целыми сюитами.
Два истинных героя пьесы — Кей и Герда — сохранили в балете свои достоинства и даже приобрели новые. Не буду пересказывать весь сценарий; ограничусь лишь тремя сценами, дающими представление о характере балета Шварца.
В день рождения Кея дети приходят к нему с подарками и танцуют вокруг куста роз — так начинается действие. Внезапно появляется Советник, предлагающий за куст роз деньги и игрушки.
По его знаку в комнату вбегает «человек в белой ливрее, отделанной серебром, в белой шляпе и белых перчатках. У него красный нос, усы сверкают, они покрыты инеем»[61]. Он замерз, и, чтобы согреться, все время отбивает чечетку. Но Бабушка Кея отвергает мешок с золотом, принесенный слугой. Тогда Советник вызывает четырех слуг, также отбивающих чечетку, которые приносят двух заводных белых медведей, пляшущих к удовольствию детей. Получив снова отказ, Советник приходит в бешенство и выбрасывает из ледяных глыб одну игрушку за другой, которые заполняют всю комнату, оттесняя испуганных ребят. Пляшут морские львы, перебрасываясь мячами; пляшут моржи; большие пингвины, «похожие на людей в длиннополых фраках, маршируют, покачиваясь, а между ними вьются снежинки — куклы с ничего не выражающими, неподвижными лицами», — развертывается бурная, массовая танцевальная кода. Снова отказ Кея обменять куст роз на игрушки. В гневе Советник покидает комнату.
Остроумно в балетном смысле разработано действие во дворце Короля. Начинается акт церемонией раздела имущества и дворца. Шествие — танец маляров — предваряет выход Короля, маленького человечка в очках. На Короля надевают фартук, он вооружается кистью и танцуя проводит белую черту по полу, разделяя площадь пополам, затем проводит черту и по стене, и по потолку. Вывешиваются два объявления о разделе королевства на половины короля и его дочери. Затем идет раздел живого «инвентаря»: молодые — налево, пожилые — направо, на половину короля. Делят стражу, делят дворцовый персонал — высший и низший, от министров до истопников; делят поваров и поварят с посудой. После их танцев с хоров спускается оркестр, и начинается остроумное его разделение. Первая и вторая скрипки играют прощальный дуэт, целуются на границе двух царств и расходятся, а оркестр тихо и печально аккомпанирует им.
Последний акт кажется наименее богатым. Однако, если вдуматься в его построение, выясняется привлекательная и плодотворная сквозная мысль. Через все действие проходит тема борьбы горячего сердца с ледяным бездушием. Ее экспозиция — в первом танце акта: у входа во дворец Снежной королевы Герду встречают снежинки, которые преграждают ей путь. Но стоит ей прикоснуться к снежинкам, как они тают от жара сердца Герды, пылающего любовью к Кею.
На смену красочному внешнему действию первых двух актов, изобилующих захватывающими ситуациями, поступками и пр., приходит одна сложная коллизия внутреннего действия — поединок любви и человечности с бездушием и бесчеловечностью. Поединок этот протекает психологически реально как борьба Герды за возвращение Кею памяти и человеческих чувств. Вместо разнообразных танцев предшествующих актов, в акте развязки предстает перед нами один большой танец, выражающий главное содержание акта.
Предвижу ряд вопросов: при каких обстоятельствах возник замысел? Кто предполагался в качестве композитора и постановщика? Почему проект не был реализован? Ответить на это весьма затруднительно. (5)
Только поиски в архивах театра, Управления культуры и расспросы друзей Евгения Львовича могут пролить свет на интересующий нас вопрос.
Недавно я встретил Ю. Н. Григоровича — главного балетмейстера Большого театра Союза ССР — и просил его припомнить детали сценария Е. Л. Шварца о царевне Несмеяне. Григорович отказался: «Все забыто и отступило на задний план перед той добротой и человечностью, которые хлынули на меня при встрече с Евгением Львовичем. Их хватило бы на весь советский балет».
Мне думается, что в этих словах кратко, но точно дана характеристика Шварца, человека и драматурга. Как жаль, что он унес с собой в могилу тайну чудесного сказочника — певца любви, дружбы и человеческой доброты. Все это — самое драгоценное, самое важное для нашего балетного театра.
Аркадий Райкин Шварц
— Евгений Львович, я вам не помешал?
— Входите, входите. Русский писатель любит, когда ему мешают.
Дабы вы не усомнились, что он действительно только и ждет повода оторваться от письменного стола, следовал и характерно-пренебрежительный жест в сторону лежавшей на столе рукописи: невелика важность, успеется.
Однако в любом жесте и любой фразе Шварца можно было прочитать и некий второй смысл. Например: мешайте — не мешайте, а вот видите, сколько уже написано.
Спеша вам навстречу, он еще издали протягивал в приветствии обе руки. Обеими пожимал вашу. После войны руки у него стали слегка дрожать. Болезнь прогрессировала с годами, и это заметно тревожило его, хотя он и бодрился, шутил на эту тему.
— Если вдуматься, — иронизировал он, — не так уж плохо: почему-то все проходит, когда выпиваешь рюмочку коньяка. Правда, вскоре опять начинают дрожать, так что, пожалуй, коньяка не напасешься. Вот если бы столь же целебными свойствами обладал чай с молоком (излюбленный напиток Шварца), тогда бы и вообще все было замечательно. Впрочем, в жизни так не бывает.
Его беспокоило главным образом то, что почерк становится совершенно неразборчивым: прыгает перо в руке, не слушается, выписывает какие-то кренделя. И поскольку даже самые сердобольные машинистки отказываются разбирать такие каракули, постольку приходится осваивать пишущую машинку: сначала печатать самому и уж потом отдавать в перепечатку. А это ведь не просто вопрос техники. Для этого требуется психологическая перестройка, целая революция в сознании. Что в особенности неприятно, если учесть, до чего он не любит менять привычки. Да, он — консервативный человек, он предпочитает раз и навсегда заведенный порядок. Порядок и ясность — вот, в сущности, скромный его девиз. Потому что порядок и ясность — в мыслях, поступках, а также в предметах, постоянно окружающих литератора, чье имущественное положение оставляет желать лучшего, — есть жизненно необходимая замена или, как хотите называйте, иллюзия комфорта. Великая иллюзия. Потому что без комфорта — если не внешнего, то уж внутреннего всенепременно — рискуешь сам обозлиться и других обозлить. А Злоба — дама антихудожественная и антиобщественная… Да и с какой стороны ни возьми, дрожащей рукою писать неприлично и совестно. Хотя большинство наших писателей пишет именно так, и ничего, приспособились люди, не испытывают неудобства, как будто сговорились не замечать неестественность подобного состояния. Иной раз и сам пытаешься сговориться с собой: ну и пусть. В том смысле, что черное — это белое. Но боишься, что явится какой-нибудь мальчик — всегда находятся эти невинные обличители, — и заметит во всеуслышание, что рука у тебя дрожит от несмелости и твоя писанина — сплошное лукавство. Вот оно что получается: двойной страх. Вот от чего, оказывается, помогает рюмочка коньяка. Недаром же говорится: выпьем для храбрости. Но если бы всем, кто болен отсутствием храбрости, явилась идея лечиться таким сомнительным способом, многим добропорядочным гражданам пришлось бы стать хроническими алкоголиками. Это, разумеется, неприемлемо, даже противно. И выходит, что лучшего лекарства, чем правда, никто пока не изобрел.
О серьезных вещах Евгений Львович часто говорил шутя. Отталкиваясь от какого-нибудь житейского факта, который, казалось бы, совершенно не располагал к обобщениям и к интеллектуальной игре. Если бы было возможно изобразить графически движение его мысли в подобных случаях, получилось бы нечто неразборчивое, как его почерк; нечто вступающее в противоречия с идеей порядка и ясности. Но, подчеркиваю, только на первый взгляд.
Ясность была, но от собеседников или, точнее, слушателей Евгения Львовича требовалось внимание и терпение и, я бы сказал, координированность, чтобы не сбиться с толку под воздействием синкопированного ритма его умственной гимнастики. Да, именно синкопированного, как в джазовой импровизации: то обволакивающей вас, то заставляющей вздрагивать от неожиданности. Если же вы не проявляли встречных усилий, то рисковали утомиться мгновенно, не поняв и половины того, о чем он беседует с вами. И не потому, что это было уж очень сложно понять, но потому, что как истинный импровизатор он мог часами тянуть свое витиеватое соло, оправдывая переходы от темы к теме как бы только самой непрерывностью и протяженностью высказывания.
К этому стоит добавить, что у Шварца был кот, имевший обыкновение устраиваться у него на коленях и непрерывно мурлыкать, как бы аккомпанируя ему. И в какой-то момент вы ловили себя на том, что слушаете их обоих и пытаетесь улавливать, где у них контрапункт, а где — унисон.
Евгений Львович жил в писательском доме на Малой Посадской улице. Теперь эта улица, поблизости от киностудии «Ленфильм», носит имя Братьев Васильевых (1).
Между прочим, это, на мой взгляд, одно из поспешных и совершенно неоправданных переименований. При всем уважении к памяти братьев Васильевых, знаменитых кинорежиссеров, создателей фильма «Чапаев», можно было бы назвать их именем и какую-нибудь другую улицу, скажем, в одном из новых районов города. Впрочем, о неправомерности подобных переименований в последние годы много говорится в прессе и кое-что уже начало возвращаться на круги своя. Так, может быть, и Малую Посадскую нам вернут? А заодно, кстати сказать, установят на доме № 8 мемориальную доску: здесь жил писатель Евгений Львович Шварц (2).
Итак, он жил на Малой Посадской, в небольшой уютной квартире, где командовала жена, Екатерина Ивановна, женщина нелюдимая и, как мне всегда казалось, слишком ревностно оберегавшая его покой. Во всяком случае, когда она открывала входную дверь, выражение ее лица отнюдь не излучало приветливости. Однажды я попробовал пошутить, сказав, что могу открыть дверь и своим ключом (мы заказывали дверные замки одному мастеру, и он сделал их одинаковыми), но она ничего не ответила. Вот, в сущности, и все, что я могу о ней рассказать. Однако у них с Евгением Львовичем, судя по всему, были крепкие, хотя и негладкие отношения. Он был привязан к ней, и это ощущалось даже в том, как он вам говорил:
— А мы вот что. Мы Екатерину Ивановну беспокоить не будем. Пойдемте-ка на кухню, поставим чайку.
Мы шли на кухню. Он колдовал у плиты и, заваривая чай, цитировал из Хармса:
— Иван Иваныч Самовар был пузатый самовар.
Никакого самовара у него не было, зато была огромная, трехстаканная чашка, предмет особой привязанности хозяина. При определенной работе воображения эта чашка вполне могла бы показаться одушевленным персонажем того же Хармса или самого Шварца. Вообще предметы, которые его окружали, были как будто живые. Точно во власти Шварца было наделить их душой и памятью.
Он уютно устраивался у окна. Разбавлял свой чай молоком. Молча делал несколько глотков. Со вкусом затягивался папиросой. И лишь после всего этого приступал к главному:
— Ну, что говорят?
Евгений Львович был большой любитель обсуждать последние новости литературной и театральной жизни. Собственно, такими любителями был населен весь дом. Наверху жили Хазин, Пантелеев, Гранин. В соседнем дворе — Козинцев. Но даже среди них Шварц выделялся каким-то по-особому заразительным, раззадоривающим собеседника любопытством ко всему, что происходило вокруг.
Мне доставляло большое удовольствие сообщать ему о том или ином событии. Впрочем, выступить в роли первого вестника удавалось редко. Почти всегда кто-нибудь опережал меня, ибо Агентство Информации Друзей — сокращенно АИД или, с намеком на древнегреческую мифологию, «царство АИДа» — отличалось удивительной оперативностью.
Увлекала возможность услышать комментарии, версии и прогнозы Шварца по любому поводу. Его проницательность, логичность, сложно выстроенная система доказательств не могли не убеждать. Но… как показывало реальное развитие событий, зачастую жизнь складывалась по-своему, не желая повиноваться даже такому умному толкователю и прорицателю, как Евгений Львович. Может быть, его ошибка состояла в том, что он всегда настраивал себя и окружающих на лучшее.
Когда в очередной раз выяснялось, что Евгений Львович, по его собственному выражению, попал пальцем в небо, он разводил руками и говорил:
— Ну кто бы мог подумать!.. Нет, все-таки нам положительно не хватает объективной информации. Мы неинформированные люди, оттого-то и страдаем таким недержанием фантазии.
Разумеется, это была шутка. Но, как всегда у него, только отчасти. Шварц был остроумным человеком, но не остряком, не острословом. Его чувство юмора — это прежде всего способность подмечать неявные, я бы сказал, тихие контрасты между задуманным и воплощенным, желаемым и действительным. В быту, как и в творчестве, его стихией был не сарказм, но глубокая ирония, вытекающая из сознания силы и немощи философии донкихотства.
Бывало, придешь к нему; дверь откроет Екатерина Ивановна, и, глядя на нее, можешь заключить, что Евгению Львовичу не до гостей. Но тут же из кабинета доносится раскатистый хохот в два голоса. Заглядываешь туда, а там Евгений Львович с Юрием Павловичем Германом ведут «борьбу животов». Это у них была такая игра: выпятив живот, каждый пытался сдвинуть соперника с места. Причем прибегать к помощи рук в этом состязании категорически возбранялось. Проигрывал, как правило, тот, кто первым начинал смеяться. Но поскольку оба они были очень смешливы, борьба часто заканчивалась вничью. Добродушно подначивая друг друга, они были неистощимы. Мне очень нравилось наблюдать за ними в такие минуты.
Герман говорил, что мы с ним из одного двора. Имея в виду, как мне казалось, нечто более значительное, нежели то, что мы оба одно время жили на Мойке, 25. Юрий Павлович был мне всегда симпатичен и как человек, и как писатель. (Ужасно жаль, что он не дожил до того времени, когда его сын Алексей, которого я помню еще мальчишкой, стал снимать такие прекрасные фильмы, и среди них два фильма, в которых воскресли достойные, но забытые произведения отца. Во многом благодаря сыну к Юрию Герману снова возник читательский интерес.)
Так вот, несмотря на наше стародавнее знакомство и с Юрием Павловичем, и с Евгением Львовичем, рядом с ними я предпочитал помалкивать.
Не то чтобы меня сковывал их личностный масштаб. Нет, с ними было легко и просто. Но когда они общались между собой (с некоторым расчетом на реакцию присутствующих), это был своего рода спектакль, вторжение в который я ощущал как нарушение жанра.
Артистизм был природным и, я бы сказал, спасительным даром Евгения Львовича. Известно, что он начинал актером, причем актерское чутье, актерское знание сцены помогло ему в писании пьес и облегчало театральным практикам общение с ним как с автором. Но дело не только в этом. Его артистизм помогал ему в жизни, и если жизни недоставало радостной импровизационности, то Шварц восполнял ее отсутствие за счет своих, так сказать, внутренних ресурсов.
Шварц был, что называется, комильфо. Он любил носить жилеты, даже когда это было не очень принято. Не зря Акимов, написавший его портрет, изобразил его в жилете. Никому из моих знакомых жилет не шел так, как Шварцу.
Между прочим, Хармс, с которым он в молодости дружил, тоже отличался слабостью к элегантной одежде и не расставался со своей жокейской шапочкой, клетчатыми бриджами и курительной трубкой, напоминая собравшегося в дорогу Шерлока Холмса. Такой дорожно-спортивный стиль представлял собой весьма экзотическое зрелище. Если же и в элегантности Шварца было нечто английское, то это был вариант куда более респектабельный, спокойный, призванный удостоверить солидность человека, который одевается таким образом. Солидность, разумеется, артистического, а не чиновничьего свойства.
Парадоксальным образом манера Шварца одеваться связана в моем сознании с присущим ему — и не раз подмечавшимся мемуаристами — свойством недооценивать себя как писателя. Он писал трудно, неуверенно, постоянно терзаясь мыслями о своей вторичности, о своем недостаточном художественном масштабе. Мастерство Чехова, Гофмана, Андерсена не давало ему покоя. С другой стороны, не давала покоя память о литературной школе его юности, о том круге писателей, в котором его ценили, любили, подбадривали.
Эта память лишь усиливала его неуверенность, он считал себя гадким утенком среди своих литературных единомышленников. Шварц относился к тем писателям, которые никогда не позволят сказать о себе «я — писатель», полагая это немыслимой нескромностью. Так вот, его манера одеваться была, как мне кажется, одной из форм преодоления неуверенности.
Общеизвестна близость Шварца акимовскому Театру комедии. Стилистика его пьес, их интонация помогли сложиться художественному облику этого театра. Я даже придерживаюсь той, быть может, спорной точки зрения, что Акимов обязан Шварцу больше, чем Шварц Акимову. Во всяком случае, фантастические притчи Шварца могут быть решены на театре совсем иначе, нежели это делал Акимов. Что, конечно, не умаляет усилий режиссера, но позволяет взглянуть на драматургическое наследие Евгения Львовича шире, чем принято до сих пор.
Впервые я задумался об этом, посмотрев «Голого короля» в театре «Современник». Замечательный спектакль, хотя пьеса была прочитана совсем не по-акимовски. С тех пор прошло четверть века, и теперь некоторые уверяют, что драматургия Шварца устарела. Что, например, в «Драконе» слишком прямолинейная для нашего времени система ассоциаций. Я так не считаю. Жесткой социальной символикой Шварц не исчерпывается, и не этим главным образом ценен (в отличие, например, от Брехта). Он глубоко поэтичен, но ключ к его поэтичности театрами еще не найден. Впрочем, вряд ли он нуждается в моей защите. Думаю, театры еще вернутся к нему, и его время настанет.
Для нашего театра Шварц (совместно с конферансье Константином Гузыниным) написал пьесу «Под крышами Парижа» (3). Это была именно пьеса — «полнометражная, сюжетная», и некоторая ее эстрадность от сюжета же и шла. Главный герой — французский актер Жильбер служил в мюзик-холле. Этот Жильбер позволял себе задевать сильных мира сего и в результате поплатился работой, стал бродячим артистом, любимцем бедных кварталов.
На постановку был приглашен Акимов, он же и оформил спектакль. Кроме главной роли, я играл еще и директора мюзик-холла — огромного толстяка, циничного и жуликоватого.
Две стихии царили в этом спектакле. Первая — стихия ярмарочного театра, навеянная отчасти фильмом «Дети райка», который нам довелось увидеть сразу после войны (4). (Между прочим, это один из самых любимых моих фильмов; много лет у меня висела и сейчас висит на стене афиша с изображением Жана-Луи Барро в роли Гаспара Дебюро. Когда Барро впервые приехал в Советский Союз и побывал на одном из наших спектаклей, он заглянул ко мне в гримуборную. Мы познакомились, и, испытывая волнение от этого знакомства, я хотел было сказать ему, как много значит для меня его виртуозное искусство, но вместо того указал на афишу «Детей райка» и развел руками. Барро тоже развел руками и сделал на этой афише трогательную надпись.)
Другая стихия — политическая сатира, обличение буржуазного общества, осуществленное нами, надо признать, в духе времени, с вульгарно-социологической прямолинейностью.
Готовя «Под крышами Парижа» в 1952 году, много переделывали по собственной воле и по взаимному согласию, но еще больше — по требованию разного рода чиновников, курировавших нас и опасавшихся, как водится, всего на свете. Всякий раз, когда я приходил к Шварцу с просьбой об очередной переделке, мне казалось, что Евгений Львович взорвется и вообще откажется продолжать это безнадежное дело, которое к тому же явно находилось на периферии его творческих интересов. Но он лишь усмехался, как человек, привыкший и не к таким передрягам.
— Ну, — говорил он, — что они хотят на сей раз… Ладно. Напишем иначе (5).
Он принадлежал к литераторам, которые всякое редакторское замечание, даже, казалось бы, безнадежно ухудшающее текст, воспринимают без паники. Как лишний повод к тому, чтобы текст улучшить. Несмотря ни на что.
Татьяна Зарубина «Моя Азбука»
I
ГЕНРИХ. Я кончил семь факультетов, Ланцелот.
ЛАНЦЕЛОТ. Рад за вас, Генрих.
ГЕНРИХ. С вашей философией я познакомился на первом курсе философского. Она была изложена в предисловии, в примечании, в трех словах и тут же отвергнута за узость.
Е. Шварц, «Дракон», ранняя редакция, 2 д.Моя мама была очень чистым, простым и наивным человеком — как раз таким, какого пуще всего боялись шварцевские министры и людоеды-администраторы. Из другого она была измерения, из сфер мистических, надземных, непостижимых их уму, как, скажем, слово «трансцендентный».
Она принадлежала к первому поколению актеров акимовского театра, воспитанному двумя Ланцелотами сразу — Шварцем и Акимовым.
И еще она была волшебницей. А как иначе можно объяснить то обстоятельство, что, до конца дней своих не разбогатев, она умудрилась тем не менее сделать мне в детстве два царских подарка: возможность общения со Шварцем — раз; многолетнее соседство с близким ему по духу, корням и масштабу личности Н. П. Акимовым — два.
Как и все неблагодарные дети, я приняла эти подарки как нечто само собою разумеющееся, как должное, как норму. Нормой было поведение этих людей, их отношение к окружающим и к тому, что они делают. Потом, столкнувшись с нормой, я очень растерялась. И до сих пор не могу прийти в себя. Зато — пусть, как водится, с опозданием — усвоена цена: подарки-то — царские.
Благодаря этим подаркам, философия, отторгнутая Генрихом и набранная мелким шрифтом в моих вузовских учебниках тоже, была подкожно введена с голубого детства. Все искренние попытки освободиться от этой идеалистической инъекции, действовать сообразно крупному шрифту с его неизбежным выводом — «сапоги выше Шекспира» — кончались настолько плохо, что и вспоминать-то противно. И совестно.
В самой первой «Тени», которая, по словам Акимова, стала «„Чайкой“ и „Принцессой Турандот“ Театра Комедии», мама играла Юлию Джули — эту исключительную дрянь, ничтожество, карьеристку и предательницу, наступившую в детстве на хлеб, чтобы не замарать новые башмачки. Говорят, она играла ее хорошо, о чем я судить никак не могу, поскольку именно в том году появилась на свет, помешав таким образом маме сыграть премьеру. Но в чем я абсолютно уверена — она играла ее с удовольствием, несмотря на свою почти детскую потребность обязательно нравится публике не только тем, как играет, но и тем, кого.
Потому что Юлию Джули написал Шварц — человек, при одном упоминании имени которого маме, по собственному ее признанию, всегда хотелось встать.
Тут не в литературе было дело; мама избегала участия в литературных дискуссиях, сознавая свою неискушенность. Просто для нее — и в этом смысле она была не одинока, в театре многие относились к Евгению Львовичу именно так, — Шварц был материализованной СОВЕСТЬЮ. Рыцарем и аристократом духа. Сравнить это можно с сегодняшним отношением — правда, гораздо более широкой аудитории — к таким фигурам, как А. Д. Сахаров и Д. С. Лихачев.
Поэтому, если в присутствии мамы кто-нибудь ронял неосторожное слово с негативным оттенком в адрес Евгения Львовича, — глаза делались сиреневыми от гнева, и поднималась буря (1).
Логики, системы, аргументов не было никаких, кроме одного — Вы, кто бы Вы там ни были, не стоите подметок его шлепанцев, его окурка, хвоста его собаки Тамарки, не говоря уже о его неудачах, до которых Вам-то все равно никогда не допрыгнуть, сколько ни прыгайте…
Тут был элемент идолопоклонничества, цветаевского «свете тихий моей души», благословенного по той причине, что никогда не было обмануто.
Мое восприятие Шварца было, таким образом, генетически предопределено.
…Москва, конец 44 и 45, победный год. Огромная гостиница «Москва», на каждом этаже которой живут мамины (а следовательно, и мои) друзья и знакомые, так что в гости можно ходить с утра до самого вечера и спастись таким образом — от умывания, от манной каши, от рыжих кусачих рейтуз…
И самым надежным местом в этом смысле был номер Шварца, где можно было все, где никогда и никто не напоминал тебе, что ты мал, а потому неполноценен, никто не пытался воспитывать, от чего уже тогда у меня сводило скулы, и никто не посмел бы сказать: «теперь поди, погуляй, мы заняты, нам некогда» (все ведь несчастья в его сказке «Два брата» произошли оттого, что старший брат слишком часто просил младшего оставить его в покое!).
Там жил королевский колдовской Кот Котович — сама независимость, достоинство и деликатность: он не утруждал хозяев неизменными проблемами «песка» — он аккуратно пользовался уборной и даже умел спускать за собой воду в те времена, когда никто еще не слыхивал о дрессированных котах.
Там царствовала сказочной красоты женщина Катерина Ивановна — с тяжелыми косами, уложенными вокруг головы, необыкновенно опрятная, спокойная, немногословная, плавностью линий и осанкой похожая на античную статую. (Первые мои, бесценные по военным временам, две куклы — тряпочная Катерина Платоновна, еще в Сталинабаде, в эвакуации, и ярко-розовая с волосами цвета яичного желтка красавица Катя, уже в Москве, — были подарены ею и в честь нее крещены.)
И, наконец, там жил Шварц, в обаянии которого было нечто от приворотного зелья и который умел все.
Умел неинтересное дело сделать интересным.
Меня, например, не могли заставить умыться: я пускалась на любые хитрости, чтобы избежать этой процедуры, — Шварц перехитрил меня.
Сначала он согласился: умываться не надо — это долго; вода течет за шиворот — это противно, да и не такая уж я грязная, чтобы все время умываться. Но вот бриться — надо. Иначе вырастет борода — как у священника, которого я, впервые в жизни увидев при полном параде (в черной рясе, с огромным крестом) на лестнице гостиницы «Москва», смертельно испугалась. Шварцу нравилось, что, рассказывая об этой встрече, я все время оговаривалась и называла священника «смущенником».
Так вот, чтобы не выросла такая же — до пупа! — борода, надо бриться. Мы стали бриться вместе: он, сидя в кресле перед зеркалом, сначала намыливал себя, а потом той же кисточкой проводил по моим щекам, подбородку, кончику носа. И я с радостью ополаскивала лицо — я побрилась первая!
Шварц умел рассмешить, когда было не до смеха:
Танька рыбий жир пила И как рыбка поплыла — Рыбка маленькая, Рыбка жирненькая. Мама в гости идет, Таньку в баночке несет.Я пробовала обидеться на «жирненькую рыбку» («Вы меня голую посмотрите — одни ребра торчат!»), но Шварц возразил, что если уж превращаться в рыбку, то непременно в толстенькую — кто ж это понесет в гости рыбий скелет!
Он умел успокоить, когда было тревожно.
Разбила термос Танечка, Когда была в гостях, Увидели хозяева И закричали «Ах!» И выгнали на улицу Несчастное дитя… —далее следовало душераздирающее описание страданий «несчастного дитя», выкинутого на мороз из-за какой-то железки с грудой стекляшек — никогда не прощу дырявую свою память, не сохранившую конец этой восхитительной песенки, пролившей целебный бальзам на мою пятилетнюю душу…
Термос-то действительно был очень хороший. Сверхзаграничный. Просто удивительно, как это хозяевам повезло достать такое «во дни мытарств, во времена немыслимого быта». Он на самом деле им был очень нужен, потому что они были артисты и часто разъезжали. Я разбила его случайно — мне вовсе не нужен был термос, мне нужна была гитара. А она лежала на столе, за термосом. Я полезла на стол и нечаянно уронила термос. Хозяева были очень хорошие люди, но тут они не сдержались, очень сильно накричали на меня и выставили за дверь.
И я пошла к Шварцу. И он сочинил песенку. И я поняла, что Шварц — перебей я хоть все в его доме! — никогда бы на меня не накричал. Тогда песенка успокоила меня.
А много позже я поняла, что это был, может быть, первый урок королевского отношения к «немыслимому быту».
Много позже я узнаю также настоящего Шварца — уже, увы! — вне общения с ним, через все, что он написал и что о нем написали другие. Это уже будет другое, столь же блаженное и удивительное общение, ограниченное во времени рамками моего существования. Я узнаю великого лирика со сказочным мироощущением, способного возвысить быт до уровня сказки (а не наоборот, чем грешат многие его эпигоны, в результате чего получается пошлость). Я узнаю очень веселого человека, рожденного Дон Кихотом в самое для того неподходящее время. Впрочем, для Дон Кихота любое время — неподходящее. Я узнаю большого трагика и замечательного сатирика. Но все это будет много позже.
До этого будет еще — победный салют, который мы с мамой смотрели из окон шварцевского номера, затем возвращение в Ленинград и походы «к Шварцам на канал Грибоедова».
Туда мы часто ходили с отцом, режиссером студии детских и юношеских фильмов (2). Он приезжал в послевоенный Ленинград работать с Евгением Львовичем над сценарием сказки. Это было в 1946 году. Фильм по шварцевскому сценарию был снят папой только в 1959, когда Шварца уже не было.
Может быть, эти походы вместе со мной были тактической хитростью кинематографиста-сказочника Роу, человека, горячо любившего сказку и преданного этому жанру, но связанному тем не менее с индустрией, с производством, с далеко не сказочными персонажами из репертуарных отделов, битого и потому осторожного. И мое тогдашнее присутствие амортизировало напряженность в отношениях подчиненного конъюнктуре отца с нежелающим ей подчиняться Евгением Львовичем: в присутствии детей Шварц не позволял себе терять добродушия. Он острил, вспоминал мои «подвиги» в гостинице «Москва», соболезновал папе — счастливому обладателю «вождя краснокожих», который бьет чужие термосы и устраивает потопы в номерах великих композиторов (было такое: в номере Соловьева-Седого две хулиганки, одной из которых была я, оставили открытыми краны в ванной. Скандал был жуткий).
С мамой мы ездили в Комарово. Там мы встречали в домике Шварцев 1952-й год. Шварц поднял тост за Николая Павловича Акимова, тогда опального, вынужденного уехать из Ленинграда и гуляющего, что называется, по острию ножа (3). Шварц поднял бокал за талантливого и глубоко порядочного человека. Теперешнее поколение не поймет, что тост этот тоже был поступком. И слава Богу. Я тоже поняла это «много позже». Мамино же поколение, к которому принадлежали гости, понимало это, к сожалению, очень хорошо. Потому и любили Шварца.
Известную фотографию с котом на фоне ковра Шварц подарил мне с надписью: «Дорогой Танюше от Кота Котовича и Евгенья Львовича».
На этой фотографии — мой «детский», добрый, «домашний» Шварц, увертюра к знакомству с которым — спасибо родителям! — относится к сороковым годам.
II
«ГЕНРИХ. Вредно народу смотреть на так называемых хороших людей. Даже ваша смерть в бою может разбудить то, что уснуло, и воскресить то, что давно уже умерло… …Вы боретесь с глупостью и предательством, а мы ими пользуемся. И потому мы непобедимы».
Е. Шварц «Дракон», ранняя редакция, д. 2.В последний раз я видела Евгения Львовича, похудевшим и грустным, как мне показалось, на премьере «Обыкновенного чуда». Этот спектакль поставил Акимов, едва вернувшись в некогда им созданный и без него успешно разваленный по всем параметрам театр. Обращение (и возвращение!) к Шварцу было, ко всему прочему, некой очистительной в нравственном отношении акцией — после всех «поющих жаворонков», «летних дней», «рассветов над Москвой» и очень образцовых «молодых», за драгоценное здоровье которых предлагалось мысленно выпить зрительному залу.
К тому времени я знала уже «Тень», «Дракона», «Обыкновенное чудо» (последнее успела даже посмотреть в Москве с Гариным-королем в его же постановке) — и мой «детский» Шварц постепенно приобретал черты акимовского гениального портрета 1938 года — единой легкой линией очерченная фигура человека, которого гильотина не заставит черное назвать белым, — у стола с верблюдом, в пустой, полуреальной, как из сна, комнате.
Я осознала к тому времени дистанцию, поэтому съежилась от неловкости, когда Шварц сказал:
— Ходят слухи, что ты пишешь стихи.
— Эт-то не стихи, — мрачно пробубнила я, готовая провалиться и растерзать сплетников. Это была моя страшная тайна — даже от мамы.
— А что же это такое? Проза?
— Н-нет. Это — так… (неопределенный жест). Понравилось; например, что солнце рассыпается по ночам на звезды. Раскалывается. От ужаса, что увидело за день. Я и пишу стих. Дли-и-нный. И все остальное там — ни при чем.
— Ну и что? Можно и так. Только каждый день. Вот сегодня — тебе нравится спектакль?
— … (Опять последовал неопределенный жест).
— Ну, это не важно. Обязательно все напиши. Вернешься домой — сядь и пиши. Этим каждый день надо заниматься. Иначе ничего не выйдет. (И не вышло! Не по Сеньке шапка оказалась — оно, может, и к лучшему; плохо только, что не воспользовалась приглашением прийти в гости на Посадскую. Не успела.)
Через год, в 1957-м, Акимов ставит новый шварцевский спектакль — «Повесть о молодых супругах». Шварц, уже тяжело больной, дорабатывает финал. Дорабатывает мучительно — благополучные концы давались ему трудно, и волшебная палочка, хоть и спасала положение, но не всегда убедительно. Ибо был он реалистом в самом прямом значении этого слова — т. е. писателем, не допускающим никакого вранья.
«Молодые супруги», может быть, не самая удачная из пьес Шварца, но когда в центральной газете маститый автор многотомного эпического полотна, ныне спокойно пылящегося на полках, написал, что идея этой пьесы «равна куриной пипке», — весь Театр комедии воспринял это как личное оскорбление. А я разразилась гневным посланием «в защиту», пользуясь лексикой, наиболее доступной маститому автору. Конечно, дальше стенгазеты театра данное послание не пошло, но моральное удовлетворение я получила. И один из самых крупных комплиментов в своей жизни: кто-то из актеров решил, что это написано самим Николаем Павловичем! Очень я была горда и польщена.
Шварца к тому времени уже не было.
Он не дожил ни до этого хамского выпада против «Молодых супругов», ни до премьеры второй, 60 года издания, «Тени», ни до второго «Дракона», поставленного Акимовым в относительно благополучном, казалось бы, 62 году. Но даже в этом благополучном году нашлись бдительные дяди и пропахшие французскими духами, элегантные, как Юлия Джули, тети из многочисленных управлений, которые в доступной форме разъяснили народному артисту СССР Николаю Павловичу Акимову разницу между печатной продукцией и сценическим действием, указали на неправильность акцентов, на сложную международную обстановку, на непредсказуемость зрительских реакций.
В общем, чрезвычайно простая мысль Генриха — «вредно народу смотреть на так называемых хороших людей» не только в жизни, но и на сцене была с грехом пополам усвоена — и «Дракон» вновь исчез из репертуара.
Стоя на панихиде в Доме писателей в 1958 году, я понимала, что уходит Ланцелот. И я не успела с ним договорить. И поклониться щедрости его и бесстрашию, с которым он обрушился на Дракона. Первый. Один на один.
Откуда же мне было знать тогда, что в это же самое время, в рязанской глуши, новый Ланцелот, с ума сходя от боли и любви к поруганной Драконом земле, к ее душе, плоти и мозгу, — пишет свой первый гениальный роман, который потом всем миром признанные авторитеты сравнят с готическим храмом (4).
Ланцелоты-то бессмертны.
И не ставьте их, не печатайте, и ссылайте, и не показывайте народу. Как ни вредно ему смотреть на хороших людей, а он ухитрился. Хоть через закопченное стеклышко.
И вряд ли тогда сохранят покой и уверенность хитрые бургомистры и образованные Генрихи. И никакие связи им не помогут. Но они сами виноваты — ведь предупреждал же их Сказочник.
А сказочников надо слушаться. Не потому, что они старше и умнее, а потому, что они вечны.
Эраст Гарин Для чего пишется сказка?
После кинотрудового дня на «Ленфильме» я задремал на диване одиночного номера в «Астории». Прежде чем окончательно отойти ко сну, решил пройтись, подышать воздухом.
Вышел на улицу. Было уже поздно. Редкие прохожие показывали, что время близится к полуночи.
Поравнявшись со старомодным домом на Малой Морской (ул. Гоголя), я с любопытством заглядывал в затемненные окна, представляя себе, что в сущности совсем недавно из ворот вот этого дома выходил на Невский проспект автор «Ревизора».
Еще несколько шагов, и я на этом проспекте. Приближаюсь к мосту, который во времена Гоголя назывался Полицейским. Меня окликают.
Неширокую в этом месте улицу переходит комедиограф. Мы здороваемся.
— А знаете, Эраст, мне ведь только что исполнилось пятьдесят, — сказал он с деликатной грустью.
— Подумаешь, ну и что? — несколько нагловато утешил я его, имея временную фору перед собеседником и потому высокомерно оценивая ограниченность нашего пребывания на горбу планеты (1).
Я и не предполагал, что таксомотор «небесной механики» так быстро прокрутит свои показатели.
Король в «Обыкновенном чуде», усомнившись в существовании любви, спрашивает молодежь:
— Аманда, вы верите в любовь?
— Нет, ваше величество.
— Вот видите! А почему?
— Я была влюблена в одного человека, и он оказался таким чудовищем, что я перестала верить в любовь. Я теперь влюбляюсь во всех, кому не лень. Все равно!
— Вот видите! А вы что скажете о любви, Оринтия?
— Все, что вам угодно, кроме правды, ваше величество.
— Почему?
— Говорить о любви правду так страшно и так трудно, что я разучилась это делать раз и навсегда. Я говорю о любви то, чего от меня ждут.
— Вы мне скажите только одно — есть любовь на свете?
— Есть, ваше величество, если вам угодно. Я сама столько раз влюблялась!
— А может, нет ее?
— Нет ее, если вам угодно, государь! Есть легкое, веселое безумие, которое всегда кончается пустяками.
(Выстрел.)
— Вот вам и пустяки.
Я выписал эту длинную и очаровательную цитату не случайно. Я не предполагаю сейчас разбирать этическую диалектику Шварца, касаясь таких вопросов, как любовь, совесть, но если продлить этот список, то такое понятие, как искусство, в руках этого автора приобретает свойства, сходные с любовью из только что процитированного диалога. Поэтому мне хочется, и как читателю, и как актеру и режиссеру театра и кино, отыскать это особое свойство драматурга, только ему присущее. Найти равноценные средства выразительности в актерской, постановочной и изобразительной областях.
Неуловимая трепетность построения его драматургии простирается и на игровые и постановочные приемы: концентрированный реализм вдруг, одним поворотом превращается в сказочную гиперболу и наоборот.
Особая иллюзорность Шварца-драматурга — это, безусловно, новая и очень своеобразная иллюзорность; она предполагает интеллектуальную подготовленность, а потому ответственность зрителя-читателя.
Театр Шварца — театральный, он и не пытается подражать жизни, он не зеркало, не отражение, он, в подлинном смысле, — увеличительное стекло. И увеличивает оно до гигантского преувеличения: вдруг, неожиданно для нас, зрителей-читателей, обычные свойства человека становятся сказочными — сказочной верностью, сказочной подлостью и т. д. А попробуйте размасштабьте чувство, только что вами воспринятое из книги или со сцены, и оказывается — это жизнь, каждодневная и простая. Но простота ее не в среднецифровом измерении, а в сложной, именно сказочной сфере жизнедеятельности.
Философская концепция Шварца глубоко оптимистическая.
Есть ли более мрачная сказка, чем андерсеновская «Тень»? Да и под пером Шамиссо она полна горечи. Добрые руки Шварца освобождают андерсеновских героев от фатальной обреченности и превращают их в победителей рока. Оружие героев: честность, ясность цели, неутомимая настойчивость и будничный героизм.
Так любовь у Шварца колеблется от страха и трудностей говорить о любви правду у Оринтии; от вопля министра-администратора: «то, что вы называете любовью, — это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно», — до чувства Медведя и Принцессы, где оно достигает такого душевного совершенства, что невольно приходит сравнение с Ромео и Джульеттой. И так же, как любовь, само искусство драматурга, в зависимости от того, кто его смотрит, читает, кто его делает, — отражает все свойства зрителя-художника.
«Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь», — говорит Шварц в прологе к одной из своих сказок для взрослых (2). Сколько раз на обсуждениях шварцевских пьес в театре или в кино появлялся всепонимающий «критик» и вопил, что у Шварца припрятан в кармане кукиш, и спешил опорочить шварцевскую правду.
Не случайно, конечно, что период узаконенных штампов всеми силами сковывал этого выдающегося драматурга, удерживал его на арьерсцене. Штамп ведь не допускает думанья. Штамп не допускает совершенствования чувств.
Я раскрыл старый, архивный альбом. Пожелтевшая фотография показывала группу людей, сидящих в какой-то полуофициальной комнате. Вглядываюсь в лица. Вот слева, по соседству со своим учителем и другом Борисом Эйхенбаумом — Евгений Львович Шварц (3). Он, как и все присутствующие, смотрит заголовки для кинокартины «Женитьба» в мастерской «Ленфильма», руководимой С. Юткевичем…
Прошел период съемок, и вот на экране «Женитьба» (4). Евгений Львович в числе людей, приветствующих картину. В то время режиссеры заботились и о плакатах, и о рекламном ролике. И вот все мы сидим и выдумываем, как бы поинтересней сделать этот ролик. Шварц предлагает пригласить его друга, поэта Н. М. Олейникова. Евгению Львовичу кажется, что поэтическая манера его друга необыкновенно подойдет для короткого, рекламно-информационного сообщения о картине. Приведу эти строчки, чтобы вспомнить ироническую нежность поэта и вспомнить доброту, заботу Евгения Львовича о начинающих свой кинопуть молодых кинематографистах.
При представлении героев картины шел кадровый стихотворный текст. Так, при первом появлении Подколесина:
Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять, То видишь, наконец, что точно, — надобно жениться, — Женатый человек способен жизни назначенье понимать, И для него все это как-то движется, все испаряется, и как-то все стремится. Жениться, обязательно жениться!А после того, как Подколесин сбежал из-под венца:
Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять, То видишь, что женатый человек тяжелое к себе на спину взваливает бремя. А впрочем, может быть, наскучил вам… тогда не стану продолжать… Позвольте… как-нибудь… в другое время…И в конце:
Все вышеперечисленное вы увидите в картине, Которая еще не шла доныне. На днях пойдет. Спешите видеть. Чтобы добро понять и зло возненавидеть.Вот так начиналось наше знакомство. То, что Шварц был актером, во мне вызывало симпатию и пристальное внимание (хотя вовсе не ко всем актерам я отношусь с симпатией и вниманием). Словом, это было просто человеческим знакомством. Суета и повседневные заботы раскидали нас в разные стороны, и только оказавшись актером в Ленинградском театре комедии, я снова встретился с Евгением Львовичем, но теперь уже как с автором «Тени».
Руководитель театра, режиссер-постановщик и художник спектакля Н. П. Акимов познакомил труппу с новым произведением нового драматурга (5). Пьесу разыгрывали самые сильные актеры труппы: Л. Сухаревская, Б. Тенин, Е. Юнгер, И. Гошева. Работали все с увлечением. Мне режиссер предложил играть роль Тени ученого. Тени, вобравшей в себя все теневое, все вероломное, циничное, — словом, все черты макиавеллиевского деятеля. Являясь как бы и нереальным персонажем пьесы, Тень несла в себе человеческие свойства, бытующие в любой среде: карьеризм, подхалимство, высокомерие, деспотизм и т. д. (6). Работали все с увлечением.
Задача для художника, склонного видеть театр и кино и романтическими, и фантастическими, и сказочными (ведь сказка — это мудрое иносказание о жизни), — задача заманчивая и вместе с тем трудная. Режиссер и художник спектакля Акимов необыкновенно эффектно сделал первый акт спектакля и первое появление Тени.
Общая оценка и зрителей и критики была очень благожелательная. Но я как актер не был доволен своей игрой, потому что внутренне не мог обрести подлинной выразительности для сцен, где подсознательное, «теневое» приобретает очертания реальности (7), что я не дошел до настоящего понимания пьесы и не понял ее значения как произведения драматургии.
Время и раздумья над искусством Шварца, постепенное разгадывание игровых и постановочных секретов драматурга, накопление удач, находок выделяет мою встречу с Е. Л. Шварцем в особую главу.
Коллектив московского Театра-студии киноактера, первым поставивший его сказку «Обыкновенное чудо», которая шла почти ежедневно и с неизменным успехом, готовил альбом в подарок к его шестидесятилетию. Это событие подтолкнуло меня оглянуться на встречи с Евгением Львовичем. Я с нежностью вспомнил Царя-водокрута (8). Затем встреча со Шварцем в «Золушке» в роли короля. Первое знакомство с «Тенью» оставило какую-то глубокую зарубку в душе. И потом, в московском Театре сатиры мне посчастливилось с молодежью театра довысказать то, что накопилось за это время и требовало выхода.
В среде актеров считается, что кинопроба — это импровизированная комбинация из ранее сыгранных ролей в театре. В кинокартине «Золушка» со мной произошло исключение из этого правила. Роль короля как-то интуитивно совпала с желанием актера и оказалась для меня ключом к разгадке многих тайн творчества Шварца.
Кандидатами на исполнение роли короля были очень многие и очень хорошие актеры, но автор и режиссеры картины Н. Н. Кошеверова и М. Г. Шапиро остановились в выборе актера на моей кандидатуре. По-видимому, они руководствовались при этом моими давними актерскими работами, в которых меня привлекала особого рода сложность человеческих характеров. Король в «Золушке» обрел черты, свойственные только шварцевской драматургии: безапелляционную наивность, присущую детям и безотказно убедительную для взрослых.
[Вот уже есть, как выражаются производственники, восемьдесят процентов отснятого материала, но я — исполнитель сказочного короля — вызван к одному из блюстителей художественной совести «Ленфильма».
— Я познакомился с материалом. Очень тревожно, Эраст Павлович! Вы играете не настоящего короля. В жизни таких не бывает. Надо заново продумать всю роль, — глубокомысленно и авторитетно, с долей принятой к употреблению демократичности, сказал худрук.
— Ну, а сыграть настоящих-то, ну, вроде Николая Первого, или там кого еще, у меня (следовало необыкновенно доверительно произнесенное имя и отчество худрука) не выйдет. У меня и выходки такой нет, да и вообще тогда на эту роль лучше пригласить другого актера. Ну, Юрия Михайловича Юрьева, например. Он и во дворце был и весь их обиход знает…
Пусть читатель не усмотрит здесь издевательства с моей стороны над этим чудесным актером и человеком, с которым судьба столкнула меня в Театре Мейерхольда и о котором в душе сохранились самые хорошие воспоминания.
Но… так как «Золушка» была снята процентов на восемьдесят, то усилия руководства, направленные на превращение ее в шишкинское «Утро в сосновом лесу», не дали результатов, и картина вышла на экран и даже доставляла некоторую радость не только детям…] (9).
Спустя довольно длительное время, развивая эту находку, я поставил в московском Театре киноактера одно из наиболее совершенных и законченных произведений Евгения Львовича, комедию-сказку «Обыкновенное чудо», где мне выпало счастье сыграть роль короля, роль сложную, многоплановую…
[В Театре киноактера возникали всевозможные, в том числе и материальные, неопределенности. Поэтому получить пьесу, привлечь драматурга к работе в этом театре было делом сложным.
Случай помог нам получить необыкновенную и оригинальную пьесу-сказку Евгения Шварца «Медведь» (впоследствии — «Обыкновенное чудо»). Пьеса долго лежала без движения в портфеле одного московского театра. Первое чтение меня окрылило, я предложил прочитать пьесу труппе. Успех у актеров был огромный.
Вторая читка труппе — по просьбе дирекции. Еще больший успех и решение репетировать с тем, чтобы куски показать общественности театра, художественному совету (10).
Работа закипела. Наметились три пары. Первая: Волшебник — Хозяин и Хозяйка. Волшебника репетировал К. Бартошевич. Он трактовался нами не как персонаж с длинными рукавами и в дурацком колпаке, а как простой мудрый хозяин. Хозяйка — Н. Зоркая. Первая ассоциация — «Шоколадница» Лиотара. Нам казалось, что графическая аккуратность будет точно характеризовать персонаж. Так мы потом ее и костюмировали. Кстати сказать, хотелось разных персонажей брать из разных эпох, у разных художников. Первый министр мыслился как персонаж из Гаварни, а Министр-администратор — как абсолютно современный тип (первого репетировал артист А. Добронравов, второго — Г. Георгиу.)
Вторая, молодая пара: Принцесса — Э. Некрасова, Медведь — В. Тихонов. Тихонову был придуман почти спортивный костюм, а Принцессе — романтический, с легким шарфом.
Третья пара (с трагической судьбой): Эмилия, главная придворная дама (ее репетировала В. Караваева), и Трактирщик (В. Авдюшко), в прошлом придворный.
После месяца напряженнейшего труда мы подготовили полтора действия и пригласили руководство «Мосфильма» и общественность Студии киноактера посмотреть результат. Прием был исключительный. В. Караваева показала такой необычайный взлет игры, что при обсуждении говорили о рождении трагической актрисы. В сцене встречи с влюбленным в нее, но отвергнутым ею в прошлом Трактирщиком никто не мог сдержать слез, даже дирекция «Мосфильма».
Мы получили разрешение пригласить художника и доработать спектакль. Художником был Борис Робертович Эрдман. Он с энтузиазмом включился в работу.]
Автор так предуведомляет актера и зрителя: «Король, вы легко угадаете в нем обыкновенного, квартирного деспота, хилого тирана, ловко умеющего объяснить свои бесчинства соображениями принципиальными. Или дистрофией сердечной мышцы, или психастенией. А то и наследственностью. В сказке сделан он королем, чтобы черты его характера дошли до своего естественного предела».
Традицию театральных сказок, подхваченную автором из глубины десятилетий у К. Гоцци и своеобразно оптимистично трактованную Е. Шварцем, кажется, нам удалось нащупать…
[Сыграли спектакль (11). Нужно сказать, что публика принимала его великолепно. Театр-студия киноактера начал делать аншлаги. К пятидесятому представлению «Чуда» наш коллектив получил приветственное письмо от автора:
«Дорогие Хеся (12) и Эраст!
Ужасно жалко, что не могу я приехать двадцатого и объяснить на словах, как я благодарен вам за хорошее отношение.
Эраст поставил спектакль из пьесы, в которую я сам не верил. То есть не верил, что ее можно ставить. Он ее, пьесу, добыл. Он начал ее репетировать, вопреки мнению начальства театра. После первого просмотра, когда показали в театре художественному совету полтора действия, Вы мне звонили. И постановка была доведена до конца! И потом опять звонили от вас. Такие вещи не забываются. И вот дожили мы до пятидесятого спектакля.
Спасибо вам, друзья, за все. Нет человека, который, говоря о спектакле или присылая рецензии и письма (а таких получил я больше, чем когда-нибудь за всю свою жизнь, в том числе и от незнакомых) — не хвалили бы изо всех сил Эраста. Ай да мы — рязанцы! (Моя мать родом оттуда)…
Целую вас крепко. Привет всей труппе и поздравления, если письмо дойдет до пятидесятого спектакля. Впрочем, двадцатого еще буду телеграфировать. Ваш Е. Шварц»].
Увидеть автора на своих спектаклях, показать ему свои, как нам казалось, удачи, похвалиться находками нам не удалось. Здоровье Евгения Львовича ухудшалось…
X. А. Локшину и меня молодежь Московского театра сатиры пригласила поставить «Тень». Я поехал к Шварцу в Комарово. Когда я пришел, Евгений Львович отдыхал. Екатерина Ивановна собралась было его разбудить. Я уверил ее, что никуда не спешу и посижу на балконе и покурю в ожидании (13).
Вскоре появился Евгений Львович, необыкновенно свежий, румяный и подтянутый. Болезнь как бы перестала его терзать. Я, как мог, рассказал, что собираюсь ставить «Тень», каким хочется сделать, каким он видится; рассказал, с каким неизменным успехом идет «Чудо». Евгений Львович относился к редкой категории авторов, которые не дают рецептов решения, не произносят нравоучительные монологи-советы. Был он редкостно деликатен по природе и, как правило, доверял своим собеседникам и считал их не менее понятливыми, чем он сам.
Умел он и чрезвычайно убедительно молчать, так же как и коротенькой, как бы не относящейся к делу фразой сказать многое.
Екатерина Ивановна поставила на стол кофе. Черный пес вертелся у стола и необыкновенно нежно тыкался носом в серого интеллектуального кота. Его умные глаза вполне могли допустить, что он и все понимает и способен к речи, только не хочет говорить.
«Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем. Мяу!» — все же говорит тот кот, воплощенный Шварцем в «Драконе»…
Осенью он праздновал свое шестидесятилетие. У нас в Театре киноактера в этот день шел шестидесятый спектакль. Мы выпустили специальную афишу:
«В день шестидесятилетия Евгения Львовича Шварца идет спектакль „Обыкновенное чудо“ в шестидесятый раз»… (14).
[Весь наш коллектив благодарил и приветствовал автора с днем рождения, и все хотели сделать ему приятное.
Мы послали ему альбом с фотографиями спектакля. Нам хотелось и развлечь его, и порадовать, и, с другой стороны, похвалиться: посмотрите, мол, как нам удалась ваша сказка.] (15). Вскоре был ликвидирован Театр киноактера. Прелестные декорации к этому времени уже покойного Бориса Эрдмана были сожжены, «чтобы не занимать места». Шварцевский кот на этот раз был прав.
Другой персонаж Шварца, придворная дама Эмилия, говорит: «Ничего не поделаешь. Жизнь идет, хоть ты тут умри».
В работе над «Тенью» в Театре сатиры мы нашли и осуществили решение сложнейших сцен, не дававшихся мне в постановке Ленинградского театра комедии. В спектакле Театра сатиры нас удалось сочетать достоверность и реалистичность характеров с поэтической сказочностью обобщений. В этом помог и ленинградский художник Борис Гурвич, нашедший лаконичное и выразительное декоративное решение игровой площадки.
Подходил к завершению длительный труд молодежи Театра сатиры над «Тенью». Весник, Васильева, Александров, Зелинская, Аросева блеснули настоящим актерским мастерством. Этот спектакль все мы очень любили, и когда запечатывали анонсную афишу, чтобы послать Евгению Львовичу, пришло то известие, в которое никто не хотел поверить.
Таксомотор «небесной механики» остановил счетчик.
Евгений Львович ушел от нас. Он оставил нам в подарок целый мир сказочного, самобытного, сверхреалистического театра.
И этот спектакль не суждено было показать автору. Но бывают в жизни такие совпадения, что хоть пиши сценарий. Неожиданно приехавшая в Москву вдова драматурга, Екатерина Ивановна, позвонила Х. А. Локшиной и сказала, что очень хочет посмотреть «Тень». Локшина знала, что в репертуаре «Тень» не значится, но на всякий случай позвонила в Театр сатиры, и оказалось, что по болезни одного из артистов, назначенный на этот день спектакль заменяется «Тенью», а день этот был днем именин Евгения Львовича.
Еще раз пришлось мне встретиться с творчеством Шварца при работе над фильмом «Обыкновенное чудо» (16). Все шире и увереннее входит драматургия Шварца в нашу духовную жизнь.
Александр Крон Драматург Евгений Шварц
Еще до знакомства с Евгением Львовичем я читал и видел на сцене пьесы драматурга Е. Шварца. Но полностью оценил их я не сразу. Впрочем, главные пьесы еще не были в то время написаны. Не было ни «Дракона», ни «Обыкновенного чуда».
Особенность Шварца в том, что он не поддается ведомственной классификации. Ни в какие рамки, списки и обоймы он не укладывается. Ни по поколению, ни по жанру, ни по рангу.
Когда-то поколение драматургов, к которому принадлежал я, считалось средним. Шварц, будучи старше нас на добрый десяток лет, не смешивался с теми, кого мы считали стариками. Но и нашим он не был. Он был сам по себе. Да и к какой жанровой группе его можно было причислить? Детских драматургов? Его пьесы с одинаковым интересом смотрели и дети и взрослые. Комедиографов? При всем их блестящем остроумии что-то всегда мешало воспринимать их только как комедии. И наконец, уж совсем пустым кажется сегодня вопрос о месте Шварца в литературной иерархии. Премий он, помнится, не получал никогда, в президиумах сиживал редко, свой единственный орден он получил под конец жизни, но его слава не нуждалась в подпорках, и мы, его друзья, а среди нас были люди не в пример гуще увенчанные всякого рода лаврами, всегда знали, что Женя — очень большой писатель. Уместно вспомнить Хемингуэя, утверждавшего, что хорошие писатели не имеют рангов. Их можно называть в любом порядке, от этого ничего не меняется.
Я думаю, что особое положение Шварца заключается в том, что он — единственный настоящий современный сказочник. Единственный в советской драматургии, а может быть, и в советской литературе.
Говоря «настоящий» и «современный», я отдаю себе отчет в том, что на сценах наших театров часто ставились сказочные пьесы советских авторов, иногда очень хорошие. Например, сказки С. Я. Маршака. Казалась очень современной сказка Вадима Коростылева «Золотое сердце», шедшая в свое время на сцене Центрального детского театра. Но ни Маршак, ни Коростылев не сказочники, а современность пьесы Коростылева была не столько в существе, сколько в незамысловатых, почти «капустнических» аллюзиях, в аллегорических персонажах вроде феи по имени Сойдетитак. Но аллюзии преходящи, а аллегории не обладают властью символов.
Настоящим сказочником быть трудно. Их и в мировой-то литературе раз-два и обчелся. Обычно сказку творит народ, это одна из разновидностей народного эпоса и мифотворчества; прежде чем отлиться в законченную форму, она многократно обкатывается и шлифуется в устах безымённых рассказчиков. Чтобы написать свою оригинальную сказку, нужно обладать образным миром поэта, чуткостью к народной жизни и мудростью философа. Всё это у Шварца было. Он не был сказителем, он был интеллигент. Но Ганс Христиан Андерсен тоже был интеллигент. Вспомним Чехова. Он говорил: «Все мы народ, и лучшее из того, что мы делаем, есть дело народное».
Не важно, что некоторые сюжеты Шварца навеяны сказочными мотивами Андерсена. Такой Тени, такого голого короля у Андерсена не было. Сам Андерсен не скрывал, что он зачастую пересоздавал заново чужие сюжеты. Для Шварца эти сюжеты были только отправной точкой. И современность его пьес не в сиюминутных ассоциациях, а в гуманистическом пафосе, в их способности вызывать чувства и мысли, необходимые сегодня всем людям, и особенно людям завтрашнего дня, то есть детям.
Мастерство Шварца я вижу не только в виртуозном владении словом, но и в поразительном чувстве сказочной логики. Такая логика существует, и дети разбираются в ней даже лучше взрослых. У фантастики и реализма много общих законов, и любой дошкольник безошибочно знает, во что по законам жанра можно безусловно верить, а чего никак не может быть.
С наибольшей силой глубина и самостоятельность сказочной стихии Шварца проявилась, на мой взгляд, в «Драконе». С него и началось наше знакомство.
Пьесу «Дракон» я получил в рукописи от нашей общей приятельницы С. Т. Дуниной, работавшей тогда в репертуарном отделе Всесоюзного Комитета по делам искусств. Война еще не закончилась. Я прилетел в Москву из блокадного Ленинграда по вызову МХАТа, зашел в Комитет и там встретил Шварца, привезшего из Сталинабада своего «Дракона». Как известно, вскоре после выхода в свет «Дракон» был раскритикован в печати как вредная сказка и реабилитирован только в конце пятидесятых годов. Софья Тихоновна страстно боролась за «Дракона». В «Драконе», если его перечитать сегодня, поражает зоркость, с какой драматург рассматривает сущность всякой тирании. Недостаточно повергнуть дракона, говорит сказочник, надо еще выкорчевать посеянные им отравленные зубы, рабью психику людей, годами приносивших в жертву дракону не только прекрасных девушек, но и свое человеческое достоинство. В годы борьбы с фашизмом и его последствиями сказка Шварца была острым оружием, но им не воспользовались.
У Дуниной мы и познакомились. Евгений Львович был учтив, чуточку чопорен, улыбался мало. Чем-то он напоминал мне М. М. Зощенко и В. В. Шкваркина, и вскоре я понял чем: сатирики редко бывают весельчаками и свойскими парнями, профессия у них трудная, и о людях они знают много такого, что заставляет их, хотя бы на первых порах, держаться настороже. Потом оказалось, что у нас много общих друзей, кое-какие общие недруги (это тоже сближает), и постепенно Шварц открылся мне таким, каким его знали близкие, — прячущим за светскостью и иронией доброту, вспыльчивость и прелестное озорство.
Как-то в один из моих послевоенных приездов в Ленинград, в будний весенний день поехала погулять на взморье небольшая компания: Евгений Львович, Т. М. Вечеслова, И. М. Меттер с женой, артисткой балета К. М. Златковской, я, моя жена и ныне покойный Леонид Антонович Малюгин. Настроение у всех было прекрасное. Леня только что получил премию за свою пьесу «Старые друзья», и мы — его старые друзья — искренне радовались успеху товарища. Было еще очень прохладно. Погуляли по безлюдному берегу, вспомнили пушкинское «На берегу пустынных волн», затем отыскали какой-то еще не развернувшийся в полную силу, но уже открывшийся летний павильон-ресторан, выбрали в совершенно пустом зале столик подальше от входной двери и поближе к теплой кухне, заказали то немногое, что нам могли предложить, и с удовольствием выпили по первой рюмке. Евгений Львович был в то время уже серьезно болен, я и раньше замечал, что у него слегка дрожат руки, дрожь эта была сердечного происхождения и ничуть не свидетельствовала об алкоголизме, но Шварц ее все-таки стеснялся, в особенности его смущало то, что после первой рюмки дрожь прекращалась. Дрожь прекратилась, и Евгений Львович сразу возглавил стол, не столько по праву старшего, сколько благодаря присущей ему магии общения и завораживающей фантазии. Не помню уже, что послужило случайным толчком к начавшейся игре, но вскоре изящный питерский интеллигент, каким всегда был Евгений Львович, превратился в пожилого, ожиревшего, но еще вальяжного, тяжело-самоуверенного дельца-хозяйственника, всесильного главу какой-то таинственной мафии, состоящей из нечистоплотных торгашей и снабженцев, этакого «нужного человека», для которого пара пустяков достать любую дефицитную вещь или билеты на модную премьеру. Сначала мы выслушали его безапелляционные суждения о пьесе Малюгина, и Леня восторженно хохотал, слушая этот поток самоуверенных пошлостей, нечто похожее ему уже приходилось слышать, поэтому блестящая пародия Шварца была ему слаще самых пышных комплиментов. Однако рецензией на «Старые друзья» игра не кончилась, Шварцу явно не хотелось так быстро расстаться с удачно найденным образом, и он стал обращаться к нам, как к своим сообщникам, умело подбрасывая строительный материал для создания маски, из И. М. Меттера он сделал нахрапистого ворюгу, из меня — застенчивого, а через четверть часа обслуживавшие нас официантки уже не сомневались, что имеют дело с кутящими после удачной махинации спекулянтами и их лихими подругами.
Но этого невинного розыгрыша Шварцу показалось мало. Как истый сказочник, он стал вводить в наш застольный разговор самые смелые гиперболы, и те, кто нас слышал, а слушали нас теперь не только официантки, но все обитатели ресторанных кулис, включая повара, с замиранием сердца узнавали, что мафия наша всесильна, держит в руках милицию и любое начальство, имеет во многих городах соучастников, которые привозят для сбыта свои «левые» товары. Одним из таких приезжих был я, у меня в роскошном люксе «Астории» плавали в ванне привезенные с Каспия живые осетры, и я очень нервничал, за ними все не приходили, а я боялся доноса горничной, боялся и за самих осетров: им было тесно в ванне, и они страшно плескались. Шварц, покровительственно посмеиваясь, меня успокаивал. Войдя в свои роли, мы изображали компанию гораздо более подвыпившую, чем это было на самом деле, и наши слушатели уже не очень таились, они открыто толпились в дверях, подавали даже реплики, и можно было понять, что хотя они и сомневаются, но верят, восторгаются, возмущаются, ужасаются — и не в силах оторваться.
Но Евгению Львовичу и этого было мало. Осетры в ванне «Астории» — это было маловероятно, но все же реально, а Шварц уже летел на сказочных крыльях. Помаленьку, как через реостат, он прибавлял накал, из бытовой фигуры он превращался в сказочный персонаж вроде людоеда из «Тени», и чем фантастичнее было то, что он говорил, тем ярче и убедительнее становился образ. Постепенно до нашей аудитории стало доходить, что все происходящее — игра, но разочарования это не вызвало, и, когда мы уходили, нас проводили аплодисментами. «Артисты!» — сказал кто-то нам вслед. Такова судьба драматурга. Все его счастливые находки приписываются актерам.
Сегодня уже трудно вспомнить и перечесть наши встречи. Не помню случая, чтоб я приехал в Ленинград или Шварц в Москву и мы не повидались. Встречались домами или у общих друзей. Другом он был надежным, но не сентиментальным, друзей любил, не закрывая глаза на их маленькие слабости, и при случае был не прочь съязвить. Он рассказывал про них небылицы, очень похожие на правду. Одну нашу общую приятельницу, женщину умную и образованную, но несколько капризную, он показывал так:
— Женя, который час?
— Половина третьего…
— Ах, я знаю!
Мастером такого рода небылиц был Юрий Павлович Герман, и они с Шварцем соревновались. Впрочем, манера у них была разная. Герман сочно живописал, Шварц тяготел к графике и миниатюре.
В общении с Шварцем была одна необыкновенно важная и, как мне кажется, исчезающая в нашей среде черта. Дружбу он понимал не только как бытовое, но и как творческое соприкосновение. Он хотел, чтоб друзья читали и смотрели его пьесы, и сам был внимателен к тому, что пишут друзья. С ним было интересно советоваться, и он сам был чуток к мнению людей, которым доверял. Не только чуток, но и чувствителен. Откровенно высказанным критическим замечанием его можно было огорчить. Обидеть — никогда. Хитрить с ним не удавалось никому, проницательность у него была редкостная.
Для меня было большой радостью, когда в один из своих приездов Шварц сказал, что хочет прочитать мне полтора акта еще не законченной пьесы и посоветоваться насчет финала. Читал он днем в нашей квартире на Спиридоньевском, пьеса называлась «Медведь» и произвела на нас с женой сильнейшее впечатление. В этой пьесе не было ни одного знакомого сказочного мотива. В многих сказках волшебники превращали людей в животных, но только Шварц додумался превратить зверя в человека, что с точки зрения эволюционной теории даже более правдоподобно. У Евгения Львовича не получался третий акт, и он придирчиво расспрашивал нас о прочитанном, ему нужны были не комплименты, а непосредственная реакция. Неудивительно, что я почувствовал себя вовлеченным в судьбу «Обыкновенного чуда» (такое название получила последняя редакция пьесы), видел пьесу дважды — в Москве и в Ленинграде, — а о московском спектакле написал рецензию в журнале «Театр». С той читки прошло лет восемь, и я с полным убеждением мог написать Евгению Львовичу, что пьеса ни в чем не устарела, не потеряла жизненности, скорее, даже наоборот… И что публика не премьерная, а рядовая, кассовая, прекрасно понимает и принимает пьесу. Шварца это обрадовало. «Я ведь приготовил целое объяснение, — писал он мне в ответ, — там я умоляю не искать в сказке скрытого смысла, ибо рассказывается она не для того, чтоб скрыть, а для того, чтоб открыть то, что ты думаешь. Пишу все это потому, что жду, что меня вот-вот кто-нибудь потянет к ответу, хотя как будто и не за что».
У Шварца была трудная судьба. Есть писатели, в том числе даровитые, которые, уходя из жизни, как бы забирают с собой все ими созданное. Оно становится достоянием историков литературы. С Шварцем не так. Он не создал школы — это и невозможно, но творческое наследие его живет, оно завоевывает новые рубежи, и его не приходится искусственно оживлять к юбилейным датам. Оно живет само по себе. Так, как жил он сам.
1979
Алексей Герман О дяде Жене, Екатерине Ивановне и собаке Тамаре
В 1938 году мой папа, Юрий Герман, и Евгений Львович Шварц каждый вечер приходили к роддому, в котором я появился на свет. Они должны были это делать потому, что, по известным причинам, маме нельзя было волноваться. А если она не видела их воочию, то очень волновалась, что кого-нибудь из них арестовали и от нее этот факт скрывают.
Писатель, драматург и сценарист, выдающийся сказочник и признанный классик Евгений Шварц в памяти моей, в том мире, который живет во мне, — остается дядей Женей, близким другом моих родителей, одним из главных персонажей комаровского сообщества советских интеллигентов, в котором прошла существенная часть моего детства. [В сборнике, который предложен вниманию читателей, есть и тексты сценариев, и подробные комментарии специалистов, и цитаты из документов — на мой взгляд, из всего этого можно составить представление о работе Евгения Львовича для кино. Что я могу к этому добавить? Разве что попытаться перевести в слова обрывки изображений, кусочки фонограммы того нескончаемого кино, в котором я продолжаю жить].
В начале 1946 года папа получил Сталинскую премию, и мы переехали жить в Комарово: Морская улица, дом 1. Маленький масляный домик, в котором было дикое количество клопов — они висели под потолком гроздьями. Какое-то время мы жили в этой даче, потом вернулись в Ленинград, а в доме оставались Евгений Львович Шварц и его жена Катерина Ивановна. Папа угодил в какие-то неприятности, и взрослые договорились, что Шварцы будут меня брать на лето. Еще при домике была баня, и там, тоже весь в неприятностях, жил дважды лауреат Сталинских премий, заслуженный деятель искусств Иосиф Ефимович Хейфиц.
Почему-то очень часто не было света, и тогда папа с Шварцем сидели в углу, пили водочку, говорили о чем-то своем. Однажды они меня позвали: «Лешка, вот ты все читаешь что ни попадя, а „Бруски“ Панферова читал?» — «Читал». — «И ты считаешь, правильно ей дали Сталинскую премию?» Я ответил с воодушевлением: «Надо было две Сталинские премии дать!» И папа сказал, махнув рукой: «Иди отсюда, болван». Как-то он печально это сказал, и оба они были очень печальные, в своем углу на темной даче, со своей водочкой, со своими непонятными мне разговорами.
Я знал, что Шварц пишет сказки. Иногда он их мне читал. Я его любил, но в глубине души считал его занятие не слишком серьезным. Когда папа говорил про него: «Он великий человек», это меня раздражало. Потому что у папы все были великие.
Однажды я вошел в уборную и увидел горбоносую женщину с задранными блестящими юбками. Проходивший мимо папа схватил меня за руку, уволок на кухню, шипел мне в ухо: «Эта женщина — великий русский поэт». Я ворчал: «А почему этот великий русский поэт на крючок не закрывается?» Потом узнал, что это была Ахматова.
В летнее время в Комарово через железную дорогу проходил тщедушный человек в круглых очках с тонкой шеей, похожий на птицу. Как и все они, пижоны, он имел при себе трость. Папа и про него мне сказал: «Запомни, это великий композитор. Его фамилия Шостакович». В общем, слово «великий» мало что для меня значило. Когда-то потом пришлось понять, что все они и вправду были великие, а сам я, комаровский хулиган и двоечник, и вправду был болваном.
Хорошо хоть запомнил, как они, вместе с папой и Шварцем, иногда с Хейфицем, ходили пить боржом в пивную при станции. В пивной этой играли всегда «У мальчика пара зеленых удивительных маминых глаз» и «По Берлинской мостовой». Пить боржом, острить — это было такое специальное занятие. Боржом стоил дорого, бутылка — рубль. Один раз к нам подошел выпивший человек и попросил попробовать боржому, потому что рубль — это тогда были деньги. Он попробовал, сплюнул и сказал: «А я думал, он жирный». Эту фразу я потом вставил в «Лапшина».
На лето я перебирался к Шварцу. Верандочка, круглый абажур над столом, сделанный из непонятного материала, собака Тамарка, которая бродит вокруг, вздыхая и задыхаясь от непомерного веса. Тамарка походила на огромный табурет. От жира она не могла ходить, еле переваливалась с боку на бок. Шварцу говорили: «Что же это такое? Это даже не собака». Он разводил руками: «Ну, если она хочет кушать, что же делать?» У меня была переэкзаменовка, и он занимался со мной математикой. Занятия эти проходили своеобразно. Помню, как читаю Пантелеева «Республику ШКИД» (1), а Евгений Львович решает мои задачи. Пыхтит, старается, потом говорит мне растерянно: «Что-то у меня, Алеша, не сходится. Может так быть, что в ответе 2,5 бассейна?» Я ему назидательно, не отрываясь от книги: «А вы еще хорошенько подумайте, дядя Женя». И слышу от окна голос отца, который подошел незаметно, приехав из города, и наблюдает эту картинку: «Кто должен подумать, подлец? Ты, у которого переэкзаменовка, или дядя Женя, у которого переэкзаменовки нет?»
Жить у них я не любил. Хотя Евгения Львович был ко мне добр и с ним всегда было интересно. Но, во-первых, к завтраку у них подавалась яичница с колбасой, плавающая в жиру, и меня тошнило от нее. А во-вторых, по вечерам меня заставляли играть в скучнейшую игру «Кун-кэн». Им для игры не хватало четвертого, и, вместо того чтобы раскатывать на велосипеде, я должен был сидеть с ними на веранде.
Кроме собаки Тамарки был еще кот Котан. Он тоже был огромным, очень пушистым и поразительной злобности существом. От него житья не было, он всех драл — и пребольно. Решили его кастрировать в целях всеобщей безопасности. Кто-то рекомендовал ветеринара, однажды раздался стук в дверь, и на крыльце возник человек в форме энкавэдэшника. Все как-то заробели. Не лучшие были времена для такого гостя. Оказалось, что это ветеринар из Большого дома, который подрабатывает тем, что холостит котов. Из маленького чемоданчика он достал сапог и щипчики. В сапог заправил кота, так что снаружи остались только хвост и задние ноги, потом чикнул и, взяв сапог за подметку, каким-то очень ловким движением швырнул кота на двадцать метров в угол комнаты. Кот, еще не понимая всего, что с ним случилось, от боли вытянулся в нитку, страшно зашипел, поднялся на лапы и гневно сверкнул глазами, постепенно переходящими в девичьи. Ветеринар, оказавшийся грузином, меланхолично заметил: «Нэ любит». У нас потом это «нэ любит» очень долго было любимым выражением в семейном обиходе.
Шварц очень любил свою жену Катю, дочь Наташу, внуков. Любил друзей и их детей. Жил в ближнем круге и ближним кругом.
Когда он умирал, при нем были Катерина Ивановна и моя мама. Последние его слова были: «Катя, спаси меня». После того, как всё случилось, Катя сказала: «Таня, возьми что-нибудь на память о Жене». Мама взяла маленькую картинку, которая всегда висела у Евгения Львовича над кроватью. Эта картинка и сейчас висит у меня в кабинете. Черный лес, черное озеро, какой-то темно-зеленый луг и маленький белый козленок, несчастный на фоне всего этого ужаса. После смерти Евгения Львовича Катерина Ивановна стала употреблять наркотики.
Это было тяжело, потому что она всех просила их достать. Люди о ней много дурного говорили. Но я думаю, что это был случай очень большой любви и невозможности жить без любимого человека. Она очень старалась, пыталась всячески. Купила дом, купила машину. После смерти Шварца его пьесы начали ставить во многих театрах, стали выходить книжки, появились деньги, которых ему так не хватало при жизни. Я помню, что мы с ней шли по Марсовому полю, о чем-то разговаривали, моросил дождь, скамейки были мокрые. Она достала большую пачку сторублевок и заложила ими мокрые места на скамейке, чтобы мы сели. В этом было столько презрения к деньгам, к благополучию, которое ей ни к чему было без него. Столько нежелания жить. Когда она говорила, что хочет покончить с собой, мало кто принимал это всерьез. А она все-таки с собой покончила.
Она понимала, с кем она жила. Нечастое для жены качество. Причем ей было неинтересно, кто еще это понимает, кроме нее: достаточно было своего знания. А понимал мало кто. Самое удивительное, что не только я, мальчишка, но и многие, почти все, кроме папы, взрослые вокруг меня относились к Шварцу несколько иронически. По-моему, никому и в голову не приходило, что он большой писатель, настоящий мыслитель. Ну, пишет человек сказочки… Для театра пишет, для кино. Несерьезно… Тогда ведь было время больших форм: пудовые фолианты, многотомные эпопеи про классовую борьбу… Их авторы становились лауреатами, заседали в президиумах… А тут, понимаешь, Золушки, Красные Шапочки, Волшебники, Медведи, «Тень, знай свое место».
Я до сих пор в толк не возьму, как он уцелел после «Дракона». Единственное разумное объяснение — люди боялись поверить глазам своим и ушам, боялись даже внутри себя заподозрить, что человек мог написать пьесу ПРО ЭТО.
Да еще этот человек — автор детских книжек, детских фильмов, детских пьес. Мягкий, исключительно добрый, вопиюще интеллигентный.
При поступлении в институт на вопрос «Самый любимый фильм» я ответил: «Золушка». Не «Чапаев», не «Трилогия о Максиме», не «Подвиг разведчика». Согласитесь, необычный ответ для завтрашнего студента. А ведь «Золушка» — это было нездешнее, невесть откуда и как возникшее, вопреки всему сияющее чудо… С грустью скажу, что Шварца ставили в основном плохо, как-то получалось ни про что. Во всяком случае, по сравнению с теми бездонными смыслами, какими мерцают его сюжеты.
Игнатий Ивановский Пантелеев и Шварц
Не больше десяти раз я был у Евгения Львовича на Посадской, раза три — на даче в Комарове. С первой минуты пораженный и плененный Шварцем, я приходил к нему, зная о нем мало. Разве я мог знать тогда, что передо мной автор «Дракона»? Школьник выпуска 1950 года — это в некотором роде историческое явление по отсутствию информации.
Знакомый композитор предложил написать либретто оперы по пьесе Шварца «Тень» (1). Окончив первый акт, я отнес его Шварцу.
Сквозь робость и смущение вижу большого, рыхловатого и какого-то породистого человека. Стоя с рукописью в руке посреди комнаты, он с воодушевлением читает вслух то единственное место, которого в его пьесе не было — арию Ученого о человеческих руках:
Глядишь, рука, дрожащая от горя, А в ней счастливца легкая рука.Потом с серьезным, почти деловым видом говорит:
— Шекспир… Вот возьму и вставлю в новое издание. И не докажете, что это вы сочинили. Кто вы такой? Никто. А я — известный писатель Евгений Шварц.
Это сказано так прелестно, с такой тонкой игрой, что мне сразу становится легко и свободною, и уже не мешают собственные руки и ноги.
В дни хрущевской оттепели я однажды снял с полки книгу стихов Алексея Константиновича Толстого. Книга раскрылась на «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Я стал читать, в очередной раз зачитался и вдруг почувствовал, как вопиет о продолжении эта замечательная поэма. В меру сил я это продолжение и сочинил, и было там разное:
В ежовой рукавице Держал он нас тогда. По шаткой половице Ходили в те года.Или:
Тут доблесть в нас воскресла И оный дух побед. Глядь — препоясать чресла У нас повязки нет. Хоть обмундированью Цена и дорога, Но мы отборной бранью Унизили врага.В заглавии вместо «до Тимашева» стояло «до Берии» (оба были министрами внутренних дел). Предпоследней строфой была строфа Алексея Константиновича, и конец поэмы выглядел так:
Составил от былинок Рассказ немудрый сей Худый, смиренный инок Раб Божий Алексей. А повести бесовской Придал елейный вид Игнатий Ивановский, Отец-иезуит.Это продолжение я и прочел Шварцу. Он слушал с большим вниманием, а потом сдержанно сказал:
— Сейчас я попрошу Катерину Ивановну принести чаю с вареньем. — Помолчал и добавил: — Съешьте это. Я столько видел милых мальчиков, погибших без малейшей вины, что имею право дать совет. Съешьте с вареньем.
Да, право на совет у него было. Все друзья Шварца оказались под кровавым колесом, а сам он выжил по чистой случайности.
Через сорок с лишним лет я повторил свою попытку. И, работая над стихами, нет-нет, да и вспоминал о «чае с вареньем».
В магазине я увидел пишущую машинку. Стоила она тысячу семьсот рублей. Денег у меня не было, а продавщица, как водится, дала сорок минут сроку.
Я вбежал во двор дома Шварца вслед за чьей-то «победой». Как тут же выяснилось, в «победе» приехал он сам. Машина плавно развернулась, и Шварц в дохе и круглой меховой шапке тяжело вылез наружу. Меня он не заметил. Я зашел сбоку и сказал скороговоркой, понизив голос:
— Евгений Львович — остается двадцать минут — пишущая машинка — тысяча семьсот!
Конечно, Шварц оценил мизансцену. Картинный разворот машины, богатая шуба — все это был чистый театр, внезапное богатство в последнем акте, ибо Евгений Львович всю жизнь боролся, если не с нуждой, то с бедностью. Деньги появились поздно. Машина и доха были куплены лишь по настоянию Катерины Ивановны.
Оценил он и мою скороговорку. Дерзость тоже была вполне театральной и требовала такого же ответа.
Шварц не обернулся. Вынул из кармана пачку денег, — ехал он из банка, где в то время получали какие-то виды гонораров, — неторопливо отсчитал, сколько следовало, и отдал через плечо. А затем, так и не обернувшись, внушительно проследовал в подъезд.
Через полчаса пишущая машинка стояла на его рабочем столе, для обозрения. Евгений Львович сказал Катерине Ивановне:
— Как приятно, что куплена нужная вещь. Для работы.
Потом повернулся ко мне:
— А ведь я был уверен, что вы берете на пропой.
На Посадской за чаем весьма самоуверенная кинорежиссерша рассказывала о всякой всячине. В том числе о необыкновенно тяжелом фурункулезе, постигшем ее перед войной.
Шварцу в тот вечер нездоровилось. К тому же Катерина Ивановна наливала гостям вино, а ему — безалкогольную вишневую плазму. Разговор о фурункулезе ему совсем уже не понравился. И когда гостья сообщила, что ее по счастью вылечил знаменитый Бадмаев и взял всего сто пятьдесят рублей, Евгений Львович участливо заметил:
— В самом деле, дешево. Это выходит — по рублю за фурункул.
И гостья надолго умолкла.
Я ловил и рассказы окружающих о Шварце. Любые подробности.
Художник Миней Ильич Кукс зашел однажды к Евгению Львовичу на комаровскую дачу. Вместе они отправились через дорогу в магазин: врачи прописали Шварцу лекарство, которое полагалось принимать на водке. Маленьких бутылок в магазине не оказалось, купили пол-литровую. Евгений Львович истово проделал лекарственную процедуру, на что водки ушло десять капель. Потом поднял бутылку, посмотрел на свет и предложил:
— Допьем остаток?
За разговором они остаток и допили, — благо Катерина Ивановна уехала в город, — и тут же уснули глубоким сном до самого вечера.
В послевоенные годы Евгения Львовича, случалось, приглашали на беседы в Большой дом (так в разговорах называли ленинградское управление КГБ). Приглашали и Минея Ильича. После одной такой беседы они встретились у выхода, и Евгений Львович сказал задумчиво:
— Не понимаю, что им от нас нужно? Всё, как будто, в порядке. Две хорошие русские фамилии: Кукс и Шварц.
Однажды в присутствии Шварца кто-то не слишком уважительно отозвался о Чехове. Шварц переменился мгновенно. Лицо побледнело, речь стала особенно отчетливой. Глядя на невежду в упор, он проговорил, словно диктуя:
— Вы не умеете читать. Вам не надо читать.
Моя жена Наташа (2) вспоминает, как девочкой ездила с родителями в Комарово к Шварцу. Эта поездка осталась едва ли не самым светлым и удивительным воспоминанием ее детства.
Евгений Львович, между прочим, рассказал о пьесе, которую задумал писать. Главным в ней было волшебное дерево, под которым человек не мог врать, начинал помимо своей воли говорить чистую правду. До чего же не хотелось героям пьесы под волшебное дерево! Как отчаянно они отбивались, когда их туда тащили! Больше всего менялись под деревом речи тех, кто клялся, что всегда говорит чистую правду.
— Евгений Львович, если бы я писал пьесы, непременно попросился бы к вам в ученики. Но прежде ученик приносил учителю пользу: растирал краски, бегал за водкой и огурцами. А нынешние ученики только и знают, что душить учителей рукописями.
— Да, — отвечает Шварц. — И рассказывать об учителях анекдоты.
Эти воспоминания я отослал Алексею Ивановичу Пантелееву. Он — лучший друг Шварца, ему и судить. Вскоре пришло письмо:
«Я прочел Ваши короткие воспоминания и не узнал в них Евгения Львовича Шварца. Кроме точно запомнившейся реплики в защиту Чехова — всё неправда. У Шварца никогда не было дохи. Он не имел банковского счета. Даже играючи, в шутку он не мог бы выговорить: — Я — известный писатель».
В ответном письме я поблагодарил Алексея Ивановича за прямоту. Но вступил с ним в спор:
«Всё было именно так. Евгений Львович меня поразил, это обострило восприятие, и всё существенное запомнилось точно.
Вы совершенно правы относительно дохи. Эта моя товароведческая оплошность произошла оттого, что Катерина Ивановна называла шубу Евгения Львовича именно дохой, — и я поддался воспоминанию. Имел же я в виду вообще богатое зимнее платье. Как сказано в Ваших воспоминаниях, „шуба была, что называется, богатая…“
Прилагаю постскриптум, в котором нет ничего спешного, — когда-нибудь, может быть, прочтете».
Вот некоторые места из этого постскриптума.
«Хотя мне и было двадцать три года, но внутренний мой возраст составлял тогда лет семнадцать, так я и держался. Иначе как мальчика, слегка помешанного на Байроне и Китсе, Евгений Львович меня и не воспринимал. Слова его по поводу стихов либретто „Тени“ я помню совершенно четко. Он сказал их легко, между прочим, с прелестной юмористической интонацией, и в комнате мы были одни, и никакого серьезного явления я не представлял собой, — а так, мальчик, очень увлеченный и подающий некоторые надежды.
С покупкой машинки дело было так. В Пассаже появился один-единственный экземпляр „Оптимы“ — большая новость. К машинке уже приторговывался некий полковник, и мне в самом деле было дано сорок минут на принос денег. Я звонил Бианки, Якобсон, Власову — деньги можно было получить завтра, послезавтра, через два часа, но не тотчас. Оставалась последняя возможность — Катерина Ивановна.
Она сказала мне по телефону: „Евгений Львович уехал за деньгами в банк, должен скоро вернуться. Приезжайте на всякий случай, может быть, успеете“. Я взял такси. Шофер бранился, потому что перед нами всё время шла какая-то „победа“ и задерживала нас. Как потом выяснилось, в „победе“ ехал Евгений Львович. Далее произошла описанная мною сцена. И молчаливая выдача денег, и фраза о „пропое“ — всё точно.
При Вас Евгений Львович мог бы и не сказать какой-нибудь фразы. Или сказал бы ее по-другому. Еще при ком-нибудь сказал бы еще иначе. Конечно, не потому, что изменил бы себе или Вам. Разные люди обращаются к разным граням одного и того же человека. Комбинация этих граней бывает неуловимой.
Мне кажется, это одна из причин, почему написанное мною Вы сочли неправдой. Должен сказать, что к воспоминаниям вообще я отношусь как к необходимому злу. Терпеть не могу, когда вспоминают, не имея что вспомнить, когда лезут в племянники к умершему, когда длинно пишут о пустяках, когда сводят счеты и кокетничают. Бывает и хуже: не зависящие от вспоминающего обстоятельства не позволяют коснуться ни одной из действительных радостей и бед ушедшего человека.
И вот мы читаем о долгих часах общения, смутно подозревая, что на эти долгие часы оба собеседника были поражены глухонемотой: никаких следов настоящего разговора».
В следующем письме Алексей Иванович сменил гнев на милость:
«Должен сказать, что этот постскриптум показался мне интереснее, живее, значительнее тех, специально написанных воспоминаний о Шварце, которые Вы прислали мне прежде. Всему веришь — и рублевым фурункулам мадам К., и тому, как Евгений Львович и Миней Ильич лечились водкой, и двум хорошим русским фамилиям… Если к этим черточкам веселого Шварца прибавить вспышку гнева, вызванного неуважительным отношением к Чехову — получится если не готовый портрет, то очень четкий эскиз к портрету…»
Воспоминания Евгения Львовича Шварца («Телефонная книга») были изданы спустя много лет. В них я прочел несколько строк о моей матери (она как дежурный районный врач бывала у Шварца) и о себе (3). Получил весть из дальнего, дальнего края.
Григорий Козинцев Из книги «Глубокий экран»
1
…В железный век мечты о золотом веке безумны. Но, может быть, именно они и помогают победить железо?
Подобные положения проходят через весь роман (1). Но они проходят и через жизнь человека, истории.
Еще со времен съемок «Шинели» (2) я невзлюбил слово «экранизация»; в нем слышалось что-то бездушно ремесленное, относящееся не к живому делу, а к механическому препарированию. Искать у Сервантеса «материал для сценария», растаскивать роман на кадрики являлось бы бесцельным занятием. «Дон Кихота» хотелось продолжить на экране, а не обкорнать экраном. Чтобы сохранить то, что казалось мне наиболее важным в книге, — «заключение о жизни», — нужно было дать образам иные формы существования, кинематографическую плоть.
Мне был необходим друг, товарищ по работе, который мог бы чувствовать себя в причудливом сервантесовском мире как дома. Искать было недалеко, у меня не возникло и минуты сомнений: друг жил рядом, на той же улице, что и я (3).
Евгения Львовича Шварца теперь часто вспоминают: выходят его книги, ставятся «Тень», «Голый король», «Обыкновенное чудо». С большим успехом прошел в парижском Театре Наций «Дракон». Критики исследуют его драматургию, опубликованы мемуары о нем. Но я уверен, что большая судьба его произведений только начинает складываться.
Время уже проверило жизненность его искусства. Случилось так, что сказки Шварца все сильнее говорят о реальности, а многое из того, что когда-то принималось за реализм, сегодня выглядит глупыми сказочками. <…>
Сочинять сказки трудное и неблагодарное дело, и они постепенно переводятся на свете. Все меньше охотников их сказывать. Главная трудность такого вида литературы состоит, по-моему, в его неопровержимости. Правда сказочной формы суждения о жизни неоспорима и безусловна: это правда поэзии, выявившей существо явления. И от этой правды уже никуда не деться (4). <…>
Кому под силу заглушить возглас ребенка: «Король голый!» Существо жизненного явления открыто, стало очевидным. Тихий голос не перекричать даже луженым глоткам, слова мгновенно передаются от человека к человеку, от поколения в поколение. И затоварятся лавки портретами короля в горностаевой мантии, после возгласа ребенка их уже никуда не повесишь.
В сказочных сюжетах живет народная мудрость; Шварц подхватывал их не по прихоти: сама жизнь требует или продолжения старых историй, или же, напротив, их забвения. Каждый художник по-своему наследует прошлое. Но как открыть место, где таится клад? Развить традицию, наполнить ее жизнью так же сложно, как ее опровергнуть. Поди разберись, в какой из шкатулок заперто сокровище.
Шварц выбрал ту, на которую уже давно никто не обращал внимания, разве только какие-нибудь ветхие старушки-сказительницы… Что, казалось бы, можно было найти в ней людям середины XX века? Открывать ее, да еще и искать в ней что-то ценное, никому не приходило в голову. Еще в прошлом веке прекрасный поэт с болью объявил о приходе новой эры:
Век шествует путем своим железным; В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы.«Последний поэт» назвал свое стихотворение Е. Баратынский.
Шварц выбрал для себя «поэзии ребяческие сны». Родом этого недуга хворал и герой Сервантеса.
— Знаете, — сказал мне однажды Евгений Львович, — вчера я просто прелесть как поработал. Целый день не вставал от стола. И наконец-то, после долгих мучений удалась мне реплика дерева.
Откровенно говоря, мне не показалось, что сочинять текст для дуба или сосны представляло такой уж интерес. Но проходило время, Евгений Львович читал мне свои новые страницы — итог большого труда — и драгоценность таких слов становилась очевидной. <…>
Театры иногда придают шварцевским фигурам и словам злободневный смысл. Это нетрудно сделать. Зрители на лету подхватывают намеки, хохочут, аплодируют. Можно ставить «Тень» или «Обыкновенное чудо» по-разному. На мой взгляд, искусство Шварца больше, выше карикатуры, это не только сатира, а поэзия, лирическая философия.
В музеях музыкальных инструментов можно увидеть самые разные скрипки — и прекрасные экземпляры, и странные раритеты. Но скрипки, описанной Шварцем, не отыскать и в наиболее полных коллекциях. Она создана в городе, порабощенном драконом (в трехглавом звере нетрудно узнать фашизм); музыкальный мастер отдает ее странствующему рыцарю, вызвавшему чудовище на бой: музыка помогает сражаться. Это — особенный инструмент, и звук у него ни на что не похожий. Случилось так, что не было у мастера под рукой ни нужных сортов дерева, ни струн. Ничего у него не было. Но музыка не могла умолкнуть, и мастер «вылепил скрипку их хлеба и сплел из паутины струны».
Таким я вижу искусство Шварца. И черный хлеб существа его поэзии, и негромкий, удивительной чистоты и доброты звук человеческого голоса. <…>
Существо романа хотелось сохранить в неприкосновенности, но сцены сочинялись заново. Финалом должна была стать не смерть Алонсо Кихано, а бессмертие Дон Кихота. Шварц, на мой взгляд, его отлично написал.
— Ах, не умирайте, ваша милость, мой сеньор! — упрашивал Санчо, пробравшийся через окно в спальню идальго. — А послушайтесь моего совета и живите себе! (Рыцарь подымал голову с подушки). Умереть — это величайшее безумие, которое может позволить себе человек. Разве вас убил кто? Одна тоска. А она баба. Дайте ей, серой, по шее, и пойдем бродить по свету, по лесам и лугам! Пусть кукушка тоскует, а нам некогда. Вперед, сеньор, вперед! Ни шагу, сеньор, назад!
Два всадника скакали под лунным светом: в железный век они защищали век золотой. <…>
Шварц не мог присутствовать на премьере фильма (5). Он лежал тяжело больной. Я пришел его навестить.
— Я хочу написать сценарий, — приподнялся он с постели. — Начало такое: ночная улица, тихо, прохожих нет. Старый дом посмотрел на другой дом и сказал… Но реплика дома у меня пока не получается.
Больше я Евгения Львовича уже не видел.
2
Из «Рабочих Тетрадей» (6)
«Дракон».
Снять с пикирующего на землю самолета.
Напечатать на 1-й план когти. Чешуйчатый хвост.
И так же меняющиеся маски (Энсор).
А на этом звук скрежета, солдатского топота, команды фельдфебельского гавканья.
Вообще вспомнить «Путешествие на воздушном шаре» (7).
11. XII. 64.
Дракон летит над минаретами Самарканда и небоскребами. Родильные дома. Кладбища. Сумасшедший дом.
Он летит над пустыней — бегут верблюды. Над театром, где играют «Три сестры» или «Лебединое озеро». Над Эйфелевой башней и Вестминстерским аббатством, над Кижами. Полет — тень Дракона.
Время: начало нашего века — до автомобилей. Прохожие с таксами. Тандем (8).
Последний призрачный бал «Покрывала Пьеретты» (9). Сапунов при свечах (10). Идиллия под властью Дракона.
Лирическая философия Шварца, которую пока я еще ни разу не видел в шварцевских постановках.
Начало: портрет Шварца. Текст о дате сочинения пьесы.
(Декабрь 1964 г.)
<…> «Гамлетом» (11) я подвожу итог всей своей жизни. И всему, что увлекало в искусстве, и всему, выстраданному в жизни. Хотелось бы осуществить еще одну работу: историю Христа. Глупости и пошлости многомиллионной киношки библейских постановок противопоставить самую простую и самую мудрую притчу о человеке, попробовавшем принести в мир добро и правду. Историю, где была бы выжженная солнцем земля, простота домотканых одежд, суета торгашей и железо солдат. И где был бы простой, ясный и добрый человек. Лучше этой легенды человечество ничего еще не сочиняло.
Написать ее мог бы Шварц. Жаль, что так мало удалось сделать в «Дон Кихоте». На экраны вышла ничтожная часть того, о чем я мечтал.
(Август 1963 г.)
3
<Тезисы из ненаписанных воспоминаний о Шварце>
Шварц. Трудность рассказа о нем (12).
Бесконфликтная история?
Сложность личного и творческого.
Огромность, своеобразие дарования.
«Добрый сказочник». «Сказка рассказывается не для того, чтобы скрывать, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь» (13).
Без перехода детство соединяется с мудростью.
Человек в Комарове. Спокойная, однообразная жизнь.
Две книги. Большая бухгалтерская (точность описания того, что вблизи, рядом) и в «Драконе». Реализм и сказка.
Тренировка мастерства? Совести?
Взгляд Шварца.
Доброе — и злой взгляд. «Я должен быть жесток, чтобы добрым быть» (14).
Он сказал: «Надо закрыться на переучет, пересмотреть друзей. У X стали песьи глаза. А у Y еще ничего».
Спокойная мудрость веры в человека. Поэзия.
Вот что происходит проверку временем: стекляшки и золото. Масштаб этого творчества.
Оно строилось из прочного материала. Всерьез и надолго.
Из какого же это материала построено? Человечность.
Евгений Калмановский Возможность совершенства
Считаю своим долгом высказать мимоходом твердую хвалу всем безоглядным поклонникам, которых принято осуждать за отсутствие меры и прочие недостатки в поведении.
Но ведь они так решительно забывают о себе, так бескорыстно сосредоточены на своем предмете: артисте, писателе, художнике — с полной затратой душевных сил, а порой и отдачей последних денег на поездку к месту или цветы.
Боже мой, кто же еще столь неистово, столь несомненно поддержит пусть наивной, а то и настырной, но неколебимой преданностью?! Актерам по этой части достается больше. Писателям — меньше. Иногда совсем мало.
Но все-таки обычно кто-то есть. Говорю не о подлипалах, не о льстецах на всякий случай — нет, о достойных людях. «Каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то». Кто-то находится. Может, некрасивый и даже нелепый. А все-таки он (скорей, конечно, она), по моим понятиям, молодец.
Ваше право не соглашаться со мной. Люди так часто не соглашаются друг с другом. Я не буду ни удивлен, ни раздосадован. И от своих слов не откажусь. Прежде всего потому, что опираюсь на опыт жизни, не на охоту к парадоксам, которой не имею.
Может ли человек, не дошедший до крайней степени безоглядной самоотреченности в своем восторге, увидеть в другом, в живом человеке оттенок вечного или, скажу осторожней, долговременного — если иметь в виду, что этот другой ни в какой реестр не внесен, ничем не отмечен?
Боюсь, нет. Разве только в форме чрезвычайно слабых и неуверенных предположений. Тем более если ты сам — литератор, музыкант, живописец и так далее. Каждый из них вольно или невольно занят собой, поглощен своими заботами, своими тревогами. Где уж тут выдавать прочные исторические авансы другому? Более или менее признаешь в целом, как-то считаешься — уже хорошо, уже замечательно.
Евгения Львовича Шварца, как и своего учителя, я любил с истинной страстью. Но, мне теперь кажется, без должной исторической перспективы.
По соединению восторга и мучений (ни Гуковский, ни Шварц во втором нисколько повинны не были; это я сам, в силу собственных качеств, сомневался, робел, усложнял) мои чувства не уступали любви к женщине, той сверхлюбви, когда в неустанной лихорадке возлетаешь над обычностью и томишься счастливой тоской без границ и скорых конкретных притязаний.
Но и такая любовь — говорю теперь об отношении к Шварцу — не помогла мне вполне твердо рассмотреть в уже немолодом и нездоровом современнике способность к долгой жизни («Нет, весь я не умру…») (1).
Сам Евгений Львович посчитал бы чудовищной пошлостью говорить о себе важным тоном, с пышным самоуважением, как-то выдвигая свое значение. Все это для него было ни в какой ситуации невозможно.
Славы же не было и в помине. Была любовь не слишком широкого круга людей. В народе повторяли отдельные шутки из «Снежной королевы», из «Золушки». Но то, что именуют славой, при жизни так и не явилось.
Газета запоздала с откликом на первую постановку «Повести о молодых супругах». Вышла моя статья почти через два месяца после того, как Евгения Львовича не стало (2).
Уже сама смерть что-то досказала. Как ни печально, но это так.
Написал в газете: «Шварц был одним из остроумнейших людей своего времени». Почтенный театральный критик старшего поколения, встретив меня, пожурил: что за тон, так не пишут про тех, кто не Щедрин или Чехов. Чуть ли не на другой год пьесы Шварца принялись ставить у нас и в разных других странах, их издали. И о нем самом заговорили как о признанном, бесспорно вошедшем в состав замечательных наших соотечественников. Спустя восемь лет после смерти Евгения Львовича вышла в свет книга воспоминаний «Мы знали Евгения Шварца».
Справедливость набирала темпы.
Если бы Евгений Львович мог хотя бы только догадываться, что такое вот-вот будет! Уверен: не предполагал нисколько. Жена его Екатерина Ивановна сказала тихо, горько: «Как это ему нужно было!»
Конечно, нужно, еще бы. Но Шварц ничего не делал ради того, чтобы ускорить явление славы. Он просто был до последнего часа самим собой.
Известные мне портреты Шварца как-то не вполне хороши. Узнать его по ним, конечно, можно. Но отчего-то появляется взгляд, осанка видного актера.
Смолоду Евгений Львович действительно был артистом театрика, родившегося в Ростове-на-Дону под названием «Театральная Мастерская». Начавшись в 1918-м, Мастерская осенью 1921 года перебралась в Петроград, а с середины следующего года прекратила свое существование.
Всю оставшуюся жизнь Евгений Львович был известен преимущественно как сочинитель пьес. Это обстоятельство подтверждает мою старую и не такую уж научную идею насчет того, что драматургами людей делает особая привязанность к театру, к этому приманчивому, такому нескучному миру.
На самом деле между дарованием драматурга и автора прозы, как показывает опыт, во всяком случае, двух последних веков, нет абсолютного, нет даже решительного различия. Пьесы писали Чехов и Лев Толстой, Лесков и Щедрин. Стихов они не писали. Не считая шуточных, для домашнего употребления. Драматургию считаю разновидностью прозы, приобретающей своеобразие благодаря определительному интересу писателя к сцене, к искусству театра.
Но я начал о портретах.
Мне выпало знать Евгения Львовича последние два с половиной года его жизни.
В 1955-м, осенью, до того прожив, проработав после университета пять лет в родном Саратове, я опять стал ленинградцем. Теперь уже навсегда.
Времена сильно изменились. Но о Григории Александровиче Гуковском оставалось только вспоминать. Я же в душе не расставался с ним ни на миг, как, вероятно, и многие другие.
Теперь жизнь во второй раз поддержала немыслимо щедро.
Бывший мой соученик по Ленинградскому университету и замечательный друг, не оставлявший меня и в Саратове подробными письмами, Сережа Владимиров познакомил со Шварцем.
Евгений Львович уже был полным, тяжеловатым. На старых фотографиях видел его худым. Говорят, он был таким долго, до предвоенных лет. Но и на старых фотографиях чего-то самого главного в облике не хватало. Какая досада, что Евгения Львовича не снимали кинокамерой (или, может, где-то что-то есть?). Неподвижность фотографии не идет ему. Лицо не живет, не глядят ни на кого глаза. По отношению к Евгению Львовичу это-то и неверно. Неверно — самым решительным образом.
Чем дольше живу на свете, чем основательней узнаю людей, тем с большим восхищением, даже изумлением вспоминаю его глаза.
Были они красивы? Наверное. Но в конце концов красивые глаза не такая уж редкость. А здесь дело совсем в другом.
Серьезно больной (в мое время — острая сердечная недостаточность, третий инфаркт в 1957 году, постоянные плевриты), с издавна затрясшимися руками (писал он все на машинке, а чашку или рюмку держал обеими руками в обхват), Шварц смотрел на явления жизни мудро и весело.
Да, да, глаза его я помню только веселыми, внимательными, мудро-спокойными и даже счастливыми.
Казалось, весь мир в них, все люди, книги, все добрые новости, все умные мужчины, милые женщины, здоровые любознательные дети, все отзывчивые собаки, ласковые кошки. О собаках и кошках упоминаю отдельно, потому что они у Шварцев водились. Но останавливаться на них неверно. Надо — и так далее, и тому подобное. Имея в виду все что ни есть хорошего, занимательного, дающего жизни силу и обаяние.
Готовности узнавать, радоваться, удивляться было в глазах через край.
Без наивности, разумеется, без птичьей самозабвенности.
Об этом смешно говорить, но испорченное дурными примерами воображение постоянно подсовывает какие-то глупейшие картины: вот и так, мол, способен кто-нибудь понять предлагаемый текст.
Пятью абзацами выше я назвал болезни Евгения Львовича последних лет. Назвал их со слов Натальи Евгеньевны Крыжановской, единственной его дочери. Дико признаваться, но за тридцать лет я забыл, что Шварц тяжело и подолгу болел, не выходил никуда. Как я ни стеснялся, ни робел, перед каждым телефонным звонком долго мялся: вдруг окажусь в тягость, невпопад — не мог же я по три месяца быть в неизвестности. Но памятью полностью завладело мое ликование и образ завидно полножизненного существования Евгения Львовича.
Земную жизнь пройдя намного далее половины, я по-прежнему считаю его лучшим из людей. Больше всего на его примере основалась моя вера в возможность человеческого совершенства. Понимаемого не с сухой докторальностью, а исходя именно из представления о полноте житья-бытья.
Не знаю, всегда ли Шварц был таким. Но, взглянув ему в глаза, я верил: несмотря на трудную, порой жестокую свою жизнь, он сумел задуманное совершить и все, что положено человеку, вволю пережить и испытать, вместить, перечувствовать, обдумать. То есть все это не прошло, не проехало, а было с ним, в нем.
Не было знаков неудачливости, обиженности, обойденности. А обид, и непонимания, и умалчивания встретилось много. Я еще о них скажу. Но начинать с них было бы неправильно.
Сравниваю Евгения Львовича с другими близживущими.
Как все-таки часто мы бываем на удивление топорны! — думаю я и горюю. Сколько нелепых ошибок сделано и вновь совершается. Сколько в нас внутренней несерьезности, неестественности, невнимания, негибкости, нечуткости; и еще «не» да «не»…
Евгений Львович же был из тех пока, увы, немногих, кто сотворяет свою жизнь. Он час за часом строил себя сам, и строилась его жизнь с огромной затратой сил, однако же не производящей, как мне казалось, нервную тряску ни в самом Шварце, ни вокруг него. Каждый час его жизни поистине был сотворен. С умом и вкусом.
Дурное воображение опять останавливает мою руку.
Нет, нет, вы поступите совершенно неправильно, если представите себе, читая мой рассказ, кого-то монументального, отдающего должное несомненной собственной недюжинности, неустанно и многозначительно очерчивающего вокруг себя священный круг, дабы не слиться с прочими.
Одна знакомая дама назвала Евгения Львовича, любя, шармером — словом французским (сравните более вошедший в наш обиход «шарм»). Что ж, можно, вероятно, и так сказать при желании.
Он был почти профессионально обаятелен. Со всем, что его занимало, он вступал в особые отношения, простые и славные, тесные, открытые. Всегда находился естественный ход к другому. И этот найденный ход лечил его самого, снимал многие душевные муки, хотя, ясно, вовсе устранить их не мог.
Видимо, именно этот ход к людям прежде всего и делал Евгения Львовича очевидно светлым, таким гармоничным.
Думаю, и с пятилетним ребенком он говорил нормально и просто — так, как говорит один душевно расположенный и заинтересованный человек с другим человеком, который ему интересен.
Шварцу могло быть интересно и не интересно. Он мог одобрять или иронизировать. Но никакие привходящие обстоятельства (возраст, чин, профессия и прочее) не влияли на его взгляд.
Пожалуйста, постарайтесь понять меня до конца.
Неумно было бы, например, утверждать, что в поведении Евгения Львовича не наблюдалось никакой важности, чопорности.
Он был слишком сложно и прекрасно устроен судьбой и самим собой, чтобы имело смысл говорить о таких простейших достоинствах.
Когда сейчас вижу маститого литератора, который с осанкой дружелюбия, но одновременно снисходительно и не без чуть затаенной опаски за свой авторитет не разговаривает — беседует с молодым коллегой, мне становится смешно и неловко. Ведь я знал Евгения Львовича.
Не идет еще у меня с губ, скажем, слово «такт» по отношению к нему. Не в такте было дело, не в одних достоинствах воспитания и самовоспитания — а в живом и личном интересе, движении к людям.
На этом фоне меня потрясают писатели иного строения. Они как будто интеллигентны (более чем!) и за правду стоят. Но часовые их интервью — и только о себе, всегда о себе!! Почти никогда не встретишь в этих беседах другую человеческую фигуру — о ком сердце болит, кого обижают, кто, напротив, тебе помог, понял, обогрел, дал денег взаймы в тяжелый год. Что это, как это?! Если такие писатели, чего же ждать от читателей!
Среди опубликованных записей режиссера кино и театра Григория Михайловича Козинцева в четвертом томе его сочинений можно найти выразительное соединение имен. Козинцев пишет: Христос — «простой, ясный и добрый человек» (разумеется, эти слова — не всё о Христе, а то, что Козинцеву надо было для себя заметить в свете определенной рабочей цели). Потом дальше: «Лучше этой легенды человечество ничего еще не создало.
Написать ее мог бы Шварц».
По сценарию Евгения Львовича Козинцев снимал фильм «Дон Кихот». Вероятно, это и было время наибольшей их близости. Козинцев получил прекрасную возможность понять, чего стоит по-человечески Шварц.
Здесь я круто вернусь к ограниченному опыту моей собственной жизни. Итак, я снова стал жить в Ленинграде.
Не знаю, заинтересовала ли Евгения Львовича во мне какая-то имевшая место индивидуальность. Человек позднего развития, я был в те годы все еще чуть-чуть начинающим по всем линиям, почти ничего не мог представить как литератор — говорю о количестве опусов. Так что если кой-какая индивидуальность и залегала во мне, как было ее углядеть?
Тогда, может, я стал для Шварца, так сказать, типическим голосом нового поколения? Не знаю.
Если только поколение, то, в конце концов, нас было много.
Ладно, буду думать, что и сам по себе я чем-то мог Шварцу показаться. Нет — пусть нет.
Во всяком случае, так или иначе, сначала я один, потом вместе с женой Даней стал бывать у Шварцев. Нас иногда призывали, кормили и поили. Постепенно доброе знакомство вошло в обычай.
О том, что у нас родился сын, Екатерина Ивановна узнала, собравшись в Комарово, на дачу, которую Шварцы снимали несколько лет подряд. Евгений Львович в тот раз из Комарова в Ленинград не приезжал.
Через какое-то время у нас послышался междугородный телефонный звонок (автоматической связи тогда не было), и Шварцы стали радостно предлагать имена, придуманные для нашего сына в созвучии с предстоящим ему отчеством. Мы сошлись на обоюдном желании назвать его Александром.
Екатерина Ивановна поздравила нас еще в Ленинграде, и вовсе необязательно было им обоим думать о нас в Комарове. Если иметь в виду такт, вежливость, общую интеллигентность и так далее. Но тут — другое.
В 1955 году взялись наконец готовить первую в жизни Шварца книгу его пьес (немногие отдельные иногда печатались). Он позвонил и спросил, кажется ли мне удачным название для сборника — «„Тень“ и другие пьесы». Я ужасно смутился. Мне казалось нахальством поверить в то, что Евгению Львовичу действительно как-то важно было мое мнение. Потом понял, что важно. И опять не во мне соль — в привычке замечать окружающих и разделять с ними то, что можно разделить.
После премьеры «Повести о молодых супругах» у Николая Павловича Акимова в Театре комедии (Шварц по нездоровью там не был) мы с женой побежали к ближайшему телефону-автомату позвонить Евгению Львовичу. Дома тоже был телефон, но теперь мы не сомневались: надо звонить как можно скорее, Евгений Львович ждет.
Позвонили, рассказали.
Каждую фразу Шварц повторял для Екатерины Ивановны, которая стояла рядом. Помню, я решил подсыпать к своей радости критического элемента. Говорю: в чтении пьеса казалась мне менее способной задевать зрителей. Он и эти слова повторил жене.
Шварц понимал: неслужащему литератору, особенно начинающему, то есть мне, часто приходится туго по линии финансов. Хоть я и не жаловался, он несколько раз уговаривал меня взять у него денег взаймы. А мне и вправду нужно было до крайности. Но я отказывался. Наконец решился, позвонил по телефону, потом пришел. Сказал, сколько надо денег. «Прекрасно, — ответил Евгений Львович так, как будто я делал ему нечто приятнейшее. — У меня случайно оказалась дома именно эта сумма».
Когда чувствовал себя лучше, он сам ходил по магазинам, покупал всякие вкусные вещи; угощая, привставал из-за стола, кланялся с комической серьезностью и говорил: «Кушайте, пожалуйста!» Ему нравилось угощать.
Однажды вечером мы собрались уходить от Шварцев, а Елизавета Александровна Уварова, артистка Театра комедии, с которой они дружили, оставалась. «Ну ладно, идите, — сказал Евгений Львович. — А мы тут вас обсудим…»
Другой раз, сговорившись, как обычно, по телефону, я приехал к нему ненадолго, то ли привез какую-то интересную для него книжку, то ли другое что. Привез, поговорили немного, я собрался домой. Евгений Львович сказал: «Хорошо, а то я буду сейчас принимать ванну. Принимать же сразу вас и ванну…» И улыбнулся очень хорошо: мол, не робей, дело житейское.
Конечно, все это мелочи, пустяки, но для меня они полны значения.
Вот знакомство с Евгением Львовичем и заставило меня окончательно поверить в возможность человеческого совершенства — разумеется, относительного. Моим упованиям и предположениям пришла сильная поддержка.
Я думал: удалось же Евгению Львовичу, смог ведь он своевременно образовать себя, осветить все темные закоулочки души, выгнать из нее тусклое, корявое. Стало быть, продолжал я размышлять, все дело в том, чтобы вовремя возжечь светильник разума и расстараться привести себя в наиболее благородное состояние.
Пример Евгения Львовича позволял также надеяться, что к старости, то есть ко времени, пугающему молодого человека частой своей некрасивостью, не приобретают дурных привычек. Если же они есть, то, должно быть, завелись раньше. Только их удавалось долго скрывать, маскировать. Но к поздним годам они воспользовались общим ослаблением организма, вырвались из-под контроля, обострились и обнажились. Не будет в тебе всякой пакости — нечему обнажаться станет.
Легко сказать. А все же — блажен, кто верует.
Моим нервам сам облик Евгения Львовича оказывался целителен. Его мудро-спокойная и шутливо расположенная повадка лечила и учила.
Особенно помогал ему быть таким прекрасным юмор. С годами он приобрел привычку — вряд ли он мог ее иметь в пять или в десять лет — юмором всех оттенков и степеней пронизывать едва ли не любое свое слово и действие.
Говорю сейчас опять лишь о бытовой сфере, которая более или менее была мне открыта; но наслышан и о замечательных публичных речах, в мое время уже исключительно редких.
Как известно, чувство юмора (а не производство бойких шуток, которое как раз может не иметь отношения к хорошо развившемуся чувству юмора) прямо связано с умом, желанием правды и свободы и способностью их распознавать.
Настоящий юмор исходит обычно из живой, подвижной двойственности взгляда на многие предметы. С одной стороны — и с другой стороны.
Там, где индивид-монолит видит бесспорное, несомненное, там человек с органической способностью к юмору находит противоречивое, движущееся, спорящее с самим собой.
Женя Биневич, Евгений Михайлович, долгие годы старательно собирает все, что имеет отношение к Шварцу. Как-то он опубликовал отрывки из разных статей и выступлений Евгения Львовича (3).
В небольшой статье начала тридцатых годов о драматургии для детей есть такое: «Сказать о себе: „Я — писатель“ — всегда несколько неудобно. В каждом почти сидит смутное ощущение, что слово „писатель“ определяет не профессию, а некое высокое свойство человека. Сказать о себе: „Я — писатель“ — так же неудобно, как сказать: „Я — красавец“. Называя человека „писателем“, каждый невольно этим как бы титулует его».
Шварц любил Чехова, и сходство тут прямое. Но дело не в том.
Юмор легко принимает во внимание возможность различных взглядов на одно и то же. Он замечает неловкое и нелепое там, где другому ни за что не предположить ничего подобного. Истинный юмор противоположен самодостаточности и слепоте по отношению к живущим рядом.
Едва ли не всю жизнь Шварцы жили небогато. Только в самые последние годы дела пошли лучше.
В связи с этим решено было сшить Евгению Львовичу сразу два костюма и тем самым, выражаясь по старинке, привести в порядок его гардероб.
По этой части Шварц в тот момент не был избалован. Тем более хотелось, чтобы костюмы сшили хорошо.
Тогда в Ленинграде появился портной, кажется, из Таллинна. Звали его Павел Иванович Левак. Разные знакомые горячо хвалили его работу. Я нашел к нему путь, привел к Евгению Львовичу. Леваку новый знакомый страшно понравился; он, кажется, сшил один костюм, потом взял у Шварца вперед немалые деньги, чтобы купить подходящий материал для второго и еще на что-то. Больше мы портного не видели. Он исчез. Я был совершенно убит всей историей, дурацкой своей рекомендацией, пытался найти Левака, но его и след простыл.
Долго еще я вздрагивал при воспоминании об этом сюжете.
Евгений Львович, понимая мои страдания, старался развеять их шуткой.
В письме в Саратов, где я жил летом, он писал: «Задумал большую пьесу в пятнадцати актах „Портной-невидим „Вечный эстонец““ (продолжение романа Евгения Сю „Вечный жид“), или „Хорошо в раю жили, там костюмов не шили!“, или „„Павел Иваныч, молился ли ты на ночь?““
Вы спрашиваете — не подыскать ли портного в Саратове? Подыщите. Хуже не будет. Впрочем, я не сержусь. Поведение Павла Ивановича похоже на занимательный газетный роман с продолжениями, которым не видно конца. Правда, газетные романы обычно кончаются благополучно, чего нельзя сказать о моих костюмах».
Трудно, а может, и не нужно слишком долго повествовать о чувстве юмора и том его значении, какое проявлялось в словах и поступках Евгения Львовича.
Предпочитаю отослать читателя к лучшим его пьесам. Они очень похожи на автора. Об этом тоже скажу, но тоже позже. По тому, что я здесь нарассказывал, — опять игры подозревающе-подозрительного воображения, — не дай бог, кто-нибудь теперь представит себе Евгения Львовича высокоцивилизованным, исполненным улыбки, даже сахарным любезником. Вот уж чего не было.
Говорю о сути человеческой, не о поверхностных впечатлениях видимой округлости или остроугольности поведения. То есть, проще говоря, касаюсь не того, кому что показалось, кто что увидел при мимолетных встречах. Касаюсь главного, залегшего в глубине душевной.
От Шварца слышал слова из Библии: «Если ты горячий или холодный, я тебя приму; если теплый — извергну». Так Евгений Львович передавал взволновавший его текст. Мне он сказал эти слова не между прочим, а твердо так, как необходимую заповедь: учти, мол, и руководствуйся.
Сам он бывал горячий или холодный по отношению к людям и событиям, но быть теплым почитал за прямое неприличие.
При всей живости, непреднамеренности подхода и взгляда, при всей сложности понятий и обширности сомнений — ничего недооформленного.
Путать черное и белое, необходимое и пустое, свое и чужое — такого не хотел, не мог, боялся как огня.
Из чего, разумеется, не следует, что ему не доставляли радости часы легкого безделья или случайные разговоры с случайно встреченными людьми.
Одно дело — любить то и се, другое — путать все со всем соответственно сегодняшнему своему умонастроению. От Евгения Львовича узнал впервые популярное определение: «Хороший человек — тот, кто хорошо ко мне относится». Он сказал это насмешливо. Хотя применительно к себе. Вряд ли есть на свете хоть один человек, над которым была бы не властна эта расхожая мораль насчет «хорошего человека».
Властна, да. Кому не приятно, когда его хвалят или делают ему существенные любезные услуги, — тут и говорить нечего.
Здесь была для него область душевных принципов.
Друзей с дальними знакомцами никогда не путал.
Считал настоящими друзьями только тех, кого звал в свой дом или к кому сам наведывался.
Все это легко понять в свете его постоянного внутреннего сопротивления душевной мякинности или там пластилинности.
Знаете, что я заметил?
Вероятно, то же, что раньше и лучше меня выяснил Евгений Львович.
А именно: люди часто говорят собеседнику то, чего он от них ожидает. Ставят в уме моментальный прогноз в целях наибольшего самосбережения. Говорят то, что, по их мнению, будет для другого человека всего удобней, всего съедобней без разжевывания.
Даже если собеседник довольно-таки спокоен, настойчиво не вымогает особых одобрений, все равно — как заведенные: «Да, это хорошо, это верно, это — то, что нужно: да, вы достигли; да, вы поступили (вели себя, поработали) хорошо; да, конечно, согласен с вами, только с вами, конечно же — с вами…»
Иной раз человек, привыкший к уклончивой любезности как закону общения, уже и сам не знает, как верней подпеть другому. Его прямо шатает: «Да-а-а?» — «Да-а-а…»; и после тряски такое насильственное, но безапелляционное: «Да!»
Как часто, как просто человеческая жизнь превращается в кашу навязанных обстоятельствами встреч, необязательных разговоров, вялых снисхождений, скорых приговоров, назавтра так же скоро пересматриваемых. Как легко поддаться беспокойной реке дней, она тащит тебя за собой, она вертит тебя — а ты только знай исполняй ее волю, да не забывай при этом считать, что ты все равно молодец.
Григорий Михайлович Козинцев в набросках предполагавшейся статьи о Шварце вспомнил: «Он сказал: „Надо закрыться на учет, пересмотреть друзей. У X стали песьи глаза. А у Y еще ничего“».
Вот точнейший Шварц, просто одна из главных возможных формул его. К этому припоминанию Козинцев добавил еще слова, на сей раз — из «Гамлета»: «Я должен быть жесток, чтобы добрым быть».
Когда был разговор, записанный Козинцевым? Вероятно, ближе к середине 1950-х.
Я был поражен, увидев среди журнальных публикаций Биневича то, что сказал Евгений Львович в письме 1924 года к Михаилу Леонидовичу Слонимскому. Это письмо, на которое обращаю ваше внимание, Шварц написал, живя в Бахмуте. Ездил туда заняться журналистской работой.
Так вот, в письме сказано: «Я стал глупым, всепрощающим. Сплю без подушки — такие у меня мягкие мозги. Ем траву. Целую. Пиши» (4).
Стало быть, он, оказывается, всю жизнь беспрерывно ужасался по тому поводу, что человек просто даже невзначай может превратиться в какой-то мешок тускло мыслящей мякины. Или таким родиться.
Нельзя путать то, что есть, что в наличии, и то, чего хочешь, чтобы было. Хоть плачь, хоть волосы рви — нельзя.
Одно дело не жалеть на людей «ни одеяло, ни ласку», как утверждал Маяковский.
Другое дело — видеть в них несуществующие достоинства и доблести.
Вот этого делать нельзя. Не из какого-то сугубо головного принципа. А потому, что стыдно, до омерзения противно стать «глупым, всепрощающим», растечься «мягкими мозгами» близ людей и прочих явлений твоей жизни. Будь горячим. Или холодным. Но не кой-каким, мягоньким, варененьким, тепленьким.
Забвение, короткую память, невникание в суть Евгений Львович почитал за низость. Он крепко держал в себе встреченное в жизни хорошее и плохое. Чтобы в душе были магнитные полюсы, а не беспорядочная свалка случайно застрявшего и произвольно осевшего.
В последние годы жизни Шварц рассказывал о своих гневных вспышках — не частых, но сильных. Говорил, что в отличие от многих других людей он в гневе не краснеет, а бледнеет. Мне за этими словами ясно послышалась гордость даже: все-таки не стал он теплым, несмотря на годы и болезни!
Когда дарил мне сборник пьес (5), написал дрожащей рукой: «Евгению Евгений для чтения и размышлений».
Я был, естественно, счастлив. Вообще отношение Евгения Львовича к себе рассматриваю только как щедрый и, быть может, чрезмерный подарок судьбы.
Однако при всех этих высоких чувствах мелькнула подлая мысль: кто-нибудь увидит подпись и не поверит, что она адресована именно мне. Учась искренности (все в глаза, ничего за глаза про близких людей!), деликатно сообщаю Евгению Львовичу: вот, мол, можно подумать, что надписано не обязательно мне, а еще, допустим, такому-то. Я назвал одного ленинградского писателя, Шварцу знакомого. «Ну, нет, — сказал Шварц, весело улыбаясь, — он от меня книжки не получит…» Я почувствовал себя вдвойне счастливым, не считаясь с тем, что, может быть, надо активней растить в себе скромность и давить всякую гордыню.
Да не в гордыне ничьей здесь соль. Энергия (характерное слово Шварца применительно к внутренней жизни и творческим предприятиям), энергия его собственного душевного существования была высокой. Высочайшей.
Всегда очень непросто одобрять кого-нибудь за выдающийся ум.
Неизвестно ведь, располагаешь ли ты сам хоть дюжинным да верным.
А не располагаешь, так как же судить?! Точного измерителя нет. За долгую жизнь наслушаешься всякого: и умен ты, и дурак. Кто же произнесет окончательное суждение?
Отойду все же от привычки к самокопательству и разнообразным сомнениям. Допущу, так сказать, в рабочем порядке, что судить смею.
Ну, а коли смею, то, по моим нынешним понятиям, нет ничего сильней, мужественней, тверже, надежней человеческого ума.
Не верю в совесть без ума.
Не верю в честь и достоинство без ума.
Все это чем-то неразделимо связано. Пусть, как говорится, ученые объяснят. А я что знаю, то знаю. Ум — это ничем не ослабленная способность, четко различив, отодвинуть от себя манерность, фальшь, ложь — большую, малую, крупномасштабную или мимоходом явленную.
Все оттенки — уже потом, после того, как схвачено главное.
Только умному хорошо видно, что относится к сфере жизненной пены и не стоит гроша ломаного по своей пошлой искусственности.
Не надо думать, что такие различения очень просты и открываются на бегу.
Лишь в живом уме нет ничего косного, стылого, навсегда осевшего, неподвижно закрепленного.
И лишь у умного в отношениях с жизнью нет ничего студневидного или киселеобразного.
Ум не обнаружишь у сухого, скудного натурой человека. Что это будет за ум, помилуйте!
Ум растет и зреет в том, кто живет по-настоящему, ничего не обходит, ни от чего не уклоняется. Не то, что во все влезает, куда ни попадя. Но все видит, замечает, вбирает.
Это и есть истинная энергия существования. Утирая слезы и держась непроизвольно за самые ушибленные места, энергично существующий просто не способен не думать обо многом на этом свете. Таков естественный и постоянный способ жизни, дающий смысл чувствам и действиям.
Вероятно, Шекспир, если только он на самом деле был, отличался исключительным умом. Да и как бы иначе ему так сохраниться до наших дней? Вы слышали последние полвека: Шекспир устарел? Никто даже не решается так подумать.
Что бы ни изобретали шекспироведы насчет Гамлета в «Гамлете», прежде всего это история об умном человеке, о превратностях ума. Шекспир хорошо здесь разобрался, отважился быть просто мудрым, без выкрутас, которые соблазняют многих пишущих.
Кто еще, если не другой умный, не умнейший человек, мог сказать: «Я стыжусь — следовательно, я существую»?
Неустанная деятельность духа не дает такому человеку стать плоским, сбитым в камень, уложившимся в дощечку. Он существует — и одновременно упорно стыдится своего несовершенства.
Словом — ум, похоже, есть высшая сила и высшее достижение человеческой природы. Прихожу к такому выводу, наглядевшись тьму всякого народа в течение жизни.
Но я пустился уже в чистые рассуждения, оторвался от того, кто к ним направил. Пора возвращаться.
Замечу ради истины, что я совсем не берусь приписывать Шварцу цельность и непротиворечивость большую, чем это возможно. Ничего нарочного не надо. Евгений Львович написал о Корнее Ивановиче Чуковском и «Белый волк», и «Некомнатный человек». Одно с другим сходится, однако не совсем (6).
Всегда, неизменно, без вариантов Шварц восхищался Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, его жизнью. Рассказывал разные случаи, говорившие о благородстве Шостаковича, внимательности его к людям. О силе понимания вещей.
Поражало, что Шостакович иногда по должности (его всегда — почти всегда — куда-то назначали и выдвигали) произносит какие-то безупречно казенные речи и подписывает такие же статьи.
Евгений Львович это, разумеется, видел, но со своего не сходил. Говорил примерно следующее: Дмитрий Дмитриевич идет на такие слова как на выполнение ритуала, не относящегося к сути людей и дел. У него нет душевной возможности растрачиваться на этот антураж. А отстать от должностей не решается, точней — боится. Очевидно, надеется тем самым защитить себя, свои музыкальные сочинения от разгромов, уже не раз бывавших в тридцатые и сороковые годы.
Кстати скажу: не хочу делать из знакомого мне и любимого Евгения Львовича некое нормативное орудие суда и оценки.
С Шостаковичем я знаком не был. Откуда мне знать, каким он был у себя дома, с семьей, с друзьями? Кто-то знает, кто-то должен рассказать. Издали же каждому было ясно, что это за нервный по своей ежесекундной тревожной отзывчивости человек — отзывчивости на окружающих, на многолюдье вокруг, на резкие звуки. Взгляд был беспокоен, движения изящны, но пугливы.
Шостакович был другой, жил по-другому. Евгений Львович увидел в нем гениального современника, говорил с восхищением и сочувственной болью.
Еще он высоко ценил Николая Павловича Акимова за мужество и выдающийся ум (он сказывался не столько в его театральных постановках даже, сколько в речах, литературных работах, в обычном поведении).
Рассказывал Шварц об Эрасте Павловиче Гарине как достойнейшем из людей. Однажды Гарин весь свой отпуск потратил на то, чтобы доехать до Николая Робертовича Эрдмана, жившего в далекой ссылке, обнять его и отправиться обратно. Как раз уложился в отпускное время.
Не забывайте, что между мной и Евгением Львовичем пролегали многие годы, совершенно разные впечатления жизни, моя скованность и осмотрительность. Хотя бы лет на пять позже я повел бы себя смелей, расспрашивал настойчивей, откровенней. Но что теперь об этом говорить.
Такая важная, тем более для Шварца, область, как отношения с друзьями, близкими и дальними, да и кто к концу жизни был самый близкий, кто дальний, — все это осталось мне плохо известно. Шварцы не имели привычки, свойственной многим другим людям, собирать к столу гостей по неточным, случайным признакам. И не имели привычки собирать их сразу помногу. Так что обычно мы с женой оказывались вдвоем рядом с Шварцами. Изредка кого-то еще одного хозяева добавляли к нам.
Каким Евгений Львович бывал с теми, кого знал давно?
Удивило опубликованное письмо его Акимову от марта 1944 года. Там обращение «Николай Павлович», «Вы». Правда, Елена Владимировна Юнгер, жена Акимова, утверждает, что позже они были на «ты». Если так, почему же не тогда, почему позже?!
Помню, что Шварцы дружили давно и тесно с Заболоцкими, жившими уже в Москве (7). Я слышал, что у Николая Алексеевича Заболоцкого очень тяжелый нрав. Спросил Евгения Львовича. «Как у всех гениев», — отозвался он, по обыкновению чуть шутливо. «А как же вы?» — «А я не гений», — так же ответил Шварц.
Но чего стоят мои мелкие припоминания и вопросы на тему «Шварц и другие», когда им самим написаны изумляющие литературные портреты знакомых. Нет, не портреты — разборы, что ли, вникания, проникновения. Так безоглядно, безгранично правдиво, сильно, рельефно об известных людях никто, кажется, у нас не рассказывал.
В обиходе же Евгений Львович имел привычку передавать характерное для человека кратчайшим образом, с конкретной деталью. Долгих плавных речей он вообще избегал, это не его жанр.
Вот что запомнилось.
Про одного театрального режиссера, изредка сочинявшего пьесы для детей: тот в сталинские времена, испив вина на дружеской вечеринке, обнимал и целовал бюст Сталина. Если учесть давнее: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» — обнаруживаются поразительные глубины.
О сверх всякой меры возносимом «писателе-современнике», авторе романов и пьес (истинную цену его созданиям Шварц знал отлично): выступая перед театральной труппой, он произнес устало: «У нас, у мастеров, у каждого своя манера работать…» Евгению Львовичу эти насаждаемые маститые казались, вероятно, обитателями другой Галактики.
Про литературного критика, к которому в общем относился с симпатией: «Встречаю его сына. Спрашиваю: „Как дела? Как папа?“ Он отвечает: „Ничего. Хорошо. С папой в шашки играем. Только он жилит всегда!“»
Про другого критика, театрального, к которому уже относился без дружелюбия, придумал, что он-де безостановочно говорит или пишет, а выспаться успевает между словами.
Сильное, прекрасное в Евгении Львовиче надо брать на фоне более чем трудной его биографии. Только тогда все обрисуется и может быть понято вполне.
Человек такой чуткости, такой совестливости, с таким чувством нескладного, конфузного, казалось бы, должен быть оберегаем с удвоенной заботливостью. Но таких-то обычно и не укроют вовремя, и не защитят.
Другие требуют от тех и сех того и сего, всеми правдами и неправдами добиваются специального внимания. А эти, видите ли, заняты: они стремятся к совершенству. Вот и попадают прямиком под всевозможные ветры и метели.
Когда будет написана обстоятельная биография Евгения Львовича, из нее станет окончательно ясно, что каждая его пьеса, каждый сценарий несли автору многообразные неприятности. Их не понимали, не принимали. Требовали решительных переделок. Засыпали градом раздраженных и отеческих советов. Порицали, распекали. Отвергали.
Написанное Шварцем в основном лежало, лежало годами. А кого только тем временем не выводили к читателям и зрителям курьерским ходом!
По сути дела, при жизни его пьесы, не считая немногих детских, ставил один Акимов.
Он же, наряду с некоторыми другими театральными людьми, поддерживал Шварца в годы войны, когда Евгений Львович и Екатерина Ивановна жили совсем бедно, плохо.
В Москве наездом Ленинградский театр комедии показал премьеру «Дракона». Премьерой все и кончилось. Спектакль приказано было исключить из репертуара. Шли зловещие обсуждения-поношения.
Вместо «Литературной газеты» и других тогда издавалась одна общая — «Литература и искусство». 25 марта 1944 года она поместила, статью известного в ту пору писателя Сергея Бородина (Амира Саргиджана) «Вредная сказка» — о пьесе «Дракон». В статье утверждалось: «очень сомнительный урок преподает сказка Евгения Шварца»; «вредная антиисторическая и антинародная, обывательская точка зрения на современность»; «беспардонная фантастика Шварца, которая выдает его с головой»; «пасквиль»; «клевета».
Только человек, живший в те времена, вполне поймет, как это страшно. Как скверно было Евгению Львовичу. Слава богу, рядом Акимов и Театр комедии. Это потом, позже, у Акимова отняли театр с участием доброхотов из самой труппы.
В связи с «Драконом» можно было ожидать чего угодно.
Кое-кто из друзей Шварца в тридцатые годы был арестован и отправлен в ссылку. Круг сжимался. Евгений Львович уничтожил хранившиеся у него списки стихотворений близкого человека Николая Макаровича Олейникова. Рассказывал мне об этом с безысходным стыдом.
Ирина Валериановна Карнаухова вспоминала: в тот день, когда Зощенко исключали из Союза писателей и всячески шельмовали, она увидела Шварца, вышедшего из зала, где шло собрание. Евгений Львович стоял на лестнице Дома писателя и плакал. Он действительно ничего не мог сделать. Решительно ничего, кроме домашним образом сказанных слов. Если бы он произнес их на собрании, это бросило бы только еще более густую тень на Зощенко: вот какие люди (автор «Дракон»!) его поддерживают, не им ли и заморочены их головы?! Уж не говорю, что сделали бы с самим Шварцем.
Шварца спасало то обстоятельство, что его принимали за чудака. За человека, который не умеет, не способен ориентироваться в обстановке.
Он не включался сам и не был втянут волей судьбы в соревнования на соискание почестей и известности. Получал мало, имел мало. Все это и давало возможность более спокойно его оценивать, как бы вынести за скобки, поставить вне ряда особенно опасных, тех, кто оттесняет или хотя бы способен оттеснить от щедрот.
Все-таки гонения происходили.
В предсмертном бреду тяжело умиравшего Евгения Львовича всплыло имя писателя (писателя? негодяя!), запятнавшего себя, наряду с прочими гнусностями, злющей активностью в тяжкую пору так называемой «борьбы с космополитизмом». Тогда и Шварц хлебнул в очередной раз горя. И опять последний удар миновал его.
Обязательный, с искренним чувством долга своего перед другим, а не других перед собой (не говорю, что такого совсем не было, но тогда уж редко и на дальнем плане), он мучился тем, что жизнь не дает ему возможности по-настоящему оберегать, защищать дочь и жену. Письма к дочери Наташе — целый роман воспитания, заботы и тревог. И чуть ли не в каждом письме о деньгах. Вот-вот они появятся, совсем скоро будут, все назначенное им самим он отдаст, и еще прибавит! Деньги наконец появлялись, тут же расходились. И снова: вот-вот они опять появятся, очень скоро будут…
Николай Иванович Глазков, еще один чудак, на Шварца, впрочем, мало похожий, сочинил однажды:
Мудро сказал Гесиод относительно брачного ложа:
— Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете,
Но ничего не бывает ужасней жены нехорошей.
Кому же и знать это, как не писателю, для которого жена — его трудовой коллектив?
Подхожу к теме особенно деликатной, но и ее не выкинуть из рассказа о Шварце.
В книге «Мы знали Евгения Шварца» несколько раз по разным поводам вспоминают первую его жену, актрису Гаянэ Николаевну Халайджиеву. Я ее не знал, даже не видел ни разу, хотя Гаянэ Николаевна пережила и Евгения Львовича, и Екатерину Ивановну.
О Екатерине Ивановне Обуховой (8), главной, долголетней спутнице Шварца, сказано совсем мало. Но кое-где брошены слабые намеки на то, что жизнь Евгения Львовича с ее приходом переменилась не к лучшему.
Знаю, многие не любили Екатерину Ивановну, судили о ней исходя из своих интересов и личного своего неудовольствия.
Видимо, что-то в укладе жизни Евгения Львовича при Екатерине Ивановне, бывшей до того несчастливо замужем за другим, действительно сильно изменилось. Как я понимаю, пропало ощущение, что двери дома открыты многим, исчез дух вольного актерского богемного житья.
Главное время Евгений Львович и Екатерина Ивановна прожили вместе, ведь и его и ее первые браки были недолгими.
Екатерина Ивановна была моложе Евгения Львовича лет на восемь. Но после его смерти без конца болела, чахла, ускорила свою смерть и скончалась 10 декабря 1963 года.
Она, вероятно, всегда была человеком, что называется, сложным, нервным до истеричности. Пожалуй, по настроениям переменчивым.
Но только не в основном.
Преданность ее Евгению Львовичу, на мой взгляд, носила характер истовый. Она была вся в нем.
Годы и собственная обостренная чуткость уподобили ее мужу, развили вкус, понимание людей и книг. Пожалуй, все это я понял позже, когда Евгения Львовича не стало.
Когда же мы бывали в гостях при нем еще, Екатерина Ивановна обычно держалась молчаливо, но как-то славно, определенно интересуясь и сочувствуя. Да, она бывала неразговорчива — и это мне нравилось. Мало ли встретишь жен у известных людей, которые находят особую отраду в том, чтобы опережать мужей своими мнениями; чтобы царить хотя бы в домашнем быту, в домашней беседе.
Вспоминаю Екатерину Ивановну хорошо. Не беда, что, бывало, становился объектом ее раздражительности, не всегда и не столь безусловно обоснованной, чтобы принимать раздражение вполне как должное.
Уже ясно ощущая в себе смертельную болезнь, Евгений Львович посвятил жене «Обыкновенное чудо». Разговоры Хозяина с Хозяйкой написаны как будто именно в расчете на Екатерину Ивановну. Они полны благодарных чувств и огромной заботливости.
Если знать обстоятельства жизни Евгения Львовича и натуру Екатерины Ивановны, невозможно сомневаться: в жизни Шварцев непременно возникали немалые взаимные терзания, всякие напряжения. Кое-что об этом слышал.
Все же союз их казался мне высоким и прекрасным, несмотря ни на что. Не было в нем пошлой привычности, неприбранности, автоматизма, узаконенного согласия ограничиваться в отношениях вершками, не забираясь, видите ли, друг другу в душу. В их союзе заключался для меня тот максимализм обоюдной связи, который единственно только может возвысить и оправдать многолетнее соединение мужчины и женщины. Извините за красноречие. Проще не вышло.
Быть женой Шварца — тоже, скажу, нелегкое дело. Как бы прекрасен сам он ни был. Кроме всего прочего, понадобилось много сил, абсолютная вера в него. Екатерина Ивановна помогла мужу быть таким, какой он есть, и не устать от самого себя в тягчайшие дни.
Она вспоминала: однажды Евгений Львович пошел в кино без нее и ничего об этом не сказал. Когда узнала, страдала горько.
На премьере «Клада» Шварц вышел к зрителям в брюках, только что залатанных женой. Она помнила через тридцать лет, как тогда смотрела только на его колени: заметны ли заплаты? — болезненно страдая от гордости и обиды.
Говорила еще: встретить такого мужа — все равно, что выиграть сто тысяч, такая же редкость.
Не всяким хорошим словам веришь. Но Екатерина Ивановне верилось. Почему? Возможно, потому, что она никак не театрализовалась в жизни. Хотя худо-бедно театрализуют свои движения, речь, степень чувствительности многие. Особенно в такие моменты, которые, например, связаны с утратой близкого человека. Екатерина Ивановна на такое никогда не шла. Она скорей могла показаться оцепенелой какой-то, замершей.
Вероятно, она уставала сильно, столько лет переживая гонения и препоны, выпадавшие Евгению Львовичу.
Даже в положительных по общему тону и итогу откликах на постановки Акимова по Шварцу не обходилось без резких критических нот. Эти ноты подсказаны были рецензентам или верноподданническим страхом нарушить рамки, или врожденной ограниченностью.
В небольшой статье, посвященной собственно Шварцу, один из критиков (впоследствии он был среди авторов книги «Мы знали Евгения Шварца») заявлял о финале «Тени»: «Для Ученого и Аннунциаты драматург не находит выхода: они уходят в „чаплинскую“ ночь, а отвергнутый их мир остается нетронутым. В результате у читателя остается чувство известной душевной тяжести, в ней под конец не хватает свежего воздуха» (9).
Такое было напечатано в начале 1940 года, когда все были оптимистами, выхода и искать не надо было — самый счастливый уже подарен был нам жизнью, а дышали все с утра до вечера и с вечера до утра полной грудью.
А тут — мелочь, пустячок: «не находит выхода», «не хватает свежего воздуха». И это среди доброго в общем мнения. Но теперь меня больше занимают не эти обстоятельства. В конце концов у других, бывало, складывалось и пострашней.
Все думаю о том, почему же так трудно, так туго, так скудно отзывались на сочинения Шварца — в печати ли, в письмах — другие писатели и всерьез мыслящие об искусстве лица. Тут, видимо, некая типическая ситуация.
Еще раз повторю: насколько я знаю, Евгений Львович был известен в театральных и литературных кругах. Относились к нему по-житейски хорошо. Уважали. А кто и любил.
При всем при том помню и другое. В начале пятидесятых один театровед, весьма и заслуженно признаваемый, склонный к всемерному изяществу в жизни и трудах, объяснял мне — в разговоре с глазу на глаз — несомненную для него побочность, некардинальность шварцевского творчества. Дескать, остроумно, даже талантливо — однако, право же, не о главном. Не стал бы этот случай брать в книгу, если бы высказанное отношение не было характерным, как бы в воздухе растворенным. «Конечно, и по теме, и по жанровым признакам спектакль этот не лежит на главном пути развития советского театрального искусства», — это уже из вполне похвальной, местами восторженной рецензии 1956 года (!) на московскую постановку «Обыкновенного чуда» (10).
На Шварца следовало бы молиться. А ему тыкали глупейшие претензии или благодушно свысока принижали. Все еще чего-то не хватало: нет, не то; не совсем то…
Не исключено, что в моем рассказе сохранен взгляд меня молодого. Позже можно было бы увидеть какие-то стороны и свойства, не замеченные смолоду.
Но одно я знаю навсегда: такие люди, как Шварц, для тех, кто способен подпадать не только под свое собственное обаяние, — великая опора, это счастье и спасение.
Странный, однако, порядок жизни, когда требуется столько стойкости, мужества, столько сил тем, для кого весь смысл жизни — быть искренним, всему открытым, ни от чего не заслоненным.
Абсолютно ли точен мой рассказ?
Не уверен.
Человек-то живет объемно, многолинейно: он проявляется и так, и сяк, и еще по-разному.
В дневнике «Тетрадь № 1» (11) Евгений Львович, в ту пору недавно перешедший свое тридцатилетие, признавался: «Иногда думаю: прав ли я? точен ли? Не все так определенно и отобрано в жизни». Дальше — еще круче: «Все в мире замечательно и великолепно перепутано. Это же форменная ткань. Это такой ковер, что хоть плачь…»
Вот именно: хоть плачь…
Примечания
НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВА ИЗ РУКОПИСИ «К БИОГРАФИИ Е. Л. ШВАРЦА. ОКРУЖЕНИЕ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ. МАЙКОП»
Григорьева (Соловьева) Наталия Васильевна (1895–1975) — старшая дочь В. Ф. Соловьева, главного врача Майкопской городской больницы.
Отрывки впервые опубликованы в сб.: «Житие сказочника. Евгений Шварц» (М.: «Книжная палата». 1991) с сокращениями и в редакторской правке. Печатается в том виде, в каком было подготовлено к печати.
1. Соловьев Василий Федорович (1863–1952), главный врач Майкопской городской больницы.
2. Имеются в виду предреволюционные годы.
3. Константин (1890–1953) — старший сын В. К. Соловьевой от первого брака.
4. Соловьева Вера Константиновна (1869–1964).
5. В настоящее время здесь Концертный зал.
6. По свидетельству младшей дочери Соловьевых, Варвары Васильевны (1899–1998), Наташа и Женя дрались на равных: «Наташа здорово дралась с ним. Просто так. Драчунам повода не надо. У него были кудри, и она вцеплялась в них. Однажды на Пасху, Жене было лет шесть, Мария Федоровна одела его в красную шелковую рубашку, бархатные штанишки, сапожки, кушак. А когда он вернулся домой, был весь драный. „Смотрите, вернулся сын с пасхального визита“, — сказала тогда Мария Федоровна. Сам он не был драчливым. Да и Наташа тоже, только пока была маленькая». (Из беседы, записанной составителем 15.9.1981). Однако сам Е. Ш. помнил себя иным: «Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив». Короче говоря, «два сапога — пара».
7. Шварц Лев Борисович (1874–1940), отец Е. Л.
8. Шварц (урожд. Шелкова) Мария Федоровна (1874–1942), мать Е. Л.
9. См. воспоминания А. В. Соколова.
10. Никакого родства Соловьевых и Андрея Андреевича Жулковского (1853/54-1917) не существовало. Это был профессиональный революционер, с давних пор живший в их доме.
11. В. В. Соловьева, комментируя это место воспоминаний старшей сестры, сказала, что всё здесь несколько преувеличено. «Лев Борисович был красивый элегантный мужчина, следящий за своей внешностью, а у Жени прорехи случались».
12. Леля — Елена Васильевна Соловьева (1896–1919), средняя дочь Соловьевых.
13. Крачковская Людмила Поликарповна (1897–1986), юношеская любовь Е. Л. Шварца.
14. Допущена неточность. 15 (28) июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что послужило началом Первой мировой войны.
15. Елену на эти курсы не приняли.
16. В 1951 г. Евгений Шварц напишет заявку на сценарий «Неробкий десяток» для Ленфильма о путешествии (походе) ребят в летние каникулы на илотах по реке Оредеж.
17. Трапезунд (также известен как Требизонд, Трабезон, Трабизун) — город в Турции, административный центр ила Трабзон, расположенный на берегу Черного моря, около устья реки Мучки, у подножия покрытого лесами Колат-Дага (3410 м).
18. Вероятно, мемуарист имеет в виду лето 1916 г., т. к. в начале 1917-го Е. Л. Шварца призвали в армию.
19. Косякин Константин Демьянович, главный лесничий Майкопского уезда, крестный всех детей Соловьевых.
20. Владимир Иванович Скороходов (1863–1924), майкопчанин, толстовец, организатор под Нальчиком коммуны. Бывал в Ясной Поляне, переписывался с Л. Н. Толстым.
21. Мажара — большая длинная орба с решетчатыми бортами (в Крыму, на Украине, на Северном Кавказе).
22. Шварц Антон Исаакович (1896–1954), двоюродный брат Е. Л. Шварца; в будущем известный чтец, засл. арт. РСФСР.
23. Наталия, Елена, Варвара Соловьевы и их подруга Вартануша Мнацаканова.
24. Вейсбрём Павел Карлович (1899–1963), в будущем известный ленинградский режиссер, поставивший «Два клена» Евг. Шварца в Ленинградском ТЮЗе.
25. Холодова Г. Н. — см. ее воспоминания.
АЛЕКСАНДР АГАРКОВ ВОСПОМИНАНИЯ О СОУЧЕНИКЕ И ДРУГЕ ЕВГЕНИИ ШВАРЦЕ
Агарков Александр Иосифович, соученик Е. Ш. по майкопскому реальному училищу. Судьбы соучеников Е. Ш., вт. ч. и автора воспоминаний, а также их учителей, неизвестны.
Рукопись. Публикуется по ксерокопии впервые.
1. Темир-Хан-Шуринский округ — в составе Дагестанской области. Центр — город Темир-Хан-Шура.
АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ ПРО ЖЕНЮ ШВАРЦА И ЮРУ СОКОЛОВА
Соколов Алексей Васильевич, младший брат ближайшего друга детства Евгения Шварца Юрия (Георгия) В. Соколова (1895–1919).
Его воспоминания публикуются впервые по письму к составителю от 30.5.73.
1. В. В. Соловьева в беседе с составителем 16.9.1981 упоминала еще несколько имен: «Старшим был Кузнецов Конст. Конст., высокий, рыжий (старше нас лет на 10, а может и больше), Ваня Хоботов, Миша Зайченко, Юра и Алеша Соколовы, Лёля, Женя Шварц, кто-то из Ларичевых, кажется, Петя…»
2. Сергей — старший брат Соколовых.
3. В письме Н. В. Григорьевой от 13.5.1973 составителю о семье Зайченко говорится: «Глава семьи — Георг. Зайченко — мельник, видимо, был крепкий хозяин, но состоял в полном подчинении у своей супруги. Сам он в 18-м году странно утонул в ванне. Жена его — красивая мощная властная женщина, настоящая глава семьи, была хлыстовской богородицей. Родила 5-х детей — 1 сына и 4-х дочерей. Сын погиб 18 лет. Дочь Маруся — на редкость красивая, способная и изящная — стала женой Сергея Соколова (покончила с собой в Майкопе в 40-х (кажется) годах). Туся — 2-я дочь по счету — повесилась еще раньше (18 лет) в лесочке около мельницы, и мать не пошла ее хоронить, сказав что-то вроде: „Туда и дорога“. Третья дочь — очень некрасивая — училась в одном классе с моей сестрой Еленой, тоже Елена, — грубая сексуальная натура. В советское время была сектанткой какой-то изуверской секты. Потом затосковала и тоже покончила с собой. 4-я дочь — Милочка, очень красивая, вышла в Ростове замуж за Центнершвера, сына бывшего директора майкопского отд. Госбанка и… тоже повесилась. Так трагически закончила свое существование эта семья. Женя бывал часто в этой семье и всех хорошо знал».
ИЛЬЯ БЕРЕЗАРК КУЗЕНЫ
Березарк (Рысс) Илья Борисович (1897–1981) — журналист, критик, театровед, участник литературной группы «Ничевоки».
«Кузены» — глава из его книги «Штрихи и встречи» (Л., 1982). Печатается по этому изданию.
1. Антон и Евгений Шварцы были погодками. Антон старше лишь на несколько месяцев.
2. Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954), философ, религиозный мыслитель, после 1922 г. в эмиграции.
3. Здесь многое неточно. Во-первых, в 1915 г. все Шварцы жили в Екатеринославе, во-вторых, о «захолустье» Майкопа можно говорить только по расхожему трафарету; Екатеринослав был нисколько не «столичнее» его.
4. Здесь опять неточности. Е. Л. Шварц в 1916 г. вернулся в Екатеринослав, где его вскоре призвали в армию.
5. Гнесин Михаил Фабианович (1883–1957), композитор.
6. Когда Шварцы пришли в «Мастерскую», «Незнакомка» уже не шла.
7. Хлебников Велимир (1885–1922). Точнее было бы сказать: «забредшего в Ростов».
8. Моцарта исполнял Рафаил Холодов. В беседе с составителем 21.11.1966 актер Мастерской Павел Слиозберг (по сцене — Борятинский) рассказывал о Шварце-Сальери: «Я помню скрюченные руки, глаза, сверкающие гневом, большой темперамент. Он явно играл злодея»
9. Переезд в Петроград происходил осенью 1921 г. Подробнее о Мастерской и об ее переезде в Петроград см. воспоминания Г. Н. Холодовой.
10. Автор, вероятно, имеет в виду Александра Костомолоцкого, Рафаила Холодова и Георгия Тусузова.
11. Вероятно, речь идет о «Рассказе старой балалайки», выпущенной отдельным изданием в 1925 г.
12. Премьера «Тени» в театре Комедии состоялась 11.4.1940.
ГАЯНЭ ХОЛОДОВА О ЕВГЕНИИ ЛЬВОВИЧЕ ШВАРЦЕ
Холодова (Халайджиева) Гаянэ Николаевна (1899–1983), актриса; первая жена Е. Ш.
Впервые в сборнике «Житие сказочника. Евгений Шварц» с пропусками и в редакторской правке. Публикуется по рукописи.
1. Павел Карлович Вейсбрем — см. прим. у Н. В. Григорьевой.
2. Черкесова Варвара, Остер Александр, Чернова Белла; Холодов (Цемах) Рафаил (1900–1975), Тусузов Георгий Баронович (1891–1986), засл. арт. РСФСР; Костомолоцкий Александр Иосифович (1897–1971) — артисты Театральной мастерской.
3. Халайджиева Исхуги Романовна (1870–1958), теща Е. Ш.
4. Налбандян Микаэл Лазаревич (1829–1866).
5. Гумилев Николай Степанович (1886–1921), поэт; расстрелян.
6. В октябре 1921 г. в статье под псевдонимом П. Самойлов М. Шагинян писала: «Во главе маленькой, молодой труппы стоял энтузиаст — юноша редкой душевной чистоты и прелести, П. Вейсбрем. Помню, как сейчас, вечер в гостеприимном провинциальном доме, где встречались в ту пору немногие случайные гости Ростова, художники Сарьян, Силин, Н. Лансере, музыканты Гнесин и Шауб. Там я впервые увидел рыжую голову Вейсбрема, по-тициановски бледную и выразительную. Он был еще совсем мальчиком, но уже знал, чего хотел. Я присутствовал на первых спектаклях театра; видел „Пир во время чумы“ и „Незнакомку“ Блока в декорациях Дмитрия Федорова. Меня поразило, как эти юноши приблизились в своих постановках, руководимые лишь начитанностью и инстинктом, — к камерным замыслам новых наших театров, — театра Ф. Ф. Комиссаржевского, Таирова, Сахновского, Марджанова. И тут на первом месте не проблема актера, а проблема театральной формы в целом; и тут расшифровка текста с помощью музыки; и тут между речью и текстом — условная разработанность жеста». В основу решения спектаклей труппа ставила «„принцип неведомый в провинции: лабораторность“, ибо в провинции „привыкли брать и подавать готовое, где пьесы, постановки, труппы… из года в год культивировали философию „напрокатности““ (взять и подать подержанное)». (Жизнь искусства. (Пг). 1921. 25 окт.)
7. Дело «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» (ПБО) было сфабриковано ГПУ в отношении научной и творческой интеллигенции Петрограда. Участники мнимого «ПБО» расстреляны в 1921 г. В 1992 г. все осужденные по нему были реабилитированы.
8. Бывший ресторан Палкина. В советское время — кинотеатр «Титан». Ныне казино и ресторан «Палкинъ»
9. Панчин Петр Семенович (1861–1921) — актер, режиссер Акдрамы.
10. Театр в Петрограде открылся «Гондлой» 8 января 1922 г.
11. «Гибель „Надежды“»… театр в Петрограде не играл. Третьим спектаклем была показана «Трагедия об Иуде, принце Искариотском», в которой Е. Шварц исполнял роль Пилата.
12. «Киклоп» принадлежит перу Еврипида.
13. Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер.
14. Якунина Елизавета Петровна (1892–1964), театральный художник. Позже в Новом ТЮЗе оформляла «Снежную королеву» (1939) и «Далекий край» (1943)
15. Кролль Исаак Моисеевич (1898–1942), режиссер, организатор Музыкального детского театра, в котором поставил «Остров 5-к» Е. Шварца (1932). «По роковому совпадению тех дней работать-то мы работали, а заработков не было», — напишет позже Е. Шварц.
16. «Необыкновенные приключения Гофмана» К. Державина. Державин Константин Николаевич (1903–1956) — режиссер, критик, литературовед.
17 Наш театр помещался в полуподвале ТЮЗа на Моховой… Сейчас там гардероб Учебного театра театральной академии.
18. Брянцев Александр Александрович (1883–1945) — главный режиссер ленинградского ТЮЗа, нар. арт. СССР; Зон Борис Вульфович — см. его воспоминания.
19. Клячко Лев Моисеевич (1873–1934), издатель, основатель частного детского издательства «Радуга», где вышло с десяток книжек Е. Шварца.
20. Олейников Николай Макарович (1898–1937), редактор журнала «Еж», «Чиж» и «Сверчок»; расстрелян 24 ноября 1937 года.
21. Паперная Эстер Соломоновнаы (см. ее воспоминания), ответственный редактор детского отдела ГИЗа.
22. Конашевич Владимир Михайлович (1888–1963) — книжный график, живописец, оформил несколько книжек Е. Шварца, засл. деят. иск. РСФСР.
23. Соколов Петр Иванович (1892–1937), живописец, книжный график, с его иллюстрациями вышел «Рассказ старой балалайки» в «Воробье». Погиб в заключении.
24. Романов Михаил Федорович (1896–1963), актер, с 1924–1936 гг. артист лен Акдрамы, нар. арт. СССР.
25. Грипич Алексей Львович (1891–1983), режиссер, нар. арт. АзСССР.
26. Выгодская Эмма Иосифовна (1900–1949) — детская писательница, переводчица.
27. Шварц Валентин Львович (1902–1988), инженер-строитель.
28. Борис Житков (1882–1938) — русский и советский писатель, прозаик, педагог, путешественник и исследователь. Автор популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о животных и романа о революции 1905 г.
29. «Рассказ старой балалайки» был написан в предчувствии наводнения 1924 г. и опубликован в ленинградском журнале «Воробей» (1924. № 7). Балалайка «тренькала» о наводнении 1824 г.
30. Книжка называлась «Шарики» и впервые вышла в «Радуге» в 1925 г. с иллюстрациями А. Ефимова, а «большой» популярностью «Шарики» пользовались с иллюстрациями В. Ермолаевой (1929)
31. С Тоней Шварцем Евгений Львович был знаком с двухлетнего возраста.
32. Бейер Владимир Иванович (1868–1945), главный художник ленинградского ТЮЗа.
33. Охитина Александра Алеексеевна (1905–1998), засл. арт. РСФСР; К. В. Пугачева — см. ее воспоминания; Ваккерова Елена-Мария Ульриховна, актриса ТЮЗа и Большого кукольного театра, педагог.
34. Б. П. Чирков — см. его воспоминания.
35. Полицеймако Виталий Павлович (1906–1967), нар. арт. СССР; Черкасов Николай Константинович (1903–1966), нар. арт. СССР; репетировал в «Ундервуде», только в начальной стадии и в спектакле не участвовал.
36. Шварц (урожд. Обух) Екатерина Ивановна (1903–1963), вторая жена Е. Шварца.
37. Альтус Ефим Григорьевич (1901–1949) — артист, режиссер, засл. деят. иск. РСФСР.
38. Имеется в виду изд.: Пьесы. М.; Л. 1960; 2-е изд. — 1962.
МОИСЕЙ ЯНКОВСКИЙ ИЗ СБОРНИКА «МЫ ЗНАЛИ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА»
Янковский (Хисин) Моисей Осипович (1898–1972), театровед, критик, драматург, автор книги о театре Комедии (1968).
Впервые без названия в сборнике «Мы знали Евгения Шварца» (Л.; М. 1966.). Печатается по этому изданию.
1. «Открытие театра на Владимирском представляет собою акт прекрасной отваги, — писал М. Кузмин. — Действительно, приехать из Ростова-на-Дону с труппой, пожитками, строго-литературным (но не популярным) репертуаром, с декорациями известных художников, без халтурных „гвоздей“, могли только влюбленные в искусство мечтатели. Но мечтатели, полные энергии и смелости». Актеры скорее «играли» стихи, чем характеры героев. Смысл драматической поэмы подчеркивался продуманной и точной пластикой. И не случайно Кузмин писал, что «лучше всех рецитировал А. И. Шварц (Гондла), с большой лирической задушевностью и элегантной простотой произносящий стихи. <…> Для тех, кому известна пьеса Гумилева и знакома, хотя бы приблизительно, театральная работа, — будет ясно, сколько самоотверженности, таланта, труда и смелости скрывается под этой, как будто скромной, постановкой» (Жизнь искусства. 1922. № 3). В этом ключе был решен весь спектакль.
2. Когда М. А. Кузмин соберет сборник своих выступлений в печати начала 20-х гг. (Условности. — Пг., 1923), включит в него и рецензии на спектакли Мастерской: «Гондла», «Адвокат Пателен» и «Иуда»
3. «Каждая постановка этого маленького театра, — писала Мариэтта Шагинян, — ставит перед зрителем важнейшую сценическую проблему: „Гондла“ — проблему текста, „Пателен“ — проблему жеста, „Иуда“ — проблему актера» «„Гондла“ — это „пьеса для чтения“, а не для игры, ее надобно услышать, а не увидеть. <…> Декламация интонирует смысл стиха, поэтому она всегда рассудочна. Театральная Мастерская интонировала не смысл стиха, но его запевание, — поэтому она превратила текст в музыку, и этим музыкальным, мелодичным, звенящим путем пролила в душу „происшествие“ Гондлы». «„Патилен“ — это сплошная веселая потеха, загубить которую может лишь суетность и хаос, неумеренная жестикуляция. Загромоздить эту вещь трюками — вот соблазн для режиссера. <…> Загромождения не произошло. Между отдельными жестами, архитектонически разъединяя их и приводя в равновесие, театр ввел межевой принцип: разнообразие темпов. У каждого актера… был свой темп». В «Иуде» «глубочайшая, бездонная идея пьесы доходит до зрителей… потому что театр и в героической, в личностной пьесе — проводником ее темы сделал актера». Заканчивалась статья надеждой: «Вот путь молодого театра, и можно не колеблясь сказать: на этом пути он дойдет до подлинной органичности, до полной победы» (Там же. 28 марта). Но пути этому суждено было оборваться уже сейчас.
4. Афиногенов Александр Николевич (1904–1941), драматург. Погиб в здании ЦК ВКП(б) во время бомбежки.
5. Против спектакля выступили «Ленинские искры» (М. М. — 25 сент.), «Смена» (С. Ромм — 25 сент.) и др. А на стороне пьесы и спектакля — М. Янковский (Рабочий и театр. Пг. 1929. № 39); О. Адамович (Смена., Пг. 1929. 19 окт.), Адр. Пиотровский (Веч. Красная газета. Пг., 1929. 25 сент.), С. Мокульский (Жизнь искусства. Пг. 1929. 29 сент.) и др.
6. Е. Ш., вероятно, говорил о Грушецком (Бирнбауме), о котором писал: «Поляк по всему — по воспитанию, по склонностям, по духу — и учился на медицинском факультете и вступил в Союз писателей, — все шумно, открыто, и хитро, и строптиво, и ужасно вежливо… Водил он нас выступать в польский детский дом. Шли мы туда долго каменистой пустыней за городом. И сердце сжалось, когда увидел я стриженые сиротские головы, светлые славянские глаза. Длинные робкие девушки, не то сестры милосердия, не то монашки, собрали их в зал. И дети, оказывается, знали отлично по-русски. Всё поняли» (Евгений Шварц. Бессмысленная радость бытия. М. 1999. С. 192–193)
ОЛЬГА ФОРШ ИЗ РОМАНА «СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ»
Форш Ольга Дмитриевна (1873–1961), прозаик, драматург.
Впервые в нескольких номерах журнала «Звезда» (1930). Отдельной книгой роман вышел в издательстве писателей Ленинграда в 1931 г. Отрывки из него печатаются по этому изданию. «Сумасшедшим кораблем» писательница назвала Дом искусств, в котором в начале 20-х гг. жили писатели и художники.
1. «В „Сумашедшем корабле“ Форш вывела меня под именем Геня Чорн, — записал Е. Ш. 17 января 1951 г. — Вывела непохоже, но там чувствуется тогдашнее отношение ко мне в литературных кругах, за которые я тогда цеплялся со всем уважением, даже набожностью приезжего чужака и со всем упорством утопающего». О. Д. Форш не знала как Шварц относился к своему романному образу, и по истечении десятка лет видела его уже совсем иначе и признавала, что «образ едва намечен, в нем ни в какой степени не выражены душа, талант и ум Жени Шварца. <…> Женя Шварц был задумчивый художник, с сердцем поэта, он слышал и видел больше, добрее, чем многие из нас. Он в те годы еще не был волшебником, он еще только „учился“, но уже тогда мы видели и понимали, как красиво раскроется его талант. <…> Я помню его юношески худым, с глазами светлыми, полными ума и юмора. В первом этаже в большом, холодном и почти пустом зале мы читали и обсуждали наши произведения. Здесь мы экспромтом разыгрывали без всяких репетиций сценки-пародии Шварца на свою же писательскую семью, ее новую, трудную, еще такую неустроенную, но веселую и необыкновенную жизнь. Шварц изумлял нас талантом импровизации, он был неистощимый выдумщик. Живое и тонкое остроумие, насмешливый ум сочетались в нем с добротой, мягкостью, человечностью и завоевывали всеобщую симпатию… Мы любили Женю не просто так, как обычно любят веселых, легких людей. Он хотел „поднять на художественную высоту культуру шутки“, как говорил он сам, делая при этом важное, значительное лицо. Женя Шварц был задумчивый художник, с сердцем поэта, он слышал и видел больше, добрее, чем многие из нас. Он в те годы еще не был волшебником, он еще только „учился“, но уже тогда мы видели и понимали, как красиво раскроется его талант». (Автобиографии советских писателей. — М., 1966. Т. 3)
2. Недомерки — дети «Сумасшедшего корабля», в том числе и сын Форш Дима. Среди поздравительных подписей к 60-летию Шварца есть и подпись от Дмитрия — «Дельфин — Форш»
3. Вова — Познер Владимир Соломонович (1905–1992), «серапион». В мае 1921 г. с родителями покинул Россию. В скором будущем — французский писатель.
4. Фома Жанов — Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963)
5. Ия — предполагаю, что речь идет о Щеголевой (Альтман) Ирине Валентиновне (1908–1993)
6. Сосняк — Пильняк Борис Андреевич (1894–1938), писатель, расстрелян 21 апреля 1938 года.
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ ИЗ «ЧУКОККАЛЫ»
Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич) (1882–1969).
Отрывок — в первом выпуске альманаха «Прометей» (М., 1966) и в «Чукоккале» (М., 1979. С. 319–321, 323–325, 344–347, 371, 374–375 и 420). Публикуются по этим изданиям.
1. Примечания К. И. Чуковского.
2. На самом деле всё произошло несколько иначе. Вспоминая ту пору, Е. Л. Шварц записал в «Амбарную книгу» 14 января 1953 г.: «У Корнея Ивановича была толстая, переплетенная в черный переплет тетрадь, знаменитая „Чукоккала“, альбом, которым дорожил он необыкновенно. <…> Молодой Лева Лунц, в сущности мальчик, веселый, легкий, хрупкий, как многие одаренные еврейские дети его склада, уезжал к родным за границу. „Серапионовы братья“ собрались проводить его. Были и гости. Среди них — Замятин. Я тоже был зван, и Корней Иванович дал мне „Чукоккалу“, чтобы я попросил участников прощального вечера написать что-нибудь. Вечер был так шумен и весел, что альбом пролежал на окошке в хозяйской комнате весь вечер, и никому я его не подсунул. <…> На другой день после веселых проводов я у Чуковского не был. Вечером зашел Коля и сообщил, что папа очень беспокоится, — где „Чукоккала“. Утром я Корнея Ивановича не застал — он унесся по своим делам. Но на промокательной бумаге письменного стола в нескольких местах было написано: „Шварц — где Чукоккала“?»
3. Звездочками обозначены примечания Е. Л. Шварца.
4. Записано рукою Н. М. Олейникова, а подписано им и Шварцем самолично.
5. Письмо впервые — Литературное обозрение. 1987. № 1. С. 110.
МИХАИЛ СЛОНИМСКИЙ ВМЕСТЕ И РЯДОМ
Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), прозаик.
Впервые в кн. «Мы знали Евгения Шварца». Печатается по кн.: М. Слонимский. «Книга воспоминаний» (М.; Л., 1966).
1. «Он с женщинами был совсем не мальчик, но муж, — записал Е. Ш. 4 февраля 1953 г. о М. М. Зощенке. — И его любили, и он любил. Но всегда — любил. У него были романы, а не просто связи. В достаточной мере продолжительные» (Евгений Шварц. Живу беспокойно… Л., 1990)
2. Речь идет о театре Новой драмы. См. восп. Г. Н. Холодовой.
3. «Всероссийская кочегарка»
4. Тексты Е. Ш. под псевдонимом «дед Сарай» обнаружить не удалось.
5. Поначалу журнал назывался «Воробей»
6. «Борис Житков» — в кн. К. И. Чуковского «Современники» (М., 1963)
7. Б. Житков. «Что я видел» (1939)
8. Перец Маркиш. «Тень» // Правда. 1940. 26 мая.
9. Речь идет о пьесе «Под липами Берлина», премьера которой в театре Комедии состоялась 12 августа 1941 г.; постановка и оформление Н. П. Акимова, комп. А. Животов.
10. Весной 1942 г. Е. В. Заболоцкой с детьми удалось выехать из блокадного Ленинграда. Она пробиралась к родным Н. А. Заболоцкого в Уржум. В Кирове они останавливались у Шварцев, где Никита заболел скарлатиной. А за ним и Е. Ш., как «детский писатель»
11. Пьеса «Одна ночь», рассказывавшая о блокадной жизни, ни в БДТ, ни в Новом ТЮЗе поставлена не была.
12. Мемуарист имеет в виду сценарий Е. Ш. «Дон Кихот»
ЭСТЕР ПАПЕРНАЯ В РЕДАКЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЧЕГАРКИ»
Паперная Эстер Соломоновна (1901–1987), поэт, детский писатель, переводчик; один из авторов легендарной книги пародий «Парнас дыбом»; в 30-е гг. — редактор детского отдела ГИЗа.
Впервые в сб. «Житие сказочника» с редакторскими купюрами. Публикуется по рукописи.
1. «Полеты по Донбассу»
2. Санкюлоты — восставший народ времен французской революции 1789 г.
3. Первый № «Забоя» вышел в сентябре 1923 г.
ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ ВОСПОМИНАНИЯ И ДЕЛА…
Раковский Леонтий Иосифович (1895–1979), писатель.
Эти отрывки впервые были напечатаны в ж. Нева (1969, № 9 и 1974, № 10). Печатаются по этим публикациям.
1. Е. Ш. подписывал рецензии не только Эдгар Пепо, но производными: Э. По, Э. П. и т. д., а некоторые шли вообще без подписи. Андрей Богданов к тому же считал, что фельетоны, подписанные Иван Золушка, тоже принадлежат перу Е. Ш.
2. Ныне — Российский институт истории искусств.
3. «Реал» — стоп-шкаф с доской, на которую устанавливается устройство для ручного набора текста.
НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
Чуковский Николай Корнеевич (1904–1965), прозаик.
Впервые в сб. «Мы знали Евгения Шварца» без заголовка. Печатается по кн.: Николай Чуковский. Литературные воспоминания. М., 1989.
1. Если «за месяц до смерти», то это будет декабрь 1957 г.
2. Дед Е. Ш. — Федор Шелков — был незаконнорожденным от местного помещика и получил фамилию Ларин, которой тяготился, и после женитьбы принял фамилию Шелков. Лев Борисович предлагал сыну писать под «потерянной» той фамилией — Ларин.
3. После ареста и последующего освобождения Л. Б. Шварца ему было запрещено проживание в университетских и губернских городах. Сменив несколько мест проживания, Шварцы в 1900 г. осели в Майкопе.
4. Шварц считал Майкоп «родиной своей души», где он сформировался, как личность. В четырехтомнике, изданном в 1999 г., куда вошли его основные произведения, письма, стихи и дневники-воспоминания, первый том целиком отдан его воспоминаниям о жизни в Майкопе. И учился он не в гимназии, а в Александровском реальном училище, которое окончил в 1913 г., а последний раз в Майкопе он был в 1915 г.
5. Евгений и Антон Шварцы приехали в Ростов, куда был эвакуирован Варшавский университет, чтобы завершить учебу на юридическом факультете.
6. В продотряде Е. Ш. никогда не служил. Да их в ту пору еще и не существовало.
7. Гаянэ Николаевна говорила, что никогда этого не было, да и калоши тогда у него отсутствовали.
8. Театральная Мастерская прибыла в Петроград в сентябре 1921 г.
9. Шварц, учась в Московском Университете (1914–1915), несколько раз приезжал в Петербург, навещая Милочку Крачковскую, Юру Соколова и сестер Соловьевых, которые учились в столице.
10. Бунина — актерский псевдоним Фримы Бувнимович.
11. В то время, когда труппа приехала в Петроград, П. К. Вейсбрем был в Париже, куда он уехал с родителями в 1920 г., при приближении красных к Ростову.
12. Салон Наппельбаумов существовал в мастерской известного фотографа-художника Моисея Соломоновича Наппельбаума (1869–1958), дочери которого Ида (1900–1992) и Фредерика (1902–1958) были ученицами H. С. Гумилева, писали стихи.
13. В июне 1923 г.
14. В Бахмуте.
15. Как было на самом деле — см. восп. М. Слонимского и восп. самого Шварца (Предчувствие счастья… М. 1999)
16. Н. М. Олейников появился в Ленинграде только в 1925 г. См. восп. Э. Паперной.
17. С. Я. Маршак вернулся из Краснодара в 1922 г. и стал завлитом ТЮЗа. В 1954 г., работая над содокладом о детской литературе в Ленинграде для общего собрания ЛО ССП, Е. Ш. вспоминал о ее начале: «Тридцать лет тому назад каждому, кто начинал работать в детской литературе, отлично знакома была комната в первом этаже издательства „Ленинградская правда“. Здесь чуть не каждый вечер вокруг небольшого стола собиралась редакция детского журнала „Воробей“. Я, попав туда впервые, был поражен и проникся почтительным ужасом к тому, с какой энергией, с каким титаническим усилием делался номер тонкого детского журнала. Он сооружался буквально от слова к слову. Касается это прежде всего двух людей: Маршака, первого собирателя ленинградского отряда детских писателей, и в те дни ближайшего его друга Бориса Житкова. <…> Автор, пришедший в детскую литературу, встречал требование: работай во всю! Никакой скидки на читательский возраст не положено. Тогда Маршак любил говорить, что детский писатель, как детский врач. Нелепо утверждать, что детский врач может учиться меньше, раз пациент у него маленький. Начинающему писателя объясняли: ты должен писать отлично именно потому, что детский читатель поглощает книги жадно, не всегда разбираясь в качестве. Ты не смеешь пользоваться этим его свойством!» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 371. Оп. 1. Ед. хр. 219)
18. Раешником Е. Ш. писал уже «Полеты по Донбассу»; раешником написаны первые «сказки» Е. Ш. — «Рассказ старой балалайки» и «Два друга: Хомут и Подпруга» (1925)
19. Стихотворные книжки Е. Ш. стали печататься в 1925 г., а Хармс и Введенский появились в Детском отделе лишь в 1928 г.
20. «Война Петрушки и Степки-Растрепки» вышла в изд. «Радуга» в 1925 г., но не была первой сказкой Е. Ш. См. примеч. 21.
21. ОБЭРИУ — Объединение реального искусства. «У», — говорили участники объединения, они добавили для смеха и благозвучия.
22. Олейников обериутом не был. Савельев (Липавский) Леонид Савельевич (1904–1941), погиб на фронте.
23. Наташа родилась 16 апреля 1929 г.
24. Гаяне Николаевна долго не рожала, потому что не хотела прерывать свою актерскую карьеру. Но когда она прочувствовала, что теряет мужа, решилась, чтобы удержать его.
25. Руки у Е. Ш. начали дрожать гораздо раньше, судя по его почерку в разные времена. Здесь все несколько преувеличено. Первую рюмку Шварц помогал себе выпить обеими руками, но после нее тремор рук прекращался. Да и почерк у него не столь «страшным», если его «Амбарные книги» расшифрованы и опубликованы. Я достаточно свободно читаю его последние письма.
26. Автор намекает на Т. Г. Габбе, А. И. Любарскую, З. Задунайскую и Л. К. Чуковскую.
27. О вражде Маршака с Олейниковым и Житковым, и о своем положении среди них Е. Ш. подробнейшим образом рассказал в своих «МЕ/муарах/». См.: Евгений Шварц. Живу беспокойно… М., 1990 или его очерк «Превратности характера» («Житие сказочника»)
28. Е. Ш. было проще. Уже в 1927 г. он написал первую пьесу, которой он, правда, даже не дал названия, и в РГАЛИ ее назвали «О молодежи 20-х годов». В 1928 г. он написал «Ундервуд», который был поставлен в ТЮЗе.
29. «Голый король» был поставлен впервые в 1960 г. в театре «Современник»
30. М. М. Зощенко сказал это не на вечере Дома писателей, а на последовавшем банкете в гостинице «Метрополь»
Л. ПАНТЕЛЕЕВ ДОБРЫЙ МАСТЕР
Л. Пантелеев (Еремеев Алексей Иванович) (1908–1987), прозаик.
Впервые под этим заголовком в ж. «Нева» (1965. № 12). Печатается по кн.: Л. Пантелеев Живые памятники (М.; Л. 1966).
1. Первые записи мемуарного характера Е. Ш. начал делать в 1951 г.
2. «Телефонная книга» вышла отдельным изданием в 1997 г.
3. Из-за событий, связанных с «делом врачей» — «убийц в белых халатах», среди которых большинство было евреями.
4. Речь идет о спектакле театра «Эвримен опера», гастролировавшей в Ленинграде в 1956 г.
5. Музыкой Е. Ш. увлекался с юности и даже брал уроки игры на фортепиано в Майкопе. См. об этом в его «МЕ» («Живу беспокойно»…)
ДАНИИЛ ХАРМС КАК Я ВСЕХ ПЕРЕШИБАЮ…
Хармс (Ювачев) Даниил Иванович (1905–1942), поэт и драматург. Умер в «Крестах» во время блокады.
1. Рассказ опубликован в кн.: Д. Хармс «Полет в небеса» (Л., 1988) под заголовком «Я решил растрепать одну компанию…», данную ему составителем сборника А. А. Александровым. Текст печатается по этому изданию. В архиве художника В. В. Стерлигова сохранялась рукопись этого рассказа под авторским названием «Как я всех перешибаю…»
2. Н. В. Гернет в ту пору была заведующей редакцией «Чижа»; Д. Е. Рахмилович — отв. редактором этого журнала.
3. В рукописи после абзаца, заканчивающегося словами «…называвший себя Южиным», следовало несколько любопытных вычеркнутых строк: «Видя, что со мной шутки плохи, Евгений Львович Шварц начал приглашать меня к себе на обед, говоря, что к обеду будет суп с пирожками. Я попался на эту удочку и пошел за Шварцем. Он привел меня к себе, и мы начали обедать. Жена Шварца Екатерина Ивановна, все смеялась неизвестно чему». Другой вариант конца, который показался автору остроумнее, — после «…пригласил меня к себе на обед»: «Однако Шварц куда-то скрылся, оставив меня одного на улице. Я плюнул с досады на эти штучки и вернулся в Госиздат». После чего он и пошел «трепать» всю их компанию.
ЛЕОНИД МАКАРЬЕВ МЫ ЗНАЛИ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА
Макарьев Леонид Федорович (1892–1975), актер, режиссер и драматург; нар. арт. РСФСР.
Впервые — в одноименном сборнике без заголовка. Печатается по этому изданию. Заголовок взят из книги Л. Ф. Малюгина «Творческое наследие: Статьи. Воспоминания» (Л., 1985), где опубликованы эти же воспоминания, но с некоторыми купюрами.
1. Речь идет о «Гондле» Н. Гумилева.
2. «Два клена» были поставлены П. К. Вейсбремом в ТЮЗе в 1954 г.
3. Васильева Елизавета Ивановна (Черубина де Габриак) (1887–1929), поэт, драматург.
4. Е. А. Уварова участвовала, кажется во всех постановках его пьес в ТЮЗе, Новом ТЮЗе и театре Комедии.
5. Макарьев в этом эпизоде не участвовал, а значит, писал со слов, как оказалось позже, своей жены Веры Зандберг. Тогда, 17 октября 1956 года, ТЮЗ отмечал 60-летие Евгения Львовича, эту версию она впервые рассказала автору «Ундервуда». «Когда кончилась торжественная часть, и я сидел с актерами, а художница рисовала — вдруг разговорилась Зандберг, — записал Шварц на следующий день. — И я подивился немощи человеческой памяти. Она мне же, с глубокой уверенностью в том, что так и было, стала рассказывать, как был написан „Ундервуд“. Нет, значит, прошлое и в самом деле не существует. Разбитная, сильно пожилая женщина, называя меня Женей, повторяла: „неужели вы не помните“, уверяла меня и всех присутствующих в следующем. Когда Уварова лежала в больнице, я навестил ее вместе с Зандберг. (Ничего подобного не было. Я ни разу не навестил Уварову. В те годы я не так хорошо был с нею знаком.) И чтобы утешить больную, я сказал ей: „Ты, Лиза (я в те годы был с Уваровой на „вы“), ты, Лиза, в моей пьесе будешь играть старуху, которая всех щиплет. А вы, Верочка, пионерку, которая растет каждый день, и кажется выше своего роста“. И стал шутить, хохмить (о, ужас). И через неделю (неправда, „Ундервуд“ я писал недели две) принес пьесу, где все эти хохмы были вставлены, — „помните, Женя?“ И я ответил: „Продолжайте, продолжайте, я слушаю все с величайшим интересом…“ Ничего похожего на правду! Я слушал с глубочайшим интересом и не мог представить себе, что делалось в этой душе, какой путь ей пришлось пережить за эти годы, чтобы до такой степени все забыть и научиться так подменять пережитое сочиненным. На самом же деле „Ундервуд“, как это ни грустно, был написан для нее. Я от тоски и избытка сил стал играть во влюбленность. В нее. В Зандберг. И увлекся…» Но этой записи Евгению Львовичу показалось недостаточно, и 25-го он дополняет: «Я не решился перечитать „Ундервуд“, когда пьеса попалась мне недавно в руки. Но помню, что писал я ее не шутя. Что же такое прошлое? Для меня двадцатые годы все равно, что вчера, а тут же рядом человеку в тех же годах чудится нечто такое, чего не было. И что творилось в душе этой пожилой, недоброй женщины в те времена, когда была она безразлична, добра и молода?» Так рождаются легенды.
6. Первую пьесу Е. Ш. Л. Макарьев не знал. О ней см.: Нева. 1971. № 10.
7. Премьера «Ундервуда» состоялась 21 сентября 1929 г. Режиссерами были А. Брянцев и Б. Зон, художником — В. Бейер, композитором — Н. Стрельников.
8. Н. К. Черкасов только репетировал, а в спектакле не участвовал. Роль, которая поначалу предназначалась ему, исполнил Г. Эрасмус.
9. Речь идет об артистке Артамоновой Ольге Михайловне (1907–1928)
10. Л. Макарьев цитирует письма Е. Ш. к его жене Зандберг Вере Алексеевне (1897–1975). «Я в 27–28 году от душевной пустоты и ужаса притворялся, что влюблен в жену Макарьева, Веру Александровну Зандберг, — запишет Е. Ш. в „Амбарной книге“ 15 марта 1953 г. — Мания ничтожества в те годы усилилась у меня настолько, что я увлекся этой азартной игрой и даже страдал. Играя и страдая, я имел достаточно времени, чтобы разглядеть Макарьева, да и Верочку тоже. Роман не кончился ничем, и это усиливало иллюзию влюбленности. Моя мания ничтожества и глубокая холодность Верочки под внешней мягкостью и женственностью и привели к тому, что возлюбленной моей она не стала. И это делает воспоминания мои о тех днях не то что горькими, а прогорклыми». (Евгений Шварц. Предчувствие счастья. М., 1999. С. 113)
КЛАВДИЯ ПУГАЧЁВА ШВАРЦ
Пугачева Клавдия Васильевна (1906–1996), в 20-е гг. актриса ТЮЗа, засл. арт. РСФСР.
«Шварц» — глава из ее книги воспоминаний «Прекрасные черты» (М., 2008). Печатается по этому изданию.
1. В другой главе этой же книги актриса рассказывает о знакомстве со Шварцами несколько иначе: «Однажды пришли вместе с Александром Александровичем /Брянцевым/ за кулисы Антон и Евгений Шварцы (Антон тогда был очень известным чтецом, а Евгений — начинающим драматургом и писателем). Антон и Евгений поцеловали мне руку, поблагодарив за спектакль. Я от неожиданности покраснела, вернее, заалела, — это было впервые в моей жизни! Александр Александрович сказал: „Ну вот, мы и взрослые стали…“ Поцеловал меня щеку и шепнул: „Ну, не очень-то зазнавайся, ведь они добрые, а у меня есть к тебе замечание!“ и повел Шварцев дальше»
2. Шварц и Акимов познакомились лишь в 1931 г., когда в ТЮЗе уже не было ни Маршака, ни его «Четвергов». См. воспоминания Н. П. Акимова.
3. Из воспоминаний о Ландау в этой же книге.
ГЕННАДИЙ ГОР ИЗ БЕСЕДЫ 1968 ГОДА
Гор Геннадий (Гдалий) Самойлович (1907–1981), писатель, искусствовед, собиратель живописи.
Беседа публикуется впервые. В беседе принимала участие жена писателя.
1. Были арестованы и редакторы С. Я. Маршака — Т. Г. Габбе и А. И. Любарская. Но благодаря Маршаку их вскоре освободили.
ЕВГ. ДЕММЕНИ О ШВАРЦЕ Е. Л.
Деммени Евгений Сергеевич (1898–1969), режиссер кукольного театра, засл. арт. РСФСР; в 1924 г. организовал и возглавил театр марионеток при Ленинградском ТЮЗе, который в 1930 г. стал самостоятельным театром. Ныне носит имя своего создателя.
Воспоминания писались для сб. «Мы знали Евгения Шварца», но не вошли туда. Впервые в кн.: Евг. Деммени. Призвание — кукольник. Л., 1986. Печатается по машинописи, подаренной составителю автором.
1. Кукольный вариант, который поставил Театр марионеток, назывался «Красная Шапочка и Серый Волк».
2. «Сказка о потерянном времени» была экранизировала в 1964 г. режиссером А. Птушко. В фильме снимались великолепные актеры — О. Анофриев (Петя Зубов), Л. Шагалова (Маруся), Р. Зеленая (Надя), С. Крамаров (Вася), С. Мартинсон (старый волшебник), Г. Вицин (Андрей Андреевич), И. Мурзаева (Анна Ивановна). В. Телегина (Авдотья Петровна), З. Федорова (тетя Наташа) и др.
3. Новые редакции кукольных пьес вышли в 1959 г. в кн. Е. Шварца «Кукольный город», в которую вошли одноименная пьеса, «Волшебники» и «Сказка о потерянном времени»
БОРИС ЧИРКОВ ИЗ КНИГИ «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА»
Чирков Борис Петрович (1901–1982), артист театра и кино; нар. арт. СССР.
Воспоминания о Е. Ш. печатаются по кн. Б. Чиркова «Азорские острова» (М., 1978).
1. «Тетрадь № 1» 1928 г. опубликована в альманахе «Прометей. Вып. 5» (М., 1968)
2. Заглавную роль в фильме исполнил К. Скоробогатов.
3. Речь идет о фильмах «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград»; в последнем автор исполнял роль кучера.
БОРИС ЗОН НАШ СОВЕТСКИЙ СКАЗОЧНИК
Зон Борис Вульфович (1898–1966), режиссер, основатель и художественный руководитель Ленинградского Нового ТЮЗа; засл. арт. РСФСР.
Впервые — в сб. «Мы знали Евгения Шварца». Печатается по сб.: «Театр детства, отрочества и юности» (М., 1972).
1. Новый ТЮЗ открылся в 1935 г.
2. «Клад» Новым ТЮЗом был поставлен 25.1.1936.
3. Премьера «Брата и сестры» была показана 16.3.1936.
4. Премьера «Красной Шапочки» — 12.6.1937.
5. Премьера «Снежной королевы» — 29.3.1939.
6. Премьера «Далекого края» — в 1943 г.
7. «Василиса-работница» — предварительный вариант «Двух кленов»
8. Адр. Пиотровский. Юные разведчики // Веч. Красная газета. Л., 1933. 11 окт.
9. Под рубрикой «ТЮЗ нашел клад» были опубликованы две рецензии на спектакль (Литературный Ленинград. 1933. 16 окт.)
10. См.: Вечерняя Красная газета. 1936. 17 марта.
11. С. Образцов. О добрых чувствах // Правда. 1940. 28 мая. С. 2. А. Бруштейн. «Снежная королева» // Известия. 1940. 20 мая. С. 4.
12. См.: Известия. 1940. 10 мая. С. 3.
ТАТЬЯНА БЕЛОГОРСКАЯ НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Белогорская Татьяна Анатольевна (р. 1930), библиограф, педагог, мемуарист. Живет в США.
Глава из книги: «Портреты в интерьере времени»; публикуется впервые по рукописи, присланной составителю.
1. Маруся — любимое женское имя Е. Л. Шварца, встречающееся во многих его произведениях.
2. «Доброму сказочнику Евгению Шварцу»
3. Крыжановская Нина Андреевна родилась в 1982 г.
4. «Сказка о бомбе» опубликована в ж. «Детская литература» (1968. № 4)
ТАТЬЯНА СОЙНИКОВА ИЗ БЕСЕДЫ 1968 ГОДА
Сойникова Татьяна Григорьевна (1900–1973), режиссер, педагог, засл. деят. иск. Бурятской АССР.
Беседа публикуется впервые.
1. Имеется в виду Марина Мнишек в «Борисе Годунове»
2. Художником «Клада» был М. Григорьев.
3. П. Кадочников исполнял роль деда Тараса.
4. «Музыкантская команда» и «Третья верста» — пьесы Д. Дэля (Любашевского)
5. Специально для П. П. Кадочникова Шварцем была написана роль Сказочника в «Снежной королеве»
6. Помимо директора театра И. Т. Закса, отказались уехать в эвакуацию также Ф. Никитин, В. Усков, В. Чеснаков, С. Поначевный и др. артисты.
7. Поначалу театр был отправлен в Анжеро-Судженск, и только позже его перевели в Новосибирск.
8. Коричневая книга «О гитлеровском поджоге рейхстага». (М., 1933)
ВЛАДИСЛАВ АНДРУШКЕВИЧ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ Е. Л. ШВАРЦА
Андрушкевич Владислав Станиславович (1912–1997), режиссер, педагог, засл. деят. иск. РСФСР.
Публикуется впервые по стенограмме «Вечера», состоявшегося в Лен. Театральном музее 25 октября 1971 г.
1. Во время войны летом 1943 г. Шварцы побывали в Новосибирске проездом из Кирова в Таджикистан.
2. Скорее всего, то была шутка, т. к. Е. Ш. вез в Сталинабад лишь первый акт «Дракона», а дописывал пьесу уже там. Акимов этот акт знал еще до войны, а Зону предлагать постановку было совершенно бессмысленно. Вероятно, и обсуждение с ним, кому дать пьесу, Е. Ш. тоже придумал.
3. На самом деле всё это было не столь идиллически.
4. Как уже известно читателям, Е. Л. Шварц родился в Казани. Первый из домов в Майкопе, о которых идет речь — семейства доктора В. Соловьева, второй — один из пяти, которые снимали Шварцы, живя в этом городе. Доска была установлена на школе (б. реальном училище), в которой учился Женя, в 1976 г., и только через 32 года, в 2008 г., обещанное было исполнено.
ЛЕВ ЛЕВИН НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТОГО НЕ БЫЛО
Левин Лев Ильич (1911–1998), литературный критик, мемуарист, драматург.
Впервые сокращенный вариант без названия в сб.: «Мы знали Евгения Шварца». Этот текст пополнен фрагментом из кн. Л. Левина «Дни нашей жизни» (М., 1984), рассказывающим о поездке ленинградских писателей по Грузии 1935 г. и имеющим название «На самом деле этого не было», а также воспоминаниями о встрече Нового 1947 года у О. Ф. Берггольц из очерка Л. Левина «Жестокий рассвет» (Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979). Печатаются по этим изданиям.
1. Обо всех этих приключениях Е. Л. писал Екатерине Ивановне 31 июля, уже добравшись до Тифлиса: «Выезд в понедельник, как я писал тебе уже, сказался на станции Иловайской (или Харцизской) перед Ростовым (за четыре часа). У нас внезапно отцепили мягкий вагон. Нас распределили по жестким. Это было бы ничего, но над нашими пижамами так издевались! Затем — кто-то из пересаженных пассажиров, кажется, ленинградский врач гинеколог, сказал, входя в жесткий, — „перевели нас в телячий вагон“. Этим он довел каких-то бойких на язык девиц, осатаневших от духоты и жары, до полного исступления. Они во весь голос говорили о нас самые обидные вещи. Я смеялся. <…> В Беслани пересели в местный поезд и вечером 25-го были в Орджоникидзе.
Здесь понедельник сказался вторично. Военно-Грузинская дорога оказалась размыта в самом надежном месте. Она не портилась здесь ни разу со дня основания. Речушка, впадающая в Терек, вышла из берегов, завалила камнями до крыши дома прибрежных жителей, сорвала мост, размыла шоссе. Терек изменил русло. Несмотря на это, мы выехали из Орджоникидзе. Доехали до замка Тамары. Там переправились в подвесной люльке на ту сторону, которую туристы видят мельком, пролетая мимо на автомобилях. Переправляться было весело. Терек грязный, как вода в корыте, прыгал внизу, но нам хоть бы хны. Идти было еще веселей. Воздух горный, чистый. И кругом горы. В одном месте идти пришлось над пропастью по тропинке вот… Она держит ногу, но кажется, что не держит. Я, опытный, шел смело. А многие пищали. Дальше пришлось переходить по камням совершенно бешеную речонку. Семь километров мы шли так. Потом вышли на шоссе. Поздно вечером мы попали на грузовике на станцию Казбек.
С нами шла молоденькая женщина-грузинка с грудным ребенком на руках. Она жила в домике, который взбесившаяся река завалила камнями. Никто не погиб. Женщина уезжала в Орджоникидзе. Она шла босиком, с ребенком на руках. Шла необычайно легко.
Еще с нами шли туристки, пожилая женщина в очках, тощий мужчина в макинтоше. Пожилая женщина кричала спутникам: — Что же вы не пополняете гербарий? Я нашла много разновидностей гвоздики.
Чемоданы наши несли молодые пастухи-горцы. Несли так легко, что мы только удивлялись. Взяли пятнадцать рублей с чемодана…»
2. У Е. Ш. замысел был несколько иной. Зная о предстоящей поездке в Грузию, он переделал пьесу «Клад» в сценарий «Маро», этим именем назвав главную героиню. Сценарий был принят Тифлисской киностудией, но постановка не состоялась.
3. Л. Л. Авербах писатель, гл. ред. ж. «На литературном посту», генеральный секретарь РАППа. В 1937 г. был арестован и расстрелян.
4. Ольга — О. Ф. Берггольц.
5. Воспоминания Г. Макогоненко о некоторых других встречах у О. Берггольц с А. Ахматовой, Е. Ш. и Ю. Германом в «слезе социализма» опубликованы в ж. «Дружба народов» (1987. № 3): «Чаще всего Анну Андреевну встречали не только мы, но и наши гости — Евгений Львович Шварц и Юрий Павлович Герман. Мы сидели за столом маленькой комнаты, в которой весело потрескивал камин и тепло горели свечи. Анна Андреевна всегда устраивалась поближе к камину и зябко куталась в теплую шаль. Трое из присутствующих — Анна Андреевна, Ольга Федоровна и Юрий Павлович — были, по словам Евгения Львовича, „достойно“ отмечены критикой /имеется в виду доклад А. Жданова и последующая за ней пресса. — Е. Б./ За столом царило веселое „оживление“. О „событии“, как о покойнике, не говорили. <…> С иронией Евгений Львович говорил, что критика его никогда не замалчивала. И действительно, его уже в 1944 году начали ругать за пьесу „Дракон“. Юрий Павлович отвергал его претензии, ссылался на „давность“ истории с „Драконом“ Шварц, улыбаясь, бодро отвечал: „Ничего, Юрочка, еще все впереди! То ли узрим, как говаривал Федор Михайлович, то ли узрим!“» И т. д.
ВЛ. НЕМОЛЯЕВ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Немоляев Владимир Викторович (1902–1987), кинорежиссер, актер, сценарист.
Впервые в сб.: Жизнь в кино. Вып. 3 (М., 1986). Печатается часть воспоминаний, имеющая непосредственное отношение к Е. Ш. и его сценарию. Используется текст и из ответа режиссера на просьбу составителя рассказать о встрече с Е. Шварцем.
1. Фильм снимался в 1938 г.
2. «По следам героя» (1935)
3. Е. Ш. было в ту пору было чуть больше сорока.
4. Из письма от 5.8.1966.: «Работать с Евгением Львовичем — было счастьем. Что же больше всего покоряло и пленяло в нем? Уже не говоря о понимании детской психологии, какой-то чудесной и мудрой теплоты. Особенно пленял в нем юмор, свой, шварцевский, ни на что не похожий. Как в сцене злой сестрицы Варвары с главным разбойником, страшным Беналисом, когда он по радио (в шарманке) пытается связаться со своим кораблем и лихими разбойниками, и когда ему не удается это сделать, он кричит:
— А-а-а-а! Они заснули — эти лодыри… Кто теперь идет в морские разбойники, одни лентяи и лодыри… Те, кого повыгоняли из школ. (К сожалению, я не помню дословно реплик Беналиса)»
5. «Доктор Айболит» вышел на экраны в марте 1939 г.
ВЕНИАМИН КАВЕРИН ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович (1902–1989), писатель, мемуарист, сценарист.
«Евгений Шварц» — глава из книги «Литератор», опубликованная в ж. «Звезда» (1987. № 8); «Ланцелот» — глава из книги «Вечерний день» (М., 1980); «Шварц и сопротивление» — глава из книги «Эпилог» (М., 1997). Печатаются по этим изданиям.
1. Точнее было бы сказать, что Е. Ш. не «брал» чего-то от Андерсена и Чехова, — он чувствовал их «своими» и полюбил именно потому, что сам обладал этими качествами, которые существовали в нем с рождения.
2. Первые публикации из «Амбарных книг», в которых Е. Ш. записывал воспоминания и вел дневник, начали выходить в 1990 г., — «Живу беспокойно…» и в 1997-м — «Телефонная книга». В 1999 г. в четырехтомнике Е. Ш. была опубликована большая часть его дневников-воспоминаний.
3. Речь идет о воспоминаниях, которые получили название «Детство», «Белый волк», «Превратности характера»
4. В данном случае речь идет об очерке-воспоминании «Печатный двор»
5. «Детство» и «Печатный двор» опубликованы в ж. «Искусство кино» (1962. № 9)
6. Фрагменты писем Е. Ш. А. П. Крачковской опубликованы в ж. «Детская литература» (1976. № 10)
7. «Страницы дневника» (Маршак) впервые были опубликованы в сб.: «Редактор и книга. Вып. 4» (М., 1963)
8. Евгений Шварц. Пьесы. Л., 1960; Л.; М., 1962.
9. Воспоминания о Печатном Дворе и художниках, оформлявших детские книжки, написаны Е. Ш. в 1953 г.
10. Приключения Гогенштауфена // Звезда. Л., 1934. № 11.
11. Впервые «Дракон» был опубликован в 1944 г. ВУОАПом, как «антифашистская пьеса», тиражом в 500 экз. В однотомник «Пьесы» он был включен в 1960 г.
12. Ничто в «Амбарных книгах», в которых Е. Ш. вел дневник и записывал «Ме», не было «зашифровано». Вскоре после получения их от Екатерины Ивановны, они архивом были переведены в машинопись. К ним, действительно, никого не допускали, ссылаясь на завещание Екатерины Ивановны: «Никому не выдавать до их опубликования» (?). К. Н. Кириленко, ведавшая фондом Шварца, и публиковала их понемногу.
13. И хотя Е. Ш. не пережил К. И. Чуковского, он успел написать о нем «иначе». См.: Евгений Шварц. Некомнатный человек (К 75-летию К. И. Чуковского) // Нева. 1957. № 3. Ответом на эту публикацию и явилось письмо К. И., помещенное в его воспоминаниях.
Н. П. АКИМОВ НАШ АВТОР ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
Акимов Николай Павлович (1901–1968), режиссер и художник, художественный руководитель Ленинградского театра Комедии: нар. арт. СССР.
Впервые в кн.: Н. Акимов. Не только о театре (М.; Л., 1966). Печатается по этому изданию.
1. Премьера «Тени» состоялась 11.4.1940. Постановка и оформление Н. Акимова, комп. А. Животов.
2. Пьеса «Наше гостеприимство» написана в 1938 г.
3. Премьера «Под липами Берлина» состоялась 12.8.1941. Постановка и оформление Н. Акимова, комп. А. Животов. В основных ролях выступили: Гитлер — Л. Колесов, Генерал — А. Савостьянов, Министр пропаганды — Ж. Лецкий, Шутт — Л. Кровицкий, Гретель — Е. Юнгер, Гретхен — Т. Сезеневская, Дурак — С. Филиппов, Доктор — П. Суханов.
4. Шварцы были эвакуированы из Ленинграда 12 декабря 1941 г.
5. Проездом из блокадного Ленинграда на Урал Н. П. Акимов и Е. В. Юнгер были в Кирове и встречались со Шварцами. См. восп. Е. В. Юнгер.
6. Шварцы приехали в Сталинабад 24 июня 1943 г.
7. «Дракона» Е. Ш. дописывал в 1943 г.
8. «Дракон» был сыгран в Москве 4.8.1944 в постановке и оформлении Н. Акимова.
9. «Один год» Е. Ш. начал писать в 1946 г., как сценарий для Я. Б. Жеймо.
10. В 1949 г. Н. П. Акимов был отстранен от руководства театра Комедии.
11. Премьера «Обыкновенного чуда» состоялась 30.4.1956. Постановка и оформление Н. Акимова, реж. П. Суханов, комп. А. Животов.
12. Премьера «Повести о молодых супругах» состоялась 30.12.1957. Постановка Н. Акимова и М. Чежегова, худ. Н. Акимов, комп. А. Животов.
13. Премьера «второй» «Тени» была показана 19.11.1960.
ПАВЕЛ СУХАНОВ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ Е. Л. ШВАРЦА
Суханов Павел Михайлович (1911–1973), артист, режиссер; нар. арт. РСФСР.
Вечер состоялся в 1971 г. в Ленинградском театральном музее. Выступление публикуется впервые по стенограмме вечера.
1. После премьеры «Обыкновенного чуда» в моск. Театре киноактера Л. А. Малюгин и А. А. Крон писали Е. Ш. о том, что спектакль прекрасный и что первые акты великолепны, а третий — слабее. На что Е. Ш. отвечал им достаточно остроумно. Крону: «Относительно третьего акта Вы, вероятно, правы. Я его не знаю. Эраст там что-то переставил, что-то сократил, — посмотрю, тогда пойму. Но независимо от этого, — музыковеды утверждают, что самое слабое в музыкальных произведениях, как правило, финал. Они так это и называют: „проблема финала“. Это в музыке! Где есть теория! Что же нам грешным делать? Я не оправдываюсь. Это я так, к слову». Малюгину: «Насчет третьего акта ты конечно прав. Напомню только, что говорит об этом Чапек. Он пишет, что по общему мнению первый акт всегда лучше второго, а третий настолько плох, что он хочет произвести реформу чешского театра — отсечь все третьи акты начисто»
2. «Сказка о потерянном времени» впервые была напечатана в журнал «Костер» (1940. № 7–8)
ЕФИМ ДОБИН ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК
Добин Ефим Семенович (1901–1977), литературовед, искусствовед; редактор сценарного отдела Ленфильма.
Впервые в ж. «Нева» (1988. № 11). Печатается по этому изданию.
1. В 1935 г. на 65-летие А. П. Чапыгина Е. Ш. написал кукольную пародийную пьесу «Чапыгин Алексей», действующими лицами которой были сам «убиляр», Степан Разин и ленинградские писатели, принимавшие участие в юбилее. (См.: Всемирное слово. 1992. № 3)
2. В «Красной Шапочке» нет такого персонажа.
3. Д. Д. Шостакович.
4. Если быть точным, то прошло немного более года.
ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ ИСПЫТАНИЕ ДУШИ
Кетлинская Вера Казимировна (1906–1976), писательница.
Впервые — в сб. «Мы знали Евгения Шварца». Печатается по кн.: В. Кетлинская «Рядом с героями» (М.; Л., 1967).
1. «Под липами Берлина»
В. М. ГЛИНКА О ШВАРЦЕ
Глинка Владислав Михайлович (1903–1983), прозаик, историк, искусствовед; главный хранитель отдела истории русской культуры Эрмитажа, засл. работник культуры.
Впервые: В. М. Глинка. Хранитель. Кн. 2. СПб., 2006.
1. В квадратных скобках — вставка из беседы с составителем 7.1.1967.
АЛЕКСАНДР ШТЕЙН «НИКОГДА БЫ НЕ УЗНАЛ ТОГО, ЧТО УЗНАЛ…»
Штейн Александр Петрович (1906–1993), драматург, мемуарист.
Глава из книги А. Штейна «Повесть о том, как рождаются сюжеты» (М., 1965). Впервые — в ж. «Знамя» (1964. № 5). Печатается по «Повести» с фрагментом из кн.: А. Штейн «Непридуманное» (М., 1985).
1. Автор имеет в виду пьесу «Одна ночь», которую Е. Ш. написал в Кирове в 1942 г.
2. «Голого короля» Е. Ш. переделал в 1943 г. из пьесы «Принцесса и свинопас», которую написал, действительно, в 1934 г.
3. Евгений Шварц. Пьесы (Л., 1960)
4. У Шварца — Кей.
5. Речь идет о «Вестсайской истории» Л. Бернстайна.
6. Это не четверостишие, а первые четыре строки довольно большого стихотворения «Карась»
7. В 1962 г. вышло второе издание «Пьес»
8. В действительности Алексей Иванович Еремеев свой псевдоним (Л. Пантелеев) никогда не расшифровывал.
9. Дата — 1964 относится к воспоминаниям из «Повести о том, как рождаются сюжеты», а последние абзацы, судя по упоминанию сборника «Мы знали Евгения Шварца» (1966), дописаны позже.
ЛЕОНИД ЛЮБАШЕВСКИЙ /СТАРАЙТЕСЬ ИМЕТЬ ТАКОГО ДРУГА…/
Любашевский Леонид Соломонович (Д. Дэль) (1892–1975), артист, драматург; засл. арт. РСФСР.
Воспоминания публикуются впервые. Рукопись храниться в РГАЛИ. Ф. 2533. Оп. 1. Ед. хр. 509. Заголовок дан составителем.
1. В квадратные скобки заключен отрывок из кн.: Л. Любашевский — Д. Дэль. Рассказы о театре и кино. Л.; М., 1964.
ЛЕОНИД МАЛЮГИН ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
Малюгин Леонид Антонович (1909–1968), драматург, киносценарист, публицист.
Впервые в ж. «Театр» (1966. № 6). Печатается по кн.: «Мы знали Евгения Шварца» с журнальным заголовком.
1. Переделывал, и не по одному разу. Напр., «Марья-искусница» имела 9 вариантов; чтобы прийти к «Двум кленам», он написал две предварительные пьесы — «Иван — Честной работник» и «Василиса-работница»
2. В мае 1943 г. оба были вызваны в Москву на совещание драматургов в Комитете по делам искусств.
3. Подробнее об этой постановке см. восп. Э. П. Гарина.
4. Юбилей Е. Ш. в Доме писателей состоялся 20 октября 1956 г.
ЛЕОНИД РАХМАНОВ ПОЗДНЯЯ ДРУЖБА
Рахманов Леонид Николаевич (1908–1988), писатель, мемуарист.
Впервые в газ. «Литературная Россия» (1966, 21 янв.). Печатается по кн.: Л. Рахманов «Люди — народ интересный» (Л., 1981).
1. Е. Ш. приезжал в Котельнич в июле 1942 г.
2. «Далекий край» в 1943 г. был поставлен ЛенТЮЗом, Новым ТЮЗом, Центральным Детским театром, Моск. ТЮЗом и др. детскими театрами.
3. Пьеса В. Катаева.
4. Е. Ш. задумал «Дракона» еще до войны, тогда же было написано и первое действие пьесы.
5. Л. Н. Рахманов был составителем (с З. А. Никитиной) сб. «Мы знали Евгения Шварца»
6. «Дон Кихота» Е. Ш. посмотрел на Ленфильме в просмотровом зале. См. его восп. о режиссере: «Ваш Григорий Козинцев» (М., 1996)
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ ИЗ КНИГИ «ГОДЫ, ЛЮДИ, ЖИЗНЬ»
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), прозаик, поэт, переводчик, публицист.
Впервые — «Огонек» (1987. № 24). Печатается по кн.: И. Эренбург «Люди, годы, жизнь». В 3 т. Т. 3 (М.,1990).
1. В апрельской беседе 1967 г. Илья Григорьевич сказал, что тогда Л. П. Берии было присвоено звание маршала.
2. Речь идет об «Оде на поимку Таирова» А. К. Толстого.
3. Лидин (Гимберг) В. Г.; Е. Ш. цитирует строку из «Графа Нулина» А. С. Пушкина. Андрей Белый (Бугаев Б. Н.); Демьян Бедный (Придворов Е. А.); Артем Веселый (Кочкуров Н. И.), погиб в заключении.
4. На Втором съезде писателей СССР, в содокладе Борис Полевой «обругал меня утром…», — записал Е. Ш. в дневнике 16 декабря 1954 г.,т. е. на утреннем заседании Полевой назвал сказку «Рассеянный волшебник» «вредной пошлостью». А 20-го — новая запись: «Я сейчас просто в загоне. Впрочем попробуем пережить все это». 24-го делегатов съезда фотографировали поодиночке и группами. Когда собрались сниматься Е. Ш., Л. Пантелеев и Вл. Беляев, «появился Полевой. Увидев меня, он, длинный, но начинающий полнеть, мертвенно бледный, черноглазый с приспущенными веками, черноволосый, добродушно захохотал и сказал: „Он со мной не захочет сниматься!“ Завязался разговор, из которого я понял, что кроме убийц из ненависти или по убеждению, или наемных, есть еще и добродушные по неряшеству. „Я же вас выругал за одну сказочку“, — и так далее»
5. О. Ф. Берггольц в своем выступлении сказала тогда: «Театры жалуются на отсутствие репертуара, а у нас существует такой мастер драматургии, тоже „не вошедший в обойму“ /Корнейчука, актеров и режиссеров, выступавших на съезде на тему о драматургии. — Е.Б./, как Евгений Шварц. Напрасно товарищ Полевой говорил о нем только как об инсценировщике. Это талант самобытный, своеобразный, глубоко гуманный. У него ведь не только пьесы для детей. Однако его пьесы для взрослых лежат, их не ставят, о них не пишут…»
6. Заседание шло под председательством заместителя председателя Комитета по делам искусств А. В. Солодовникова.
7. Впервые «Дракон» был включен в посмертный сборник пьес Е. Ш. по договору от 4 февраля 1960 года, который заключался с наследницей писателя Екатериной Ивановной Шварц. Ни на одном из Редсоветов «Советского писателя» состав однотомника не обсуждался, и мысль о включении его могла придти разным людям. Но то, что именно Екатерина Ивановна, умышленно или случайно, дала тот экземпляр «Дракона», что был опубликован ВУОАПом в 1944 году, а не одну из машинописных переделок, сомнения не вызывает. Он-то и стал каноническим текстом пьесы.
8. 22.10.1956 И. Г. Эренбург прислал поздравительную телеграмму Е. Ш.: «Дорогой Евгений Львович, рад от всей души поздравить вас, чудесного писателя, нежного к человеку и злого ко всему, что мешает ему жить ТЧК Желаю вам здоровья и душевного покоя = Эренбург». На следующий день Е. Ш. ответил: «Дорогой Илья Григорьевич! Спасибо от всей души за поздравление. Я с давних пор привык Вам верить, и слова показались мне особенно приятными. Простите за почерк. Не думайте, что это от того, что мне шестьдесят. Всегда так было. Низкий поклон Любови Михайловне. Ваш Шварц»
9. Дата поставлена составителем. В апреле 1967 г. я, собирая материалы для диплома о Е. Ш., попросил И. Г. Эренбурга рассказать о том заседании Комитета, где обсуждался второй вариант «Дракона». В конце беседы писатель сказал, что «надо бы написать о Шварце». И написал — за несколько месяцев до кончины.
ИСИДОР ШТОК МУДРЕЦ
Шток Исидор Владимирович (1908–1980), драматург, актер.
Впервые в кн.: И. Шток «Рассказы о драматургах» (М., 1967). Печатается по кн.: Исидор Шток. Премьера. М., 1975.
1. Пьеса И. Штока и Яна Дрды «Чертова мельница»
2. Фисанович Израиль Ильич (1915–1944), командир знаменитой подводной лодки, уничтожавшей массу транспорта противника; Герой Советского Союза.
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ ВСТРЕЧА В «АСТОРИИ»
Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975), поэт, прозаик.
Встреча в «Астории» впервые: О. Берггольц «Доброе утро, люди!» // Литературная газета. 1960. 25 июня. Печатается, как и стихи, по кн.: Ольга Берггольц. Собр. соч. В 3 т. Т. 3. Л., 1979. «Нет — Дракону!» — в сб.: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.
1. Молчанов Николай Степанович, филолог, критик, журналист.
2. Бабушкин Яков Львович, худож. рук. блокадного радио. Погиб в 1944 г. Под именем Алексей Соболев он выведен в сценарии О. Берггольц и Г. Макогоненко «Ленинградская симфония» (1945)
3. Премьера «Дракона» в театре Комедии состоялась 5 июня 1962 г.
4. В квадратные скобки взят отрывок из выступления О. Берггольц «Слово о гуманизме» на научной сессии в Институте мировой литературы в 1962 г., впервые опубликованный в сб. «Вспоминая Ольгу Берггольц»
ЕЛЕНА ЮНГЕР ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД
Юнгер Елена Владимировна (1910–1999). ведущая артистка театра Комедии; нар. арт. РСФСР.
Впервые в кн.: Е. В. Юнгер «Друзей прекрасные черты» (Л., 1985). В текст включен фрагмент главы из той же книги, посвященный Н. П. Акимову, — «Визит к А. А. Ахматовой» — впервые в журнале «Современная драматургия» (1989. № 2). Печатается по кн.: Е. В. Юнгер «Все это было…» (М., 1990).
1. В 1949 г. пьеса «Повесть о молодых супругах» называлась еще «Первый год»
2. Кошеверова Надежда Александровна, кинорежиссер, поставившая по сценариям Е. Ш. «Золушку», «Каина XVIII» и «Тень»
3. В спектакле «Софья Ковалевская» по пьесе бр. Тур (1948)
4. В конце 1941 г. — из блокадного Ленинграда.
5. В квадратных скобках — фрагмент главы «Пещера волшебника»
6. По поводу журналов «Звезда» и «Ленинград», где поносились А. А. Ахматова и М. М. Зощенко.
7. В «Золушке» Е. В. Юнгер исполняла роль Анны.
8. В квадратных скобках — фрагмент из книги «Все это было…»
МИХАИЛ ШАПИРО СТРОКИ ВОСПОМИНАНИЙ
Шапиро Михаил Григорьевич (1908–1971), кинорежиссер, сценарист.
Впервые опубликовано в ж. «Искусство кино» (1962. № 9). Печатается по этому изданию.
1. Жеймо Я, Б., исполнительница загл. ролей в фильмах «Разбудите Леночку», «Леночка и виноград» и «Золушка», Цитируемая автором «поэма», написанная Е. Ш. в соавторстве с Н. М. Олейниковым, была сочинена не на «юбилей» артистки, а на окончание съемок «Леночки и виноград» (1934) и была поднесена Жеймо на большом самодеятельном плакате.
2. Юбилей Я. Б. Жеймо, о котором рассказывает автор, отмечался в Доме кино в 1936 г. На нем Е. Ш. читал совсем иные стихи, посвященные артистке и написанные им уже без соавторства. См.: Речитатив. СПб., 1997. № 1. С. 20.
3. К. Р. — великий князь Константин Константинович Романов, поэт и драматург.
4. Круминьш Янис, один из сильнейших баскетболистов СССР.
5. Речь идет о повести И. И. Ликстанова «Первое имя»
6. М. Шапиро и сам в малокартинье был переквалифицирован из режиссера в редактора и однажды в разговоре сказал: «Представляете — мы учили Шварца, как надо писать!». Но не всегда на критику членов худсоветов Е. Ш. «тоскливо замолкал». Вот как он ответил, к примеру, им на обсуждении его сценария «Один год», который писал после «Золушки» для Я. Б. Жеймо: «Я был бы в высшей степени расстроен, если бы мог согласиться, что виноват в тех грехах, которые мне сегодня приписываются. Должен с горечью сказать, что на три четверти я их не принимаю. Поэтому я даже не огорчился. Очень странно, когда кажется, что ты один прав, а все остальные нет. Но страшнее было бы, если бы меня убедили, что я органически не сумел сделать того, что нужно, и вы все правы» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 16. Ед. хр. 1648. Л. 215)
ОЛЬГА ЭЙХЕНБАУМ ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ОТЦЕ»
Эйхенбаум Ольга Борисовна (1912–1999), дочь Эйхенбаума Бориса Михайловича (1886–1959).
«Воспоминания» впервые: Б. М. Эйхенбаум. Мой временник. СПб., 2001. Публикуются по этому изданию. Наша «беседа» публикуется впервые.
1. Потому что Е. Ш. писал Екатерине Ивановне, уезжая по разной надобности в другие города, а она — часто больная — оставалась дома одна. Малая часть этих писем опубликована в сб.: «Житие сказочника: Евгений Шварц» (М., 1991)
2. А. А. Зильбер (псевд. Ручьев), композитор, первый муж Екатерины Ивановны.
3. И. Л. Андроников.
4. Андрей Крыжановский, внук Е. Ш., поэт, основатель журнала «Речитатив»
5. Публикуется впервые. Оригинал хранится в РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 267. Л., 7. Е. Ш. снова уложили в постель, и Екатерина Ивановна никого к нему не пускала. 9 мая он записал в дневнике: «Лежу, болею, но не слабеет жажда /жизни/, самой обыкновенной, уходящей корнями в самую обыкновенную унавоженную землю. И вместе с тем изменение в духовной жизни. Не знаю, что будет. Опять хочется писать.». (Живу беспокойно… М., 1999. С. 682)
6. Б. М. Эйхенбаум. Мой временник.
ДАНИИЛ ДАНИН <1950. КОМАРОВО>
Данин (Плотке) Даниил Семенович (1914–2000), писатель, критик.
Отрывок из его книги «Бремя стыда» (М. 1996), стр. 358–359. Печатается по этому изданию. Заголовок дан составителем.
Д. М. МОЛДАВСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ЖИВШИЙ В СКАЗКЕ
Молдавский Дмитрий Миронович (1921–1989), критик, литературовед; гл. ред. 2-го Творческого объединения к/с Ленфильм в семидесятые годы.
Различные варианты воспоминаний публиковались в студийной многотиражке «Кадр», в «Нашем современнике» (1967. № 3), в «Звезде» (1979, № 11) под разными заголовками. Печатается по кн.: Дм. Молдавский. Товарищ смех. (Л., 1981).
1. В Сталинабад Е. Ш. и Театр комедии приехали врозь: вначале театр, а примерно через год — Шварцы.
2. Дм. Молдавский. «Золушка» // Смена. 1947, 22 мая.
3. Пино Кристиан, франц. гос. и политический деятель, премьер-министр Франции (1955) и сказочник.
4. Это автобиографический эпизод.
5. Д. Д. Нагишкин в 1952 г. обвинил на конференции по вопросам детской литературы Е. Ш. в «формализме», сказав, что в «Сказке о потерянном времени» он «не нашел сказочного эквивалента советской меры времени, не мог или не захотел показать, чему равняется „потерянное время“», что мог бы «советский человек» «сделать в это „потерянное время“», и проч. (Д. Нагишкин. О задаче советской художественной сказки. М.; Л., 1953. С. 259)
6. Раскрывать «оригиналы» не стану.
МИХАИЛ КОЗАКОВ ИЗ «ЗАПИСОК НА ПЕСКЕ»
Козаков Михаил Михайлович (1934–2011), артист, режиссер, нар. арт. России.
Впервые в кн.: Михаил Козаков «Записки на песке» (М., 1988) Печатается по этому изданию.
1. Сейчас на этом здании мемориальные доски есть у всех писателей, названных автором, кроме Е. Ш.
СЕРГЕЙ ЦИМБАЛ СКАЗОЧНИК ПО-ПРЕЖНЕМУ СРЕДИ НАС!
Цимбал Сергей Львович (1907–1978), театровед, критик; автор книги «Евгений Шварц». (Л., 1961).
Под заголовком «Сказочник по-прежнему среди нас!» — в ж. «Искусство кино» (1962. № 9). Публикуется по сб. «Мы знали Евгения Шварца» (1966).
1. П. Ф. Метузал. Джентльмен, или Настольная книга изящного мужчины. СПб., 1913.
2. Речь идет о пьесе «Пусть неудачник плачет» (1946)
РАИСА БЕРГ ИЗ КНИГИ «СУХОВЕЙ»
Берг Раиса Львовна (1913–2006), генетик, доктор биологических наук. Выслана из России в 1975 г. Автор книги «Суховей. Воспоминания генетика».
1. Первая часть воспоминаний впервые в «Суховее» (Нью-Йорк, 1983), вторая — в «Суховее» (М., 2003); печатаются по последнему изданию. «Байки» публикуются впервые.
ЮРИЙ СЛОНИМСКИЙ ИЗ СБОРНИКА «МЫ ЗНАЛИ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА»
Слонимский Юрий Осипович (1902–1978), критик и историк балета, либреттист.
Впервые — «Мы знали Евгения Шварца». Печатается по этому изданию.
1. «Берег надежды» А. Петрова, «Тропою грома» Кара Караева.
2. «Родные поля» — балет Н. Червинского.
3. «Аистенок» Д. Л. Клебанова.
4. Этот эпизод в жизни Е. Ш. произошел во второй половине 1953 г. Воспоминания Ю. Слонимского писались в 1965 или 1966 гг., а воспоминания Е. Ш. написал в 1955-м. И потому, думаю, они более точны. Григорович «пришел поговорить, разузнать — не соглашусь ли я написать либретто для балета. Был он артистом Кировского театра и, в отличие от балетных мальчиков, с самых первых слов произвел впечатление человека, а не только цветущего растения. Он уже пробовал себя в качестве балетмейстера и надеялся получить постановку. <…> Конечно, ему хотелось сказку. Преодолевая некоторое отвращение, я стал беседовать с ним на эту тему. Отвращение, точнее страх вызывал не будущий балетмейстер. Боже упаси. Боялся я духа, что властвует в их театре. <…> Но вот попадешь на балетный спектакль — и словно свежим ветром рассеивается сплетнический, за глотку хватающий туман предубеждения. Великолепное, близкое музыке, вне смысла лежащее зрелище охватывает сознание… И чистота»
5. «И как всегда в преживаниях подобной высоты, похожее на влюбленность чувство жажды. Со смутным сознанием, что утолить ее — нет надежды, нет способа. И при встрече с Григоровичем последнее ощущение смутно заговорило во мне. И я как будто испытал желание присоединиться, стать участником того, что видел на сцене. Впрочем — очень смутное. Яснее говорило единственное, неизменное и могучее чувство, сопровождающее меня всю жизнь — оставьте меня в покое. Опыт научил, что для этого спокойнее всего — изъявить согласие, а там видно будет. И я согласился подумать. Но у Григоровича натура оказалась здоровая. Он вовсе не хотел покоя, а хотел либретто. Он зашел еще раз и еще, и кончилось дело тем, что я, к собственному удивлению, придумал нечто, соответствующее моему представлению о балете. И Григоровичу это понравилось. <…> И я стал писать заявку, которую они /т. е. театр. — Е. Б./ с меня требовали. Но едва я дошел до середины, как в Комарове, когда не было меня дома, появился человек, отлично одетый и крайне самоуверенный. Он сообщил Кате, что вызван из Москвы Кировским театром, дабы стать моим соавтором. У него большой опыт в этой области. Он уже отыскал композитора. И так далее. Я ужаснулся. Еще не прочтя либретто, не зная толком, в чем тут дело, разыскали они мне соавтора, который в свою очередь добыл композитора. Ну и дельцы! И обычное желание — оставьте меня в покое — разгорелось непобедимо…» (Евгений Шварц. Телефонная книжка. — М., 1997. С. 99–102)
Фрагменты статьи Ю. И. Слонимского с воспоминаниями о Е. Л. Шварце, не вошедшие в издание 1966 г. «Мы знали Евгения Шварца». Приведены по одному из двух черновых вариантов статьи, хранящихся в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке в архиве Ю. И. Слонимского:
Ф. 22. Ю. И. Слонимский. Оп. 2. Ед. хр. 301.
Сохранившиеся в архиве варианты представляют собой машинопись с авторской правкой, имеют название: «Е. Л. Шварц — балетный драматург». Не датированы, время создания, по-видимому [1960-е гг.]
Фрагменты приводятся последовательно от начала к концу статьи. В начале даны строки (выделенные курсивом), между которыми помещается фрагменты.
После предложения: «В ту пору эти его взгляды…… в этом немало обязан Евгению Львовичу» до слов «Чуть позже я повторил свое предложение»
«Не лишне будет сказать, что в то время собственные дела Евгения Львовича оставляли желать лучшего: пьесы его исчезли из репертуара большинства театров, новые проекты для сцены и кино застревали на пол-пути; в печати появлялись статьи о нем, резко критические и во многом несправедливые; словом, Евгению Львовичу приходилось туго. Он упорно работал, но жил по латинскому изречению: „Много трудов — мало денег“. Вот тогда-то у меня и возникла мысль предложить Евгению Львовичу написать балетный сценарий.
Когда я заговорил с ним об этом впервые, он нахмурился и промолчал».
После слов: «… формируется оригинальный и благородный поэт танца» до слов «Все это я рассказал Евгению Львовичу…».
«Я радовался этому и пытался проложить ему дорогу в театр им. Кирова. Но на все мои рекомендации мне неизменно отвечали: „Такого балетмейстера не знаем“ и упорно отказывались даже посмотреть, что он поставил во Дворце Культуры им. Горького»
После слов: «Это последнее даже рассмешило Евгения Львовича. Потом он задумался, и некоторое время мы гуляли молча» до слов «Мне показалось, что разговор о Григоровиче сдвинул с места интересовавший меня вопрос». (1)
«Потом он задумался, и некоторое время мы гуляли молча, как вдруг он спросил: „Вы говорите, что Григоровичу не дают ставить в театре. Как же ему помочь?“ Я ответил: „Сочинить для него сценарий“. Евгений Львович замолчал, и на том мы расстались.
Надо сказать, что Евгений Львович был очень отзывчив на чужую беду. Поэтому мне показалось, что разговор о Григоровиче сдвинул с места интересовавший меня вопрос».
После слов «Он работает, выполняя трудное задание — во что бы то ни стало излечить Несмеяну» до слов «Так сложился прекрасный сценарий»:
«И что бы он ни делал — все заразительно, зажигательно.
Как всегда у Евгения Львовича, остроумные детали имели большое значение. Вот один красивый эпизод, показывающий игру фантазии драматурга. Вовлекая придворных в „лечение“ царевны, герой заставляет их высадить окна, распахнуть двери; он срывает полог над ложем Несмеяны, стаскивает с нее платок, с приплясом и посвистом ведет царевну в сад. Перед Несмеяной проходят невиданные ею картины: гулянье девок и парней; полный птиц и животных лес, сам живой, с белоствольными кудрявыми березками, щеголяющими тонкой талией. Как выразился Евгений Львович, „тут идет какое-то па, куда надо вложить все, что только возможно“. И Несмеяна оживает. Все ей внове, все ее манит и радует, ко всему хочется приобщиться. „Снова танцы, — сказал на этом месте Евгений Львович. — Танец царевны, танец природы. Все живое, все настоящее, в противовес ненастоящему во дворце“.
Весть о том, что Несмеяна выздоровела, доходит до царя. Он прибегает в сад, шокированный „методом“ лечения и пребыванием царевны в „дурном обществе“. Вылечил и довольно! Все по своим местам: царевна — в опочивальню, солдат — на задний двор! Забыты посулы озолотить спасителя, дать ему доходное местишко, женить на исцеленной дочери. Но героя все это мало заботит. Посмеиваясь, он уходит, окруженный парнями и девками, вот-вот скроется за поворотом… И вдруг Несмеяна срывается с места и бежит вдогонку….»
После слов: «Драматург исходит из той структуры балетных спектаклей… танцевальными номерами и целыми сюитами» до слов «Не буду пересказывать весь сценарий…». (2)
«Впрочем, Евгений Львович изнутри обновляет ее.
Кто помнит замечательных персонажей пьесы Шварца — Сказочника, ведущего действие, грозную Снежную королеву, Советника, разбойников, пленявших зрителей спектакля в Новом Тюзе, — тот может разочароваться: в проекте балета многие из этих персонажей, включая и второстепенных, утратили значительную часть своей привлекательности и обезличились (вспомним, как прелестны были Вороны, Олень и др.). Это сделано, видимо, ради того, чтобы выделить двух истинных героев пьесы — Кея и Герду. Они сохранили в балете все достоинства и даже приобрели новые».
После слов «Остроумно в балетном смысле разработано действие во дворце Короля» до слов «Начинается акт церемонией раздела имущества и дворца».
«Здесь что ни явление, то радость для юных зрителей, то возможность развернуть балетмейстерскую фантазию. Евгений Львович щедро рассыпает все новые и новые ситуации, смешные и теплые. Вот одна из них».
После слов: «Первая и вторая скрипка играют прощальный дуэт… оркестр тихо и печально аккомпанирует им» до слов «Последний акт кажется наименее богатым». (3)
«То же происходит и с другими инструментами. Но туба в оркестре одна; у литавриста три котла, а барабан тоже один. Стоя на самой границе, музыкант умоляюще смотрит на дирижера: что делать? Туба исполняет соло, полное глубокого недоумения. Недоумение, доходящее до страданья, слышится в оркестре. Дирижер находит решение: оркестранты тянут узелки. Но и сам дирижер не знает, как ему быть: когда он переходит на половину принцессы, фальшивит оркестр на половине короля, когда возвращается, — фальшивит оркестр на половине принцессы. Наконец, дирижер, как Чаплин в своем фильме, движется вдоль границы — одна нога здесь, другая там. Сломав палочку на две части, он дирижирует одновременно двумя половинами оркестра».
После слов: «… от жара сердца Герды, пылающего любовью к Кею» до слов «На смену красочному внешнему действию…».
«Это большой танец, навеянный, быть может, сходным эпизодом из последнего акта „Ледяной девы“ Ф. Лопухова, где двенадцать ледяных дев тают одна за другой от прикосновения героя, ищущего пропавшую героиню.
Преодолев все преграды, Герда проникает во дворец Снежной королевы, где на ледяном троне дремлет Кей. Он не узнает подругу, не желает с ней разговаривать и велит уходить прочь. Герда повинуется было, но любовь не позволяет ей бросить Кея. Она возвращается, слезами и горячим дыханием пытается разбудить его память, растопить ледяное сердце».
После слов: «…в акте развязки предстает перед нами один большой танец, выражающий главное содержание акта» до слов «Предвижу ряд вопросов…». (4)
«Это драматургически логично и составляет едва ли не лучшее место сценария. Говоря профессиональным языком, возникает падаксьон, то есть, высшая форма драматического напряжения в танце, узловой пункт его драматургии — сценарной, музыкальной и хореографической.
Трижды танцует Герда свое соло воспоминаний и любви. И трижды в ответ Кей указывает ей на дверь — гонит ее прочь. Но в третий раз „рука его бессильно падает. С проблеском удивления, с смутной тревогой он вглядывается в Герду. Медленно, неуверенно поднимает обе руки, берет Герду за голову, поворачивает к себе ее лицо и долго смотрит на нее.“ По идее драматурга, в оркестре тоже отражается постепенное отогревание сердца Кея: „…в музыке едва-едва слышно начинает звучать мелодия того танца, который Кей танцевал дома в день своего рождения“. Все шире и шире звучит она, проникаясь страстным чувством жизни, любви, человечности. Герда стягивает с Кея снежную мантию и ледяную корону, и тогда зритель видит Кея в его праздничном костюме 1-го акта. Герда плачет все горячей, и ледяное сердце тает. Кей узнает Герду и спрашивает: как она сюда попала? почему она плачет? кто посмел ее обидеть? Наконец, Герда берет Кея за руки и начинает медленно спускаться с ним по ледяной лестнице. Прекрасный танцевальный замысел: оказывается, Кей разучился ходить, и тогда любящая его девочка — как сестра, как мать — учит Кея ходить, словно маленького ребенка. Драматург подробно разработал этот танец. Сделан первый круг, второй, третий. Теперь они уже могут бегать, прыгать — танцевать. Их ликующий танец завершается бегством из царства Снежной королевы.
На этом по существу сюжет балета заканчивается. Заканчивается и оригинальная разработка его драматургии».
После слов «Ответить на это весьма затруднительно» до слов «Только поиски в архивах театра…»:
«Политредактор Управления культуры (Э. Н. Подкаминер) не помнит обстоятельств рассмотрения сценария в 1940 году. Завлит Театра им. Кирова Н. П. Шастин, направлявший сценарий Шварца в Управление культуры, пал в боях за Родину. Нет в живых ни В. М. Дешевова, писавшего музыку для спектакля в Новом Тюзе, ни А. С. Животова, мечтавшего о балете на сюжет Е. Д. Шварца. Худрук балета Театра им. Кирова в 1940 г. Л. М. Лавровский не смог вспомнить обстоятельств работы над балетом „Снежная королева“, а балетмейстера этого театра В. И. Вайнонена, которому больше всего подходил такой замысел, уже нет в живых».
После слов «…могут пролить свет на интересующий нас вопрос»:
«Я же снова и снова с печалью и благодарностью вспоминаю Евгения Львовича Шварца, — умного и бесконечно доброго сказочника, выдающегося чудодея сцены, воспевавшего любовь к человеку и веру в его безграничные силы, — которого так недостает всему нашему балетному театру».
[Концовки статьи, опубликованной в сборнике, нет в черновом варианте]
Поздняя допечатка — дополнение к статье:
«Прошел ряд лет. Я перебирал свою библиотеку и обнаружил маленькую книжечку, которую совершенно забыл. Это Евгений Шварц. „Снежная королева“. Пьеса в четырех действиях. „Искусство“. Ленинград — Москва. 1939. На листке, предшествующем титульному листу, рукой автора написано „Юрию Осиповичу Слонимскому — первый вариант оперы-балета от автора“ и поставлена дата „19.IV.39 г.“
Теперь я вспомнил. Переговоры с Евгением Львовичем начал я, будучи тогда завлитом театра им. Кирова. Мы обсудили план перестройки пьесы в оперу-балет, точнее в балет с вокальными сценами. Во время обсуждения вышла пьеса (в марте 1939 года) и автор презентовал мне ее экземпляр. Обстоятельства сложились так, что я ушел из театра где-то в первой половине 1939 года и потерял из виду судьбу замысла. Этим сообщением я вношу некоторую ясность, исправляя свою ошибку в воспоминаниях об Евгении Львовиче».
ЮРИЙ СЛОНИМСКИЙ. Е. Л. ШВАРЦ — БАЛЕТНЫЙ ДРАМАТУРГ
Впервые — в сб. «Мы знали Евгения Шварца» без заголовка. В данном издании он дается по черновику автора, хранящемуся в архиве СПб Театральной библиотеки: Ф. 22 Оп. 2. Ед. хр. 301.
/Комментарии/:
1. Отрывок из черновика не вошедший в первое издание воспоминаний. В дальнейшем в комментарии включены и другие куски текстов из того же черновика.
2. «Волшебная фата» — описка автора. На самом деле речь идет о балете Стефании Заранек «Чудесная фата», написанном, как и «Несмеяна», по мотивам русских народных сказок.
3. /Отрывок 2/.
4. бывш. прим.4.
5. /Отрывки/.
6. /Отрывок 5/. Более поздняя запись, как дополнение к воспоминаниям.
АРКАДИЙ РАЙКИН ШВАРЦ
Райкин Аркадий Исаакович (1911–1987), основатель и худ. рук. театра Миниатюр (ныне «Сатирикон»), нар. арт. СССР, Лауреат Ленинской премии. Герой Соц. труда.
Впервые в кн: А. Райкин. Воспоминания (СПб., 1993). Печатается по этому изданию.
1. В действительности кинорежиссеры Васильевы — однофамильцы.
2. Теперь она снова Малая Посадская, а на доме № 8 появилась доска.
3. Гузынин Константин Алексеевич (1900–1993), эстрадный артист, драматург. «Пьеса эта уже ставилась и была доведена до конца, и показана Реперткому и Комитету и запрещена к постановке в таком виде, — писал Е. Ш. дочери. — От Райкина потребовали усиления труппы, а от автора полной переделки пьесы. Сроку дали два месяца. Акимов звонил из Москвы после всех этих событий, предлагая мне взяться за переделки, и я нечаянно согласился. Звонок разбудил меня в четыре часа ночи, и я плохо соображал, о чем идет речь. Пьесы такого типа, которые похожи на скотч терьеров, — и собака и не собака, и смешно и уродливо, словом, — и пьесы, и вместе с тем эстрадные программы, — всегда отпугивали меня. Не в качестве зрителя, а как автора. А тут задача усложнялась еще и тем, что надо было перекраивать чужое, что я делать не умею. Ознакомившись со всем, что мне предстояло, уже, так сказать, при дневном и трезвом освещении, я попробовал взять обратно свое согласие. Ничего из этого не вышло. Получалось так, что мой отказ подводит и Райкина, и всю труппу, и Акимова»
4. «Дети райка», фильм фр. реж. Рене Клера.
5. Премьера «Под крышами Парижа» состоялась 29.1.1952.
ТАТЬЯНА ЗАРУБИНА «МОЯ АЗБУКА»
Зарубина Татьяна Александровна (1940–1995), филолог, дочь И. П. Зарубиной.
Впервые в сб.: «Житие сказочника». Печатается по этому изданию.
1. Когда изымали «Дракона» в 1963 г. из репертуара театра, Ирина Петровна выступая на открытом партийном собрании театра, говорила: «…Я знаю Николая Павловича Акимова 30 лет. Это очень большая дата для того, чтобы человека проверить, и для того, чтобы говорить о нем. Я знаю его недостатки и его достоинства. И того, и другого в его противоречивом характере очень много, но этот человек 40 лет своей жизни отдал советскому театру. Он сделал такие вещи для советского театра, о которых знают не только в Ленинграде, в Москве, не только в нашей стране. <…> Если бы я обладала писательским даром и если бы я когда-нибудь осмелилась писать мемуары, то написала бы три фамилии моих учителей: первый учитель П. П. Гайдебуров, второй — Лозинский, третий — Евгений Львович Шварц, потому что эти люди были не только идеалом человеколюбия, любви к жизни, к обществу, к людям, к детям, я бы мечтала быть похожей на них. Мы пристрастны к Шварцу, и я не могу представить себе, чтобы этот человек написал скандальную двусмысленную пошлость и грязь. Я бы очень хотела иметь развернутую критику в адрес „Дракона“, чтобы я хоть что-то поняла, чего я до сих пор не понимаю, в чем каюсь…»
2. Кинорежиссер А. А. Роу в ту пору они работал над режиссерским сценарием «Царя Водокрута». Но фильм вышел только в 1959 г. под названием «Марья-искусница»
3. В августе 1949 г. Н. П. Акимова отстранили от работы в театре Комедии, и он был вынужден скитаться по театрам в поисках работы.
4. Речь идет об А. И. Солженицине.
ЭРАСТ ГАРИН ДЛЯ ЧЕГО ПИШЕТСЯ СКАЗКА?
Гарин Эраст Павлович (1902–1980), актер и режиссер; нар. арт. СССР.
Впервые фрагменты воспоминаний были опубликованы в журнале «Искусство кино» (1962. № 9). Печатаются по кн.: «Мы знали Евгения Шварца», пополненные по кн.: Эраст Гарин. С Мейерхольдом. (М., 1974).
1. Следовательно, это происходило в конце октября 1946 г. — время съемок «Золушки»
2. В «Обыкновенном чуде»
3. Е. Ш. никогда учеником Б. М. Эйхенбаума не был.
4. «Женитьба» по Н. В. Гоголю, ставилась на Ленфильме в 1935 г., но речь идет скорее всего о конце 1936 или начале 1937 г., когда шла подготовка к выходу фильма на экраны.
5. Как известно, Е. Ш. был знаком театру еще со времен «Принцессы и свинопаса» (1935). Но Э. Гарин вступил в труппу позже, и для него Е. Ш. был «новым драматургом»
6. Основным исполнителем Тени был назначен Ж. Лецкий; Гарин — вторым. А весной 1941 г. на роль Тени ввели и Льва Колесова. После спектакля за кулисы пришел автор. Он сказал: «Уж очень страшным вы играете этого человека». — «Зная насмешливый характер Евгения Львовича, — рассказывал артист, — который он умел маскировать, я подумал, что он смеется надо мной — ведь больше всего я старался сыграть не человека, а тень, — и обиделся на него. Через много лет я решился спросить его о смысле той фразы. Оказалось, что Шварц тогда говорил совершенно искренне. Для него любой его персонаж был человеком» (Записано в 1967 г.)
7. «Как ни занятно и смешно „завинчивают“ лакеи распадающегося на части Министра финансов — Бениаминова, — к примеру, писал один из старейших рецензентов М. Загорский, — как ни размашисто и угрожающе размахивает своим ножом Б. М. Тенин-Пьетро, — все это остается в пределах игры для игры, и лишь воплощение Тени Э. П. Гариным здесь волнует зрителя остротой и оригинальностью замысла и воплощения» (Советское искусство. 1940. 27 мая)
8. «Сказка о русском солдате» была поставлена А. А. Роу на радио в 1946 г. В спектакле были заняты артисты: Б. Чирков (Солдат), Т. Макарова (Марья-искусница), М. Барабанова (Ваня), Э. Гарин (Царь Водокрут), А. Харитонова (Аленушка), Г. Милляр (Квак), В. Лепко (пастух), Н. Зорская (белочка), Л. Потемкин (сказочник). Музыку к спектаклю написал Ю. Никольский.
9. В квадратных скобках вставка из книги Э. Гарина «С Мейерхольдом»
10. После этого показа Э. Гарин писал Е. Ш.: «Дорогой Евгений Львович! До сегодня не хотел Вам писать. Боялся. Думал не выдержу экзамена, на который напросился. Теперь пишу. Днем сегодня показал художественному совету, дирекции и любопытствующим полтора акта Вашего Медведя. Спектакль (я так называю, потому что были артисты, мизансцены, освещение, костюмировка, хоть и самодеятельная, но иногда выразительная) принят восторженно. Совет и дирекция решили предоставить мне, как теперь говорят, „зеленую улицу“. Ну, насчет улицы и ее цвета не знаю, но знаю, что с субботы репетиции будут продолжены, и все работы по спектаклю двинутся вперед. Очевидно, с Вами войдут в юридические отношения, потому как, я думаю, опередить нас другому театру не удастся. Показали мы весь первый акт и второй до явления придворной дамы с Эмилем включительно. Обсуждение текло, как говорится, на самом высоком уровне. Отмечали актерские удачи и пр. Все репетиции шли в большом волнении. Спектакль сколотил свой медвежий коллектив, очень симпатичный и трудолюбивый. Если бы не отпуск у театра, я через месяц закончил бы, но театр идет в отпуск в конце месяца. Теперь ставим вопрос о том, чтобы медведей в отпуск не пускать…»
11. Премьера «Обыкновенного чуда» состоялась 18 января 1956 года. Художник Б. Р. Эрдман. Музыкальное оформление В. А. Чайковского и Л. А. Раппопорт. В роли Хозяина выступил К. Барташевич, в роли хозяйки — Н. Зорская; в роли Медведя — В. Тихонов, Короля — Э. Гарин, Принцессы — Э. Некрасова, министра-администратора — Г. Георгиу, первого министра — А. Добронравов, Эмилии — В. Караваева, Эмиля — В. Авдюшко, охотника — А. Пинтус, палача — Г. Милляр.
12. Локшина Хеся Александровна, режиссер; жена Э. П. Гарина и его постоянный сорежиссер в кино.
13. Никакого балкона в домике не было. Существовала небольшая «верандочка»
14. На 60-летие Е. Ш. в поздравительном письме Э. П. Гарин рассказывал: «В субботу, 20-го, открыли „Чудом“ сезон. Народу было битком. Спектакль прошел шикарно. Вчера играли, так сказать, в Вашу честь. Начали вяловато (очень наорались в субботу), но второй и третий акты шли, как никогда. Перед III-м актом, с закрытым занавесом. При свете в зрительном зале, под свадебный марш Мендельсона (он у нас в пьесе исполняется во 2-ом акте) актеры вышли на просцениум. Завершил шествие директор в штатском костюме. Вид у него был симпатичный (по делу он, видимо, явная сука), милым голосом активиста из об-ва по распт. полит. и науч. Знаний, он прочитал телеграмму Вам. Зрители тепленько аплодировали. Затем под охотничий марш (он тоже играется в 2 акте) все покинули сцену и начали играть III акт… По отзывам всех присутствующих, приветствие Вам прошло художественно, легко и изящно. Оба первых спектакля играл лучший состав. Следующий спектакль 28-го, в воскресенье. Все ждут Вашего приезда. Все очень хотят, чтобы Вы посмотрели спектакль. Приветствуйте и поздравьте Катерину Ивановну. Очень было бы хорошо, если бы и Катерина Ивановна посмотрела. <…> Да, еще забыл! В фойе театра я устроил огромную витрину „Чуда“. Выставил цветные фото, сделали инкрустацию из чудовых афиш, и в центре прилепили Вашу юбилейную фотографию. Внизу поставили макет II-го акта. Витрина привлекает внимание гуляющих в антракте»
15. Вставка из ж. «Искусство кино»
16. Фильм «Обыкновенное чудо» вышел на экраны в 1965 г.
АЛЕКСАНДР КРОН. ДРАМАТУРГ ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
Крон Александр Александрович (1909–1983), прозаик, драматург.
Впервые в кн.: А. Крон. Пьесы и статьи о театре. М., 1980. Печатается по собр. соч. в 3 т. Т.3. М.,1991.
АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН О ДЯДЕ ЖЕНЕ, ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ И СОБАКЕ ТАМАРЕ
Герман Алексей Юрьевич (1938–2013), кинорежиссер, сценарист, нар. арт. России.
1. «Республика ШКИД» написана Л. Пантелеевым в соавторстве с Г. Г. Белыхом, который был арестован еще в 1935 г. (умер в пересыльной тюрьме в 1938), и его имя было снято с обложки книги.
ИГНАТИЙ ИВАНОВСКИЙ ПАНТЕЛЕЕВ И ШВАРЦ
Ивановский Игнатий Михайлович (р. 1932), поэт, переводчик.
Впервые — Нева. Л., 1983. № 9. Публикуется по рукописи, полученной от автора.
1. «Знакомый композитор» — Д. А. Толстой. Опера по «Тени» не была написана.
2. Толстая Наталия Никитична (1943–2010)
3. Ивановская Мария Владимировна. См. об Ивановских: Евгений Шварц. Телефонная книжка. М., 1997. С. 322–323.
ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ ИЗ КНИГИ «ГЛУБОКИЙ ЭКРАН»
Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973), режиссер театра и кино, искусствовед, педагог; нар. арт. СССР.
Впервые — Г. М. Козинцев. Глубокий экран (М., 1971). Печатается по «Житию сказочника» (1992).
1. Речь идет о романе Сервантеса «Дон Кихот»
2. «Шинель» по Н. В. Гоголю снималась в 1926 г.
3. Задумывался «Дон Кихот» в 1954 г., когда Шварцы еще жили в писательской надстройке на кан. Грибоедова. На Малую Посадскую, где жил Г. М. Козинцев, они переехали только в июле 1955 г.
4. Л. К. Колесов рассказывал: «Начало пятидесятых годов. „Тебе-то что, — говорит Ю. Герман Е. Ш., — ты пишешь сказки, а я пишу быль…“ — „Вот и выходит, — в раздражении парирует Е. Ш., — что ты пишешь сказки, а я пишу быль…“» (Из беседы, записанной в 1968 г.)
5. Но Е. Ш. присутствовал на просмотре картины в рабочем варианте, состоявшемся 5 марта 1957 г. на Ленфильме. А вышла она на экраны 23 мая.
6. Г. Козинцев. Время и совесть. Из рабочих тетрадей (М., 1981)
7. Фильм французского режиссера А. Ламорисса (1960)
8. Тандем — технический термин, расположение однородных частей друг за другом.
9. Пьеса А. Шницлера в постановке А. Я. Таирова (Камерный театр, 1916)
10. Н. Н. Сапунов, театральный художник, ярко и красочно оформлявший спектакли В. Э. Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской.
11. Фильм «Гамлет» был поставлен Г. Козинцевым в 1964 г.
12. Тезисы к ненаписанным воспоминаниям о Е. Ш. См.: Г. Козинцев. Собр. соч. В 5 т. Т. 2. Л., 1983.
13. Цитата из «Обыкновенного чуда»
14. Цитата из «Гамлета»
ЕВГЕНИЙ КАЛМАНОВСКИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВА
Калмановский Евгений Соломонович (1927–1996), театровед, критик, педагог.
Впервые в книге: Евгений Калмановский. Мое собрание лиц. СПб., 2009. С. 307–329. Публикуется по этому изданию.
1. Строка А. С. Пушкина, использованная Е. Ш. в стихотворении «Бессмысленная радость бытия»
2. Е. Калмановский. Всегда с молодыми // Смена. Л., 1958. 7 марта.
3. Евгений Шварц: Позиция // Современная драматургия. М., 1984. № 4.
4. См. Вопросы литературы. 1981. № 7.
5. «„Тень“ и другие пьесы» (Л., 1956)
6. «Белый волк» (Евгений Шварц. Мемуары. — Париж. 1982); «Некомнатный человек» (Нева, 1957. № 3)
7. После освобождения Николая Алексеевича семья Заболоцких перебралась в Москву.
8. Девичья фамилия Екатерины Ивановны — Обух.
9. С. Цимбал. Евгений Шварц и его сказки // Ленинград. 1940. № 7/8.
10. Мих. Жаров. «Обыкновенное чудо» // Советская культура. 1956. 22 мая.
11. См.: Прометей. Вып. 5. М., 1968.
Сноски
1
Мы знали Евгения Шварца. Л.-М., 1966. С. 47.
(обратно)2
Театр. 1962. № 3.
(обратно)3
Театр. 1973. № 6.
(обратно)4
Там же. 1971. № 2.
(обратно)5
Шварц Е. Рассказ старой балалайки. Сказка // Воробей. Л., 1924. № 7. С. 3–12.
(обратно)6
Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 250.
(обратно)7
Цит. по: Слонимский Мих. Книга воспоминаний. М.; Л., 1966. С. 176.
(обратно)8
Всероссийская кочегарка (Бахмут), 1923. 16 сент.
(обратно)9
Цит. по: Биневич Евг. Первая пьеса Евгения Шварца // Нева. 1971. № 10.
(обратно)10
ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 16. Ед. хр. 343. Л. 29.
(обратно)11
Там же. Л. 15.
(обратно)12
Литературный современник. 1936. № 2. С. 180.
(обратно)13
Рабочий и театр. 1933. № 13. С. 2.
(обратно)14
ЦГАЛИ СПб. Ф. 257. Оп. 16. Ед. хр. 343. Л. 77–78.
(обратно)15
Детская литература. 1968. № 4.
(обратно)16
Подробнее: Биневич. Евг. История бедной падчерицы, или Как Евгения Шварца обвинили в неуважении к сказке // Нева. 1999. № 12. С. 149–161.
(обратно)17
Шварц Е. Телефонная книжка. М. 1997.
(обратно)18
Шварц Е. Кукольный город. Л.-М., 1959. В книгу вошли: одноименная пьеса, «Волшебники» («Новая сказка») и «Сказка о потерянном времени»; Он же: Сказки, повести, пьесы. Л.: Детгиз. 1960.
(обратно)19
Шварц Е. Тень и другие пьесы. Л., 1956.
(обратно)20
В квадратные скобки заключен текст из беседы, записанной составителем 02.04.1967 г.
(обратно)21
В квадратные скобки заключен отрывок из воспоминаний И. Березарка «Встречи с В. Хлебниковым», опубликованных в ж. «Звезда» (1965. № 12).
(обратно)22
Здесь и далее в квадратные скобки заключены отрывки из бесед Г. Холодовой с составителем в 60-е годы.
(обратно)23
Гацкевич — впоследствии жена одного из Серапионов, Николая Никитина, — Зоя Александровна Никитина.
(обратно)24
Харитон — Лидия Харитон, постоянная участница собраний Серапионов.
(обратно)25
Радищев — ранний псевдоним моего сына Николая Чуковского.
(обратно)26
В студии часто дразнили Лунца, который по молодости лет, говоря о литературе, постоянно ссылался на авторитет матери. Мне запомнилось насмешливое двустишье Владимира Познера:
А у Лунца мама есть, Как ей в студию пролезть. (обратно)27
Фраеры — русифицированное французское слово «братья».
(обратно)28
«Экрир е дивисиль» — «Писать трудно» (франц.). По словам Горького, девиз Серапионовых братьев, которым они приветствовали друг друга при встречах.
(обратно)29
Отец Михаила Леонидовича Слонимского был известный публицист, сотрудник «Вестника Европы», выходящего под редакцией М. М. Стасюлевича. Дядей М. Л. Слонимского был профессор-литературовед Семен Афанасьевич Венгеров.
(обратно)30
Dixi — я сказал (лат.); употреблялось древними римлянами в конце письма или речи.
(обратно)31
Мих. Слонимский. Книга воспоминаний. М.; Л., 1966, стр. 83.
(обратно)32
Издаваемый в 1924 г. журнал (здесь и далее примечания в квадратных скобках принадлежат Е. Л. Шварцу).
(обратно)33
Намек на композицию романа «Города и годы».
(обратно)34
«Скажет слово сказом…» — В то время критики хором сообщали читателям, что Зощенко пишет «сказом».
(обратно)35
Есть вариант более удачный, но менее приличный.
(обратно)36
«Бил быт, был бит…» — Самые молодые из Серапионов, Лунц и Каверин, восставали в то время против бытовой литературы. Им казалось, что бытовая нравоучительная литература, сыгравшая такую огромную роль в XIX веке, теперь, после катастрофических потрясений, которые пережило человечество, уже не может отвечать запросам нового поколения читателей. Им казалось, что нужна литература бури и натиска, бешеных страстей и трагедий. Против этих взглядов ополчилась тогдашняя критика.
(обратно)37
Ионов — директор «Всемирной литературы».
(обратно)38
Е. Шварц, после обеда.
(обратно)39
Вариант — на тешку.
(обратно)40
Вариант — на шоколадку (мармеладку).
(обратно)41
В квадратные скобки заключен отрывок из воспоминаний писателя «Две встречи» (Память. Исторический сб. Вып. 3. М.-Париж: YMCA-Press, 1980).
(обратно)42
В квадратные скобки заключен отрывок из выступления Л. Ф. Макарьева на вечере памяти Е. Ш. в Ленинградском Театральном музее 25.10.11=71.
(обратно)43
В квадратных скобках здесь и далее приведены тексты из нашей беседы 18.01. 1979 (Примеч. Е. М. Биневича).
(обратно)44
Из воспоминаний К. В. Пугачевой о Л. Д. Ландау в той же книге (Примеч. Е. М. Биневича).
(обратно)45
Мы знали Евгения Шварца. Л. — М., 1966.С. 11.(Примеч. В. Каверина)
(обратно)46
Доктор Живаго. Милан, изд. Фельтринелли. 1961. С. 512. (Прим. В. Каверина)
(обратно)47
Шварц Е. Пьесы. М. — Л: Советский писатель, 1962. С. 342.
(обратно)48
Тут же Е. Л. предложил мне назвать «целиком чистых» людей, поставив условием их абсолютную правдивость и такой же альтруизм. Я «с ходу» назвал своего любимого декабриста Горбачевского, доктора Гааза и Н. П. Анциферова. О первом и последнем Шварц ничего не знал и начал о них расспрашивать (таково было его обыкновение — не откладывая расспрашивать о неизвестном, чем-то его заинтересовавшем). На другой день я послал ему письмо, содержащее только три слова — имена Радищева, Жуковского и Чехова, на что получил листок с фамилиями: Кони, Короленко, Волошин. О последнем я тогда почти ничего не знал, и Е. Л. при встрече рассказал о нем. Эту «игру» мы несколько раз возобновляли. Едва ли не последним «целиком чистым» человеком, жизнь которого обсудили уже в 1950-х гг., был английский филантроп Хилтон Говард, которым я занялся в связи с работой над повестью о Сергее Непейцыне.
(обратно)49
Два письма и открытку, присланные мне Е. Л., я к сожалению, уничтожил, как и всю корреспонденцию, которую получал до 1950 года.
(обратно)50
В 1957 году.
(обратно)51
В квадратные скобки заключен отрывок из кн. Дэль Д. Рассказы о театре и кино. Л.— М., 1964.
(обратно)52
Ныне Российский государственный архив литературы и искусств в Москве. — Е. Б.
(обратно)53
Дата поставлена составителем. В апреле 1967 г. я, собирая материалы для диплома о Е. Ш., попросил И. Г. Эренбурга рассказать о том заседании Комитета, где обсуждался второй вариант «Дракона». В конце беседы писатель сказал, что надо бы написать о Шварце. И написал — за несколько месяцев до кончины.
(обратно)54
Запись сделана в 90-е гг.
(обратно)55
«Беседа» публикуется впервые.
(обратно)56
Сочинено в полусне, ночью с 11 на 12 апр. 1958.
(обратно)57
Деревня под Павловском — мы жили там в 1922 году. (Прим. Б. М. Эйхенбаума (6)).
(обратно)58
Я писал об этом в статье «Путешествие в сказочный мир» («Ленинградская правда», 1956, 16 сентября) и в рецензии на новую редакцию акимовской постановки «Дракона» («Литература и жизнь», 1962, 1 июля). В Берлине в 1973 году я видел «Дракона» в Немецком театре, в постановке Б. Бессона. Это был прекрасный, очень точно выверенный политический спектакль. Достаточно сказать, что Ланцелот, выйдя на сцену, не спеша сворачивал самокрутку, отламывал большой ломоть хлеба и вообще вел себя как наш бывалый солдат. Бургомистр же получил черты не то господина Аденауэра, не то кого-то из известных деятелей ФРГ, — во всяком случае, туристы из Западного Берлина, битком набившие зал, воспринимали его именно так!
(обратно)59
«Биневина» — рукописная книга составителя, типа «Чукоккалы».
(обратно)60
От volopük (нем.) — «мировой язык», искусственный язык, созданный в 1879 г. немецким священником Иоганном Мартинном; предшественник эсперанто; здесь — в переносном значении.
(обратно)61
Здесь и далее в кавычках приводится текст сценария Е. Л. Шварца.
(обратно)

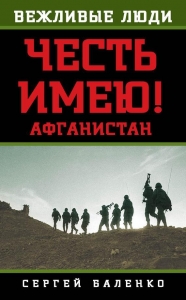





Комментарии к книге «Воспоминания о Евгении Шварце», Евгений Михайлович Биневич
Всего 0 комментариев