Елена Бальзамо По обе стороны (очерки)
Если вы родились в России, тоска по иному бытию неизбежна.
Иосиф БродскийПредисловие к французскому изданию
У нас в семье о прошлом не говорили. Мне и в голову не могло прийти подступиться к родителям, их знакомым или другим родственникам с расспросами о том, как они прожили жизнь, что с ними происходило в ту или иную эпоху: слишком велик был риск переступить невидимую границу дозволенного, заглянуть в неожиданно разверзшуюся бездну – и вместо ответа наткнуться на молчание. Или хуже того: обидеть неуместным вопросом.
Нет – так нет, я и не спрашивала. Тем более что у меня не возникало ощущения, что от меня скрывают доступ к какой-то жизненно важной информации – я и так все знала. Довольно быстро я поняла: то, что произошло с моими близкими, было уделом очень многих, некоторые уже рассказали об этом, и, стоит захотеть, обо всем можно прочитать – в самиздате. И я читала. Вот почему, когда много позже мне захотелось в свою очередь рассказать о тех временах, прошлое предстало передо мной не как череда конкретных, документально подтвержденных событий, а скорее как масса литературных реминисценций, эхо давних чтений и перечитываний, которые отложились в сознании, дополняя и дорисовывая неизвестные факты биографии моих близких, а порой и подменяя их. Прежде чем взяться за эти очерки, я, естественно, постаралась проверить известные факты, по возможности отыскать неизвестные, сверить даты, цитаты, имена. И тут я столкнулась с кое-какими противоречиями: обнаруженные детали не всегда совпадали с версией, зафиксированной у меня в памяти. Поразмыслив, я решила: ну и ладно, в данном случае факты второстепенны в том смысле, что речь идет не о мемуарах, семейной хронике или модном в наши дни «возвращении к истокам». Речь идет о том, чтобы дать представление о духовной атмосфере, о состоянии умов и, в первую очередь, о чувстве страха – ощущении, которое всегда трудно описать и которое не поддается переживанию post factum, если породивших его обстоятельств больше не существует. Тем более когда это чувство – лейтмотив жизни трех поколений одной семьи – представляется делом далекого прошлого.
Вот почему в этих очерках больше литературных реминисценций, чем выверенных фактов, больше названий книг, чем имен собственных, больше впечатлений от прочитанного, чем от прожитого. Распространенный дефект профессионального литературоведа? Наверное, не без этого, но главным образом, мне кажется, потому, что нет более верного способа воссоздать эпоху, в которой при всей ее внешней неподвижности и закостенелости, непрерывно ощущались глухие подземные толчки, движение тектонических пластов русской истории ХХ века.
Билет в одну сторону
1
Крепкой наковальне молот не страшен.
Итальянская пословица«Я распрощалась с родителями, и мы с дядей Сашей сели в вагон и поехали. С нами в купе был еще только один старик, который все время читал газеты. Дядя Саша поставил меня на скамейку у окна, сам сел рядом и сразу заснул. Сидит и спит, а я долго, долго гляжу в окно, и так интересно, что хочется без конца смотреть. Там за окном все бежит назад. Убегают деревья, кусты, поля, леса, озера и даже разные животные и люди. Я так долго стояла и смотрела, что очень устала и захотела сесть; я перешагнула через дядю Сашу и села рядом с ним. Дядя Саша крепко спал, а я стала думать. Вот, думала я, мы едем и едем, и, наверное, уже очень далеко уехали, а дядя Саша все спит. Ведь может быть, что мы проедем мимо нашего курорта, а он все будет спать, мы не выйдем и поедем дальше. Что тогда будет? Эта мысль меня очень испугала, и я стала дергать дядю Сашу за рукав. Он проснулся и сказал, что очень устал, так как всю ночь не спал, и я не должна его будить. Он встал, вынул из чемодана большое яблоко, дал мне и сказал: „На, ешь яблоко и сиди спокойно, дай мне поспать, мы еще не скоро приедем“. Тут он снова сел и снова заснул, а я стала есть яблоко. Яблоко было все темно-красное. Я стала выкусывать по маленькому кусочку из разных мест яблока, и оно все вскоре покрылось белыми пятнышками и сделалось очень красивым, даже жалко было его съедать, но я его все же съела; и тогда снова стала думать, и снова о том же: вот дядя Саша спит, а поезд бежит и бежит, и мы обязательно проедем мимо, а он будет спать и ничего не заметит. Наверное, мы уже проехали мимо нашего курорта и едем неизвестно куда, а он себе спит. Вот мы все дальше и дальше уезжаем от бабушки, все быстрее и быстрее бежит наш поезд. Я чувствую, что мы уже мчимся с невероятной быстротой. Наш поезд прямо летит, летит, летит к самому концу земли; вот сейчас кончится земля, и мы грохнемся в какую-то страшную черную бездну. Мне жутко, мне очень страшно, я очень боюсь!»
Год 1907, бабушке 6 лет. Она родилась вместе с веком.
Умерла она в 1977 году, предварительно уничтожив незадолго до того написанные воспоминания о прожитой жизни. Сохранилось только начало, толстая школьная тетрадь (96 страниц) по цене 44 копейки, в коричневой клеенчатой обложке. Рассказ обрывается на описании школьных лет; что за ними последовало – неизвестно. Однако причину ее поступка следует искать именно там, в 20-х, 30-х и 40-х годах, эпохе, прожитой с клеймом «врага народа» – со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Детство ее, о котором повествуется в уцелевшей тетради, никак не предвещало такого поворота событий. Но поворот имел место, и не только в ее случае:
Меня, как реку, Суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, Мимо другого потекла она, И я своих не знаю берегов.Судьба бабушки, при всей ее фантасмагоричности, отнюдь не была исключением. Благополучное детство в обеспеченной семье инженера текстильной промышленности (о масштабах благосостояния она не распространялась: «буржуазное происхождение» представляло собой плохую путевку в жизнь). Семья жила в Лодзи – пятеро детей, нянька, немка-гувернантка… Мать бабушки, моя прабабка, знала польский, русский, немецкий и французский. Согласно бабушкиным запискам, «у папы вообще был план, чтобы мы, его дети, легко и без усилий изучили все основные европейские языки. Для этого мы по два лета должны были проводить в стране, где говорят на одном из этих языков. За два лета в Германии, да еще при помощи нашей Эльзы, мы действительно научились совершенно свободно болтать по-немецки».
В мое время от этого лингвистического изобилия не осталось и следа. За прошедшие годы и десятилетия возможностей упражняться в иностранных языках было немного, а в определенную эпоху само знание этих языков не приветствовалось и было чревато неприятными последствиями – за ним мог скрываться «чуждый социальный элемент», а там, глядишь, недалеко и до обвинения в шпионаже. Лучше было такое не афишировать, даже в самом узком кругу. В автобиографическом очерке «Полторы комнаты» Бродский замечает по поводу своей матери, что «она не моргнув глазом оставляла без внимания случайную французскую фразу, расслышанную на улице или оброненную кем-нибудь из моих друзей, хотя однажды я застал ее за чтением французского издания моих сочинений. Мы посмотрели друг на друга; потом она молча поставила книгу обратно на полку и покинула мой Lebensraum». Открыв соответствующий том собрания сочинений, чтобы проверить цитату, я почти не удивилась, обнаружив на той же странице процитированные выше строки Ахматовой, – не мне одной принадлежит непроходящее ощущение искалеченных, раздавленных историей судеб.
В моем детстве бабушка изъяснялась лишь на одном языке, русском. Как и ее младшая сестра. Прабабушку, их мать, я помню смутно: она была уже очень в летах, слегка невменяемая, и я ее боялась; помню только, что она принималась декламировать сказки Пушкина всякий раз, когда меня приводили к ней в комнату в коммуналке на Арбате, в квартиру, которая некогда вся принадлежала ей и ее семье.
Но ведь семья жила в Лодзи? Жила. Однако между счастливым польским детством и последующей жизнью пролегает разлом: Первая мировая война.
В то лето семья проводила отпуск на балтийском побережье Германии, в Кранце (нынешнем Зеленоградске). Российские подданные, каковым являлся и мой прадед, были арестованы в первый же день. Куда их увели, никто не знал, жены сходили с ума от беспокойства. Рассказ об этих событиях сохранился в неуничтоженной тетради бабушкиных воспоминаний:
«…мама отозвала меня в сторону и потихоньку мне говорит: „Никто из взрослых не может ничего узнать и ничего добиться. С ними и разговаривать не желают, и я подумала, не удастся ли тебе что-нибудь узнать о папе и других. Попробуй, а? Сходи к Альфреду, вы ведь друзья, может быть, он что-нибудь знает, мальчикам часто удается проведать то, что взрослым узнать невозможно“.
Альфред, или Альф (как его зовут дома), живет через дом от нас. Его отец и два старших брата остались в Берлине, так как братья готовятся поступать в университет и усиленно занимаются. Мать и сестра Альфа ко мне относятся прекрасно, они очень веселые и любят дразнить меня невестой Альфреда. Мне это не кажется остроумным, но мало меня трогает.
И вот я пошла к Альфреду. Дверь открыла его мать, и не успела я поздороваться, как у нее совершенно перекосилось лицо, и она начала на меня так ужасно, так грубо кричать, что я прямо опешила. Невозможно было даже представить себе, что такая милая и приветливая женщина способна на такие страшные грубые крики: „Вон отсюда, проклятая девчонка, убирайся и не смей переступать порог нашего дома, сейчас же уходи ко всем чертям, мерзкая гадина!“ – и она вытолкнула меня за дверь.
Никогда никто так со мной не обращался, и это поведение женщины, которая хорошо ко мне относилась, было чем-то таким ужасным, таким необъяснимым, что я, как безумная, бросилась бежать домой, громко ревя на всю улицу.
Я так плакала, что ничего кругом не замечала. Мне казалось, что такой обиды я не переживу. Меня догнал Альфред. Он стал мне говорить, что я не должна обижаться на его мать. Ведь оба его брата, да и отец, вероятно, будут мобилизованы, и от этой мысли мама совсем обезумела. Он, конечно, понимает, что я здесь ни при чем: „Но посмотри на улицу, перестань плакать и посмотри, и ты многое поймешь“. Я посмотрела сквозь зареванные глаза на улицу, и то, что я увидела, было потрясающе: на обоих тротуарах стояли коленопреклоненные женщины, старые и молодые. Они молились, прямо на улице под открытым небом. Это было страшно. И на лицах этих женщин было столько муки, отчаяния и веры, что я поняла, всем своим существом почувствовала ненависть, которую они должны были питать к нам, к людям из России, начавшей войну. Так писали все их газеты».
Удивительная картина, словно чудом уцелевший мысленный фотоснимок – фигуры коленопреклоненных молящихся женщин на улицах захолустного немецкого городка.
С помощью Альфреда и двух его друзей удалось выяснить, что арестованные русские содержатся в Розенгартене – городском саду, окруженном высоким забором, с танцевальным павильоном посередине:
«Мы подошли к этому саду и хотели зайти в калитку, но вдруг откуда-то выскочили два солдата с винтовками и нас прогнали. Тогда Франц (приятель Альфреда. – Е. Б.) сказал: „На той стороне забора есть доска, она держится на одном гвозде, ее можно сдвинуть и пробраться в сад”. И вот мы, четверо злоумышленников, бесшумно обошли сад, нашли висевшую на одном гвозде доску, и я, сдвинув ее в сторону, протиснулась в место заключения папы и других пленников. Мальчики остались ждать меня по другую сторону забора. Солдаты меня не заметили, зато мужчины увидели, многие знали меня, и папе, конечно, сразу сказали о моем приходе. Он подбежал, и под прикрытием других заключенных мы с ним обо всем поговорили. <…>
Остальные мужчины в это время срочно писали письма и записки своим женам. На мне было матросское платье: синяя юбка с двумя внутренними карманами и белая кофточка, стянутая на талии резинкой. В миг мои карманы наполнились записками, а моя кофта стала похожа на подушку. Все-таки я, хоть и с трудом, пролезла обратно через спасательную дыру и очутилась в кругу дикарей, плясавших победный танец. Я была счастлива, что повидалась с папой, а кроме того я чувствовала себя настоящей героиней, пережившей настоящее приключение. <…>
Через два дня всех мужчин выпустили, а на третий день рано утром за нами пришли и нас повели на вокзал, вещи брать с собой запретили. Мы должны были ехать в том, что на нас одето.
Ни с Альфом, ни с рыбаками (его друзьями. – Е. Б.) попрощаться мне не удалось, они, наверное, и не знали, что нас отправляют. Больше я никогда не видела никого из них».
Окна вагона были наглухо зашторены. Поезд, от станции к станции наполнявшийся все новыми пассажирами, погрузили на паром, занавески разрешили раздвинуть, мелькнуло море – и вот уже за окнами Швеция. На каждой станции приветливые шведки приносили эвакуированным бутерброды, но бабушке было не до еды: все путешествие она простояла на площадке вагона, любуясь пробегавшими мимо видами. Северные красоты настолько поразили ее, что она дала себе клятву когда-нибудь вернуться в эти края. В августе 1914 года трудно было предположить, что обратный путь навсегда заказан.
Поезд пересек с юга на север Швецию, потом с севера на юг Финляндию, и некоторое время спустя семья прибыла в Петербург. С Финляндского вокзала родители с детьми отправились прямо на Варшавский, но купить билеты в Лодзь оказалось невозможно: город был за линией фронта. Пришлось ехать в Варшаву. После того как фронт переместился за Лодзь, родители, оставив детей в гостинице, спешно съездили домой, забрали деньги и драгоценности и вернулись. Недостатка в средствах не было, и какое-то время семья оставалась в Варшаве в надежде вернуться домой, но когда над городом все чаще стали появляться немецкие цеппелины, было принято решение ехать в Москву, где у моего прадеда были родственники.
Путешествие было долгим. «Навстречу нам шли бесконечные воинские эшелоны, и нам приходилось уступать им дорогу. Больше о нашей поездке я ничего не помню», – признается бабушка. Даты в записках отсутствуют; судя по всему, переезд из Кранца в Москву через Скандинавию, включая варшавское интермеццо, занял более четырех месяцев: выехав в августе, семья прибыла в Москву в конце декабря, под самые праздники. Несмотря на радушный прием, столица юной путешественнице пришлась не по вкусу:
«А первое наше знакомство с Москвой было ужасное. В наших краях мороз редко бывал ниже 3°, а снега мы вообще почти не видели. Если он выпадал, то тут же таял. А в Москве в это время стояли сильные морозы, и улицы были покрыты глубоким снегом. <…>
Москва мне совсем не понравилась, и наш, по сравнению с Москвой маленький город – Лодзь казался мне гораздо благоустроеннее и красивее. У нас все дома были каменные, таких деревянных домишек, как в Москве, в нашем городе не было. У нас все улицы были асфальтированы, все улицы были шире московских, и трамваев в нашем городе было много и всем хватало в них места. В Москве трамваев было мало для такого огромного города, и они всегда были переполнены. Зато извозчиков в Москве было страшно много, и казалось, что лошадей в городе даже больше, чем людей».
Постепенно жизнь наладилась. Нашли подходящее жилище на Арбате («Квартира была небольшая, 5 комнат и еще одна маленькая комнатка для прислуги»), бабушку отдали в гимназию, на лето родители сняли дачу в Подмосковье, девочке купили этюдник и масляные краски, о которых она давно мечтала, у нее появились новые друзья. Осенью ее перевели в другую гимназию и записали в художественную школу.
«Странно, очень странно, что ни в гимназии, ни в художественной школе не было разговоров о войне, мы как будто забыли, что идет война, и вели жизнь самую мирную», – пишет бабушка, предлагая два объяснения. С одной стороны, быт оставался тем же, что и прежде: «магазины у нас были полны всякой еды и разных промышленных товаров. Правда, появилось много военных на улицах, но они были сами по себе, а мы сами по себе». С другой стороны: «возможно, что именно я не чувствовала войны и не помню ее будней. Я всегда жила как-то отвлеченно, и повседневная жизнь проходила мимо меня, не замечалась мной и не запоминалась. Только сильные переживания запоминались на всю жизнь. А мы жили далеко от войны…»
Через пару страниц повествование обрывается на описании последнего класса гимназии. Продолжение погибло в уничтоженных тетрадях. Что же произошло?
* * *
Никаких документов последующих лет не сохранилось. Остались отрывочные воспоминания, зачастую противоречивые, неполные, непроверяемые, как и все устные источники.
Если верить этим обрывкам, бабушка сдала выпускные экзамены и поступила в медицинский, но вскоре бросила медицину ради политэкономии. Почему не ради живописи, которой она так увлекалась? Неизвестно. «В то время я мечтала посвятить жизнь служению человечеству», – замечает она не без иронии.
Дело происходило в разгар революции, но ни о ней, ни о последовавшей гражданской войне она никогда не рассказывала, по крайней мере в моем присутствии. Зато я хорошо осведомлена об обстоятельствах ее первого ареста – в 1919-м? 1920-м? – возможно, потому что в ее представлении речь шла о «бытовом» эпизоде, без политико-идеологической приправы.
Несмотря на то что характер у нее в юности был отвратительный: дерзкая, своенравная, вспыльчивая, она была постоянно окружена друзьями и поклонниками. В числе последних был некий активист, лидер одной из мелких социалистических группировок. Увеселительных заведений в те суровые годы почти не было, и, видимо, поэтому в качестве формы ухаживания он избрал партсобрание и пригласил на него бабушку. Она же политикой не интересовалась, но отказать посчитала неудобным и в назначенный день пришла в назначенное место в сопровождении подруги. На трибуне большого зала сменялись ораторы, бабушка изнывала от скуки и наконец, не выдержав, прошептала подруге: пойдем-ка отсюда! Та возразила, что, мол, неудобно, и они остались. Немного спустя многочисленные двери зала разом распахнулись, и на пороге каждой возник красногвардеец с ружьем. Времена были, как известно, вегетарианские, и не членам партии было разрешено уйти под честное слово. «Пошли!» – сказала подруга. «Ну уж нет, – последовал ответ, – пока было скучно, мы тут сидели, и теперь, когда наконец стало интересно, я никуда не пойду». Ее арестовали вместе со всеми.
Инцидент позволяет предположить у юной особы характер решительный и не склонный к панике. Впрочем, это было очевидно уже по приключению в Кранце. Он же свидетельствует об изрядном любопытстве, и действительно: случайно разбуженному интересу к политике уже не суждено было заглохнуть.
Первое тюремное заключение было кратким, но за ним последовало второе, третье, и скоро сидение в тюрьме стало образом жизни на последующие тридцать лет. Насколько быстро увлечение политикой, начавшееся как игра, переросло во всепоглощающую страсть, свидетельствует эпизод, случайно уцелевший среди семейных преданий.
В начале 20-х годов бабушка сидела на Соловках, и на семейном совете было решено отвезти ей продуктов. Времена были голодные, цены головокружительные; тем не менее наскребли денег, купили консервов, сухарей, сложили в мешок и послали бабушкину младшую сестру, тогда семнадцатилетнюю барышню, с поручением. Путешествие заняло много дней: разруха, развал путей сообщения, битком набитые поезда, пьяные солдаты – но мешок с едой во что бы то ни стало нужно было доставить по назначению. Подробности поездки неизвестны; каким-то чудом ей удалось добраться до Белого моря и даже – еще большее чудо! – сесть на пароход, знаменитый «Глеб Бокий», курсировавший летом между Соловками и Большой землей. Добравшись до комендатуры лагеря, она объяснила цель своего приезда. Ей сказали, что свидание с сестрой невозможно: эсдеки держат голодовку. А передать продукты? Записку? Записку передать разрешили, и через некоторое время принесли ответ: из солидарности с держащими голодовку товарищами по партии бабушка от продуктов отказывается. Сестренка пустилась в обратный путь: переполненные поезда, пьяные солдаты… Подробности неизвестны. По возвращении в Москву ее пришлось на время положить в психиатрическую лечебницу.
Итак, 1922 год застает любознательную бабушку на Соловках, зародыше будущего ГУЛАГа. В ее рассказах Соловецкие острова были овеяны легкой романтической дымкой, почти ностальгией – «мои университеты», говорила она. Блестящие умы, всесторонне образованный народ, дружеская атмосфера, дискуссии… Ни слова о творившихся в СЛОНе ужасах.
Дело в том, что бабушка оказалась на «правильной» стороне. Как известно, воспоминания узников противоречат друг другу. Одни описывают Соловки как сущий ад: свирепый режим, подневольный труд, пытки, расстрелы; другие утверждают, что условия были сносные, особенно по сравнению с тем, что стало потом. Этот разнобой объясняется тем, что система еще только нащупывала свои будущие формы, еще не закостенела, и какое-то время за представителями левых партий – меньшевиками, анархистами, эсерами, эсдеками – признавался статус политзаключенных. Их держали поначалу в относительно сносных условиях, даже допускали элементы самоуправления, а главное – их не посылали на принудительные работы. Все остальные – монархисты и так называемые «каэры» (контрреволюционеры) – подлежали планомерному уничтожению и содержались в условиях нечеловеческих. Бабушка, уже познавшая на свободе лишения революционных лет, судя по всему, научилась переносить материальные трудности, тем более что они с лихвой возмещались общением с интересными людьми, расширением горизонтов, духом товарищества, царившим в бараках, куда селили по партийной принадлежности.
Эта положительная сторона соловецкого бытия, видимо, объясняет, почему, в отличие от всего остального, бабушка не обходила его молчанием. В ее рассказах соловецкий эпизод выглядел вполне обыденным. Очевидно, что любой нормальный человек не мог не удивиться: зачем было содержать в далеком северном лагере девушку, которой едва исполнилось 20 лет и которая и мухи не обидела? Но к тому времени нормальные люди уже научились не задавать такого рода вопросов.
То, что происходило дальше, видимо, уже не предназначалось для детских ушей. В январе 1924 года бабушка все еще находилась в заключении на Соловках, так как, по ее словам, именно там она узнала о смерти Ленина. В прачечной. (Интересно, что она там делала – стирала на себя или ее все-таки принуждали работать?) А что было потом? Новый арест? Один или несколько? Новые приговоры? От всей второй половины 20-х годов не осталось ни одной даты, ни одной зацепки. Единственная подробность в чудом сохранившемся письме, написанном много лет спустя неизвестному адресату: «Когда-то в Верхнеуральске я вот так писала одному человеку. И хотя мы жили под одной крышей и даже в одном коридоре, мы никогда не видели друг друга, никогда не разговаривали». Как она оказалась в этом городе за 1700 км от Москвы? О каком времени идет речь? Ни один нормальный человек по своей воле туда не поедет – однако верхнеуральский политизолятор был хорошо знаком очень многим, количество заключенных, прошедших через его камеры, исчислялось десятками тысяч.
Шли 20-е годы, эпоха «Большого пасьянса», по выражению Солженицына: реальных и мнимых «врагов советской власти» арестовывали, судили, ссылали, по отбытии ссылки снова арестовывали, снова судили, снова ссылали в места отдаленные, с трудом вообразимые… Похоже, что, как и в случае многих других социалистов, на бабушкину долю достались главным образом ссылки. Ашхабад, Ташкент, Йошкар-Ола – эти места она иногда упоминала. Я помню ее рассказы о тюльпанах, покрывавших весной туркменскую степь разноцветным ковром, – больше не помню ничего, видимо, остальное тоже было не для детских ушей.
В эту эпоху, если судить по пометке на обороте одного из редких снимков, которую невозможно проверить, состоялось ее знакомство в моим дедом. Начало 20-х годов. Дед, 18 лет от роду, только что окончил школу в родной Вологде и, чтобы отпраздновать радостное событие, отправился играть с одноклассниками в футбол. Затея оказалась крайне неудачной: кому-то из местного Чека, не справлявшегося с выполнением разнарядки по ликвидации анархистов, пришла в голову блестящая мысль – арестовать выпускников-футболистов. Сказано-сделано, забрали всю команду. Богатый улов.
За арестом последовали суд и высылка, очевидно куда-то на восток или на северо-восток. Дед, который в момент ареста не имел ни малейшего представления о том, кто такие анархисты (впоследствии, однако, он никогда не отрекался от своей к ним принадлежности – мне кажется, из чувства собственного достоинства, из гордости), оказался в ссылке в полном одиночестве. Ситуация была отчаянная: в одиночку выжить в таких условиях было практически невозможно. Спасением он был обязан группе «врагов народа», тоже ссыльных, которые подобрали опасного анархиста буквально на улице, приютили и выходили.
В дальнейшем дед уже автоматически становился жертвой следующих туров «Большого пасьянса», попадая из ссылки в ссылку, в места одинаково мало пригодные для жизни, но отныне, благодаря системе взаимопомощи политических ссыльных, у него появилась надежда выжить. В конце 20-х годов он оказался в Йошкар-Оле, как и бабушка. В 1931 году они поженились.
Что могло привлечь надменную панночку, которой Москва казалась захолустьем по сравнению с ее европейской Лодзью и у которой не было отбоя от поклонников, в ничем не примечательном застенчивом юноше из самой что ни на есть пролетарской семьи (отец попивал, мать работала банщицей в городских банях)? Дело в том, что их женитьбе предшествовала драма. Бабушка полюбила одного из «своих», молодого философа, отбывавшего ссылку, которого вскоре арестовали повторно и впоследствии расстреляли. Он и был ее настоящей любовью. Любила ли она человека, за которого вышла замуж? Не думаю. Во всяком случае, сыну своему она дала имя того, с кем ее разлучили.
И это при том, что деда моего трудно было не любить. Характером он был полной противоположностью бабушке: мягкий, душевный, скромный. Все в нем располагало к себе, даже его вологодское оканье: «мОлОкО», «хОрОшО». Больше в моем окружении никто так не говорил, и, видимо, поэтому я до сих пор помню его голос, хотя он умер, когда мне было 9 лет. Он играл на балалайке и на мандолине, и руки у него были золотые: кукольный домик, подаренный мне на день рождения, долго был предметом зависти всех знакомых детей.
* * *
В 1931 году ссылка подошла к концу, и молодожены поселились в Ульяновске. Ненадолго, так как год спустя их снова арестовали и привезли в Москву на следствие.
Зимой 1933 года бабушкина сестра, жившая в Москве (и совершенно не разделявшая ее политических взглядов), получила повестку, содержавшую приглашение на Лубянку. Не сомневаясь, что ее ждет немедленный арест как «ч / с» (члена семьи врага народа), она наскоро собрала самое необходимое и отправилась по вызову. Пришла в приемную, назвала свое имя, получила приказание подождать. Через некоторое время ей вынесли шевелящийся пакет и сообщили, что она свободна. Содержимым пакета был мой отец.
Дрожащая, но счастливая тетя вернулась домой с крошечным племянником. Что до родителей младенца, то они получили новый приговор и отправились в новую ссылку, на сей раз в Горький. Как только им удалось немного обжиться, они выписали к себе сына.
В тот период ссылки были в основном трехлетними и пятилетними (после войны в моду вошли ссылки на «вечное поселение»), так что горьковская подошла к концу году в 1937-м. И через несколько месяцев семья оказалась уже на тысячу километров севернее, на родине деда в Вологде. Почему не в Москве, где тоже имелись родственники? Потому что пораженным в правах, как известно, запрещалось жить в радиусе 100 км от больших городов – так называемый «минус». Воссоединившееся семейство кое-как перебивалось в Вологде, там их и застала Великая Отечественная война.
Деда моего, хоть он и считался «врагом народа», немедленно мобилизовали и отправили на фронт. О том, как ему воевалось в печально известных волховских болотах, он никогда не рассказывал: «Это было слишком ужасно». Вскоре он был ранен и после лечения отпущен домой.
В Вологде тем временем ситуация была отчаянная. Ссыльных на службу не принимали, бабушка сидела без работы и соответственно без продовольственных карточек, семья жила впроголодь, исключительно на денежные переводы из Москвы.
Возвращение деда должно было изменить ситуацию: на семейном совете решено было переехать в Торово, село под Череповцом, в 125 км от Вологды, там деду было обещано место на большом складе боеприпасов. Но когда семья добралась до пункта назначения, выяснилось, что склад перевели поближе к линии фронта и ни о какой работе и думать было нечего. Прибывшие оказались без денег, без еды и, главное, – без крыши над головой: село было наполовину разрушено и никто из жителей не соглашался дать им приют. Со скудным имуществом, состоявшим из двух чемоданов, они поселились в землянке, без отопления и без света. Стояла зима, и казалось, последняя надежда была потеряна, но тут случилось чудо: деда приняли в рыбацкую артель, и он получил право поселиться с семьей в бараке на барже, пришвартованной к берегу Шексны, в том месте, где река впадает в Рыбинское море.
Для мальчика началась счастливая полоса. Барак, разумеется, тоже не отапливался, не было ни водопровода, ни канализации, но призрак голода немного отступил, а жизнь на барже оказалась полной романтики: летом для купания не надо было никуда идти, прыжок – и ты в воде.
Постепенно жизнь вошла в нормальную колею. Дед рыбачил, бабушка, отменная рукодельница, занялась изготовлением погремушек: туловище – трубка из картона, несколько горошин внутри, тряпочная голова, все вместе ярко и со вкусом раскрашено. Зимой мой девятилетний отец брал изготовленные за неделю погремушки, вставал на лыжи, запрягался в санки, нагруженные мороженными щуками, и отправлялся торговать за 7 км в Череповец. Дорога шла берегом реки, вдоль нее краснели запорошенные снегом огромные заледеневшие подосиновики. Торговля шла бойко, особенным успехом пользовались погремушки: в войну игрушек было не достать.
В будние дни мальчик ходил в сельскую школу. В ней насчитывалось восемь учеников. Учительница была не особенно грамотна, бабушка приходила в ужас от ее пометок на полях тетрадей, но вмешиваться в учебный процесс не решалась.
К тому же у нее были другие заботы: она пыталась получить разрешение на поездку в Москву, чтобы повидать мать и сестру и раздобыть продуктов. После того как в разрешении ей было отказано, она решила ехать самовольно – на плотах, которые сплавляли по Шексне и затем по Волге. Сплавщик согласился взять «пассажирку», и бабушка отправилась. Путешествие длилось несколько дней, на ночь пришвартовывались к берегу, разводили костер. Ужин состоял из рыбы и грибов, собранных тут же поблизости. К великому отвращению бабушки, сплавщик не утруждался выбрасывать червивые, и ей приходилось, зажмурившись и давясь, проглатывать предложенное месиво. Недалеко от Москвы ее задержали и отправили назад.
На следующую осень родители отдали сына в школу в Череповце, устроив его жить в семью, где, по его словам, ему «было плохо». Зато школа ему очень понравилась; учителя в большинстве своем были офицеры, демобилизованные по инвалидности. Чуть позже родители тоже переехали в город, где мой дед наконец нашел работу. Но что вообще могли делать люди, которые попали в мясорубку системы, едва окончив гимназию и не успев получить никакой профессии? Многие выживали благодаря элементарным знаниям, полученным в школе: они умели хорошо писать и считать, что в стране с низким уровнем грамотности уже само по себе было ценным преимуществом. Они становились бухгалтерами, если не все поголовно, то многие. В Сибири, в Центральной Азии, на Севере… Так и дед мой из рыбака превратился в бухгалтера. Выживать помогал и собственный огород, разбитый на крошечном участке возле дома на окраине города.
6 июля 1943 года
Дорогая тетя!
Вчера получили твою телеграмму и 130 р. Сегодня два письма. Все деньги, 180, 155, 120 р., мы получили. Я 15-го числа поеду в санаторию от Военфлотторга, там работает нач. планового отдела. Огород мы посадили. Картошки мы посадили пудов 5, около дома у нас уже цветет, а за огородом уже окучена. У нас уже есть маленькие помидорчики. Морковь уже большая. Еще посадили лук, чеснок, редьку, капусту, огурцы, брюкву, табак, свеклу красную и белую. Мама сейчас не работает, она хочет поступить в столовую. Меля, напиши, как сушить разные овощи, какие только знаешь, и картошку.
Крепко целую
Гриша
Эта открытка со штампом «Проверено военной цензурой», адресованная десятилетним мальчиком своей тете, – единственное документальное свидетельство о жизни семьи в военные годы. Как ни странно, сохранившиеся рисунки гораздо более многочисленны. Подобно матери, ребенок отлично рисовал, но уже в это время его больше интересовало другое: точные науки, техника, в которых его одаренность проявилась на редкость рано.
Так рано, что в 1945 году на его долю выпадает невероятная удача: путевка в знаменитый пионерлагерь Артек, в Крыму. Честно говоря, этим счастьем он обязан не только успехам в учебе, но и случайности: должен был поехать другой мальчик, который учился еще лучше, но у того не оказалось ботинок, одни валенки, обувь для субтропиков мало подходящая. А у папы как раз были ботинки, вещь настолько редкая, что она перевесила даже сомнительную биографию, и сын «врагов народа» отправился в Артек!
Прилипнув носом к оконному стеклу, мальчик, выросший среди дремучих лесов русского севера, смотрел на пробегавшие за окном пейзажи. Климатические зоны сменяли друг друга, и вот, проехав 2000 км, он впервые увидел южное море; над головой у него голубое небо, вокруг пальмы, мимозы в цвету… Дело происходит в марте 1945 года, война близится к концу, в Артек свозят детей отовсюду: одни пережили ленинградскую блокаду, другие прибывают с только что освобожденных от немцев территорий. Почти все страдают от недоедания и так или иначе травмированы. Путешественник из Череповца подружился с мальчиком-калекой, у которого руку оторвало осколком снаряда.
В течение всей незабываемой поездки отец вел дневник, впоследствии затерявшийся, как почти все остальное.
После окончания войны решено было поселиться поближе к Москве, и семья переехала в Пушкино, где оба родителя получили работу, а их сын окончил семилетку. Десятилеток в поселке не было, поэтому мальчика послали к тете в Москву, где он поступил в техникум связи. Там в 1949 году его и застала весть о том, что родители снова арестованы – по обвинению в «контрреволюционной деятельности».
Врагов народа привезли в московскую тюрьму на следствие. Сразу по прибытии моего деда, как полагалось, запихнули на несколько часов в бокс, в ожидании, пока до него дойдет очередь, ну и конечно, чтобы припугнуть. Для него пребывание в тесном боксе представляло дополнительное неудобство: на войне он был ранен дважды, в грудь и в ногу, с тех пор колено у него не сгибалось, что делало невозможным сидение на узкой вделанной в стену доске, заменявшей стул. Так, стоя, он и прождал несколько часов, громко распевая «Широка страна моя родная», чтобы скоротать время.
(Кто из нас не помнит этой бравурной песни? По крайней мере начала. Но все ли знают, что в ней имелся следующий замечательный куплет:
…За столом у нас никто не лишний, По заслугам каждый награжден, Золотыми буквами мы пишем Всенародный Сталинский закон. Этих слов величие и славу Никакие годы не сотрут: – Человек всегда имеет право На ученье, отдых и на труд!Я почему-то представляю себе деда, недавнего фронтовика, стиснутого в душном боксе, поющим именно этот куплет…)
Что касается бабушки, то арест ее дал повод для знаменательного диалога со следователем:
– За что вы нас сейчас-то преследуете? Неужели всерьез считаете, что после стольких лет тюрьмы и ссылки мы еще представляем опасность для государства?
– Опасность? Нет, не думаю, – спокойно отвечал следователь, – но вы и вам подобные обладаете памятью, а она-то нам как раз и не нужна.
Более ясное объяснение представить трудно.
После завершения следствия обладательница нежелательной памяти и ее муж-фронтовик получили приговор: ссылка в Якутию, на сей раз пожизненная. Якутия. На этом фоне все прежние ссылки – Туркменистан, Таджикистан, Марийская республика – выглядели детскими играми. И не только из-за удаленности, 5000 км от Москвы, и условий жизни, но и из-за климата: средняя зимняя температура –40, а нередко доходило и до –60. Времена, когда избалованная польская барышня жаловалась на московские морозы, остались в далеком прошлом. Однако кое в чем им с дедом все-таки повезло: отправленные в якутский ад поодиночке, они смогли довольно быстро соединиться, найти жилье и работу. Какую? Бухгалтерскую, какую же еще… Чем конкретно они там занимались – считали оленей в стадах кочевых якутов? – остается загадкой. Об этом периоде своей жизни бабушка никогда не распространялась – это вам не усеянные тюльпанами туркменские степи.
Сын ее жил в то время у тети. Когда арестовали родителей, ему исполнилось 17 лет, и увидеть их ему суждено было лишь 6 лет спустя в 1955 году. За это время он окончил техникум (с отличием), потом институт (тоже с отличием), поступил на работу (в престижный НИИ), женился (на умнице и красавице), у него должен был родиться ребенок. За это же время он совершенно отдалился от родителей; теперь их разделяло не только пространство, но и идеология: узнав в ссылке о смерти Сталина, бабушка, по ее собственному свидетельству, пустилась в пляс с криками: «Сдох, собака, окочурился!» – меж тем как в далекой Москве ее двадцатилетний сын плакал горючими слезами.
В чем было дело? Дело было в том, что механизм страха, определявший не только отношения с внешним миром, но и отношения внутри семьи, уже работал вовсю. Дабы избавить единственного сына от неприятностей, которыми была чревата ее собственная биография, бабушка, воспитывая его, с самого начала придерживалась принципа: «Ложь – только ложь – ничего, кроме лжи». К этому следует добавить годы, прожитые с правоверной тетей, не щадившей сил, прививая мальчику здоровые принципы коммунистического мировоззрения, которые должны были в дальнейшем предохранить его от опасных отклонений. И предохранили – правда, лишь до поры до времени.
2
У страха глаза велики.
Русская пословицаНетрудно было предвидеть, что плоды бабушкиного воспитания окажутся недолговечны: обладая живым умом и любознательностью, отец самостоятельно, ценой поисков и сомнений, проделал путь от полной политической лояльности к столь же полному неприятию советской системы. И стал тем, что принято называть «внутренний эмигрант».
Во время учебы в техникуме он еще был убежденным комсомольцем, но скоро в его душе тоже поселился страх. Больше всего он боялся начальника «первого отдела», существовавшего при каждом советском учреждении от яслей и детских садов до научно-исследовательских институтов, больниц, музеев и тюрем. В обязанности «первого отдела», помимо всего прочего, входила вербовка стукачей, и никто не мог быть уверен, что его в один прекрасный день не вызовут в кабинет начальника и не станут уговаривать, грозить, шантажировать. У техникумовского «кума» было, по словам отца, «ужасное лицо», а кабинет его был отделен от коридора тамбуром, войдя в который посетитель на несколько секунд оказывался в кромешной тьме, словно запертым в шкафу. Всякий раз, когда отец проходил мимо кабинета, ему было «очень страшно».
Причин этого страха он никогда четко не формулировал, но о них нетрудно догадаться: как сын «врагов народа», он автоматически находился на подозрении. Тот факт, что его вообще не отчислили из техникума, объясняется исключительно медлительностью компетентных органов; компрометирующее семейное прошлое всплыло чуть позже, в момент поступления в университет. Будучи медалистом, отец был освобожден от вступительных экзаменов и должен был пройти только собеседование. Представ перед приемной комиссией, он увидел на столе свое личное дело, демонстративно раскрытое на странице, где красными чернилами были подчеркнуты сведения о родителях. И знания, и медаль оказались бессильны – в университет его, конечно, не приняли, пришлось довольствоваться «второсортным» вузом: Институтом связи.
Процесс политической переориентации начался позже, в самом конце учебы. Катализатором послужило вторжение советских войск в Венгрию в 1956 году. Многие студенты института были тогда мобилизованы и отправлены в армию радистами. Во время боев в Будапеште одному из них удалось выйти на связь с оставшимся в Москве приятелем, которого он информировал о происходившем – вплоть до момента, когда вдруг послышался взрыв и связь прервалась… На отца рассказ об этом подействовал очень сильно.
Внешне эта мучительная внутренняя работа никак не проявлялась. Тайное диссидентство, сколь бы глубоким онo ни было, не особенно мешало жить ученому, если, конечно, он не стремился сделать карьеру. Другое дело человек, мечтающий подняться по служебной лестнице: тут необходимо было проявить себя в общественной работе, вступить в партию, быть активным членом профсоюза и вообще всячески демонстрировать свою лояльность. Отцу карьерные амбиции были полностью чужды, и в его положении, чтобы жить и работать спокойно, достаточно было не афишировать своих взглядов.
Видимо, этими соображениями объяснялось и его желание приобщить меня к естественным наукам. Свой выбор он остановил на биологии. От семи до одиннадцати лет, я, обожавшая Дюма и Стивенсона, не знала, куда деваться от потока научно-популярной литературы. Чтобы доставить удовольствие обожаемому отцу, я послушно читала бесконечные истории о социальной организации муравьев, о восприятии цветов у шимпанзе, о пространственной ориентации пчел – все это было не лишено интереса, но что поделаешь, я оставалась верна «Острову сокровищ» и «Тому Сойеру».
Поняв, что биолога из меня не выйдет, отец возложил надежды на математику и предложил попробовать поступить в физико-математическую школу № 2. Мои математические способности были вполне средние, впоследствии их хватало лишь для того, чтобы как-то держаться на плаву, но тогда, на вступительном экзамене, неожиданно для себя самой, я решила предложенные задачки и меня приняли.
Дальше этого попытки отца отвлечь меня от притягательного, но опасного поля литературы и гуманитарных наук не пошли. Во всем остальном он следовал принципам, полностью противоположным бабушкиным, раз и навсегда отказавшись от лжи в качестве метода воспитания. Несомненно потому, что ясно понимал: такое воспитание могло лишь замедлить зарождение политического сознания, но не воспрепятствовать ему.
Вспоминается эпизод: дело происходит погожим летним днем, мне двенадцать лет, мы с папой направляемся к метро. Дорога не асфальтированная, а уложенная бетонными плитами, я прыгаю с одной на другую, стараясь не сбиться со счета. Через некоторое время замечаю, что отца явно что-то тяготит. На мой вопрос, в чем дело, он без колебания отвечает: «Плохие новости: советские войска оккупировали страну, жители которой хотели получить больше свободы…» Вторжение в Чехословакию в августе 1968 года наверняка напомнило ему венгерскую трагедию. В тот день политика вошла в мою жизнь – но тогда еще страх ей не сопутствовал.
Страх пришел позже, с поступлением в новую школу, поскольку это поступление означало проникновение в зону свободы, пределы которой были четко обозначены.
* * *
Инициатором создания физико-математической школы была группа ученых, стремившихся сделать школьное преподавание более эффективным, соответствующим запросам математически одаренных детей. Образовался своего рода оазис, который привлек учителей, мечтавших вырваться из педагогической рутины. Поначалу речь шла лишь о математике и спецпредметах, но вскоре стало ясно, что стимулировать у детей творческий подход к естественным наукам, не ослабляя при этом контроль над гуманитарными, невозможно. Преподавание этих последних быстро либерализировалось, идеологический зажим ослаб, и возникло уникальное учебное заведение: Вторая школа – школа, где ученики не боялись задавать вопросы, а учителя не боялись на них отвечать. Явление в советских условиях немыслимое.
«Откройте тетради, возьмите ручки и запишите то, что я вам продиктую. Записали? Вот и хорошо. Дома выучите, на экзамене расскажете, потом можете выбросить тетради и забыть. А теперь я объясню вам, как все происходило на самом деле»[1]. Подобные высказывания, адресованные семиклассникам, приводили аудиторию в восторг, наполняя гордостью за доверие, оказываемое учителями, которые – мы это понимали – шли на значительный риск. То, что они считали нас достойными узнать, «как все было на самом деле», вызывало чувство благодарности и восхищения.
Постепенно сложилось восприятие, которому предстояло в течение ряда лет определять наше отношение к миру: «мы» и «они», официальная и альтернативная картины мира, внутренняя свобода и… нет, не гнет, не тирания, но общее чувство подавленности, удушья. Мы знали, что есть вещи, о которых нельзя говорить, что одно и то же явление имеет разные названия в зависимости от того, идет ли речь о частной или общественной сферах, разрыв между которыми все более увеличивался. Вся информация, получаемая из официальных источников, заведомо воспринималась как ложь, а параллельно, благодаря разговорам с друзьями, школьным урокам и чтению, понемногу складывалось представление и о том, в чем заключается правда. Мы учились вести себя осторожно, сознавая, что стукачи имеются как среди учителей, так и среди учеников. А кто говорит – опасность, тот говорит – страх: необходимость остерегаться…
Отчасти все это еще было игрой, нам было по 13 лет, энергия била через край, вдобавок мы начитались приключенческой литературы. Как противостоять соблазну дойти до границ опьяняющей свободы? Как удержаться от провокаций, как не поддаться желанию раскритиковать какое-нибудь положенное по программе произведение соцреализма ради того, чтобы посмотреть на реакцию учителя. Поинтересоваться, что тот или иной преподаватель думает о недавней статье Солженицына, о новом стихотворении Бродского, о каком-нибудь еще явном самиздате, до которого мы становились все более охочи. Провести на уроке истории рискованную параллель между французской и русской революциями (на редкость благодатная почва), устроить дискуссию на какую-нибудь идеологически опасную тему, например обсудить встречу между «предателем Садатом» и лидерами «мирового сионизма» в 1978 году. Запустить на всю школу на перемене кем-то привезенную из-за границы пластинку Галича или Высоцкого… Большим умом наши инициативы не отличались, но что поделаешь, это ребячество было неотъемлемой частью кипучей школьной жизни.
Бедные наши учителя служили подопытными свинками, их реакция на разного рода провокации помогала определить, где проходит невидимая граница, переступать которую не следует, почувствовать, в какой момент наши выходки начинают грозить неприятностями. Наше поведение не отличалось особым мужеством, поведение взрослых было достойно восхищения: не было ничего проще, чем раз и навсегда заставить нас замолчать – вместо этого они одновременно учили нас думать и обозначали пределы свободомыслия, то есть в конечном счете возводили защитную ограду между нами и действительностью. Их уделом была постоянная напряженность, нашим – беззаботность и эйфория.
Формальный характер насаждаемой идеологии был очевиден, обязательные мероприятия носили откровенно пародийный характер, всерьез их, как правило, никто не принимал. Так на классном собрании, посвященном приему в комсомол одноклассника, впоследствии выдающегося американского математика, а в то время просто способного мальчика из интеллигентной семьи, никто не мог сказать ничего положительного ни о его общественной работе, ни об уровне его политической сознательности. Неловкая пауза затянулась, как вдруг раздался спасительный возглас одного из приятелей обсуждаемого: «Зато он знает наизусть „Трех мушкетеров“!» Кандидатура была немедленно утверждена.
Но бывало и по-другому. К этому времени относится эпизод, который до сих пор вызывает у меня чувство стыда. Пришла пора вступать в комсомол. Теоретически туда принимали самых достойных, на практике, как известно, не принимали лишь заядлых двоечников и разгильдяев. В нашей школе принимали практически всех, речь шла о пустой формальности. Однако на классном собрании, посвященном приему, я вдруг встала и громко заявила, что не желаю иметь ничего общего с этой бандитской организацией и вступать отказываюсь. В любом другом учебном заведении скандал был бы невероятный, и последствия его пришлось бы расхлебывать в первую очередь родителям. Их вызвали бы в школу и стали прорабатывать за упущения в воспитании дочери, а то и сообщили бы начальству на работе – словом, неприятностей не оберешься. Во Второй же школе моя выходка ничем не грозила, и я хорошо это знала. После окончания собрания классная руководительница отвела меня в сторону: «Не валяй дурака. Ты ведь собираешься поступать в институт? И прекрасно знаешь, что без комсомола тебя никуда не возьмут. Так что давай садись и пиши заявление!» Я села и написала.
Тем не менее уже тогда можно было заметить первые трещинки, первые признаки того, что в будущем пути наши – некоторых из нас – должны разойтись. Составив пресловутое заявление о желании пополнить ряды славного комсомола, я отправилась за подписью к комсоргу нашего класса, закадычному другу моего ближайшего приятеля, и протянула ему лист: «Подпиши-ка!» К моему изумлению, он наотрез отказался. Я опешила: «Ты что, с ума сошел?» Моему возмущению не было границ: по моим представлениям, речь шла о формальности, которую ни один нормальный человек не мог принимать всерьез. Мой собеседник спокойно объяснил, что, как мне хорошо известно, он собирается поступать в Институт международных отношений, где требуется безупречная характеристика. «А тебя, – добавил он, словно речь шла о чем-то очевидном, – когда-нибудь арестуют за антисоветчину, и я не хочу, чтобы тогда обнаружилось, кто подписал твое заявление о вступлении в комсомол». Мне нечего было ему возразить. Нам обоим было по 14 лет.
Дело это как-то уладилось, школьная жизнь текла по-прежнему, и такого рода стычки были крайне редки, «идеологически выдержанные элементы» составляли все-таки меньшинство и свои взгляды не афишировали. В целом это была счастливая эпоха, нескончаемая череда открытий и приключений в компании одержимых математикой мальчишек (девочек в школе можно было пересчитать по пальцам), которых интересовало решительно все и которые жадно впитывали любую информацию. Источников этой информации насчитывалось три: то, что мы слышали от учителей, то, что читали в книгах, легальных и нелегальных (в это время мы уже пристрастились к самиздату), и то, что передавали западные радиостанции.
* * *
Если поразмыслить, мое первое «политическое» воспоминание относится к самому раннему детству, задолго до разговора о Пражской весне. Дело, скорее всего, происходит зимой, так как за окном уже сумерки. Мама, прикорнув на диване, уснула, комната, в которой мы живем, часть так называемой «коридорной системы», погружена в полутьму. Чтобы не разбудить ее, я стараюсь не шуметь и от скуки прислушиваюсь к бормочущему радио: «…героические представители трудящихся масс алжирского народа, борющихся за свободу против французских колонизаторов…». Какой это год? 1960-й? 1961-й? 1962-й?
К этому же периоду относится начало моих отношений с радиоприемником, извергавшим отвратительную смесь скрежета и скрипа, шум то возрастающий, то затихающий, который то частично, то полностью заглушал мужские и женские голоса, что-то безостановочно говорившие. Я этот скрип и скрежет ненавидела. Хотя сам предмет, являвшийся их источником, мне скорее нравился. Это был внушительных размеров ящик, посередине которого располагался глазок, постоянно находившийся в движении. Зрачок был черный, а сам он – зеленый, как у кошки, но в отличие от кошачьего глаза, зеленый сектор никогда не был полным. Довольно быстро я уловила связь между его размером и количеством скрипучих звуков: чем больше сектор, тем меньше скрипа.
Сидя перед приемником, отец непрерывно крутил ручку, пытаясь поймать нужную радиостанцию, приговаривая: ловится… не ловится… Так что занятие это в моем представлении ассоциировалось с ловлей рыбы, к которой он приобщал меня летом на отдыхе. Годы спустя я поняла, чтó это была за ловля: выражаясь высоким слогом, речь шла о вылавливании крупиц правды в разливанном море окружающей лжи.
На крючок попадались не щуки и не окуни, а – в порядке предпочтения отца – Би-би-си, Голос Америки, Радио Свобода и, когда их глушили настолько, что уже вообще ничего нельзя было разобрать, – Немецкая волна.
В эпоху, о которой идет речь, такого рода рыбная ловля была занятием относительно безопасным. В сталинские времена иметь коротковолновые приемники запрещалось, в войну они вообще подлежали конфискации, за хранение их дома сажали: шпионаж, подрывная деятельность, распространение клеветнических сведений – короче, целый набор статей Уголовного кодекса. В этом была своя логика, если вспомнить, что даже выключение «радиоточки», орущей с утра до ночи в кухне коммуналки, могло повлечь за собой печальные последствия. В 60-е годы обладание коротковолновым приемником уже не было преступлением, они даже продавались в магазинах. Народные умельцы научились добавлять еще один, 16-метровый, диапазон, на котором глушилки не действовали, поскольку этого диапазона у советских граждан быть не могло, после чего установка была готова к ловле «вражеских голосов», как их именовали с неподдельной нежностью. Само собой разумеется, что мой отец, инженер, окончивший Институт связи, тоже обладал соответствующим приемником. Свое пристрастие к вышеупомянутой рыбалке он, естественно, не афишировал, так как до самого конца советской власти слушание «голосов» не имело ничего общего со склонностью к мистике и властями не поощрялось (как, впрочем, и мистика) – ну, если не преступление, во всяком случае отягчающее обстоятельство.
Мне всегда было ясно, что рассказывать об этой рыбалке не следует. Впрочем, мне это и не приходило в голову. До определенного возраста тема меня не интересовала, а кроме того, я, наверное, считала, что во всех семьях происходит то же самое. Я не любила, когда отец садился перед приемником и начинал крутить ручку: шум меня раздражал, а смысл того, что говорили, долгое время оставался непонятен – и тем не менее услышанное, сотни и тысячи раз повторенное, навсегда отложилось в памяти: «…вы слушали сводку новостей, переходим к аналитическому обзору событий, у микрофона наш обозреватель Анатолий Максимович Гольдберг…». Голос ведущего, правильный, без малейшего акцента, тем не менее чем-то неуловимым отличался от языка, на котором говорили все окружающие. Это была колыбельная моего детства. И не только моего: для скольких детей моего поколения А. М. Г. в течение многих лет оставался чем-то вроде члена семьи, доброго домового, живущего где-то на «Западе». Этот таинственный «Запад» воплощался в его голосе, день за днем рассказывавшем жителям СССР о том, что происходит в мире и – главное – в их собственной стране.
Много лет спустя, во время перестройки, мне довелось сотрудничать с Би-би-си и по работе бывать в лондонской штаб-квартире, встречаться с сотрудниками. Несмотря на все усилия, мне никогда не удавалось установить мысленной связи между этой редакцией, похожей на все редакции мира, с людьми, которые в ней работали, и легендарным персонажем моего детства: «…у микрофона наш обозреватель Анатолий Максимович Гольдберг…».
Постепенно «вражеские голоса» сделались неотъемлемой частью повседневной жизни. С 1966 года бабушка жила с нами. Как все бывшие политзаключенные, она поначалу не имела права жить внутри стокилометровой зоны вокруг Москвы, и, как многие другие выпущенные на волю ссыльные, они с дедом по возвращении из Якутии поселились в Александрове, в пресловутых 100 км от столицы, куда ходили электрички, что уже само по себе было изрядным преимуществом. После смерти деда родителям удалось поменять комнату в александровском бараке на меньшую площадь в московской коммуналке, после чего был совершен обмен этой комнаты и нашей двухкомнатной квартиры на окраине Москвы (куда государство выселило нас из дома-коммуны близ проспекта Мира) на трехкомнатную квартиру, тоже на окраине, но уже не столь безнадежно далекой. Там мы и жили впятером (включая мою появившуюся на свет сестренку). У меня появилась своя комната, и восторгу моему не было пределов. У бабушки тоже была своя комната, въехав в которую она наверняка испытала еще большую радость. «Кроме прекрасного вида, – писала она в своих воспоминаниях по поводу московской квартиры, в которой ее родители поселились в 1914 году, – эта квартира имела для меня и еще одно огромное преимущество: у меня в ней была отдельная комната. Это было большое счастье». В течение последующих пятидесяти лет это счастье было ей недоступно – если, конечно, не причислять к отдельным комнатам тюремные одиночки. Когда она вновь обрела его, ей было уже за 60.
Так что бабушка жила с нами. Десятилетия, проведенные в нечеловеческих условиях, лишь укрепили ее изначальное отвращение ко всем видам хозяйственной деятельности. Домашняя хозяйка из нее была никакая. И это при том, что у нее были золотые руки и изобретательный ум. Пуговицу она пришить не могла, но рисовала прекрасно и вообще была отличной рукодельницей. У меня до сих пор хранятся глиняные шахматы и бусы из необожженной глины, инкрустированные кусочками синей и красной проволоки: более благородных материалов в ее распоряжении не было… А какие ажурные салфетки она вырезала из бумаги, какие прелестные мастерила безделушки, буквально из ничего: куска коры, пробки, сухих листьев… Но когда надо было встать к плите, выяснялось, что пределом ее умения было яйцо всмятку. Мне даже временами казалось, что дело было не столько в неумении, сколько в своего рода протесте, наверняка неосознанном, против выпавшей на ее долю судьбы: «Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь…» В результате в семье на нее были возложены обязанности политинформатора. Вернее, она сама их на себя возложила. Ежедневно она прилежно слушала «вражеские голоса», комментарии Анатолия Максимовича Гольдберга, и вечером, когда родители возвращались с работы, а я из школы или из университета, нас всегда ожидала подробная сводка. Учитывая размах политинформации в советскую эпоху – на заводах, в школах, в научно-исследовательских институтах, в домах отдыха, – меня очень забавляла мысль о том, что у нас в семье был собственный политагитатор, с той лишь разницей, что сообщаемая информация представляла собой полную противоположность официальной пропаганде.
Какое-то время мне казалось, что в каждой семье, подобно нашей, только тем и занимаются, что слушают «вражеские голоса», потому что так же обстояло дело в кругу наших знакомых. Хорошо помню коллегу отца, который с особенным удовольствием мыл вечером посуду на кухне: одной рукой он включал горячую воду, а другой одновременно настраивался на волну Би-би-си. Позже я поняла, что ошибалась, такие семьи составляли лишь ничтожный процент населения – все остальные черпали информацию из официальных источников: государственного радио и телевидения и газет.
Но само по себе, обоснованное или нет, представление о существовании некоего альтернативного пространства, на которое не распространяются официальные нормы мышления, было крайне важным: оно способствовало формированию собственного мировоззрения и поддерживало ощущение внутренней свободы, зачатками которой я была обязана родителям и школе. Я знала, что в моей семье, как и в семьях моих друзей, думают и говорят не так, как принято. Возникали два параллельных противопоставленных друг другу мира. И по мере того как внутренний расширялся и обогащался, усиливалось шизофреническое раздвоение – и теми же темпами усиливался страх.
Страх этот не был результатом реально пережитых обстоятельств; все мы жили вполне благополучной – по советским меркам – и даже относительно привилегированной жизнью столичной интеллигенции (которая сама по себе пользовалась неизмеримо большими благами, чем все остальные жители страны). Он генерировался чтением недозволенной литературы, для которой окружающая действительность служила специфическим фоном восприятия: повседневность была однообразна и бессобытийна, но в ней постоянно ощущалось присутствие чего-то страшного, угадывались произвол и насилие. В школьные годы мысленное проникновение в заповедную зону еще имело оттенок игры, прелесть запретного плода, но постепенно изучение изнанки советского бытия превратилось в потребность и вошло в привычку. Самиздат тех лет включал в себя самых разнообразных авторов: Шаламов, Солженицын, Зиновьев соседствовали с Оруэллом и Хаксли. Чтение крайне бессистемное, никто не знал заранее, какое именно произведение попадет в руки следующим. Поставщиками были коллеги и друзья отца, мои собственные друзья и приятели. Запрещенную книгу «приносили», ее следовало быстро прочитать и вернуть «принесшему». Никому и в голову не приходило спросить: «Откуда у тебя это?», таких вопросов не задавали, прекрасно зная, что так лучше для всех – меньше риска случайно скомпрометировать поставщика. В наших кругах бойко циркулировавший самиздат являлся своего рода формой общения, и даже формой ухаживания. Случалось, я ловила себя на мысли по поводу кого-нибудь из знакомых: до чего невыносимый тип, отвязаться бы – но нет, он ведь обещал мне Набокова…
* * *
Разногласия с бабушкой уходят корнями в эту эпоху. Ее приводило в отчаяние, что отец дает мне читать запрещенную литературу, и она противилась этому изо всех сил. Он же, во всем остальном любящий и послушный сын, оставался к ее протестам глух, а я продолжала заглатывать книгу за книгой.
Особенно завораживали меня мемуары бывших зэков, воспоминания, документальные и художественные свидетельства. Евгения Гинзбург, Олег Волков, Ариадна Эфрон, Анатолий Марченко… Жуткий, окутанный тайной тюремно-лагерный мир. Главной загадкой, мучившей меня, были причины стойкости этих людей: какие душевные и физические ресурсы позволили им вынести то, что выпало на их долю? Допросы, унижения, пытки, бесконечные этапы в товарных вагонах, потеря близких… Ярославская тюрьма 1937 года:
«…Вдруг я ощущаю мгновенную, но такую невыносимую боль, что на какое-то время теряю сознание. Это Сатрапюк вывернул мне руки и связал их сзади полотенцем. Как сквозь сон вижу, что на помощь к нему подоспела женщина-надзирательница. Она раздевает меня, связанную, до рубашки, вытаскивает даже шпильки из волос. Потом все сливается, и я проваливаюсь в черную и в то же время огненную бездну. Прихожу в себя от мороза. Пальцы на левой ноге закоченели настолько, что я не ощущаю их. У меня тогда получилось отморожение второй степени всех пальцев левой ноги. И до сих пор каждую зиму нога распухает и болит. Все тело мучительно ноет. Я лежу на этих низких нарах, прямо на спине, почти голая, в одной рубашке и накинутой сверху грязной шинелишке…»
Читая эти рассказы, я неизменно задумывалась: была бы я в состоянии вынести такое? Ответ был очевиден: нет. И сразу возникала череда новых вопросов: а они? Как смогли они? Благодаря чему? Где черпали они силу не только пережить этот кошмар, но и рассказать о нем? Долгое время, не находя объяснения, я утешала себя мыслью, что, если я не в состоянии понять, виной тому разница в возрасте: они – взрослые, сложившиеся люди, а я… До тех пор пока в один прекрасный день я не обнаружила, что число моих собственных лет уже сильно превысило возраст, в котором на них посыпались удары судьбы, что большинство их в тот момент было очень молодо, а некоторые вообще только стояли на пороге взрослой жизни. «Почему на долю моей матери, красивой и романтической девочки-гимназистки из Казани, пришлось так много беды, убожества, унижений? Очень редко в ее жизни была крепкая обувь и вкусная пища, надежная крыша над головой. Ей было 32 года, когда начались глумливые допросы ублюдков из НКВД, свирепость вооруженной охраны, бесконечное недоедание, бесконечная сырость и холод…» – спрашивает Василий Аксенов в предисловии к воспоминаниям Евгении Гинзбург, цитируемым выше. И сегодня причина их стойкости остается для меня загадкой.
Все эти ужасы, повторяю, существовали только в моем воображении. Школьная атмосфера одновременно обеспечивала чувство личной сиюминутной безопасности и стимулировала интерес к предметам, с которыми повседневная реальность, казалось, не имела никаких точек соприкосновения. Тем не менее уже тогда внимательный глаз мог обнаружить тонкие нити, протянувшиеся от нашей уютной жизни к миру, описываемому в запрещенной литературе.
Большинство учителей Второй школы критически относились к советской власти, и один из них даже активно участвовал в диссидентском движении. Анатолий Якобсон, литературовед, один из основателей «Хроники текущих событий», обожаемый учениками за неповторимые уроки литературы, человек-легенда, в конце концов был вынужден уволиться, чтобы не ставить школу под удар, и впоследствии эмигрировать. С другой стороны, учитель географии, гроза учеников и большой любитель немых карт, которые нам приходилось бесконечно раскрашивать, в свое время сидел в лагере (о чем мы, конечно, тогда не знали) и принимал участие в кенгирском мятеже в феврале 1954 года; в «Архипелаге ГУЛАГе» Солженицын возлагает на него часть ответственности за провал восстания. Вторая школа несомненно была единственным учебным заведением страны, где в одном пространстве учительской могли сосуществовать, ежедневно раскланиваясь, видный представитель диссидентского движения и бывший лагерник-предатель.
Первое лобовое столкновение с действительностью имело место незадолго до окончания, когда терпение властей лопнуло, и «гнездо антисоветчины и сионизма» (процент евреев во Второй школе, как среди учителей, так и среди учеников, был, естественно, сильно выше «нормы») было разгромлено[2]. Директора и завуча уволили, учителя либо были уволены, либо ушли сами – осталась легенда, осталась плеяда блестящих ученых, бывших учеников, рассеянных по всему миру, остались воспоминания, которые годы спустя приняли форму записок, мемуаров, фильмов и телепередач.
* * *
Близились выпускные экзамены, пора было подумать о будущем и решить, куда поступать. А решить было непросто. С самого начала обучения во Второй школе я поняла, что математическая стезя – не моя. Ни физическая, ни вообще естественно-научная. Слишком велика была разница: тогда как я честно, исходя из принципа «назвался груздем, полезай в кузов», но без энтузиазма старалась удержаться на плаву, отношение к математике моих одноклассников лучше всего определялось словом одержимость. Достаточно было понаблюдать за ними на перемене. Стоило прозвенеть звонку, как все обсуждавшиеся на уроке материи немедленно улетучивались у меня из головы; у меня – но не у них. По дороге за мороженым в находившийся по соседству универмаг «Москва» (там оно стоило не 19 копеек, как в киосках, а целых 20, но было гораздо вкуснее) они продолжали оживленно обсуждать какую-нибудь теорему, останавливались посередине пути, нередко прямо на проезжей части, один выуживал из кармана листок бумаги, другой – огрызок карандаша, третий нагибался и подставлял спину, изображая стол, и дискуссия поглощала их полностью и надолго. Мои усилия сдвинуть их с места ни к чему не приводили, им было не до мороженого, не до перемены.
Таким образом, естественные науки отпадали. Оставались гуманитарные. В частности, связанные с языками, так как языки меня интересовали уже давно. Точнее, один язык, английский. Не тот, что изучался в школе, поскольку в средних учебных заведениях, за исключением спецшкол, преподавание было поставлено из рук вон плохо, и тут даже Вторая школа не была исключением. Два часа в неделю – время само по себе недостаточное, и наш учитель английского, симпатичный эксцентрик, являвшийся на уроки с термосом кофе и неисчерпаемым запасом политических анекдотов, видимо, изначально решил не нагружать наши и без того перегруженные юные головы сомнительного качества знаниями. Нет, в этих занятиях не было ничего привлекательного, другое дело – частные уроки, на которые я ходила, как на праздник.
Раз в неделю я являлась на дом к молодой преподавательнице из Иняза; мы занимались два часа, и каждый из этих уроков представлялся мне своего рода ящичком волшебного шкафа: какой ни выдвинешь – внутри сокровище. Английский язык разворачивался во всем своем великолепии, постепенно выявлялись его музыкальность и богатство, прояснялась внутренняя логика, неповторимое сочетание закономерного и случайного, свойственное в разных формах каждому языку и делающее их подобными живым организмам. В отличие от естественных наук, которые я усваивала, по-настоящему не ассимилируя, гуманитарные можно было не только понять, но и переварить, усвоить, а потом создать из усвоенного что-то новое. Однако, остановив выбор на изучении языков, я по-прежнему не имела ни малейшего представления о том, что конкретно с ними делать, и даже не рассматривала их как возможность доступа к информации иными способами недоступной – все это пришло много позже. Мной двигала общая любознательность, желание расширить кругозор.
В советское время для желающих учить языки существовало четыре возможности: МГИМО, Институт иностранных языков, пединститут и МГУ. Как известно, несмотря на сходные во многом программы, эти заведения сильно отличались друг от друга. В первую очередь по шансам на поступление. В МГИМО принимали людей с безупречной анкетой, прошедших проверку КГБ комсомольских активистов, обладателей тройной рекомендации: парткома, райкома и профсоюзов. Простым смертным путь туда был заказан. С другой стороны, для честного человека перспективы после окончания были не слишком заманчивыми: любая дипломатическая работа предполагала, во-первых, неизбежные компромиссы с собственной совестью и, во-вторых, обязательное исполнение заданий разведки. Я эту возможность даже не рассматривала, и думаю, что, приди мне в голову подобная мысль, я бы не решилась поделиться ею с родителями – их возмущению не было бы предела. В общем, несмотря на великолепное преподавание языков, МГИМО отпадал. Из трех оставшихся вузов легче всего было поступить в пединститут, но уровень его оставлял желать лучшего. Иняз был в целом улучшенным вариантом пединститута, то есть заведением, главным образом готовившим преподавателей. Оставался Московский университет, самое престижное заведение страны – и соответственно самое недоступное: конкурс туда был огромный. Напомню, что абитуриенты могли претендовать лишь на определенную долю мест, другая часть была отведена рабфаку «для оздоровления социального профиля». Словом, легче верблюду пройти в игольное ушко…
Узнав о моем решении, отец вздохнул, но возражать не стал. Ограничился вопросом: «Ты, я надеюсь, отдаешь себе отчет, что этот факультет готовит к профессиям, в которых вранье является ежедневной необходимостью?» Отчет я, конечно, отдавала, но, с одной стороны, в случае поступления целых пять лет отделяли меня от упомянутой мрачной перспективы, с другой же стороны, врожденный оптимизм подсказывал, что надо будет – выход найдется. Не знаю, лелеяли ли мои родители тайную надежду, что, провалив экзамены, я сверну на какую-нибудь более достойную стезю. В конце концов, для девочки тут не было непоправимой трагедии: в армию ее не призовут, в худшем случае удар по самолюбию, ничего страшного.
Как бы то ни было, родители хоть и не возражали против идеи поступления на филфак, никакой активности в этом отношении не проявляли, в отличие от большинства семей, где имелись отпрыски с аналогичными амбициями. Как-никак, не считая спорта, высшее образование оставалось основным рычагом для продвижения по социальной лестнице, и, при общей строгой регламентированности советской жизни, диплом определял дальнейшую судьбу человека в гораздо большей степени, чем, скажем, на Западе. Пожалуй, наряду с браком это был самый важный жизненный выбор – все остальное являлось лишь вытекающими из него последствиями. Отсюда озабоченность большинства родителей, отсюда наемные репетиторы по всевозможным предметам, на которых в десятом классе уходила немалая часть семейного бюджета, особенно когда дело касалось сыновей, над которыми висела тень призыва в армию.
Мои родители никаких репетиторов не нанимали, спокойно предоставив мне готовиться самой. Они по-прежнему финансировали уроки английского, и думаю, что эти расходы составляли предел их возможностей, ведь техническая интеллигенция жила исключительно на зарплату, никаких дополнительных источников дохода, вроде гонораров, у нее не было, а зарплаты были известно какие. Незадолго до окончания я, правда, попросила денег на несколько уроков русского, и они были мне немедленно выделены. Экзаменов предстояло четыре: сочинение, устный русский и литература, история, иностранный язык; проходной бал был 19,5 – мои шансы поступления равнялись нулю.
3
Если боишься – не говори, если сказал – не бойся.
Арабская пословицаИ тем не менее – случайность или чудо? – я набрала необходимые баллы и была принята на романо-германское отделение филологического факультета МГУ. Это стало началом новой жизни.
Прочитав расписание занятий и перечень предметов, я пришла в восторг. Чего там только не было! История античной литературы, за которой на втором курсе должны были следовать Средние века и Возрождение, на третьем – эпоха Просвещения, и так далее. Введение в общее языкознание и разнообразные лингвистические предметы: фонетика, грамматика, лексикология… Специальные предметы: германская филология, история английского языка, не говоря уже о предметах общеобразовательных: истории искусства, истории философии… А языки! Помимо основного, английского, обязательная латынь, готский (язык, о существовании которого я до этого вообще не подозревала), древнеисландский, древнеанглийский – чудеса!
Само собой разумеется, тут же, у них под боком, расстилалась необозримая степь обязательных предметов: история КПСС, политэкономия, марксистско-ленинская философия, научный коммунизм, научный атеизм и пр. Ситуация вполне привычная: в то время, даже покупая килограмм колбасы, человек был обязан, приплатив, взять «в нагрузку» три банки несъедобных консервов, так что не было ничего странного в необходимости тратить два часа в неделю на лекции по диамату, в качестве приплаты за возможность познакомиться с основами диалектологии. Я была готова платить и больше за счастье проникнуть в тайны словообразования в готском языке. Просидев четыре года на диете, состоявшей из теории множеств, термодинамики и интегрального исчисления, я испытывала головокружение от предстоящего изобилия гуманитарной пищи.
Однако, переступив в положенный день порог факультета, я испытала головокружение и совсем иного рода, впервые полностью осознав причину недовольства родителей моим выбором профессиональной стези. Из веселой компании юных математиков, живых, открытых и любознательных, я попала в окружение чинных девиц, отличниц и зануд (таково было первое впечатление), и вдобавок ко всему политически благонадежных. После блестящих учителей Второй школы, в большинстве своем ярких индивидуальностей, людей «своих», близостью с которыми мы так гордились, – серые университетские преподаватели, говорящие и думающие тезисами партконференций. И с первого же дня, с первого же часа, по всем предметам, по любому поводу – поток официального словоблудия, лошадиные дозы идеологии.
В шумной толпе студентов-филологов я вдруг почувствовала себя в полном одиночестве. Один из однокурсников рассказывал впоследствии, что его настолько смутил тон моих высказываний, что он даже пересказал их своим родителям. Те немедленно встревожились и посоветовали ему быть начеку: «Она либо дура, либо стукачка!»
Стукачкой я не была, глупость же моя, к счастью, не была неисправимой. Очухавшись от первого шока, я осознала необходимость научиться держать язык за зубами, избегать всего, что могло быть сочтено за провокацию. Дала себе слово быть осторожной в разговорах со студентами и постараться найти среди них тех, кто смотрит на вещи так же, как я, – в том, что такие существовали, я не сомневалась, просто они старались не высовываться. В отличие от Второй школы на филфаке их было ничтожное меньшинство, очевидно, в той же пропорции, что и в любом другом советском заведении. На этом фоне уникальность школы выступала еще ярче.
Уже на первом курсе у меня сложилось восприятие мира, которому суждено было сохраниться на протяжении ряда лет: с одной стороны, смесь страха и постоянно ощущаемого давления, с другой стороны, в противовес им, крепнущее чувство внутренней независимости – сочетание довольно шизофреническое. После исчезновения защитной микросреды, каковой являлась Вторая школа, соотношение между «они» и «мы» резко изменилось: отныне «мы» сжалось до пределов семьи и узкого круга друзей – все остальное было «они». Надо было как-то приспосабливаться, избегать эксцессов, выбирать в научные руководители наименее одиозных преподавателей, находить нейтральные сюжеты для курсовых работ. Все мои новые друзья выучились этому еще в школе, теперь настала моя очередь. Но похоже, время было упущено.
Чудеса, обещанные расписанием, реализовались в полной мере. Год за годом нам открывался доступ к все новым и новым сокровищам. За Аристофаном шагал Абеляр, за Абеляром – Арагон, за готским – древнеанглийский, за фонологией – грамматика… Ну и само собой разумеется, за научным атеизмом – научный коммунизм, за диалектическим материализмом – исторический. В нагрузку.
Важным моментом стало решение всерьез заняться шведским, вместо изначально первого языка – английского. Как вообще человек становится скандинавистом? Мне так часто приходилось отвечать на этот вопрос, что в конце концов я и сама поняла нестандартность подобного выбора. В самом деле, почему вдруг шведский, в силу каких соображений? Соображения были самые что ни на есть прагматические. Попробую объяснить.
Как известно, отсутствию безработицы в Советском Союзе в большой степени способствовало «распределение» выпускников высших учебных заведений: не подпишешь бумажку – не получишь диплома. Однако предлагаемая государством, единственным законным работодателем, работа далеко не всегда соответствовала запросам и квалификации «молодых специалистов», которым нередко приходилось ехать туда, куда им отнюдь не хотелось, и заниматься тем, что не вызывало у них ни малейшего интереса. Понятно, что момент распределения сеял в душах смятение. Добавим к этому плановую экономику, вспомним, как в 50-е годы, в период дружбы с Мао, была сформирована целая армия китаистов, которым, после того как дружбе пришел конец, оставалось только идти в дворники. А уже на нашей памяти, в 70-е годы, срочно набирали группы студентов, владевших романскими языками, срочно обучали их португальскому – и срочно отправляли в Африку переводчиками. Знатоки Сервантеса и Данте зарабатывали на жизнь, переводя советских военных инструкторов, сопровождая агрономов в поля, инженеров в заводские цеха стран, которым мы в обмен на политлояльность помогали строить социализм[3].
У меня не было ни малейшего желания служить переводчиком при ком бы то ни было где бы то ни было, и учитывая это, выбор шведского языка напрашивался сам собой. Страна маленькая, нейтральная, вряд ли СССР на нее позарится, вдобавок между ними надежный «буфер» – Финляндия. Так что, да здравствует скандинавистика! Конечно, были и другие причины: интерес к германским языкам и отчасти к литературе. По-русски я к тому времени уже читала кое-кого из шведов: Астрид Линдгрен, Туве Янссон, Сельму Лагерлеф, Пера Лагерквиста. Все это имело значение, но не первостепенное. Таким образом, выбор был в полном смысле стратегический. И остановилась я на этом эпизоде так подробно потому, что сам факт представляется мне знаменательным: 17-летней студентке приходится, выбирая профессию, учитывать геополитические аппетиты своего государства.
Как и следовало ожидать, переключившись с английского на шведский, я получила «в нагрузку» немецкий и датский, как полагается будущему филологу-германисту, а так как я уже немного зарабатывала уроками английского языка, у меня появилась возможность сделать себе подарок: еженедельные частные уроки французского. Почему-то мне захотелось выучить этот язык, хотя я не очень понимала, какой от него может быть толк.
Фамилию учительницы я забыла, зато по понятной причине помню имя-отчество: Наталия Николаевна. Дама преклонных лет, принимавшая учеников у себя дома, в комнате в коммуналке. Во Франции, стране, язык которой она преподавала, Наталия Николаевна никогда в жизни не была, ее французский был, как это нередко случалось, наследственным, своего рода фамильной драгоценностью, дающей приработок к нищенской пенсии. Контингент учеников состоял главным образом из школьников, которых по тем или иным причинам надо было подтянуть, – народ не особенно заинтересованный, да и не всегда способный к языкам. Поэтому она радовалась ученице, ходившей по доброй воле, да еще владевшей зачатками латыни и имевшей определенную лингвистическую подготовку.
«Семейный» французский, которому учила Наталия Николаевна, имел мало общего с «настоящим»: его корни уходили в иную эпоху. Мы степенно осваивали таблицы спряжения глаголов, делали упражнения по грамматике, учили диалоги так называемого «синего Може» («Mauger bleu») в четырех томах, вид которых вызвал у меня приступ умиления, когда много лет спустя я обнаружила их на книжном развале в Копенгагене. Читать я выучилась довольно быстро и даже понимала медленную речь, но о том, чтобы говорить самой, не могла даже помыслить: все мои знания были почерпнуты из учебника и из прочитанных книг. Начала я сразу с Пруста: прочитала целиком, ничего не поняла; потом перечитала еще раз – и поняла почти все. Другим моим любимцем был Расин.
Французские книги представляли собой крошечный ручеек по сравнению с двумя основными потоками, составлявшими мое тогдашнее чтение: обязательная литература и самиздат. Софокл параллельно с Солженицыным. Характер несанкционированного чтения, полностью непредсказуемого, резко контрастировал с систематическим, строго хронологическим университетским чтением: Античность, Средние века, Возрождение… Торжественное, перетекавшее из года в год шествие. Правда, чем ближе мы подбирались к современности, тем больше обнаруживалось пробелов: ни Музиля, ни Селина, ни Ионеско… Впрочем, теперь мы были в состоянии читать этих авторов в подлиннике. Их книги не находились под запретом, но переводов не было, а найти оригинал было нелегко, разве что в библиотеке или в букинистическом магазине на улице Качалова (по ценам для студентов недоступным). Еще имело смысл заглядывать в «Дружбу народов», книжный магазин на улице Горького, торговавший изданиями стран соцлагеря. Там иногда удавалось купить какой-нибудь словарь, а если повезет, стать владельцем изданных в ГДР разноцветных томиков Deutsche Klassiker в элегантном матерчатом переплете.
Пять голубых томов полного собрания сочинений Гейне, три тома Гауфа в переплете цвета слоновой кости соседствовали у нас дома с полными собраниями сочинений (на этот раз в русском переводе) Джека Лондона (14 томов), Диккенса (33 тома), Голсуорси (18 томов) и т. д. Библиотеки всех интеллигентных семей были примерно одинаковы: покупали то, что случайно попадало в открытую продажу, на что удавалось подписаться. Издательства же, как известно, старались избегать опасных инициатив: издание современных авторов всегда было сопряжено с риском. («Ну какая муха укусила этого Бёлля? Переводили его, издавали – а он возьми и пригласи к себе предателя Солженицына!») Спокойнее всего было с классиками: Мадам де Сталь уж точно не выдаст никакой антисоветчины. Вдобавок многотомные собрания сочинений позволяли без труда выполнять издательский план. В результате вся интеллигенция, особенно техническая, читала одно и то же. Так что я даже не особенно удивилась, обнаружив в доме-музее Луи Арагона и Эльзы Триоле в Сент-Арну-ан-Ивлин под Парижем все тот же джентльменский набор: в библиотеке Эльзы были и Джек Лондон, и Чарльз Диккенс.
В ту пору мое «дозволенное» чтение было почти исключительно литературным: ни эссеистики, ни теоретических трудов (за исключением обязательных классиков марксизма), ни работ по истории. Зато историческая литература была обильно представлена в чтении запрещенном, создавая своего рода противовес официальной университетской истории. Так что, входя в поточную аудиторию и готовясь конспектировать очередную лекцию по истории КПСС, я заранее знала: все, что мне предстоит услышать, – неправда. Речь шла главным образом о бесконечных партийных съездах и пленумах, резолюции которых надо было заучить наизусть – и начисто забыть немедленно после сдачи очередного экзамена или зачета. И если я до сих пор знаю, что съездов было как минимум 26, то исключительно благодаря красующемуся у меня на кухне самовару советских времен с выгравированной на нем надписью «ХXVI съезд КПСС».
Итогом этих лет явилось, несмотря ни на что, невероятное расширение внутреннего пространства, территории, на которую власть государства не распространялась и которая постоянно увеличивалась, благодаря возможности читать книги на иностранных языках. Парадоксальным образом, если в прежние времена чтение иностранной книги где-нибудь в метро могло привести к неприятным последствиям, в 70-е годы оно, наоборот, предохраняло от нескромного интереса окружающих. В пределах этого внутреннего пространства можно было чувствовать себя более или менее в безопасности, в то время как все, что происходило вне его, лишь питало все нарастающий страх. Чем больше я читала, тем более абсурдным казался мне окружающий мир. В быту присущее системе насилие выражалось в общей озлобленности и постоянном напряжении. В общественных местах – учреждениях, магазинах, транспорте – воздух был насыщен агрессивностью, от которой было трудно дышать. Все приезжавшие в СССР иностранцы это замечали, как и многие люди из моего окружения. Перепалки в очередях, давки на переходах в метро, автобусы, осаждаемые злобными толпами, искаженные лица, ругань, ощущение, что достаточно малейшей искры, чтобы произошел взрыв. Не имея возможности дать выход накопившемуся раздражению, направив его против властей – настоящей причины бед и лишений, – люди отыгрывались друг на друге, и невозможно было предугадать, какое именно слово, какой жест приведет к очередному всплеску эмоций.
Эта атмосфера агрессивности, чувство постоянно подстерегающей опасности имели в моих глазах мало общего с «обычным» страхом, испытываемым в определенных обстоятельствах. Я привыкла возвращаться домой поздно, не особенно опасаясь хулиганов и пьяных (отсутствие статистических данных о городской преступности несомненно способствовало моей безмятежности). Природные явления, даже самые драматические, страха не вызывали. Одиночества я тоже не боялась. Занималась опасными видами спорта, путешествовала по диким местам, оказывалась иногда в малоприятных ситуациях, испытывала панику – но не страх. Страх жил во мне самой, имел характер чисто политический и был настолько силен, что подавлял все остальные виды страха. Я боялась не людей, а государства.
Как ни странно, в тоталитарных системах давление на психику не только разрушает ее, но и в определенном смысле укрепляет. Резервы страха не бесконечны, невозможно постоянно бояться всего на свете, и если политический гнет очень велик, он в конце концов ослабляет или вытесняет прочие формы боязни. Вот и в лагерях самоубийств было, насколько можно судить, сравнительно мало: слишком много усилий уходило у человека на то, чтобы просто выжить, и энергии на то, чтобы найти способ положить конец страданиям, не оставалось даже в тех случаях, когда жизнь уже явно не стоила того, чтобы за нее бороться. Отсюда и в более поздние времена отсутствие сконцентрированности на внутренних переживаниях, относительно слабое увлечение психоанализом и психотерапией (тут, правда, водка составляет изрядную конкуренцию последователям венского доктора), по сравнению, например, с Западом. Замечание Бродского, «нас не особенно терзали фантазии, дай Бог с реальностью совладать», верно и для последующих поколений. И конечно, отсутствие потребности в интроспекции – тоже результат привычки видеть в человеке в первую очередь существо социальное, с вытекающей отсюда тенденцией акцентировать в ущерб личным проблемам проблемы общественные, по сути своей политические. Общество было политизировано до крайности, и это касалось как противников режима, так и его сторонников. Супруги пьяниц и обманутые жены писали в партком, требуя «разобраться» и вернуть заблудшую овцу на путь истинный. В оппозиционно настроенных кругах деление по политическому признаку – «они» и «мы» – было еще сильнее: ситуация, в которой критически мыслящая девушка вышла бы замуж за комсомольского активиста, и наоборот, была практически немыслима. Мирное сосуществование при наличии политических разногласий в пределах одной семьи встречалось крайне редко.
Мой страх перед государством был велик, я не сомневалась, что ему ничего не стоит искалечить жизнь и мне, и моим близким. Мужество, если речь идет не о врожденном качестве, может быть результатом отчаяния: человек, которому нечего терять, иногда способен перестать бояться. В моем случае было не так: друзья, учеба, книги, концерты, вся моя веселая и счастливая жизнь – как отказаться от этого? А ведь стоило лишь государству захотеть, все могло исчезнуть в мгновение ока, и я была бессильна что-либо сделать. Внешне это было незаметно, 70-е годы имели мало общего с 30-ми, 40-ми и 50-ми, когда люди не спали по ночам, прислушиваясь, не остановилась ли у подъезда машина, не поднимается ли, приближаясь к их этажу, лифт. Такого рода панический страх я испытала лишь однажды, и как ни странно, спровоцирован он был отнюдь не происшествием, имевшим место в реальности, а – в который раз! – навеян чтением художественной литературы.
Дело происходило дома. Я читала «1984» Оруэлла, не помню по-английски или в самиздатовском переводе. И вдруг почувствовала, что не в состоянии отделить прочитанное от реальности. Описанный в романе ужас разлился по комнате, наполнил всю ее. Я испуганно покосилась на дверь, на телефон, охваченная желанием выключить его, чтобы «они» «там» не могли прочитать мои мысли, догадаться о том, что я делаю… «От человека к человеку, восполняя его куцее земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, пережитый другими, и дает усвоить как собственный», – писал в 70-х годах Солженицын. Лучше не скажешь. Тем более что страх вообще с трудом поддается воспоминанию, человек помнит скорее о факте – ему было страшно, чем заново «переживает» страх как таковой. Это же относится и к перенесенной физической боли. Я тоже помню сам факт, а не реальные ощущения того времени, и те редкие случаи, когда мне удается приблизиться к самому ощущению, обычно связаны с чтением или перечитыванием антиутопий: «Каллокаин» Карин Бойе, «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» Хаксли и т. п. И еще, бывает, при прохождении паспортного контроля в Шереметьево, но тут скорее вспоминается уже не Замятин, а Катя Метелица: «У российских пограничников и пограничниц нет привычки (или установки?) желать гражданам счастливого полета, они говорят просто и сурово „Проходите!“. В ответ слышат вежливое, иногда даже слегка подобострастное «Спасибо». Кивок-поклон, подавленный вздох облегчения. Граждане вылетающие реально благодарны за разрешительную отметку у себя в паспорте».
* * *
Бабушка не комментировала читаемую в семье запрещенную литературу, не сравнивала прочитанное с пережитым. Во всяком случае, в моем присутствии. Да и вообще у нас в семье не велись литературные дискуссии, домашние ограничивались кратким суждением по поводу той или иной книги: хорошо – плохо. Слишком много сил и времени отнимал быт: до работы родителям было далеко, больше двух часов в день уходило на поездки. Мама, работавшая в «закрытом» НИИ, вдобавок не могла опоздать ни на минуту: войти в здание после назначенного часа не давали. Она уезжала рано утром, возвращалась вечером, усталая, чтобы взяться за хозяйство или приглядеть за сестренкой. У меня же появились более интересные собеседники: друзья, которых становилось все больше. Мне было не до бабушки.
Создание ее записок приходится как раз на эту пору моего невнимания и безразличия. Хорошо помню сопутствовавшие обстоятельства. Дело происходило во время летних каникул, мы жили в маленькой гостинице при Институте биологии пресных вод на берегу Рыбинского водохранилища, в 400 км от Москвы. Институт, находившийся в ведении Академии наук СССР, являлся одним из райских островков, разбросанных по стране. Местное население доступа к этим благам не имело и пребывало в обычной советской нищете, тогда как жизнь на островках была относительно – по советским меркам – благополучна. Настолько благополучна, что однажды моему отцу удалось получить разрешение вывезти туда французского коллегу, приехавшего в Москву, со всей семьей. (Памятью об их посещении стал подаренный мне новенький Ларусс, моя первая собственная французская книга.) Стадо носорогов не произвело бы на жителей более сильного впечатления, чем эти визитеры: «Глядите, иностранцы! Целая семья!» Для французов ситуации была не менее экзотическая, но это я поняла уже гораздо позднее.
Институт располагался в старой помещичьей усадьбе, величественной, но порядком обветшавшей, окруженной лесом, в котором угадывался бывший парк. Там же помещалась библиотека для сотрудников, частично укомплектованная старыми изданиями, помню многотомные «Жизнеописания прославленных живописцев» Вазари, неизвестно как оказавшиеся в вологодских лесах.
Кстати, я там украла книгу – «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Ту самую, за которую в 1947 году он получил Сталинскую премию. В описываемые времена его преследовали за диссидентство, вытолкнули в эмиграцию и, соответственно, его произведения изымались из библиотек. Обнаружив роман, я не сомневалась, что даже в этом захолустье уничтожение его – лишь вопрос времени, так что без малейших угрызений совести я оставила его у себя. Больше я никогда кражей книг не занималась.
В то лето на берегу Рыбинского водохранилища отец работал в лаборатории института, шестилетняя сестренка играла в свои игры, я осваивала шведскую грамматику, а бабушка писала мемуары. Затрудняюсь сказать, все ли она написала летом или продолжила работу над ними в Москве. Не могу ответить и на вопрос, что побудило ее взяться за перо. Не знаю и когда именно она их уничтожила. Был ли это неожиданный приступ страха? Дурной сон, один из тех кошмаров, что мучили бывших зэков, которым снились новые аресты? А может быть, подозрение, что ее воспоминания никому не нужны, ощущение бессмысленности начатой работы? Эта последняя догадка мне всего больнее: значит, мы с отцом не проявили достаточно интереса, не поддержали ее в нужный момент. После смерти бабушки отец перепечатал уцелевшую часть текста в двух экземплярах и подарил один мне.
* * *
Насколько яркими личностями были учителя Второй школы, настолько преподаватели филфака были в подавляющем большинстве серой, ничем не запоминающейся массой. Лингвисты казались чуть менее безнадежными, чем литературоведы, так как их предметы были более идеологически нейтральны и они могли позволить себе иметь собственное суждение хотя бы по некоторым вопросам. Поэтому анализ метрики «Беовульфа», которым занимались на семинарах по древнеанглийскому, был значительно интереснее, скажем, лекции о «Человеческой комедии», из которой следовало лишь, что ее автор, несмотря на принадлежность к критическому реализму, не сумел в своих произведениях достаточно полно отразить роль классовой борьбы. Бедный Бальзак.
Характерно, что единственные два человека, оставившие у меня яркие воспоминания, не принадлежали к профессорско-преподавательскому составу, а были приглашенными со стороны. Медиевист Арон Яковлевич Гуревич, которого то травили, то игнорировали, не имел возможности работать с будущими историками, но получил разрешение вести факультатив для филологов. Раз в неделю он входил в крошечную аудиторию, садился, читал лекцию и уходил. Его появление было сродни средневековым видениям, о которых он рассказывал. Пространство вдруг расширялось – тут не было места ни штампам, ни расхожим истинам, на наших глазах происходило чудо: абсолютно свободный человек демонстрировал абсолютную свободу мышления, излагая идеи одновременно простые и глубокие, а главное, чуждые каким бы то ни было идеологическим компромиссам. При этом он ни с кем не полемизировал, не опровергал никаких догм – само его присутствие на филфаке, одном из важнейших идеологических бастионов МГУ, являлось своего рода глобальным опровержением системы. Позже мне довелось узнать его ближе, а много лет спустя даже перевести на французский пару его работ, радуясь возможности отдать хоть небольшую толику долга благодарности человеку, в течение многих лет воплощавшему для меня идею внутренней свободы.
Питер Темпест приходил на филфак вести занятия по английской поэзии. По-английски, что само по себе было достаточно неординарным явлением: даже в московском университете иностранцы появлялись редко (а иностранцы с «редкими» языками еще реже: за все годы обучения шведскому мы так и не увидели ни одного живого шведа). Преподавали исключительно наши соотечественники, и несмотря на то что многие из них досконально знали свой предмет и были вполне хорошими педагогами, они оставались советскими людьми. Почти никто из них никогда не бывал в стране, язык, литературу и культуру которой они представляли. Они являлись продуктами той же системы, векторами того же идеологического поля – тогда как в облике Питера Темпеста в аудиторию входил таинственный «Запад».
Как и Гуревич, он приходил, проводил свой семинар – с той лишь разницей, что он не садился за стол и не читал по написанному, – и уходил. Он декламировал и комментировал стихи, виртуозно, с большим пониманием, и английский звучал в его устах как музыка. Сдержанность и осторожность его не знали границ: ни слова прямо не относящегося к английской поэзии, ни намека на окружающую действительность, ни одного двусмысленного замечания. Ни малейшего контакта со студентами, никаких разговоров после окончания семинара – трудно было более добросовестно следовать полученным от начальства инструкциям. Позже мы узнали, что дело было не только в инструкциях: Темпест долгие годы проработал корреспондентом «Морнинг стар» в СССР. О его политической лояльности догадаться было нетрудно, но мы предпочитали не догадываться, нам так хотелось видеть в нем «настоящего» человека с Запада, а не одного из «них»[4].
* * *
Мое любопытство по отношению к пришельцам с Запада, видимо, зародилось в то время. Они казались гостями из иного мира, представителями иного бытия, инопланетянами. Каждая встреча оставляла неизгладимый след.
Интерес к ним был тем более острый, что, приехав в Советский Союз, они оказывались в своего рода зоне невесомости: советский закон тяготения на них не распространялся. Они жили в особых домах, находившихся под постоянным надзором, куда простым смертным вход был запрещен. Их посольства, куда тоже не было доступа, гарантировали им безопасность. А главное – они могли по собственному желанию выехать из страны в любой момент, куда угодно – право, которым ни один из нас, «туземцев», не обладал. О том, что эти люди были людьми свободными, свидетельствовало все, притом что сами они даже не подозревали об этом. В них узнавали иностранцев мгновенно, не столько по одежде, сколько по манере держаться, по выражению лица, по тысяче неуловимых признаков. Почуяв в прохожем иностранца, местные жители настораживались, а иногда и спешили донести «по начальству». На всякий случай.
Их общество притягивало меня как магнит: говорить на иностранном языке означало само по себе обрести каплю свободы, ускользнуть от слежки государства, общаться с «другими» людьми, говорить на другие темы – о литературе, о политике.
Как ни странно, я почти не расспрашивала моих собеседников о жизни на Западе. Во-первых, потому что эта жизнь оставалась слишком абстрактной, слишком нереальной, слишком чужой. Во-вторых, потому что она меня не касалась. Для чего было знать, как устроена избирательная система во Франции или какова квартплата в Лондоне, если мне никогда не придется иметь дело ни с тем, ни с другим? В этом отсутствии любопытства наверняка было что-то и от «зелен виноград». Так же как и в категорическом отказе от попыток получить визу для поездки в страну Восточной Европы. Получение такой визы тоже было делом нелегким, но все-таки не таким безнадежным, как оформление поездки в «капстрану». Я такую возможность даже всерьез не обдумывала: увидеть псевдо-Европу? И вдобавок краснеть от стыда перед всякими венграми и поляками, которым мы в тот или иной момент протянули «братскую руку помощи»? (К собственному удивлению, в этих случаях я рассуждала в категориях первого лица множественного числа, к которым обычно не прибегала: разделяла совокупное чувство вины.) Короче, я твердо знала, что если когда-нибудь мне доведется пересечь государственную границу СССР, это будет не для поездки в «незаграницу» Болгарию или в иную зону соцлагеря.
Лучше уж было говорить о литературе вообще и о конкретных книгах и авторах. К непосредственному интересу примешивалось эфемерное чувство общности: несмотря на разницу в положении, мы были людьми одного круга, читавшими одни и те же произведения, интересовавшимися одними и теми же вопросами. И все же наши беседы касались не только литературы: я не упускала случая рассказать им о жизни в стране, указать на истинное положение вещей, на нищету, на несправедливость, поведать об ужасах, таящихся за серой повседневностью. Желание выступить свидетелем? Может быть, отчасти, но кроме того, называя и анализируя действительность, я словно немного облегчала ее изнурительный гнет, перевод реалий на другой язык обеспечивал некую дистанцию, позволял лучше охватить явление.
Комментируя окружающую действительность, я пыталась передать моим собеседникам знания, ощущения, для них недоступные, несмотря на то что физически они обретались в том же пространстве. Рожденные на свободе, они не могли осознать многих черт нашего мира, в том числе и основную: невозможность избавиться от этого кошмара. И наоборот, благодаря общению с ними, благодаря беседам, протекавшим в защищенной зоне лингвистической свободы, я, рожденная «в неволе», приобретала смутное представление о том, что означает быть свободным.
За эти глотки свободы приходилось расплачиваться приступами страха. Ибо если изучение иностранных языков было занятием вполне санкционированным, практическое использование этих знаний выглядело куда более сомнительным, а контакты с иностранцами продолжали считаться нежелательными. В этом отношении ситуация тоже, конечно, эволюционировала, эпоха, когда люди скрывали свои познания и по мере возможности старались их забыть, давно отошла в прошлое. Я своими гордилась, мне и в голову не приходило их скрывать, но все равно каждая такая беседа сопровождалась приступом паники. А что, если наш разговор прослушивался? А вдруг там где-то был микрофон? А вдруг все это записано? Такого рода беседы имели вполне определенное название: «антисоветская пропаганда», из университета исключали и за гораздо более невинные шалости. А что если меня… нет, не арестуют, мы все же не при Сталине, а, например, вызовут в КГБ и начнут шантажировать, потребуют, чтобы я стучала? Страх, который я испытывала, носил своего рода превентивный характер, его питало чтение самиздата и сознание собственной слабости: я знала, что наверняка существуют методы давления, которых я не выдержу. Всякий раз я клялась себе держать язык за зубами, говорить только о литературе и искусстве – и всякий раз история повторялась заново.
Кто же были эти иностранцы, с которыми я общалась в Москве в конце 70-х – начале 80-х годов? Горстка коллег моего отца (он был «невыездным», и западные ученые приезжали в СССР, чтобы увидеться с ним), знакомые знакомых, пара славистов. Но, само собой разумеется, не журналисты и не дипломаты: встречи с теми и другими могли иметь самые печальные последствия. Все эти люди были потрясены тем, что им доводилось видеть, хотя большинство старалось удержаться от слишком резких высказываний и избегало политических дискуссий: в конце концов они находились у нас в гостях.
Будучи на четвертом курсе, я познакомилась с новой, уникальной категорией иностранцев, оставившей о себе воспоминание одновременно удручающее и комическое. Ни с того ни с сего меня вызвали в деканат и откомандировали в распоряжение ЦК КПСС «приказным порядком без отрыва от производства». Завотделом связей со скандинавскими странами сообщил, что меня приставляют в качестве переводчика к группе «шведских товарищей». Выяснилось, что товарищи – убеленные сединами коммунисты, приехавшие по приглашению ЦК отдохнуть от изнурительной борьбы за права трудящихся, которую они вели у себя на родине. Все они принадлежали к Arbetarpartiet kommunisterna[5], радикальном крылу шведских коммунистов, пользовавшемуся особой поддержкой Москвы.
Принимали их с королевскими почестями, возили, кормили, развлекали, лечили – восторгу гостей не было границ: социалистический рай оказался именно таким, как им грезилось. Кормили отлично и недорого, точнее говоря, бесплатно (в ресторане ЦК, прозванном «ресторан Спасибо»; он находился в одном из арбатских переулков, вывески не имел, и москвичи, проходя мимо по нескольку раз в день, даже не подозревали о его существовании). Лечили их лучшие доктора столицы (в Кремлевской больнице в палатах «люкс», разумеется, бесплатно). С транспортом тоже все было в порядке (черные «Волги» находились в их распоряжении круглосуточно), и развлечений хватало (на всякий случай несколько кресел в партере Большого театра были забронированы на все вечера их пребывания в Москве). Еще можно было выехать на отдых в один из подмосковных санаториев ЦК или в Крым, в бывшую царскую резиденцию, тоже санаторий ЦК. Шведские товарищи блаженствовали. Я сопровождала их в рестораны, в Большой, к доктору, в Крым, и поскольку никто из них не говорил ни на каком языке, кроме родного шведского (происхождения они были вполне пролетарского, в этом им не откажешь), я была их единственной связью с внешним миром, излагала врачам их жалобы на здоровье, нашептывала им на ухо перевод оперных арий. Трудно было удержаться от соблазна попытаться хоть что-то объяснить по поводу страны, в которой они находились и от которой их тем не менее отделяла, словно стенки аквариума, прозрачная на вид, но непроницаемая перегородка. Я проводила в их обществе целые дни, и времени для бесед было предостаточно. Результат всякий раз оказывался нулевым: они ничего не понимали и понимать отказывались. Поездка в Советский Союз была исполнением их самого заветного, годами вынашиваемого желания, и теперь, когда эта мечта наконец сбылась, у них не было сил с ней расстаться. Напрасно я рассказывала им об условиях жизни людей, об аде коммуналок, о хронических проблемах со снабжением даже самым необходимым, об издевательских зарплатах – «Зато какой у вас тут дешевый шоколад!» – отвечали они, набивая мне карманы плитками «Аленки». Все они прекрасно ко мне относились, но явно не верили ни одному моему слову.
Общение с этими людьми произвело на меня сильное впечатление. Это было похоже на встречу со стадом мамонтов: в СССР к тому времени «воинствующих» коммунистов оставалось не так уж много, свой идеологический запал они не афишировали, старшее поколение ушло на покой, младшее состояло в основном из циников. И тем и другим бить себя в грудь и размахивать партбилетом не было необходимости – никто с ними не спорил. Тот факт, что где-то – на Западе! – существовали люди, которые, будучи в здравом уме и трезвой памяти и имея доступ к любой информации, оставались убежденными коммунистами, представлялся мне чудовищным.
* * *
Положение становилось все более безысходным. Ясно было, что будущего для меня в этих условиях нет: вместо привыкания возникало отчуждение, чем дальше, тем большее. Одинаково трудно было представить себе как существование по принципу «внутренней эмиграции», так и интеграцию, основанную на компромиссах и сделках с совестью: играть в «их» игры? – невозможно. «Жить не по лжи», как учил Солженицын? – я знала, что не обладаю необходимой стойкостью. Неспособность противостоять режиму порождала страх. Интересно, меланхолически рассуждала я, будь я мастером спорта по плаванию, решилась бы я попытаться достичь какого-нибудь гостеприимного берега по ту сторону Балтийского моря? А еще лучше Черного – вода теплее. Беспочвенные вопросы: плавала я из рук вон плохо.
Но тут произошел неожиданный поворот судьбы: замужество. И с ним возникла возможность уехать совершенно легально: по советским законам брак с иностранцем давал такое право. Я не колебалась ни секунды: другая страна! другая жизнь! другой язык! – перспектива головокружительная. И хотя в течение долгого времени я не допускала даже самую мысль о том, чтобы поехать по туристической визе в какую-нибудь соцстрану, теперь, сжав зубы, пустилась по административному лабиринту. Процесс получения заграничного паспорта включал в себя множество капканов и ловушек, изобретенных для изнурения и запугивания кандидатов на выезд; тянулся он неделями и месяцами, и результат был непредсказуем: могли дать, могли не дать… Но иного выхода не было, вдобавок я твердо знала, что занимаюсь этим один-единственный раз, в надежде на окончательный результат.
И вот настал день, когда с только что полученным загранпаспортом, в котором красовалась французская виза, я переступила порог агентства «Аэрофлот», продававшего билеты за границу; обычным гражданам вход туда был запрещен. Охранник пропустил меня, я подошла к кассе, протянула паспорт, назвала место назначения – Париж – и указала дату.
– А обратный? – спросила кассирша.
И лишь тогда тиски впервые самую малость разжались: услышав ее вопрос, я вдруг осознала, что дело происходит не во сне, что настанет день, когда причин для страха больше не будет, и что день этот отныне не за горами. Радостно рассмеявшись, чем вызвала недоумевающий взгляд кассирши – смех в общественных местах был нечастым явлением, тем более в местах такого рода – я выпалила (и этот ответ заставил головы всех находившихся в помещении сотрудников повернуться как по команде в мою сторону):
– Обратного не надо!
Грузинское интермеццо
…Kennst Du das Land…
Пересменка подходила к концу. Длилась она пять лет, и за это время мы узнали массу нового. Горизонты расширялись, и расширение интеллектуального пространства позволяло забыть обо всем остальном. «Остальное» было окружавшей нас действительностью, где радоваться было особенно нечему. Черно-серая гамма московских улиц, облезлые стены домов, кое-где – кумачовые пятна лозунгов: то «пятилетку в четыре года», то «слава ударникам коммунистического труда», то «летайте самолетами Аэрофлота», как будто можно было полететь самолетом какой-нибудь иной авиакомпании. И кстати, куда? В Челябинск? В Йошкар-Олу? В Новокузнецк? И зачем? Любоваться все той же черно-серой гаммой? Теми же облезлыми стенами? Читать те же лозунги?
Среди этого архитектурного убожества расположенное напротив московского цирка, неподалеку от метро Университет, здание гуманитарных факультетов МГУ – внешне неказистый одиннадцатиэтажный параллелепипед – заключало в себе целый мир, ни на что не похожий, занимательный, исполненный красок и звуков. Начиная с того дня, когда мы переступили его порог, и в течение последующих пяти лет мир этот становился все разнообразнее и богаче.
Филологический факультет располагался на 9-м и 10-м этажах; под нами гнездились историки, над нами – философы. Все как один – достойные рыцари марксизма-ленинизма.
Чудеса имели место ежедневно, либо в маленьких аудиториях наверху, либо в огромных поточных на первом этаже. Дополнительно к ним, не обозначенные в официальном расписании лекций и семинаров, протекали «уроки жизни» на «Сачке», просторном застекленном вестибюле, где студенты курили, болтали, обменивались новостями, спорили в перерывах между лекциями, а иногда и вместо оных.
В течение пяти лет открытия и откровения сменяли друг друга: история, литература, лингвистика, языки и многочисленные связанные с ними предметы следовали в строгом порядке, установленном раз и навсегда, неизменном на протяжении десятилетий, как и большинство вещей в стране, триумфальное шествие которой к окончательной победе коммунизма чаще всего принимало форму полного застоя во всех областях. Любое, даже самое незначительное изменение было чревато опасностью: на всякое начинание необходимо было получить санкцию свыше – а кто ее даст? Кто возьмет на себя ответственность? Вдруг произойдет ошибка? Начальство устроит разгром, а кому это надо? Лучше сидеть спокойно, ничего не предпринимать. Так рассуждали все – и в результате никто ничего не делал.
В этом отношении высшее образование мало чем отличалось от промышленности и сельского хозяйства. Учили по утвержденным на века программам, по учебникам, рассчитанным на десятилетия, напечатанным миллионными тиражами, идентичным от издания к изданию. В случае когда происходил какой-нибудь исторический катаклизм – умер Сталин, сместили Хрущева, – соответствующая страница вырезалась (например, портрет Сталина в букваре) и все шло по-старому.
То же и на филфаке: из поколения в поколение преподавался один и тот же набор предметов по одним и тем же методикам – введение в языкознание, введение в литературоведение, история того или иного языка, фонология, грамматика, синтаксис, античность, возрождение, просвещение… Блаженная эпоха.
Эпоха полной летаргии. Где-то кипела жизнь. В Риме турецкий террорист чуть было не застрелил нового папу, на Дальнем Востоке «люди в лодках» пытались бежать из вьетнамского рая и десятками тонули в море, в Кэмп-Дэвиде подписали соглашения между арабами и Израилем, в Иране свергли шаха (и еще никто не мог предвидеть, к чему это приведет), переворот в Афганистане открыл магистраль для вторжения советских войск… Но по эту сторону железного занавеса можно было услышать лишь слабое эхо, невнятные отголоски событий, подобные разрозненным кусочкам мозаики, собрать которую не получалось за отсутствием большинства элементов. Источником информации были «вражеские голоса», старательно заглушаемые спецслужбами, и чтение между строк официальной прессы: в кругах интеллигенции некоторые владели этим искусством виртуозно.
Реальность наших университетских занятий заслоняла собой события далекого мира. Запад был призрачным, бестелесным понятием, непроверяемой гипотезой, театром теней, происходившее на сцене которого оставалось загадкой. По-своему призрачной была и окружавшая нас действительность: за ХXIV съездом КПСС следовал ХXV, за ХXV – ХXVI, перемежаемые пленумами ЦК, резолюции которых надо было учить наизусть. В наших же головах разворачивались совсем иные события: «В царство небес, говорят, стремиться стали Гиганты, / К звездам высоким они громоздили ступенями горы. / Тут всемогущий отец Олимп сокрушил, ниспослал он / Молнию; с Оссы он сверг Пелион на нее взгроможденный…», Роланд трубил в свой Олифант, в горящих дворцовых покоях Нибелунги давали отпор воинам Этцеля, Дон Кихот бросался с копьем на мельницы… В определенном смысле эти порожденные литературой видения оказывались достовернее событий современности, за которыми ничего не стояло. Произведения литературы были доступны, сначала в переводе, а потом и в оригинале, благодаря заложенному с первого курса филологическому фундаменту, крепость которого была сравнима лишь с гранитом. Мы на всю жизнь усвоили, что в шведском языке существительные бывают либо общего рода, либо среднего и что определенный артикль ставится после существительного: «en stol > stolen, ett bord > bordet», что «свойственное германским языкам наличие двух типов склонения прилагательных, сильного и слабого, сохранилось в немецком и скандинавском языках, тогда как в нидерландском языке и африкаанс оно представлено в виде двух форм прилагательного», что теория Пэрри и Лорда предполагает «использование формул, фундамента устной импровизационной поэзии, длина которой варьируется от двух до десяти строк» и так далее. В этом возрасте за пять лет человек способен усвоить изрядное количество информации.
Полученные знания постепенно выстраивались в стройную систему. Мы научились задавать нужные вопросы, находить на них ответы, размышлять – но ограничивать размышления тематикой метрической системы древнеанглийской поэзии удавалось далеко не всегда… Само собой разумеется, не все предметы пользовались одинаковой популярностью. Диалектический материализм невозможно было проглотить ни под каким соусом, и мы продолжали втихомолку отплевываться. Зато другие предметы, на первый взгляд тоже несъедобные, на поверку могли оказаться не столь уж бессмысленными.
Военная подготовка занимала полный день и предполагала как теоретическую часть (стратегия, тактика, изучение состава моторизированной дивизии бундесвера, военно-морского флота США и т. п.), так и практическую (разборка автомата Калашникова за 15 секунд, сборка за 20, умение бросить ручную гранату, стрелять по движущейся мишени). Кроме того, филологам полагалось еще овладеть искусством военного перевода, включавшим умение допросить пленного: немца, француза, норвежца, в зависимости от изучаемого языка. Помимо этих знаний, возможно, не самой первой необходимости, немало часов уделялось военному переводу как таковому: лексике, отработке грамматических автоматизмов и пр. Большинство студентов этот предмет ненавидели, считая его чистой тратой времени, я же старалась воспринимать его как дополнительные уроки языка, и впоследствии польза оказалась вполне ощутимой, например при синхронном переводе художественных фильмов о войне. Занятия по предметам, входящим в комплекс военной подготовки, завершались сдачей соответствующих экзаменов, после чего студенты и студентки получали военные билеты и зачислялись в ряды советской армии в звании младшего лейтенанта запаса.
Военный перевод преподавали, как правило, молодые офицеры, не имевшие ничего против общества юных филологинь (мальчиков на факультете в те времена было не больше, чем сейчас), вполне цивилизованные и иногда даже симпатичные, в отличие от старых зубров-полковников, специалистов по стратегии и тактике, отсиживавших на филфаке предпенсионные годы. Несколько лет спустя, с одним из таких вояк у меня произошла занимательная беседа. Я тогда медленно двигалась по извилинам административного лабиринта в целях обретения заграничного паспорта и французской визы – процесс, исход которого вплоть до последнего момента оставался под вопросом. Одним из этапов являлось снятие с учета в военкомате, куда в один прекрасный день я и отправилась, чтобы сдать военный билет. Меня вызвали к полковнику. Едва я переступила порог кабинета, как он грозно спросил:
– Что ж, хотите уехать, покинуть родину?
С перепугу я не могла сразу определить, было ли это началом официального собеседования или просто проявлением любопытства. На всякий случай ответила уклончиво:
– Ну что вы, тут не хотение, а необходимость: вот вышла замуж, муж – француз, приходится ехать…
Мой ответ, похоже, удовлетворил его, или просто верх взяло любопытство.
– Значит, едете. Во Францию. А что там? Как там люди живут, что там такого особенного в этой Франции?
Я снова перепугалась: наверное, все-таки собеседование, еще чего доброго откажется снять с учета…
– Не знаю, – замялась я, – я там никогда не была.
– Ну все-таки, – настаивал он, – чем их жизнь такая особенная?
– Рассказывают разное, – тянула я, – что там по-другому, что, например, хорошо налажено снабжение, нет очередей…
– Нет очередей? – искренне удивился он. – Они что, совсем не едят, эти ваши французы?!
На этом беседа закончилась, и, сложив с себя звание младшего лейтенанта запаса, я поспешила унести ноги из военкомата, радуясь, что так легко отделалась. Тогда мне было не до забавы, и комизм ситуации дошел до меня уже позже.
Что касается комизма, то он, надо сказать, носил еще более глобальный характер, чем можно было тогда предположить. Годы спустя, в Париже, посол одной из северных стран поведал мне, что в свое время прошел курс военной подготовки, мало чем отличавшийся от филфаковского в плане военного перевода. Его тоже учили приемам допроса военнопленных на языке противника, по-русски. В заключение беседы мы оба порадовались, что встретиться довелось не на поле боя, а в дипломатическом представительстве в столице Франции.
* * *
Но вот время обучения подошло к концу, реальность стучалась в дверь, и стук ее напоминал, что открытые пять лет тому назад скобки были не более чем скобками и что им подходит пора закрыться. Близилось распределение. Мне до сих пор не совсем ясно, что подразумевалось под этим термином: тот факт, что государство, единственный законный работодатель, распределяло имевшуюся работу соответственно с квалификацией выпускников или что этих последних распределяли по учреждениям, имевшим нужду в специалистах того или иного профиля. Как бы то ни было, без бумаги о распределении диплома не выдавали, бумага же эта обязывала три года проработать там, куда пошлют; таким образом, с одной стороны, достигалось отсутствие безработицы, о чем с гордостью твердила советская пропаганда, с другой же стороны, плановое хозяйство продолжало оставаться на сто процентов плановым.
Если бы не одно «но»: наш профиль. Кто в Советском Союзе 70–80-х годов, стране, полностью отрезанной от внешнего мира, мог иметь надобность в таком количестве специалистов, знающих иностранные языки, людей, компетенция которых касалась фонологии, латинского стихосложения или классической французской трагедии? Конечно, a thing of beauty is joy for ever, но если серьезно поразмыслить, какую пользу мог принести социалистическому хозяйству знаток эволюции сильных глаголов в немецком языке? Ответ напрашивался сам: никакую. Что было делать с толпой филологов государству, предоставившему им эту роскошь: возможность в течение пяти лет бесплатно обучаться наукам, начисто лишенным практического применения? Да еще получать стипендию. На эти вопросы у государства, ответственно относившегося к взятой им на себя роли Провидения, имелись три ответа: аспирантура, работа гидом и работа на органы.
Для подавляющего большинства студентов вариант аспирантуры даже не рассматривался. Вакансий было ничтожно мало, и, чтобы пройти сквозь угольное ушко, нужно было, помимо солидного блата, иметь еще и не менее солидную характеристику. Это, как известно, означало в течение всей учебы вести активную общественную работу, быть на хорошем счету у комсомола и профсоюза, что давало надежду на получение в конце пятого курса письменной рекомендации с печатью, заверенной тремя инстанциями, без которой ни о никаких занятиях наукой нечего было и думать.
Попасть в Интурист было существенно легче. Но попадать туда особенно не хотелось: стоило ли пять лет учиться, овладевать знаниями в стольких областях, чтобы потом работать попугаем, пересказывая иностранным туристам заученные наизусть идеологически выдержанные тексты? Не говоря уже об обязанности приглядывать за подопечными (особенно выходцами из капстран, потенциальными шпионами!) и составлять ежедневные отчеты о том, кто что сказал и сделал. И все же, за неимением иного выхода, многие выпускники филфака шли в гиды. На протяжении последующих лет мне приходилось выслушивать бесконечные восторги иностранцев по поводу русской лингвистической одаренности. Какая-нибудь Наташа/Ирина/Светлана «в совершенстве» владела французским/немецким/шведским, несмотря на то что «нога ее никогда не ступала во Францию/Германию/Швецию». И всякий раз, с трудом сдерживая раздражение, я объясняла, что Наташа/Ирина/Светлана, о которых шла речь, не только «в совершенстве» владели французским/немецким/шведским, несмотря на то что «нога их никогда не ступала» во Францию/Германию/Швецию (а почему, собственно, их лишили возможности учить язык, как все нормальные люди, в стране, где на нем говорят?), они еще и в совершенстве знали структуру языка, его историю, историю страны, ее литературу, словом, уйму вещей, которым в стране пятилеток не было и не могло быть применения. Оставалось работать попугаем-надсмотрщиком.
Что касается набора в КГБ, я затрудняюсь описать его в подробностях: предложения делались индивидуально, и получившие их предпочитали не распространяться на эту тему. Как происходили собеседования? Не знаю. Во всяком случае, дело обходилось без угроз, речь ведь шла не о том, чтобы завербовать осведомителя. В данном случае в кнуте не было надобности: пряников было предостаточно. Больших и сладких. Начиная с приличной зарплаты, по сравнению с Интуристом, где платили гроши. А главное – прописка, заветная московская прописка, предмет вожделения миллионов граждан, имевших несчастье появиться на свет не в столице. После пяти лет, проведенных в Москве, где жизнь была несравнимо легче и интереснее, где за это время появились друзья, завязались связи, вернуться по распределению в родной город – перспектива безрадостная. И вот возникала возможность этого избежать… Пряник был прямо-таки медовый.
Имелся, правда, еще один выход: брак с москвичом или москвичкой. На пятом курсе учебные заведения Москвы охватывала настоящая эпидемия: фиктивные браки, реальные браки, браки на полгода, браки на всю жизнь. Не всем, однако, удавалось раздобыть подходящего жениха или невесту в нужный момент – и тогда вновь всплывал альтернативный вариант: КГБ.
Мне довелось стать растерянным и беспомощным свидетелем одной из таких драм. Двадцатилетняя студентка из Сибири, одаренный филолог, прекрасная пианистка, пребывала в отчаянии от одной мысли вернуться в провинциальное захолустье. Родители тоже изо всех сил уговаривали ее сделать «все возможное» для того, чтобы остаться в столице. Последовали собеседования в органах, колебания, слезы, приступы отчаяния, но в конце концов порядочность победила и предложение было отвергнуто. И словно в награду за проявленную стойкость, вскоре после этого она в самом деле вышла замуж и смогла остаться в Москве.
Что касается меня, то как идея работы на органы, так и перспектива прогуливать интуристов по Москве представлялись мне мало привлекательными, и даже недостижимая аспирантура не казалась особенно заманчивой. Я понимала: решение трудиться на идеологическом фронте, каковым являлись гуманитарные науки, раньше или позже обязательно приведет к увеличению зависимости от государства, к неизбежности компромиссов; кроме того, за это время могут возникнуть связи, разорвать которые будет нелегко. Уже тогда я с трудом представляла себе будущее в этой стране.
Тогда-то и возникла идея радикального решения проблемы: уехать в Грузию!
* * *
Грузинскую Советскую Социалистическую Республику я открыла для себя благодаря проходившему там чемпионату СССР по горным лыжам (я тогда много занималась спортом) – и восторгу моему не было границ. Там все было другое, не как в центральной России: климат, природа, голубое небо, горы, море, повсюду остатки древней архитектуры, церкви, монастыри, крепости… Тбилиси, даром что изуродованный, как все советские города, сохранял немалую долю прежнего очарования. А люди! Первыми моими знакомыми стали члены съемочной группы тбилисской киностудии, манеры и стиль общения которых меня сразу покорили. Все они, естественно, были двуязычными и говорили по-русски с акцентом, приводившим меня в восхищение. Еще больше мне нравилось слушать их беседы на родном языке, который, несмотря на обилие гортанных звуков, звучал как музыка. И одновременно казался неразрешимой загадкой: несмотря на пять лет занятий лингвистикой, я не понимала ни одного слова, за исключением редких русских вкраплений. Ничего общего ни с одним из известных мне языков. Ни на что не похожий алфавит, округлые буквы, череда которых напоминала нанизанные на нитку жемчужины. Мои новые друзья им очень гордились, не упуская случая напомнить, что их письменность восходит к IV веку, эпохе, когда святая Нино принесла в страну христианство. «Вы, русские, тогда еще не слезли с деревьев», – неизменно добавляли они.
Необходимо сказать несколько слов по поводу грузинского, своего рода лингвистического чуда. Дело в том, что во многих языках – в частности, в русском, английском, немецком – присутствует так называемое силовое ударение: один слог произносится более энергично, чем остальные (вóлос, подýшка, молокó). Соответственно, остальные, неударные, слоги ослабевают, произносятся менее четко, лингвисты называют этот процесс редукцией гласных. Приставки, суффиксы, различные грамматические частицы, все более «смазанные», иногда и вовсе исчезают, сначала из устной речи, потом из письменной. Структура языка постепенно – очень медленно – меняется: из синтетического (где грамматические категории выражаются внутри слова при помощи суффиксов и префиксов) он становится аналитическим: грамматические категории передаются с помощью порядка слов, предлогов и пр. Разрыв между языковыми фазами возрастает:
Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича?За века, прошедшие с момента его создания, «Слово о полку Игореве» постепенно становилось все менее понятным читателю, несмотря на то что язык его – одна из стадий развития русского языка. Точно так же современные немцы не в состоянии понять «Песнь о Нибелунгах» (XII век), а современные англичане вынуждены читать «Беовульфа» (VIII–IX века) в переводе. В грузинском же дело обстоит по-другому. Силовое ударение в нем отсутствует, все слоги произносятся практически одинаково, то есть одинаково четко, и пресловутая редукция гласных места не имеет. Это означает, что за века, прошедшие с изобретения письменности, структура языка изменилась сравнительно мало. Таким образом, например, «Витязь в тигровой шкуре», знаменитый эпос XII века, по-прежнему доступен не только людям со специальной лингвистической подготовкой, но и широкому читателю, включая школьников, тогда как их сверстники в России, Англии или Германии прямого доступа к ранней литературной традиции своих стран лишены.
Этот лингвистический экскурс необходим для того, чтобы понять уникальную атмосферу, царившую в Грузии советских времен. Язык, обеспечивавший прямую связь с далеким прошлым, оказался важнейшим компонентом национального самосознания. Грузины ощущали себя в исторической длительности, советская действительность представлялась как бы эпифеноменом, явлением преходящим, в то время как истинная сущность страны, населения, культуры оставалась имманентной, неподвластной никаким мутациям.
Согласно распространенной местной легенде, в стародавние времена, пока Бог раздавал всем народам земли, грузин где-то пировал с приятелями. Когда все уже было поделено, он вдруг явился, запыхавшись: «А где нам земля?» «Да где ж ты был раньше? – посетовал Господь, – я ведь уже все раздал». Грузин стал плакать и рвать на себе волосы, и Господь сжалился над ним: «Ладно, бери землю, которую я приберег для себя – отдаю вам рай!»
Все, что так или иначе касалось их страны, было для грузин предметом гордости: ранняя христианизация, архитектура, искусство, богатая литература, особенно поэзия, и вообще умение жить. Очевидно, что ни о каком комплексе неполноценности по отношению к кому бы то ни было и речи быть не могло. Наоборот. Русские жители Тбилиси не воспринимались как угнетатели и колонизаторы, хотя бы потому, что в большинстве своем они жили беднее и их социальный статус был ниже, в то время как элита оставалась целиком грузинской. С другой стороны, Грузия входила в состав СССР и, естественно, никакими особыми привилегиями не пользовалась; диктатура компартии, плановая экономика, вездесущие органы никак не отличались от того, что наблюдалось в других республиках. Советские десятилетия были здесь не менее кровавыми, чем в других местах. Сталин, как известно, поблажек соотечественникам не делал, скорее наоборот: в 30–40-е годы грузинская интеллигенция была практически уничтожена, пострадав в процентном отношении еще больше, чем русская. Но под советской коростой продолжал существовать некий нередуцируемый национальный субстрат, отчасти сознательный, отчасти бессознательный, основным вектором которого являлся язык, позволявший сопрягать прошлое с настоящим[6]. Можно сказать, что язык этот сопротивлялся почти открыто: вместо повсеместно употребляемых «товарищ» и «гражданин» грузины продолжали обращаться друг к другу «батоно» (господин), даже когда речь шла о первом секретаре ЦК компартии республики. Обращение, приводившее меня в восторг и немыслимое где бы то ни было за пределами Грузии.
(Напомню, что одно из первых движений протеста, еще до всякой перестройки, имело место именно в Грузии и именно на почве защиты языка. Дело происходило в 1978 году и речь шла о проекте конституции, содержавшем попытку выделить русский среди остальных языков, которыми пользовалось население республики. Всеобщему изумлению не было границ: чтобы грузины, эти сибариты, которые только тем и занимаются, что едят хачапури, запивая их мукузани в сени своих виноградников, вдруг вышли на демонстрацию? Невероятно! Демонстрацию разогнали. За ней последовали другие.)
В представлении грузин история была как бы сплющенной: «в давние времена» воспринималось как «вчера». В многочисленных застольях, сменявших друг друга по поводу и без повода, пили с одинаковым воодушевлением как за соседа по столу, так и за царицу Тамару, правившую в XII веке, и за ее современника, Шоту Руставели. Однажды мне довелось присутствовать на обеде, данном католикосом грузинской церкви с участием епископов и прочих церковных иерархов. Там тоже, как полагалось, выбрали тамаду и поочередно выпили за здоровье Отца, Сына и Святого Духа. Зато я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь предложил тост за здоровье члена политбюро, но тут необходимо учитывать, что не все двери в Грузии были для меня открыты[7]. Впрочем, если не все, то многие. Тбилисские друзья окрестили меня «Чукчей», старались «окультурить» и не упускали случая напомнить, из каких диких краев я приехала к ним, на родину вековой (если не мировой!) культуры, в их грузинский рай. Но за насмешками угадывались симпатия и любопытство, и мне и в голову не приходило обижаться на них.
Короче, я приняла решение взять быка за рога, в надежде одним рывком выбраться из болота, которое рано или поздно грозило засосать: уехать из Москвы в Тбилиси, выучить грузинский, заняться изучением местного фольклора, может быть, написать диссертацию. Решение это еще более окрепло, когда мне открылась вся трудность, если не невозможность, его осуществления. Проблем было две. Во-первых, как вскоре выяснилось, с точки зрения властей (к сожалению, не обладавших лингвистической подготовкой выпускников филфака МГУ) языки делились на две группы: иностранные и «национальные». И тем, что входили во вторую категорию, обучали исключительно в учебных заведениях соответствующих республик. Узбекский можно было учить только в Узбекистане, украинский – на Украине, эстонский – в Эстонии, тогда как, например, польским или хинди можно было заниматься в заведениях, расположенных в разных городах страны.
Второе препятствие казалось еще более непреодолимым: распределение. Не подписав согласие проработать три года там, куда пошлют, нечего было и думать о получении диплома. Так называемый «свободный» диплом был привилегией беременных женщин и молодых матерей, я же не принадлежала ни к тем, ни к другим.
Однако я решила попробовать. Записалась на прием к декану факультета, известному специалисту по французской литературе, изложила свою просьбу, добавив (слегка покривив душой), что в Тбилиси мне обещано место в аспирантуре.
– Вы с ума сошли, – воскликнул он. – Уехать из Москвы?! Поставить крест на научной карьере?!
Я возразила, что никакая научная карьера в Москве мне не светит.
– Вас берут в аспирантуру, – настаивал он.
Я объяснила, что это невозможно: общественной работы я никогда не вела, и ни комсомол, ни парторганизация, ни профсоюз ни за что мне характеристику не подпишут. Да я и не стану их просить.
– За вас уже попросили, характеристика подписана.
Опешив, я поинтересовалась, кто был этот благожелатель. Декан назвал имя одного из профессоров, преподавателя литературы Средних веков. С этим человеком я почти никогда не сталкивалась и была уверена, что он даже не подозревал о моем существовании. Для меня так и осталось загадкой, что побудило его воспользоваться своим влиянием, потратить время и силы на то, чтобы выправить эту характеристику, открывавшую доступ к научной карьере в самом престижном университете страны: московском.
На секунду я заколебалась. Соблазн был велик. Остаться в МГУ, три года спокойно писать диссертацию, защититься, получить место на кафедре, через какое-то время защитить докторскую, получить профессуру, и так далее – вплоть до пенсии.
– Спасибо, – услышала я собственный голос словно со стороны, – но я бы предпочла поехать в Грузию.
– Вы сами не понимаете, что говорите! Вы губите себе жизнь – да вы отдаете себе отчет, что, потеряв прописку, вы больше не сможете вернуться в Москву? Кстати, что думают ваши родители? Неужели они не возражают против этого сумасбродства?
– Родители в курсе дела и одобряют мои намерения.
На самом деле мои родители ничего не могли одобрить, поскольку ни о чем не были осведомлены, но в этой ситуации одной неправдой больше или меньше…
– Вот что, пойдите подумайте, и приходите через неделю.
Неделю спустя, придя к декану, я подтвердила свое решение. Тот пожал плечами: «Вы еще пожалеете».
Мне удалось невероятное: получить «свободный» диплом – а с ним и возможность делать, что вздумается, ехать, куда захочется. В Грузию!
* * *
В Тбилиси меня приняли с радостью, к которой примешивалось недоумение. Чукча – Чукчей, а все-таки поступок был неслыханный: москвичка с дипломом МГУ, специалист по скандинавским языкам и литературе, от всего отказалась, все бросила ради изучения их языка, их культуры!
Это обстоятельство открыло передо мной самые разнообразные двери. Грузия – страна маленькая, четыре миллиона жителей, и взаимопроникновение партийной и культурной элит ощущалось там еще больше, чем в Москве. Все друг друга знали, все друг с другом общались, все в той или иной степени находились со всеми в родственной связи. Над грузинами смеялись, говоря, что каждый из них претендует на происхождение из какого-нибудь княжеского рода, и действительно, к вопросам генеалогии здесь относились с крайней серьезностью: кто чей потомок, кто с кем в родстве. Гордились фамилией Багратиони, Чавчавадзе, Церетели – в то время как в советской России Долгорукие и Трубецкие предпочитали о своей родословной не распространяться.
Семейные и клановые узы были чрезвычайно крепкими. В этой сельскохозяйственной и винодельческой стране все горожане имели родственников в деревне, снабжавших их вином, сыром и фруктами в обмен на блага и услуги, для деревенских жителей недоступные: холодильник, стиральная машина, блат для поступления отпрыска в высшее учебное заведение, знакомство с врачом из приличной больницы… Коррупция была чудовищная, продавалось и покупалось все, но в результате все выигрывали, так как иного способа справиться с трудностями советского быта не существовало.
Среди моих знакомых оказались влиятельные люди, знакомые с людьми еще более влиятельными, в результате чего в один прекрасный день, эскортируемая известным профессором и не менее известным кинорежиссером (и по совместительству депутатом Верховного совета ГССР), я переступила порог кабинета министра высшего образования. Нескольких приветственных фраз, произнесенных на ломаном грузинском, оказалось достаточно. Министр, хоть и был аппаратчиком, оставался грузином. Поэтому, выслушав мой лепет и комментарий сопровождающих лиц, он немедленно снял трубку и велел соединить его с ректором тбилисского университета:
– Тут у меня москвичка, которую надо зачислить в аспирантуру на кафедру фольклора: она учит грузинский язык!
Час спустя я уже числилась в аспирантуре.
* * *
Университетское общежитие располагалось в сосновой роще за городом. 62-й автобус со скрипом и скрежетом обеспечивал сообщение в соответствии с одному ему ведомым расписанием. Общежитие состояло из трех облезлых корпусов: мужского, женского и корпуса для иностранцев, в котором после некоторых колебаний – «иностранкой» в точном смысле слова я не являлась, но статус у меня был не совсем обычный – мне был выделен угол.
Условия жизни были спартанские. Я выросла отнюдь не в роскоши, но то, с чем пришлось столкнуться, выходило за пределы воображения. Отопление большей частью вообще не работало, перебои с водой и электричеством, полностью непредсказуемые, случались почти ежедневно, из кранов текло, розетки висели вдоль стен буквально на соплях, ветер гулял по комнатам, проникая сквозь оконные щели. Меблировка была под стать: расшатанный стол, колченогий стул, шкаф с незакрывающимися дверцами. Я старалась проводить там как можно меньше времени, приходила в сущности только, чтобы спать.
Соседи мои делились на три категории: больше всего было студентов из «развивающихся стран», затем шли лекторы-преподаватели и, наконец, самая немногочисленная группа – ученые-картвелологи.
Первые являли собой патетическое зрелище. Их доставляли оптом из стран третьего мира, в которых СССР стремился расширить свое влияние: из Вьетнама, Алжира, Египта, Чили. За бесплатное высшее образование они расплачивались беспросветной нуждой, отчужденностью и тоской. Вид у них был детдомовский: одетые во все казенное, они никогда нигде не появлялись поодиночке, ни с кем не общались, как из-за незнания языка (ускоренными темпами их натаскивали по-русски, но никогда не обучали языку республики, в которую они попадали волею судьбы или по какой-нибудь таинственной разнарядке министерства), так и за отсутствием возможностей общения. Из общежития их возили разве что на занятия, и большую часть времени они проводили между собой в неотапливаемых комнатах, никому не интересные и не нужные. Грузины их просто не замечали. Но если случалось, что с одним из них заговаривал иностранец, его мог ожидать сюрприз: вдруг выяснялось, что безъязыкий камбоджиец, едва складывающий русские слова, на самом деле обладатель сокровища, чудом сохранившегося колониального наследства: он безупречно говорит по-французски. На секунду черный ящик приоткрывался – и чаще всего из него лезли рассказы о невероятных ужасах и несчастьях. Кто-то был свидетелем зверств Пол Пота, у кого-то на глазах убили всех близких, кто-то сам чуть не умер от голода… Рассказывалось все это почти без выражения, азиатские лица хранили неподвижность, у слушателя же возникало подозрение, что, если поразмыслить, после такого кошмара затерянное на Кавказе обшарпанное общежитие может восприниматься как комфортабельное жилье, а солянка, подаваемая в университетской столовой, от которой плюются западные гурманы, как лакомство по сравнению с рисовой соломой.
Надо сказать, что любознательных иностранцев было раз два и обчелся. За все время мне попался лишь один человек, которому были небезразличны эти бледные тени и который видел в них людей. Он единственный знал, что вьетнамская студентка нуждается в лекарстве, которое в Советском Союзе не продается, а даже если и продается, ей его все равно не достать, что колумбиец, приехавший в Тбилиси не из-за политических убеждений, а потому что у его семьи не было средств платить за учебу где-нибудь в другом месте, страдает от отсутствия Библии[8], как и другие его соотечественники. Так что после каникул, проведенных на родине в Европе, любознательный иностранец возвращался с чемоданом, набитым лекарствами, предварительно отправив Библии через диппочту в Москву на адрес посольства своей страны.
Представители двух других категорий, гораздо менее многочисленные, образовывали замкнутый мирок. В те времена единственным доступным для славистов способом пожить в стране была работа лектором-носителем языка (можно было еще работать в посольстве в СССР, но это делало практически невозможным общение с населением, так же как и работа корреспондентом). На лекторов могли претендовать два типа учебных заведений: университеты и институты иностранных языков, имевшиеся в столицах республик и в некоторых больших городах. Необходимость готовить преподавателей средней школы определяла набор языков: английский, немецкий, французский. В результате получались своего рода крошечные ноевы ковчеги, где было каждой твари по паре: два немца, два англичанина, два француза.
К этому зверинцу следовало добавить представителей научного мира, редких, как лошади Пржевальского. Этим счастливцам удалось получить разрешение на несколько недель или месяцев пребывания в стране. Жили они под строжайшим надзором, им запрещалось отъезжать от места жительства более чем на 25 км без специального разрешения; подавать заявление на получение его следовало сильно загодя, и, как правило, следовал отказ.
Иностранцы, принадлежавшие к этим двум категориям, в основном говорили по-русски и могли без труда общаться с населением, поэтому наблюдение за ними было особенно пристальным. Помимо стукачей из студентов и преподавателей, имелись еще специальные кураторы, официально отвечавшие за их поведение и составлявшие подробные рапорты. Трудно сказать, насколько эффективной была эта слежка. С моими новыми западными друзьями нам случалось предпринимать несанкционированные поездки, облегчавшиеся тем, что им не было необходимости вступать в контакт с местными жителями, рискуя навлечь на себя подозрение неправильным выговором – в таких ситуациях говорила только я. Однажды мы даже решились на двухдневное путешествие ночным поездом в западную Грузию, совершенно закрытую для иностранцев. Прибыв на место назначения, мы уже особенно не конспирировались, а спокойно явились на дом к секретарю местного райкома, адрес которого нам дал тбилисский знакомый, его родственник. Ни словом не заикнувшись о возможной незаконности нашего пребывания, райкомовец покатал нас по окрестностям, накормил и напоил – грузинское гостеприимство вкупе с возможностью познакомиться с «настоящими иностранцами» оказалось сильнее законопослушности. Мы благополучно вернулись в Тбилиси, и никто нас ни о чем не спросил.
Но случалось и так, что самые пустяковые нарушения регламента приводили к печальным последствиям для нарушителей. Мне было известно об этих инцидентах, я знала, что мои друзья и соседи по общежитию находятся под гораздо более строгим надзором, чем я и другие советские граждане. Я им, конечно, сочувствовала, но не слишком: ведь они обладали привилегией, недоступной никому из нас, – правом покинуть страну, когда им вздумается. В течение двух лет я жила с ними бок о бок, общаясь ежедневно и стараясь по мере возможности донести до них собственный опыт и опыт моих сограждан. А также понять их самих и узнать об их жизни там, за железным занавесом.
* * *
Мое стремление выучить грузинский приводило тбилисских друзей в восторг, но и тревожило, особенно тех, кто имел представление о преподавании: поскольку язык считался не иностранным, а национальным, в распоряжении учителей не было ни учебников, ни методики.
До отъезда в Тбилиси я прилежно осваивала грузинский букварь, «Дэда эна», став обладательницей случайно обнаруженного в Москве экземпляра, параллельно с теоретической грамматикой Киты Чхенкели, Einführung in die georgische Sprache. Этот монументальный труд в двух томах, изданный в конце 50-х годов в Швейцарии, и по сей день остается непревзойденным; мне его одолжил ненадолго знакомый иностранец. Пришлось стахановскими темпами овладеть зачатками немецкого, необходимыми для чтения; проделав это, я смогла углубиться в непроходимые дебри грузинских глагольных форм. Немецкий мой в результате этих штудий существенно продвинулся, но разговорный грузинский оставался на нуле.
В таком положении я была не одна: два других аспиранта, канадец и англичанин, тоже нуждались в уроках. К нам приставили пару доцентов, не слишком сведущих в преподавании грузинского как иностранного, – милых дам, педагогические усилия которых ограничивались в основном беседами на произвольные темы за чашкой кофе. Тем не менее с одной из них, невзирая на архаическою лексику и сложную метрику, мы осилили «Витязя в тигровой шкуре», 6000 строк, от первой до последней, чем я до сих пор изрядно горжусь. По утверждению грузин, в прежние времена девушка не могла выйти замуж, не зная «Витязя» наизусть. Не берусь судить, насколько это соответствовало действительности, во всяком случае, среди моих знакомых, мужчин и женщин, многие были в состоянии продекламировать длинные отрывки из поэмы.
Совсем на другом уровне вел преподавание мой научный руководитель. Настоящий ученый, фольклорист, он тоже проникся интересом к «москвичке, решившей выучить грузинский язык», согласно формулировке, ставшей моим официальным определением.
Наши занятия не регулировались никаким расписанием и происходили у него дома (я даже не помню, встречались ли мы хоть однажды в университете), в обстановке весьма патриархальной. Дверь открывала жена, она же вела меня на кухню, где уже был накрыт стол, для меня одной. Отчасти потому, что в Грузии гостя следовало прежде всего накормить, независимо от часа и цели визита; отчасти потому, что она знала, чем кормят в университетской столовой, а также понимала, что при грузинских ценах моей тощей аспирантской стипендии ни на что иное не хватало. Во время всего пребывания в Грузии я питалась большей частью в семьях друзей и знакомых.
Позавтракав (пообедав, поужинав), я шла к профессору, дожидавшемуся в кабинете. Темой наших занятий была эпическая поэзия горцев Хевсуретии и Сванетии. Переступив порог кабинета, я оказывалась в иной эпохе. Такими в моем представлении могли быть жилища немецких приват-доцентов где-нибудь в Гейдельберге – просторные помещения, где окна завешены тяжелыми шторами, вдоль стен стоят глубокие кресла, а сами стены закрыты книжными шкафами. Содержание книжных шкафов моего учителя тоже переносило в другие времена и в другие страны: дореволюционные издания французских, английских и немецких классиков, античная литература… Всеми этими языками он владел, и впоследствии, когда мы познакомились ближе, любил посылать мне телеграммы по-латыни: изменить день или час встречи, уточнить какую-нибудь деталь.
Высокообразованный, пользовавшийся огромным авторитетом в своей области, он тем не менее производил впечатление человека полностью чуждого университетской среде, начисто лишенного профессиональных амбиций, разочарованного во всем, ушедшего в себя. От него веяло необъяснимой печалью, капитуляцией перед окружавшей действительностью, смертельной усталостью. Причину этого мне не довелось узнать. Была ли тут трагедия личной жизни или своего рода нравственное истощение, вызванное уродством системы, замкнутостью академической среды (тбилисский университет, будучи «столичным», все-таки оставался заведением достаточно провинциальным), экзистенциальной усталостью? Не знаю.
Однако, несмотря на несомненную общую провинциальность, в Тбилиси, как и всюду, существовали оазисы, невидимые непосвященному взгляду, которые, как и во многих других республиках, питали интеллектуальную прослойку, существовавшую вне государственных структур, – не подпольную, но и официально не признанную. В городе жил, например, один из ведущих специалистов по Роберту Музилю, хорошо известный международному научному сообществу; увы, значение его трудов никто из окружающих оценить по достоинству не мог – по той простой причине, что Музиль, не будучи тогда переведенным ни на русский, ни на грузинский, был в Советском Союзе практически неизвестен. Был еще философ, занимавшийся Хайдеггером, труды которого были в СССР практически недоступны. Единственное в Грузии издание его работ хранилось в университетской библиотеке и на дом не выдавалось. Кончилось тем, что грузинский специалист, потратив немало лет, переписал от руки полное собрание его сочинений. В школьные тетради в клеенчатой обложке, синими чернилами, которые, выцветая, с годами становились бледно-сиреневыми. Мы вернулись в догутембергову эпоху…
Что же касается разговорного грузинского, то недостаточность университетских занятий с лихвой восполнялась занятиями in situ. Все вокруг говорили по-грузински, и мне волей-неволей тоже пришлось заговорить. Чему способствовало то обстоятельство, что большую часть времени я проводила в обществе грузинок моего возраста, с которыми познакомилась вскоре после приезда и сразу подружилась.
Я ничуть не претендую на роль прустовского Повествователя, но образ «девушек в цвету» приходит на ум всякий раз, когда я о них думаю. Еще вспоминаются картины Делакруа восточного периода. Состав группы менялся, не превышая восьми-десяти подруг, собиравшихся то у одной, то у другой. Посиделки длились часами – они беседовали, я слушала, как зачарованная. Эти часы, растрачиваемые легко, бездумно, с бессознательной щедростью, были самыми полезными уроками языка. Полулежа на диванах и в креслах, одни курили, другие вязали, третьи потягивали турецкий кофе из крошечных чашек, которые тут же переворачивались вверх донышком для последующего гадания на гуще. С тонким вкусом одетые, всегда в черном, увешанные массивными серебряными украшениями, они представлялись мне экзотическими принцессами, с утра до ночи занимавшимися тем, что на всех языках определяется словом «ничегонеделание».
Разговоры изобиловали психологическими нюансами и вертелись главным образом вокруг любовных историй, чрезвычайно сложные переплетения которых анализировались в мельчайших подробностях, с виртуозностью, приводившей меня в восхищение. Сама я была не в состоянии внести в эти беседы даже самую незначительную лепту, и не только из-за недостаточного знания языка. Бессмысленная потеря времени? Не уверена. Появление в те годы блестящей плеяды грузинских шахматисток (две чемпионки мира!) – по-моему, не случайность: дотошность, с которой мои подруги копались в сердечных делах, сильно напоминала анализы шахматных партий. Приобретенные таким образом навыки были хорошей школой.
Глядя на них, слушая их беседы, трудно было вообразить, что все они родились в семьях советских граждан, что они когда-то учились в советских школах, как я сама и все мои сверстники. Учеба, кстати, никогда не фигурировала в их разговорах. Теоретически все они где-то числились: в университете, в консерватории, в академии художеств. Ходили ли они на занятия? Не уверена, во всяком случае, об этом никогда речь не шла. Впрочем, это само по себе еще ни о чем не говорит: хотя я никогда не видела ни одну из них за чтением, мне неоднократно доводилось слышать брошенную на лету фразу типа: «Что ни говори, а „Иосиф и его братья“ – лучший роман Манна, не правда ли?»
Родители моих принцесс всегда были поблизости; как правило, три поколения обитало в квартирах, по площади не намного превосходящих московские. Я числилась своего рода приемной дочерью в ряде семей, и мой приход неизменно сопровождался командой мамы или бабушки той или иной подруге: «Чукча пришла – накорми-ка ее, там должно было остаться немного лобио!» (Кличка эта закрепилась, и не было никакой возможности от нее избавиться, по имени меня в Грузии почти никто не называл.) Тарелка лобио, кусок лаваша, стакан чая – таков был обычный рацион, и получить представление о великолепии грузинской кухни можно было только по праздникам. К счастью, праздники случались весьма часто. Этим же семьям я обязана дивными поездками к морю, в горы…
Мои изнеженные подруги не любили ходить пешком: выйдя из дому, они немедленно ловили такси или частника, который за рубль отвозил их по назначению, тем более что они редко выезжали из центра города. Этих привычек я не разделяла. После Москвы, плоской, прямоугольной, серой и скучной, столица Грузии, с ее холмами, извилистыми улицами, причудливыми домиками неотразимо влекла к прогулкам. Я могла часами бродить по старым кварталам, спускаться, подниматься, заглядывать в освещенные окна первого этажа, пытаясь вообразить идущую за ними жизнь. Постепенно радиус перемещений расширился: у меня появилась возможность ездить верхом.
Скорее, даже не возможность, а необходимость. Ибо если грузинские девушки проводили большую часть времени в беседах, грузинские юноши проводили большую часть времени в приставании к девушкам – отнюдь не только грузинкам. Надо сказать, что огрызнувшись на местном языке, «отшить» их было нетрудно; тем не менее бесконечное приставание действовало на нервы, и, желая избавиться от него, я в конце концов нашла выход: лошадь! Дальше все произошло как обычно: выяснилось, что дядя одного из знакомых знаком с племянником тестя замдиректора тбилисского ипподрома, который взялся поговорить с самим директором, поговорил, и в результате беседы в мое распоряжение поступил «лучший скакун Грузии» – нельзя же отказать «москвичке, приехавшей изучать грузинский язык»! Ну положим, не лучший и не скакун, а маленькая смирная лошадка, что гораздо больше соответствовало уровню моей верховой езды, близкому к нулю. Слегка потренировавшись в манеже, я выучилась более или менее устойчиво сидеть на своем росинанте и получила возможность любоваться городом с вершин окрестных холмов. Местная молодежь меня больше не беспокоила, отныне я опасалась только бродячих собак, свора которых, яростно лая, сопровождала нас во всех прогулках.
Однако самую красивую часть Тбилиси – ботанический сад – я открыла не верхом, а во время пеших прогулок в обществе любознательного иностранца, снабжавшего студентов третьего мира лекарствами и Священным Писанием и впоследствии ставшего моим мужем. Вел туда длинный, скупо освещенный туннель, прорытый в горе и невольно вызывавший ассоциации с обрядом инициации: по выходе из него человек, ослепленный ярким светом, вдруг обнаруживал, что он в раю – со всех сторон простирался огромный парк, засаженный невиданными растениями и отгороженный от внешнего мира холмами. Ботанический сад площадью более ста гектаров был разбит в середине XIX века на склонах, где раньше располагались сады местных правителей Грузии. К концу XX-го он изрядно одичал, но все же оставался «ботаническим», благодаря обилию когда-то свезенных со всего мира видов растений. Было у него и еще одно достоинство: так как грузины – небольшие любители пеших прогулок, можно было провести там весь день, не встретив ни одной живой души, за исключением редких садовников. Одним словом, Эдем.
* * *
Реакция моих московских друзей на решение уехать в Грузию была однозначной: блажь и безумие, очередной каприз. Все нормальные люди мечтали жить в Москве, и экстравагантная идея переселиться из столицы в другой город воспринималась как помутнение рассудка. Потеря московской прописки представлялась катастрофой, и в сущности была таковой. Лишь полный идиот мог не понимать столь элементарных вещей. Мой отъезд тем более бросался в глаза, что в нашей среде никто никуда не уезжал. И вообще, мобильность населения в стране была невысокой, прежде всего из-за перманентного жилищного кризиса, тем более что и в родном городе с жильем были огромные проблемы. Парадоксальным образом власти успешнее справлялись с переселением больших групп и целых народов, чем с созданием условий для индивидуальных перемещений. Кому могло понадобиться уехать из Москвы – и зачем? Не говоря уже о том – куда? Во всяком случае, не в Грузию. Разве что в отпуск дней на десять.
К тому же расхожее представление о грузинах было не особенно лестное. Глуповатые, необразованные, говорящие по-русски с чудовищным акцентом, богатые, до крайности коррумпированные, убежденные, что все в мире покупается и продается, были бы деньги. Анекдотов на эту тему ходило бесчисленное множество: «Юноша-грузин учится в институте и пишет письмо родителям. „Здравствуйте, дорогие папа и мама! У меня все в порядке. Учеба идет хорошо. Ребята в группе хорошие. Только одно меня смущает. Все ездят в институт на автобусе, я один – на такси“. Родители отвечают: „Дорогой сынок! Рады, что у тебя все в порядке. По поводу такси не расстраивайся. Высылаем денег – купи себе автобус, будь не хуже других“». И так далее.
Однако то, что моим друзьям казалось проявлением эксцентричности, а мне самой внутренней необходимостью, на самом деле являлось – я поняла это много позже – выражением повсеместно распространенного тропизма, издавна присутствовавшего как в русской, так и в западноевропейской традиции, своего рода Drang nach Süden. И чем суровее климат, тем сильнее Drang.
Прислушаемся к современному шведскому автору: «По ту сторону Альп dolche far niente является основным занятием обитателей. Для жителя северной страны, понявшего, что ничегонеделание представляет собой высшую форму существования, трагизм бытия состоит в невозможности извлечь какую бы то ни было пользу из сделанного открытия». Начиная с Гете толпы европейцев издавна стремились на юг, кто ехал ненадолго, кто переселялся на всю жизнь. То же и с русскими начиная с XIX века (несмотря на тогда уже существовавшие проблемы с визами!): Гоголя тянуло в Рим, Чайковского во Флоренцию, Герцена на Лазурный Берег, Горького на Капри…
Для советских граждан, путь которым в Европу был заказан, Крым служил Грецией, Кавказ – Италией. Многим казалось (только ли казалось?), что под южным небом дышится легче. Вспомним грузинские фантазмы Пастернака, армянские – Мандельштама, крымские – Цветаевой, даже уже в бытность ее во Франции. Называю имена тех, чья тяга на юг оставила след в литературе, но сколь неизмеримо более многочисленны безымянные поклонники юга, вроде меня, жаждавшие увидеть его, пусть недолго, пусть лишь на несколько дней.
* * *
Мои этнологические штудии продвинулись вперед настолько, что настало время соединить теорию с практикой и поехать понаблюдать in situ грузинских горцев, эпическую поэзию которых мы разбирали с научным руководителем в его уютном кабинете. В один прекрасный день прилетевший из Телави вертолет высадил горстку пассажиров, состоявшую из нескольких крестьян, десятка принадлежавших им баранов и двух начинающих фольклористов – меня и канадского коллеги, – на поляне близ хевсурской деревни, расположенной на высоте 2000 метров, с которой нам предстояло начать путешествие. И улетел.
Как мы вернулись целы и невредимы из этой абсолютно неподготовленной, с начала до конца импровизированной экспедиции, до сих пор остается для меня загадкой. Первые дни с нами был проводник с лошадью, перманентно пьяный. Потом он куда-то исчез и больше не появлялся. Карты у нас не было (с картами в стране тотальной секретности, как известно, дело обстояло неважно), и мы двигались наобум, по протоптанным овцами тропам. Местность была дикая, жилье попадалось редко. Целью нашего путешествия являлось высокогорное ущелье, где ежегодно совершались жертвоприношения в соответствии с сохранившимся с языческих времен ритуалом. На вершине утеса закалывали коров и овец, туши которых сбрасывались вниз, свежевались, – и все завершалось гигантским пиршеством под открытым небом, длившимся до рассвета. Несмотря на раннюю христианизацию, спустя полтора тысячелетия в горах все еще бытовали полуязыческие обычаи и верования, причудливо сочетавшиеся с ортодоксальным христианством. Они питали устную народную поэзию, сказания и легенды, и летнее жертвоприношение являлось их составной частью, своего рода кульминацией.
Вопреки всем ожиданиям, после нескольких дней ходьбы мы стали замечать на горных тропах путников; все они направлялись к огромной скале, видневшейся в глубине узкой долины. Самого жертвоприношения мне увидеть не удалось: женщин к скале не подпускали. Но увиденного было и без того достаточно, чтобы окончательно окрепло ощущение, не покидавшее меня с первого дня пребывания в Грузии: ощущение невероятной концентрации времени. Сгусток, в котором прошлое и настоящее сосуществовали, взаимно легитимизируя и дополняя друг друга. Сохранившие свое значение и жизнеспособность древние обычаи являлись элементом повседневности, обогащали ее собой. И если в столице бутылочное пиво в конце концов сменило отвратительное пойло, изготовляемое в горах хевсурами и сванами, на тбилисском рынке продолжали торговать сырами, способ изготовления которых не менялся со времен Средневековья, равно как оставалась неизменной технология выпечки лаваша или производства ткемали. Тот же симбиоз прошлого с настоящим присутствовал и в пейзаже, в виде высоких башен, возвышавшихся над обнесенными крепостной стеной деревнями, и в сознании людей, благодаря языку, чудесным образом сохранившему свою первозданность.
В тот год языческий пир чуть было не закончился драмой. Поначалу все шло отлично, в еде недостатка не было, чача текла рекой, тосты сменяли друг друга. Постепенно дело дошло до неизменных «выпьем за царицу Тамару», «выпьем за Шоту Руставели», за которыми последовало, как это нередко случалось, «выпьем за товарища Сталина». Мой европейский коллега, уже было поднесший к губам наполненный рог, вдруг опомнился и пить за товарища Сталина наотрез отказался да еще принялся громко объяснять по-грузински причину своего отказа. Возмущенные сотрапезники настаивали, атмосфера накалялась. Люди более трезвые кинулись успокаивать забияк: «Оставь его, это же иностранец», – твердили они тоном, означавшим: «он же набитый дурак». Аргумент возымел свое действие, дипломатический инцидент был предотвращен.
Доставивший нас вертолет был последним в сезоне – в конце лета сообщение прерывалось, Хевсуретия становилась недоступной. Пастухи возвращались с отарами в долину, и немногие оставшиеся обитатели деревень проводили зиму в своих башнях без всякой связи в внешним миром, до следующей весны. Единственную дорогу, которую строили уже много лет, ежегодно размывали тающие снега, стройматериалы разворовывались, и все приходилось начинать заново. Надо было найти способ спуститься с гор и вернуться в Тбилиси.
Лошадей было не достать, и мы отправились пешком по овечьим тропам. Это был один из самых длинных и утомительных переходов, которые мне когда бы то ни было приходилось проделывать. Мы шагали в полном одиночестве, никого не встречая, голодные и измученные. Я вслух мечтала о стакане чего-нибудь освежающего, ну скажем, апельсинового сока…
– Подумай, прежде чем мечтать, – прокомментировал мой спутник. – Либо девственная природа и многовековая история, либо апельсиновый сок и асфальтированные шоссе, череда туристских автобусов и гостиницы за каждым поворотом дороги. Знала бы ты, на что похожи Альпы, – так что выбирай!
На что похожи Альпы, я не знала и знать не могла. Он же отлично знал, что ни о каком выборе речи не шло: хевсурские деревни были, конечно, труднодоступны, но все же значительно доступнее – и, главное, реальнее, – чем Альпы и вообще Запад. Временами у меня даже возникало сомнение в их взаправдашнем существовании.
Мы продолжали шагать молча. Наконец спуск окончился, и перед нами открылся цивилизованный мир: плодородная винодельческая Кахетия.
Это путешествие в пространстве и времени явилось началом завершения цикла. Мне стало ясно, что жизнь я веду искусственную, и рано или поздно ей следует положить конец. Моя «экстерриториальность», на первых порах значительно облегчившая существование, неизбежно должна была повернуться обратной стороной: советская реальность рано или поздно не преминет напомнить о себе, положение свободного электрона чревато серьезными неприятностями. Казалось бы достигнутое равновесие было двусмысленно и уязвимо: всеми обласканная, всеми поддерживаемая в качестве (почти) иностранки, я имела дело с Грузией имманентной, прекрасной своей вневременностью, восхищавшей меня природой, искусством, языком. Но Грузия-то продолжала оставаться советской социалистической республикой, одной из пятнадцати, входивших в состав СССР, и останься я там, не избежать мне столкновения с системой, основанной на слежке, коррупции и насилии. Несмотря на всю мою любовь, привязанность, восхищение, наши отношения были обречены.
Летом следующего года я вернулась в Москву и некоторое время спустя оказалась в Европе. Вернуться в Грузию мне больше не довелось, но вспоминаю я о ней часто.
Новый штиль
Памяти Елены Дорошенко
– Как дела?
– А как твои?
– Я первая спросила – тебе отвечать.
– Ну что тебе сказать… В ноябре вдруг случился рецидив. До этого уже много лет все было в порядке. И вот… неожиданно…
Ирина продолжала говорить, а я одновременно пыталась представить масштабы несчастья и судорожно подсчитывала в уме: «Ноябрь… А сейчас у нас апрель… Значит, мы полгода не разговаривали? Как это могло произойти?»
Вот именно, как? Тут дело не в средствах связи, у всех есть Скайп – говори, сколько вздумается, с кем вздумается, на любом расстоянии. В данном конкретном случае – что там подсказывает Google? – на расстоянии 2216 км. Две тысячи двести шестнадцать.
Скайп! Дело-то как раз в Скайпе, не все с ним так просто…
Собираясь уезжать из России, тогдашнего СССР, в начале 80-х годов, имея в кармане билет в одну сторону и заграничный паспорт с французской визой и советской печатью «на постоянное место жительства», иными словами без права вернуться в Москву, я была настолько поглощена мечтами и догадками о предстоящей жизни на таинственном Западе, в стране, языком которой я едва владела и где я никого не знала, кроме ждавшего в Париже любознательного спутника моих тбилисских прогулок, что меня мало заботила мысль о том, чтó я покидала, и о тех, с кем мне предстояло расстаться: семье, друзьях, знакомых. Они же, напротив, хорошо отдавали себе отчет, что нам предстояла разлука, не исключено, что навсегда. Люди, уезжавшие из СССР, редко возвращались назад. Железный занавес опускался за их спиной, и мало-помалу они теряли реальность, контуры их размывались, оставались только воспоминания.
Известно, что это были за люди: редкие иностранцы, которые приезжали в страну по своим надобностям, а уехав, исчезали навсегда. Поэтому, а не только потому, что общение с ними могло навлечь неприятности, привязываться к ним не следовало: подружишься, привыкнешь, а потом человек уедет – и все, как в воду канул. Кое-кто, правда, делал попытки вернуться, но большинству отказывали в повторной визе, письма не доходили, оставалось только забыть их.
Еще была, конечно, еврейская эмиграция. Уезжали семьями, «на постоянное жительство», навсегда теряя советское гражданство и даже возможность приехать в гости. Отъезды напоминали похороны. На проводы собирались в уже полупустой квартире, буквально на чемоданах – вещи были отправлены заранее, при себе оставляли лишь самое необходимое. Эти душераздирающие прощания, как правило, происходили накануне отъезда, большинство провожавших на следующий день в аэропорту не присутствовало: публичное проявление симпатии к предателям, уезжавшим, чтобы пополнить ряды врагов родины, не приветствовалось. Даже чтобы прийти попрощаться накануне отъезда требовалось изрядное мужество, особенно если уезжавшие были с «диссидентским душком», а уж ехать с ними в Шереметьево было поступком вызывающим и сопряженным с риском. На него решались только родственники и самые близкие друзья.
Обменивались подарками и обещаниями: «Пишите, ладно? Пишите, пожалуйста!», «Не забывай писать, и почаще, договорились?» – «Непременно!» Все знали, что письма идут неделями и месяцами, что некоторые вообще не доходят, что их, скорее всего, перлюстрируют, но они оставались единственной связью, соломинкой, за которую цеплялись: «Ты ведь будешь писать?» – «Что за вопрос, конечно!»
И действительно, постепенно переписка налаживалась, из-за кордона приходили первые письма, в экзотических конвертах из тонкой голубоватой бумаги, с диковинными марками. Это был сигнал из мира почти потустороннего, доказательство того, что уехавшие живы, но отныне принадлежат другому миру – они стали жителями Запада.
Ах, эти письма, как же их ждали! Их читали, перечитывали, бережно хранили, на них ходили в гости и звали гостей, их читали вслух, пересказывали, комментировали. «Знакомый племянника встретил на днях приятеля, брат которого эмигрировал и вот недавно прислал письмо, где пишет…» Информативная ценность посланий, конечно, сильно варьировалась; когда авторами являлись люди, владевшие пером, они иногда представляли собой настоящие «письма русского путешественника» – свидетельства о жизни в ином, незнакомом мире. Время словно обратилось вспять, вернулась эпоха, не знавшая ни газет, ни радио, эпоха, когда самую интересную, самую важную информацию доставляла почта. Все написанное представляло интерес, мельчайшие бытовые подробности вызывали острое любопытство и с жаром обсуждались. Пожалуй, в первую очередь именно подробности.
Как происходит поход к врачу? Сначала записываются на прием у секретарши, по телефону. (У секретарши? Вот оно как…) Явившись по адресу, проходят в приемную, садятся в кресло, берут полистать какой-нибудь журнал, ну например «Пари матч»… («Пари матч»?! В приемной врача?! – Напомню, что в Советском Союзе «Пари матч», и не только его, купить было невозможно, разве что из-под полы, и что на таможне его систематически конфисковывали). После приема пациент расплачивается, наличными или чеком. (Наличными или чеком? Ну и ну… Никто из присутствующих ни разу в жизни не видел чековой книжки, и сама мысль о том, что за товар или услугу можно расплатиться, поставив подпись на клочке бумаги, заключала в себе элемент фантастики.) И так далее. Для посетителей советских поликлиник, привыкших часами стоять в очереди в мрачных коридорах, где каждый мог вас обругать: тетки в регистратуре, медсестры, врачи, рассказы о креслах и журналах в приемной врача производили впечатление сказок «Тысячи и одной ночи».
Время шло, и постепенно лихорадка спадала. Конечно, писем по-прежнему ждали, радовались их получению, зачитывали до дыр и, конечно, на них продолжали отвечать – но поддерживать переписку становилось все труднее.
Для уехавших свежесть и острота первых впечатлений постепенно ослабевала, человек привыкал, появлялись новые связи, новые интересы, новые заботы, и то, что прежде удивляло, со временем начинало восприниматься, как норма, поход к доктору или в супермаркет утрачивал сходство с открытием неизвестного континента.
С оставшимися происходило то же самое, хотя и по иным причинам. Черепашья скорость почты делала регулярную переписку невозможной, и постепенно из хроники повседневной жизни с ее мелкими радостями и заботами письма превращались в отчеты, где речь шла исключительно о событиях значительных: женитьба, рождение детей, защита диссертации, переезд на новую квартиру, болезни. Все, что происходило помимо этого: поломка стиральной машины, встреча со старым знакомым на улице, случайно доставшийся билет на концерт – все те пустяки, из которых состоит жизнь, – казалось недостойным упоминания в одном из 4–5 ежегодных посланий, которые достигали адресата с многонедельным опозданием, когда эти мелочи уже были неинтересны. По справедливому замечанию одной моей подруги, у нас гораздо больше тем для бесед с человеком, с которым мы перезваниваемся ежедневно, чем с тем, с которым мы говорим раз в год[9]. Письма, получаемые уехавшими, которых все больше затягивало новое существование, постепенно превращались к сухие конспекты; вдохнуть в них жизнь могли только воспоминания. Поэтому многие переписки постепенно иссякали – одни по прошествии месяцев, другие по прошествии лет. Упорный многолетний обмен письмами представлял собой исключение.
* * *
Несмотря на зловещую отметку в паспорте – «на постоянное жительство», – мой собственный случай был гораздо менее драматичным, поскольку не носил столь бесповоротного характера. Брак с иностранцем и связанный с ним отъезд за границу хоть и лишал человека права жить в Советском Союзе, но не лишал его гражданства, то есть теоретической возможности приехать в гости.
Для моих родных и друзей эта мысль была небольшим утешением. Конечно, никто не отговаривал меня от отъезда, все искренне радовались открывшейся перспективе, тем не менее доминировало чувство расставания, утраты. «Из всех плохих новостей последнего времени эта – самая скверная. Но я очень рада за тебя», – отреагировала тогда Ирина; остальные, не высказываясь столь прямо, придерживались того же мнения. А я, пребывая в полной эйфории, старалась по возможности скрыть от себя самой и от окружающих окончательность и бесповоротность отъезда. Ехала с единственным чемоданом, проводов и прощаний не устраивала, имущество не раздаривала, за исключением кое-каких книг, от которых друзьям могла быть польза, опьяненная одной мыслью о том, что скоро появится возможность запросто купить любую книгу, включая те, за хранение которых в Советском Союзе можно было угодить в тюрьму. Врожденный оптимизм не позволял признаться даже самой себе, что, возможно, мне больше не суждено увидеть близких, и я изо всех сил старалась придать отъезду видимость увеселительной поездки.
Для меня тут не было противоречия: конечно, с одной стороны, я купила «билет в одну сторону», но у меня имелся паспорт, позволявший приезжать в гости, уже в качестве человека почти свободного, которому почти ничто не могло воспрепятствовать уехать назад. (Эти «почти» относятся к непредсказуемости поведения властей, как прежних, советских, так и нынешних: никогда ни в чем нельзя быть уверенным до конца; не там поставленная запятая, не того оттенка фон фотографии на паспорт – и объемистое досье, на составление которого была потрачена уйма времени, объявляется недействительным, что делает невозможной поездку для участия в конференции, на деловую встречу, на свидание с заболевшим родственником. А эпопея с регистрацией по приезде в страну! Анкета в два листа, заполнять которую полагается обязательно черной – ни в коем случае не синей! – шариковой ручкой, заглавными буквами, транскрибируя латинские имена и названия кириллицей – и горе тому, кто хоть раз ошибется в какой-нибудь букве: все придется переписывать заново. Процедура занимает не один час, и лично мне удается добиться нужного результата лишь с пятой попытки. О процедуре получения визы лучше не говорить. Равно как и о паспортном контроле.)
Само собой разумеется, я обещала писать и друзья обещали отвечать на письма. Как ни странно, эти обещания реализовались даже в большей мере, чем можно было предполагать или надеяться. По двум причинам. Во-первых, большинство моих друзей – гуманитарии, и писать для них так же естественно, как дышать. Одни писали чаще, другие реже, одни письма занимали несколько страниц, другие носили скорее телеграфный характер, одни оказывались более интересными, другие менее, но это было не столь уж важно, главное состояло в том, что люди продолжали писать, упорно, год за годом, в течение почти десяти лет. У меня сохранились все письма: аккуратно разобранные, рассортированные по отправителям, с помеченной датой – настоящая сокровищница: достаточно взять любую пачку, от самой тонкой до самой объемистой, чтобы почувствовать неповторимый аромат породившей их эпохи.
Вторая причина столь удивительного эпистолярного постоянства состоит в том, что с падением железного занавеса появилась надежда на встречу. И в ожидании того дня, когда она станет возможной, следовало потерпеть, не прерывать переписку. И действительно, со временем все смогли побывать за границей, увидеться с теми, кто когда-то уехал. Мне же послания друзей позволили сохранить связь с утраченным миром, с событиями, пережить которые мне самой уже не пришлось: гласность, первые публикации ранее запрещенных книг, распад СССР, развал экономики в 90-е годы, инфляцию и нужду последовавших лет, изменения в обществе, появление новых социальных парадигм. Письма друзей давали возможность увидеть происходившее изнутри, пусть даже не в полной мере; без них вся многообразная информация, доступная человеку на Западе, осталась бы чисто умозрительной. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что отныне должна довольствоваться ролью наблюдателя, что вновь приобщиться к когда-то покинутой жизни мне не дано, но примириться с этим было не так уж трудно и, пожалуй, роль наблюдателя всегда была мне больше по душе. Со своей стороны, друзья теперь сами могли увидеть прежде запретную заграничную жизнь, так что описывать походы на прием к доктору больше надобности не было.
Затем темпы ускорились. Появилась электронная почта и с ней возможность быстрой, почти мгновенной связи, потом дешевые телефонные абонементы и наконец Скайп, дивное изобретение, позволяющее в любой момент поговорить с человеком, где бы он ни находился, послать ему по ходу беседы текст, фотографию или видеозапись. Коммуникативный рай.
Лично я очень люблю Скайп, идеальное средство связи для человека, чьи друзья разбросаны по странам и континентам. Кроме неизбежной рекламы, мне в нем нравится решительно все: функционирование, интерфейс, (факультативные) фотографии собеседников, возможность по ходу отправить картинку или ссылку, даже всеми презираемые смайлики мне вполне по душе. Но больше всего я люблю зеленый глазок, сигнализирующий о том, что человек «в контакте», и напоминающий лампочки московских такси моего детства. Парижские такси тоже оснащены лампочками, но это не то: лампочки московских такси и глазки́ Скайпа абсолютно идентичны, по форме, по цвету, по интенсивности. И главное по смыслу: «в сети» значит «свободен»!
У меня Скайп включается автоматически, одновременно с компьютером. В течение дня, работая, я время от времени поглядываю на интерфейс и всякий раз радуюсь при виде зеленых огоньков, констатируя, что друзья и знакомые «свободны». Привычки у разных людей разные: некоторые подключены постоянно, как я, некоторые подключаются, лишь когда им необходимо с кем-то связаться. Эти привычки мне в основном известны. Появление человека, выходящего на связь изредка, вызывает желание воспользоваться случаем и позвонить, и наоборот, исчезновение постоянно «подключенного» собеседника рождает беспокойство: уж не случилось ли чего? Сказанное не означает, что я провожу дни в болтовне с приятелями – интенсивность однажды налаженных контактов с тех пор не менялась и даже скорее снизилась, но радость от сознания, что разговор возможен, стоит лишь захотеть, остается прежней.
Вот почему утекло так много времени с нашей предыдущей беседы с Ириной: напротив ее имени постоянно горел зеленый огонек, и я была уверена, что все в порядке, звонить нет надобности. Так могло продолжаться еще долго, и я даже не сразу сообразила, почему я все-таки позвонила именно в тот день. Ответ вскоре нашелся: это произошло в связи с Salon du livre, парижской книжной ярмаркой.
Не будучи ни издателем, ни литературным агентом, я хожу на книжные ярмарки не по долгу службы, а почти как на праздник: подышать специфическим ярмарочным воздухом, окунуться в книжную суету, а главное, увидеть – в Париже, Франкфурте, Москве или Гетеборге – людей, с которыми все остальное время приходится ограничиваться письменной или телефонной связью. Так и в этот раз я не торопясь прогуливалась по Салону…
За последние годы парижская ярмарка, в отличие от Лондона или Франкфурта, мероприятие не столько коммерческого, сколько «культурного» характера, сильно уменьшилась в размерах. Когда-то ей с трудом хватало места в обширном павильоне у метро Порт-де-Версаль и требовалось немало времени, чтобы пересечь ее из конца в конец. Теперь стенды издательств жмутся к центру, словно острова пестрого архипелага, окруженные со всех сторон пустым, скупо освещенным пространством, кажущимся еще темнее от доминирующего черного цвета, и усеянные то здесь, то там группами школьников с бутербродами и банками кока-колы.
В центре архипелага расположены главные издательства: Gallimard, Nathan, Albin-Michel, вокруг которых группируются стенды издателей поменьше, провинциальные издательства и, наконец, издательства иностранные. Стенд России на этот раз обнаружился где-то между Бразилией и Катаром. Размеров он был скромных: цена аренды за квадратный метр располагает к скромности – несколько стеллажей с книгами, десяток стульев, стол для выступающих, на столе стопка программ: «Презентации и дискуссии». Редкие посетители – как правило, либо преподаватели русского языка, либо студенты, либо переводчики, но главным образом, конечно, друзья и знакомые участников.
Обогнув Бразилию, оглянувшись, чтобы убедиться, что Германия на своем месте, и приняв решение заглянуть туда попозже, я подошла к российскому стенду, который в тот ранний час больше всего напоминал катарскую пустыню. Программка лежала на столе, я рассеяно полистала ее и вдруг увидела знакомое имя: предстояло выступление Д. М***, известного прозаика и сценариста. Вот оно что… подумалось мне.
В былые времена, придя в мое отсутствие ко мне домой, Д. М*** бывал принят бабушкой, по его просьбе накормлен гречневой кашей, после чего пристраивался где-нибудь на диване поспать, к немалому возмущению бабушки, имевшей собственные представления о хороших манерах. Те времена давно уже канули в прошлое. Мы перестали общаться еще до моего отъезда во Францию и впоследствии не поддерживали переписки. Но круг общих знакомых был достаточно широк, и мы оставались более или менее в курсе дел друг друга. Кроме того, я читала его книги. Не все и не особенно регулярно, но всегда с большим интересом, видя в нем настоящего писателя.
Я еще раз поглядела на анонс и задумалась. Дождаться выступления Д. М***, выслушать его речь по поводу очередной литературной премии, мало меня интересовавшей, для того чтобы потом обменяться банальными фразами на тему «как живешь?» – А стоит ли? Решив, что не стоит, я положила программу на место и отправилась дальше. Полчаса спустя зазвонил телефон: парижские друзья, жившие неподалеку, в 14-м округе, приглашали на ужин вечером того же дня, в числе приглашенных фигурировал Д. М***. Вот оно что… снова подумалось мне.
Пришла я с опозданием, застольная беседа была в полном разгаре. Говорили по-русски, на родном языке гостеприимных хозяев и большинства гостей. Говорили, естественно, об Украине. Дело происходило в марте 2014 года, только что аннексировали Крым, и недавние события не выходили из головы. Время от времени кто-нибудь из гостей предлагал: «Давайте о чем-нибудь другом!», разговор менял направление, но через несколько минут возвращался к прежней теме, и снова слышалось: Симферополь, Севастополь, Донецк.
В тот день в Москве прошла демонстрация, и многие общие знакомые приняли в ней участие – нам же оставались лишь разговоры. Слушая собеседников, я занималась мысленными подсчетами: в августе 1968 года в знак протеста против оккупации Чехословакии на Красную площадь вышли с плакатом семь человек, в марте 2014-го против оккупации Крыма протестовали 30 000 – рискуя, конечно, несравненно меньше, но все-таки рискуя. Цифры несопоставимые. Так-то оно так, но с тех пор прошло почти полвека – сколько же потребуется времени для формирования критической массы, способной хоть как-то влиять на происходящее в стране со стопятидесятимиллионным населением?
В конце вечера меня ожидал сюрприз. Заранее зная о предстоящей встрече, Д. М*** приготовил мне королевский подарок: только что вышедший двухтомник своей прозы, включавший его основные произведения – рассказы, романы, повести. Пухлые томики небольшого формата, со вкусом изданные, приятно подержать в руках. В сумме около тысячи страниц, элегантная черно-белая с оранжевыми вкраплениями обложка – случайное совпадение или тонкий намек на страну, в которой он отныне жил, переехав незадолго до того в Киев? Я в очередной раз с удовольствием отметила, что если и существует область, в которой за истекшие годы имело место настоящее возрождение, – это российское книгопечатание. Ушла в прошлое многотиражная продукция на рыхлой сероватой бумаге с пятнами клея, с плохо прошитыми страницами, с нагоняющими тоску обложками (суперобложки были тогда большой редкостью). Ах, эти обложки советских времен, этот серовато-коричневый коленкор! На эту тему ходила масса забавных историй, так, например, утверждали, что обложка всем известных «Литературных памятников» обязана своим бутылочным цветом перепроизводству коленкора для паспортов. Где-то в какой-то план вкралась ошибка, коленкора выпустили несоразмерно много, никто не знал, что с ним делать, пока в чьей-то умной голове не возникла идея: отдать издательствам. В результате чего «Опасные связи» на вид неотличимы от «Дон Кихота». Не следует, однако, забывать, что и эта печального вида продукция шла нарасхват: книжный дефицит был не менее острым, чем колбасный.
Я бережно открыла первый том, снабженный дружеской надписью автора, и пробежала взглядом по оглавлению. Первым шел один из ранних рассказов Д. М***, «Штиль». Мне когда-то говорили, что первоначально он был посвящен мне и назывался по-другому: «Рейс на Стокгольм». При публикации редакция журнала изменила название и сняла посвящение – но для меня это не имело ни малейшего значения, все остальное сохранилось как есть, неподвластное времени.
* * *
Приехавшая из Риги Ирина училась в МГУ и вращалась в компании, к которой принадлежали Д. М*** и те самые друзья, которые теперь, весной 2014 года, принимали его и меня у себя дома в Париже. Характер у Ирины был общительный, все ее любили, недостатка в приятелях не было, однако когда ей захотелось пригласить кого-то из друзей на взморье, где у ее родителей была дача, выбор пал на меня. Я обрадовалась: Прибалтика была мне знакома так же хорошо, как и Крым, мы с родителями бывали там почти каждое лето. В то время основная масса населения страны располагала тремя вариантами проведения отпуска: Прибалтика, Крым и черноморское побережье Абхазии. Выбор не слишком богатый, но он, возможно, объясняет, почему граждане России так привязаны к бывшим курортам СССР и готовы на многое ради обладания ими. Что за жизнь без любимых пляжей!
В течение ряда лет я ездила в Юрмалу то с родителями, то с бабушкой. Расположенная к югу от Риги, Юрмала, как известно, представляет собой цепочку курортных поселков, соединенных электричкой. Природа там в точности как на польской и немецкой части балтийского побережья: песчаные пляжи, нанесенные ветром дюны, мелкое море с температурой воды, редко превышающей 18 градусов. Что же тянуло туда миллионы советских курортников, что побуждало их предпочесть это холодное мелководье теплу и субтропическим красотам Закавказья, черноморским пальмам и крымским виноградникам? Тянуло воображаемое сходство с Европой. При небольшом умственном усилии человек мог представить себе, что он на Западе, – тому способствовали манеры местных жителей, чуть менее пустые прилавки магазинов, чистые улицы, аккуратно подстриженные газоны и, конечно, наличие кафе, куда можно было зайти «просто так»! Торчавшие там и сям остроконечные шпили костелов довершали иллюзию.
Цены были довольно высокими; кроме того, за удовольствие провести отпуск в якобы западном мирке полагалась еще и наценка: необходимость ежедневно сталкиваться с ледяной вежливостью и плохо скрываемой враждебностью местных жителей. Курортники из России представляли для них важный источник дохода, но даже в этом туристском оазисе жилья не хватало, гостиниц почти не было, путевки в пансионаты были нарасхват, и единственный способ устроиться состоял в том, чтобы снять комнату или угол у частника. Латыши, однако, тоже жили не в хоромах, а на жилплощади, мало чем отличавшейся от общесоветской нормы, так что, сдавая на лето комнату туристам, они были вынуждены ютиться на оставшихся квадратных метрах, что, естественно, только увеличивало раздражение по поводу присутствия чужаков. Тем не менее они сдавали все, что могли: чуланы, сараи, малейшие закоулки. Точно так же поступали крымчане и абхазцы, но эти оставались людьми южными, экспансивными, склонными к шутке, и раздражение от нашествия было не столь заметно; холодные и сдержанные прибалты молчали, но на лицах у них была написана мука. Впрочем, незваных гостей это не смущало: в окружении моря, сосен, бесконечных пляжей выходец из Воронежа, прибывший на заслуженный отдых, чувствовал себя как дома. Что отчасти являлось результатом забавного парадокса тогдашней жизни: с одной стороны, человек был прикреплен к месту жительства крепостными узами прописки, с другой – этому же человеку постоянно внушали мысль о неделимости, цельности пространства: «От Москвы до самых до окраин, / С южных гор до северных морей / Человек проходит, как хозяин / Необъятной Родины своей». Это представление впитывалось с материнским молоком, и никакие поджатые губы и отказ эстонцев и прочих литовцев и латышей говорить по-русски не могли его поколебать.
Так что переехав нематериальную, никак не обозначенную границу той или иной республики, гости продолжали чувствовать себя как хозяева, что в Клайпеде, что в Пицунде. Тот факт, что вокруг говорили на незнакомом языке, тоже никого не смущал: русский изучали в обязательном порядке везде, начиная с первого класса начальной школы, и худо-бедно объясняться могли все, уж во всяком случае договориться о цене за комнату. Для местных жителей недостаточное владение русским представляло даже определенное преимущество, сводя к минимуму общение с отнюдь не дорогими гостями.
Приехав к Ирине, я оказалась в ином, совершенно незнакомом мире. По эту сторону Риги, к северу, железнодорожная ветка тоже шла вдоль побережья; поезд останавливался на крошечных полустанках, за окном сменяли друг друга леса, поля, кое-где мелькали редкие хутора, никаких следов столь характерного для Юрмалы туристического оживления. Это тихое побережье, вдали от шума и суеты, облюбовала в качестве места отдыха часть латышской номенклатуры. Разделенные сосновыми лесами дачные кооперативы – Академии наук ЛССР, Союза архитекторов и пр. – располагались на изрядном расстоянии друг от друга, никто никому не мешал.
Несмотря на свой привилегированный характер, поселки, о которых идет речь, особой роскошью не отличались, до Беверли-Хиллз им было далеко. Инфраструктура сводилась к советскому минимуму: прорубленные среди сосен просеки обеспечивали выход к морю, через поселок проходила, петляя, одна-единственная асфальтированная дорожка, «торговая точка» представляла собой деревянную палатку, где в редкие часы работы можно было купить продукты первой необходимости: картошку, хлеб, макароны и водку. Все остальное – мясо, молоко, фрукты – приходилось возить из города.
Но какое это имело значение! Гарциемс оказался спрятанным среди сосен крошечным райским островком. Водопровода не было, зато две минуты ходьбы до моря, песчаный пляж, тянущийся в обе стороны на много километров, кругом ни души, не слышно ничего, кроме шума ветра в сосновом бору. Сине-серое, спокойное море тоже казалось совершенно пустынным, ни лодки, ни паруса – а где-то за горизонтом, в 444-х километрах, если верить карте, но в действительности на расстоянии световых лет, находилась недоступная Швеция/Европа/свобода.
Несмотря на небольшие размеры и простоту планировки, дача Ирининых родителей имела в себе нечто неуловимо западное, и по сравнению с деревянными «избами» Подмосковья казалась воплощением элегантности и модерна. Дом был кирпичный, оштукатуренный, серого цвета, с террасой, выложенной красными плитками. Внутри – деревянная обшивка, как в скандинавских постройках. На участке был разбит сад: несколько яблонь, кусты крыжовника, клубника. И конечно, цветы, главным образом флоксы.
Дни проходили словно в дивном сне. Походы на пляж, когда позволяла погода. Готовка. Еда. Чтение. Беседы. Порхающие над флоксами сонмы бабочек…
Впоследствии мне довелось побывать в Гарциемсе еще дважды. Первый раз я сделала это нелегально, сознательно нарушив закон, запрещавший иностранцам перемещаться по территории СССР без специального разрешения. Приехав в Москву повидаться с близкими, я испытала непреодолимое желание вновь увидеть места, с которыми были связаны воспоминания о полном, ничем не омрачаемом блаженстве. Но как туда попасть? Самолет отпадал: ведь мне пришлось бы предъявлять паспорт при покупке билета и при регистрации, оставался поезд, на него билет можно было купить просто так. Для настоящего иностранца и этот способ был рискованным, его могливыдать незнание русского язык или акцент: проводник и попутчики, заметив, что что-то не так, охотно сдавали незадачливого путешественника правоохранительным органам. Меня же по этим приметам никто опознать не мог, и «провал» мне не грозил.
Если не считать давнишних воображаемых «преступлений», за которые приходилось расплачиваться приступами паники, эта поездка явилась моим первым сознательным нарушением советского законодательства. Было, конечно, страшновато. С одной стороны, заподозрить во мне «иностранку», казалось бы, не представлялось возможным, с другой стороны, мы с Ириной обсуждали поездку по телефону (письма шли слишком долго) – а что если он прослушивался? Все знали, что, например, в гостиницах прослушивались все телефоны, с частными же лицами ситуация была менее ясной. Состояли ли под наблюдением иностранцы, жившие на квартирах у родственников? С точностью ответить на этот вопрос никто не мог. В те времена все мы страдали легкой паранойей – и причин для этого хватало. Как бы то ни было, сев вечером на поезд на Белорусском вокзале, я прибыла в Ригу утром следующего дня. Ирина ждала меня на перроне, мы немедленно пересели на электричку, которая через полчаса высадила нас на станции в Гарциемсе, по-прежнему совершенно пустынной. Два дня спустя мы проделали тот же путь в обратном направлении, и она посадила меня на московский поезд.
Спустя несколько лет я прилетела в Ригу самолетом, на этот раз перемещаясь в противоположном направлении, с севера на юг, – воспользовалась поездкой в Финляндию, чтобы на обратном пути, теперь уже вполне легально, слетать в Прибалтику. Город я узнала с трудом. В первую очередь из-за обилия красок там, где раньше господствовала исключительно черно-серая гамма (не зря кинематографисты всех союзных республик облюбовали Ригу для съемки военных фильмов). Европейские фантазии советских курортников воплотились в жизнь. Надо сказать, что туристы из России, число которых изрядно уменьшилось (отчасти из-за введения виз, но и по другим причинам: наконец-то появилась возможность не ограничиваться выбором одного из трех вариантов – Крым, Кавказ, Прибалтика, – а поехать отдохнуть куда душе угодно: в Турцию, на Гоа, на Канары – были бы деньги), отныне испытывали немалые затруднения с ориентировкой на местности: в советские времена все надписи, названия улиц, магазинные вывески и пр., были на двух языках, теперь же остались только латышские. При этом на улице и в транспорте слышалась в основном русская речь. Эксцессы обретенной независимости…
Зато в Гарциемсе все осталось по-прежнему, над этим местом время было не властно. Правда, кое-где вместо скромных дач советских номенклатурщиков появились роскошные виллы местных и приезжих нуворишей, но их было не так уж много. Неказистая палатка теперь могла похвастать набором товаров, по обилию не уступающим средних размеров супермаркету любого европейского населенного пункта, но все остальное – сосны, песчаный пляж, деревянный настил, ведущий к морю, – было как прежде. И словно по мановению волшебной палочки вернулось давно исчезнувшее ощущение заколдованного царства, покоя, дремы, того самого штиля последних советских лет, который предшествовал моему отъезду.
Сказать по правде, все было не так просто. В тот далекий год на даче мы с Ириной оказались не одни. Когда мы вошли в калитку, навстречу нам вышла из дома молодая женщина. «Моя сестра Тамара», – пояснила Ирина. Я бы и сама догадалась, столь велико было сходство. Тем не менее мое удивление было велико: до этого дня я даже не подозревала о существовании сестры.
Тогда я впервые почувствовала, что прикасаюсь к какой-то давней болезненной семейной травме. Расспрашивать подругу мне было неловко, поэтому об обстоятельствах семейной истории я узнала лишь годы спустя. Корни ее уходили в далекое прошлое, в послевоенные годы, когда в конце 40-х развернули охоту на ведьм – под названием «борьба с космополитизмом и низкопоклонничеством перед Западом». Речь шла о крупномасштабной чистке в академической среде, окончательно уничтожившей остатки свободной мысли. Особенно от нее пострадали науки гуманитарные.
Проработки проходили в соответствии с давно обкатанным сценарием, испытанным на прочность еще в процессах 30-х годов, с той лишь разницей, что до физического уничтожения ошельмованных дело доходило реже. Обычным результатом были увольнения, психические травмы, социальное отщепенство. «Чистили» научно-исследовательские институты, университеты, академию наук. Собрания сменяли друг друга, обвинения оставались неизменными: идеологические отклонения, погрешности преподавания, ошибки в методике исследований. Обвиняемые каялись, обещали исправиться. Некоторые пытались оправдаться, но, как правило, безуспешно; исход был неизменный: погубленные карьеры, искалеченные судьбы. Инициатива, как известно, шла сверху, от партийных органов; исполнителями были коллеги и ученики обвиняемых, студенты и аспиранты. Методы воздействия тоже не отличались оригинальностью: кнут и пряник, угроза отчисления и обещание места в аспирантуре, угроза зарезать публикацию статьи и обещание поездки на конференцию – что перетянет? Перетягивало чаще всего одно и то же: страх. «Есть многие научные репутации в Москве и в Ленинграде, вот так же построенные на крови и костях. Неблагодарность учеников, пересекшая пегою полосою нашу науку и технику в 30-е – 40-е годы» – это замечание Солженицына справедливо и в отношении 50-х годов.
После распада СССР некоторые свидетели тех времен были еще живы, и кое-кто из них опубликовал воспоминания об этих судилищах. Однажды мне попались в руки мемуары видного историка. В одной из глав рассказывалось о разгроме медиевистики в Московском университете, где на публичном обсуждении известного специалиста по аграрной истории Средневековья главным обвинителем выступил его любимый ученик, обличавший своего учителя в недостаточно марксистском подходе (обвинение по тем временам грозное). Даже привычная к такого рода метаморфозам публика была шокирована услышанным. Сам обвиняемый, раздавленный происходившим, пораженный неожиданным предательством, всю ночь бродил по улицам, не решаясь вернуться домой, в полной уверенности, что там его немедленно арестуют. Ученик же заслужил место на кафедре, но, похоже, не выдержал напряжения и вскоре перевелся из столицы в провинцию. Рассказывали, что, когда научный руководитель умер, он приехал в Москву на похороны, но показаться на них так и не решился…
Автор воспоминаний называет этого человека по имени, увидев которое, я не поверила своим глазам: речь шла об отце Ирины! Чтобы удостовериться, я позвонила сыну автора мемуаров (самого его уже не было в живых): знал ли он об этом эпизоде в эпоху нашей совместной учебы в университете? «Конечно, знал, – ответил знакомый голос, явно удивленный наивностью вопроса, – у нас в семье все знали, и все очень жалели Ирину…» В моем случае информация пришла с опозданием в двадцать лет, но шок от этого ничуть не уменьшился – и одновременно многое вдруг прояснилось[10].
Мне вспомнился пожилой человек, суровый, неулыбчивый, с потухшим взглядом, несколько раз виденный во время наездов в Ригу. Вот, оказывается, куда он переселился из Москвы – в надежде избавиться от тяжелых воспоминаний? Его дальнейшая карьера сложилась вполне успешно: более двухсот опубликованных работ, повышения в должности, звание профессора. Но видимо, заплаченная за успех цена оказалась слишком высокой, и рана не затягивалась. Депрессии отца не могли не отразиться на домашней атмосфере, даже если подрастающие дочери ничего не знали о трагедии, разыгравшейся еще до их появления на свет. Но если Ирине удалось сохранить способность нормально жить, работать и строить планы, для ее старшей сестры взросление сопровождалось обострением отношений в семье, ссорами и спустя несколько лет привело к полной катастрофе. Приступы бессонницы и периоды подавленности становились все более частыми, в конце концов, несмотря на блестящие способности, она бросила университет, пошла работать на стройку, потом на завод, потом… Потом все оборвалось. Когда я познакомилась с Тамарой, она была неизлечимо больным человеком, уже несколько лет проводившим значительную часть года на даче, чаще всего в одиночестве, избегая контактов с людьми.
Ирина наверняка колебалась, прежде чем решилась пригласить меня в Гарциемс. Затворническая жизнь превратила Тамару в дикарку, общение с людьми было ей в тягость. Сделанное мне приглашение погостить было чревато риском, и если Ирина тем не менее не предупредила меня, то, скорее всего, просто потому, что не нашла подходящих слов. По счастливой случайности ее опасения не оправдались: Тамара приняла меня благосклонно, более того, я ей понравилась. Между нами установилась связь, постепенно все более дружеская. На это потребовалось определенное время, ибо даже живя под одной крышей, мы виделись редко. Страдавшая от бессонницы Тамара обычно бодрствовала по ночам и отсыпалась днем; возвращаясь в послеобеденное время с пляжа, мы иногда встречали ее, она направлялась к морю, где купалась ежедневно, в любую погоду, даже когда температура воды не превышала 15 градусов. Иногда она вообще не выходила днем. Ночью же до нас иногда доносились приглушенные звуки музыки: она слушала главным образом итальянскую оперу, которую знала досконально и очень любила. Тамара владела несколькими языками, была исключительно талантлива, но болезнь постепенно делала свое дело.
После отъезда во Францию я в течение нескольких лет получала от нее удивительные письма, в которых эрудиция и ирония сочетались с неиссякаемым любопытством ко всем явлениям недоступного ей мира. Она никогда не была за границей, мало путешествовала в пределах страны, и тем не менее, благодаря накопленным знаниям и силе воображения, имела достаточно полное представление о внешнем мире и испытывала желание узнать его еще лучше. Ее интересовало буквально все, и свое, и чужое: «Как называются „желто-красные фрукты, похожие на сливы“? – какой-нибудь буржуазный гибрид?»; «…кроме историй путешествий, я жду от Вас (мы с ней были на Вы) этнографических наблюдений над подопытной расой…»; «…расскажите, пожалуйста, немного про французскую семью, существует ли la religion – в какой форме?»; «…как справляются западные люди с богатством выборов, на каждом этапе, хотя бы культурных?»; «А Шостакович – читали ли Вы его мемуары, якобы выпущенные на Западе?»; «Вообще, упоминайте иногда, если будет настроение, про Ваши книжные открытия…». «Настроение», увы, случалось далеко не всегда, я была слишком поглощена поисками собственного места в новой жизни, где все казалось неопределенно, неустроенно и было непонятно даже мне самой; мне не хватало дистанции, чтобы адекватно описать увиденное. Подозреваю, что мои письма разочаровывали Тамару. И затрудняюсь сказать, чем являлись для нее ее собственные. Ее многостраничные послания производили впечатление гигантских монологов человека до крайности одинокого, доверявшего свои мысли только бумаге. В одном из них, жалуясь на плохую работу почты (письма шли неделями), она в шутку предлагает: «А не быстрее и не надежнее ли будет доверить наши письма морским течениям? У меня тут целый набор пустых бутылок – вот бы и пригодился. Почта-экспресс Прибалтика-Средиземноморье, что скажете?» Невольно возникают ассоциации с бутылками потерпевших кораблекрушение – и действительно, крушение произошло, но уже совсем иного рода: письма вдруг перестали приходить. Спустя некоторое время я узнала, что, приехав однажды на дачу, родители Тамары нашли ее мертвой; причина – летальная доза снотворного.
Но тем летом до этой трагедии еще оставались годы, а пока мы с Ириной вели сладкую беззаботную жизнь под дружелюбным оком Тамары. Мы почти нигде не бывали, ни с кем не общались, дни протекали в блаженном спокойствии, с походами на пляж, занятиями по хозяйству, чтением. У каждой своим: Ирина штудировала философию Николая Кузанского, ее сестра – Мишеля Фуко (по-французски!), я же скромно ограничивалась шведской грамматикой, перемежая ее с «Прогулками одинокого мечтателя Руссо», удачно соответствовавшим моим собственным блужданиям по бесконечному пустынному пляжу. Стены отведенной мне комнаты были увешаны схемами склонений и спряжений, словом, скучать было некогда.
Неудивительно, что появление Д. М***, нежданно-негаданно свалившегося нам на голову, не вызвало особого восторга. Мы хорошо к нему относились, дружили с ним и охотно общались в Москве, но тут, в уединении, его присутствие оказалось явно не к месту. Мы не нуждались в дополнительном обществе – Д.М*** же, наоборот, соскучился по людям. Поселившись в пансионате на одной из близлежащих станций, он, судя по всему, безмерно скучал, и любая смена обстановки и окружения была ему в радость. Особенно если ей сопутствовала возможность поесть чего-то более вкусного, чем солянка в пансионатской столовой. Откуда он узнал наш адрес, как ему удалось нас найти, я так и не поняла – как бы то ни было, он стал навещать нас, хоть и не ежедневно, но все равно на наш вкус слишком часто. Мы старались не дать ему это почувствовать и всякий раз приглашали его остаться поужинать, кормили пирогами, пытаясь ласковостью обращения загладить явное раздражение Тамары, которое она, безразличная к светским приличиям, даже не старалась скрыть при его появлении. Демонстративно взяв с полки Фуко, она углублялась в чтение, не удостаивая гостя ни словом, ни вниманием. Д. М*** это, несомненно, чувствовал, но голод и скука оказывались сильнее. Тамары он явно побаивался. Однажды, не застав дома никого, кроме сердитой Тамары, он все же осмелился попросить разрешения дождаться нашего прихода, попросил отвести его в мою комнату, прилег там на кровать и уснул в окружении таблиц спряжения сильных глаголов. Проснувшись, он распрощался и ушел, не дождавшись нас. Тамара со смехом рассказывала об этом визите.
Мы не удерживали его, когда он собирался уходить, не меняли устоявшихся привычек. Однажды он отправился с нами на пляж и под нашими насмешливыми взглядами даже окунулся в ледяную балтийскую воду. Видимо, это купание стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, а может быть, просто путевка в пансионате подошла к концу, он вдруг исчез – так же неожиданно, как до этого появился. Мы вздохнули с облегчением и вернулись к своим занятиям.
Позже я узнала от общих знакомых, что по приезде в Москву он написал рассказ об этих встречах. «Вас с Ириной он вывел в образе двух полных идиоток, так вы ему осточертели своим снобизмом и варварскими купаниями». Вот оно что… подумалось мне тогда.
* * *
Придя из гостей домой, я открыла первый из двух томов подаренной мне прозы. Он начинался с того самого рассказа о «двух идиотках», поначалу окрещенного «Рейс на Стокгольм». Я стала читать – и с первых же строчек на меня пахнуло соленым воздухом Прибалтики.
«Если всерьез, это был самый никудышный сад в округе. Крыжовник и смородина осыпались, не успевая созреть. Четыре яблоньки, искромсанные садовыми ножницами, роняли плоды с крахмальным привкусом. Флоксы вяли. Посреди дорожки росло и чахло совершенно бесполезное уксусное дерево, напоминающее папоротник или пальму. Но вот чего там было вдоволь, и самого лучшего качества, так это малины, пересаженной с местного кладбища хозяином сада, полковником в отставке…» Так начинается история двух одиноких девиц, одна их которых – нянька, «маленькая, кругленькая, некрасивая», а другая, «высокая, худая в плечах, широкая в бедрах и тоже некрасивая», – машинистка. Весь год они трудятся, не покладая рук, экономят, чтобы позволить себе эту летнюю роскошь: снять на вырученные деньги дачу и в течение нескольких недель забыть обо всех заботах, ни о чем не думать, наслаждаясь блаженным ничегонеделанием. Одиночество больше не проблема, постылая работа не более чем смутное воспоминание, жизнь прекрасна. Эта идиллия искусственна и хрупка, но если обращаться с ней осторожно, она выдержит.
Их покой смущен появлением третьего персонажа, тоже дачника, тоже одинокого, тоже праздного. Их свело случайное знакомство, он значительно старше, живет в пансионате в нескольких километрах от дачного поселка. Беседы с подругами вносят разнообразие в его монотонное существование, но главное, что привлекает его в их обществе, – это крепкий чай и пироги с малиной, которые ежедневно пекут и на которые его неизменно приглашают подруги.
Основное событие дня – ожидание. Лежа на песке, все трое всматривались вдаль, туда, где море сливается с небом, задаваясь вопросом: «будет сегодня рейс на Стокгольм или отменят?». И всякий раз героев охватывало чувство, похожее на облегчение, когда наконец «в небе появлялась белая точка. Медленно и упорно она ползла в сторону моря. Стоило сощурить глаза – и точка становилась крестиком. На невидимой прозрачной нити крестик тянул за собой белый рыхлый хвост». Пересекая небосвод, точка неуклонно приближалась к линии горизонта. «И на что он вам сдался, этот Стокгольм?» – неизменно спрашивал подруг Владимир Иванович, пожимая плечами. Ответа на свой вопрос он не получал. Ожидание самолета, ежедневно летавшего в Стокгольм, в Европу, вбирало в себя всю ностальгию по иной жизни, всю жажду перемен.
В силу непредвиденных обстоятельств безмятежное существование вдруг оказывается под угрозой. К каком-то смысле причиной становится попытка одной из героинь осуществить мечту, сменить жизнь, обрести свой «Стокгольм», попытка, как и все подобные начинания, обреченная на неудачу. Да героиня и сама не особенно в нее верит. Обнаружив ее исчезновение, подруга бросается на поиски, бежит к морю. На рассвете они наконец встречаются на берегу, и им становится ясно, что в зыбкости существования их дружба – единственный надежный элемент. Помирившись, они идут обнявшись домой, шатаясь от усталости. Там их ждет неожиданность: «На крыльце, скользком от росы, полулежа, зябко поджав колени и скрестив полные руки на раскрытой волосатой груди, удивленно открыв рот и мучительно дыша, спал Владимир Иванович». «Приснилось нечто несообразное», – отвечает он на вопрос о причине своего появления в столь неурочный час. «Продрал глаза – везде ночь, ни звука. И до того пакостно – хоть вой. Что же это, думаю, смерть пришла? Прислушался – да нет, сердце на месте, не барахлит. Э, думаю, что-то у девочек моих неладно, что-то нехорошо с моими девочками». «По шпалам пришел. А дверь заперта», – добавляет он.
Жизнь входит в привычную колею, и покой, вновь низойдя на «райский сад», воцаряется в душах героев. Каждый год они встречаются летом в тех же местах и так же, лежа на песке, ждут, когда «в строго определенный час» вновь появится над морем «белая точка» и медленно поползет к горизонту. На море же по-прежнему «полный штиль».
Закрыв книгу, я набрала номер парижских друзей, у которых мы собирались накануне. На мой вопрос, что он думает о рассказе Д. М***, хозяин, обычно строгий в своих оценках, ответил без колебания: «„Штиль“? Великолепная проза!» Он был прав. Мне же эта проза представляется великолепной вдвойне еще и потому, что ей оказалось под силу воскресить атмосферу, вызвать к жизни давно забытые обстоятельства, цвета, звуки и запахи, казалось бы, бесповоротно исчезнувшие, – с точностью и убедительностью, недоступными ни фотографии, ни кино, подвластными только литературе. Мне вдруг стало ясно, насколько эта история, полностью выдуманная с фактической точки зрения, интереснее, богаче и даже в определенном смысле «правдивее», чем реальность, послужившая ей отправной точкой. Насколько женские персонажи интереснее двух московских студенток, приехавших на каникулы на взморье, с их столичными ужимками и интеллектуальными претензиями. Что и говорить, я не узнала себя в няньке, «готовой смириться с любым внешним изъяном, как и вообще с любой оплошностью судьбы», да и наш незваный гость имел мало общего с героем, о котором сказано, что он «немного циник, но добряк, ничуть не стыдится своей плеши и пристрастия к спиртному», что человек он «бывалый, много поездивший и много поживший, хотя не вполне ясно было, где поездивший и как поживший». Все это не имело значения, важным было лишь то, с каким мастерством еще совсем неопытный, начинающий писатель Д. М*** сумел передать основное: идиллический характер той дачной жизни и иллюзорный характер этой идиллии. Воссоздать ощущение затишья, оцепенения, в котором пребывала страна в последние годы существования советской власти, незадолго до взрыва, ударной волне которого суждено было выбить из колеи нормальной жизни, а иногда и выбросить за ее пределы миллионы людей.
Включив утром компьютер, я машинально бросаю взгляд на интерфейс Скайпа: кое-какие зеленые глазки́ уже горят, другие загорятся попозже. Все в порядке, можно начинать рабочий день.
Три портрета
Семен
Я звала его «дядя Сема», родители обращались к нему по имени-отчеству, Семен Михайлович, бабушка говорила «Сема» и даже фамильярно «Семка», она единственная была с ним на ты, все остальные говорили «Вы», включая меня.
Теоретически он считался бабушкиным другом молодости, практически же…
Мои первые воспоминания о нем относятся к самому раннему детству. Время от времени дядя Сема появлялся у нас в гостях – сначала в коммуналке в центре, потом в двухкомнатной квартире на окраине, куда мы переехали, когда мне было восемь лет, а летом – на даче в Подмосковье. Приезжал всегда он, за все свое детство я ни разу не была в него в гостях. Жил он в Рязани. Как и почему он там поселился? Зачем приезжал в Москву? Где и когда познакомился с бабушкой? Кем он был по профессии, где работал, когда еще работал, поскольку с тех пор, как я его помню, он был уже на пенсии. Была ли у него семья?
В детстве эти вопросы не приходили мне в голову – впоследствии мне удалось получить ответы на некоторые из них, другим суждено было так и остаться без ответа. В течение многих лет этот человек был своего рода непреложной данностью: каждый его приезд становился источником радости для всей семьи, словно каждый из нас являлся целью и причиной его посещения. И лишь много позже до меня дошел исключительный характер этих отношений: дружить со всеми членами семьи, пользоваться любовью трех поколений – больше никто из моего окружения не мог этим похвастаться. Приезжал он нечасто, три-четыре раза в год, на несколько дней, летом чуть дольше, потом уезжал к себе в Рязань.
Долгое время Рязань оставалась для меня «городом, где живет дядя Сема». Позже, когда он уже не мог никуда ездить, мне доводилось навещать его – город не оставил у меня ни малейших воспоминаний: ни улица, на которой он жил, ни дом, ни квартира, за исключением его комнаты, набитой книгами. Тогда это была самая большая частная библиотека, какую я знала.
Всякий раз, приезжая к нам, он привозил в подарок книги – каждому свою. Выбранную в соответствии со вкусами и интересами каждого. Кроме того, каждому полагалась книга на день рождения, эти подарки приходили по почте. В моем окружении он был единственным, кто дарил книги так часто и так систематически. Ведь речь шла о «товаре» достаточно дефицитном, спрос на который намного превышал предложение: в книжных магазинах, укомплектованных в основном классиками марксизма и соцреализма, ничего путного было не достать, разве что из-под прилавка; на черном рынке книги шли по заоблачным ценам.
Дядя Сема активно участвовал в этом бизнесе, не в качестве продавца – думаю, что за всю свою жизнь сам он не продал ни одной книги, ну, может быть, что-то на что-то выменял, – а в качестве покупателя. При его крошечной пенсии о том, чтобы отовариваться на черном рынке, нечего было и мечтать, поэтому он выработал собственную тактику: обхаживание продавщиц. Система была несложная: обзаведясь коробками зефира в шоколаде, он последовательно обходил книжные магазины города Рязани, любезничая с продавщицами. Внешности неказистой (больше всего он был похож на Гудвина Великого-и-Ужасного из «Волшебника Изумрудного города» издания 1959 года: маленького роста, не столько толстый, сколько круглый, с огромной головой – так что покупка шляп представляла для него еще бóльшие сложности, чем покупка книг), он обладал неотразимым обаянием, и я уверена, что продавщицы оставляли бы для него под прилавком дефицитные книжки и без зефира. Как правило, речь не шла о чем-нибудь конкретном: планы госиздательств были окутаны такой же тайной, как производство мыла и ядерных боеголовок. Все самое интересное – Литпамятники, Библиотека поэта – выходило крошечными тиражами, и в обычные магазины попадали лишь редкие экземпляры. Сами продавщицы, скорее всего, даже не подозревали о существовании Эсхила или Монтеня, но чутье подсказывало им, что обаятельный коротышка с огромной лысой головой наверняка обрадуется и тому, и другому, – и они аккуратно клали экземпляр под прилавок. И точно, обходительный человечек неизменно приходил в восторг, рассыпался в благодарностях, а через некоторое время Эсхил или Монтень торжественно преподносился мне на день рождения, частенько на вырост, на мое десяти-, одиннадцати– или двенадцатилетие.
Охота за книгами носила характер обдуманный и строго систематический: обходы магазинов происходили регулярно, с определенными интервалами; в первый заход дядя Сема одаривал продавщиц зефиром, позже приходило время собирать урожай. Покупая книги по нормальным ценам, он мог позволить себе приобрести, если представлялась возможность, сразу два экземпляра, один из которых шел в подарочный фонд. Случалось, что чей-нибудь день рождения был на носу, а в подарочном фонде не имелось ничего подходящего, тогда он расставался с одной из книг своей собственной библиотеки: оставить именинника без подарка или подарить не книгу, а что-нибудь другое – об этом не могло быть и речи. Несмотря на свой явный интерес к изобразительным искусствам, он никогда не дарил мне альбомов, и мне кажется, в его собственной библиотеке их почти не было – они стоили слишком дорого. Зато он охотно водил меня в музеи.
Дядя Сема приезжал в Москву с грузом книг и уезжал с грузом зефира. Но не только. В полном соответствии с загадкой советских времен «Длинное, зеленое и пахнет колбасой – что это такое? Поезд Москва – Рязань» он уезжал с сумками, набитыми колбасой. В Рязани ситуация с продовольствием была аховая, и кроме рыбных консервов и водки, мало что можно было купить. Как, впрочем, и везде. За продуктами ездили в Москву; очереди, как известно, были дикие, москвичи обвиняли во всем «иногородних», но их и самих за глаза хватало. Все-таки, напомним, Москва была по сравнению с провинцией царством молочных рек и кисельных берегов, где зимой изредка появлялись даже апельсины и бананы, где «давали» сыр и колбасу, которая успешно заменяла мясо, товар скоропортящийся, несмотря на то что продавался и зимой, и летом исключительно в мороженом виде. «Давали» продукты – напомним и это – в определенном количестве в одни руки, но это ограничение люди давно уже научились обходить, и многорукие советские шивы возвращались домой с тяжелыми авоськами «дефицитных» продуктов. Неудивительно, что «длинное и зеленое», курсировавшее по маршруту Москва – Рязань, пахло колбасой.
Не будучи исключением из правил, дядя Сема тоже вез из столицы колбасу, но все-таки главная цель его наездов состояла не в этом. Он приезжал повидать нашу семью и кое-кого из живущих в Москве друзей-ровесников. А также приобщиться к культурной жизни, которой в провинции ему явно не хватало: в программу входили театр, концерты и музеи. Не то чтобы в провинции вовсе не было ничего «культурного», но и выставок, и концертов было не так уж много, вдобавок по уровню они уступали столичным и были недоступны простым людям: билеты на приезжающих из Москвы гастролеров шли номенклатуре и ударникам производства, а то, что оставалось, сбывалось на черном рынке по недоступным для пенсионера ценам.
Дядя Сема обладал обширной эрудицией, познаниями во многих областях: литературе, истории, музыке. Кроме того, его уникальная, «фотографическая» память навсегда удерживала все: факты, даты, имена, обстоятельства. Он мог с одинаковой легкостью перечислить солистов балета Большого театра тридцатилетней давности и игроков столичного «Динамо» нынешнего сезона. Живя в Рязани, Солженицын, работавший тогда над «Красным колесом», обращался к нему за справками: дядя Сема знал наизусть состав Первой думы, равно как и Второй, имена-отчества, партийную принадлежность каждого депутата…
Яркость его личности и объем знаний странно контрастировали с образом жизни, представлявшейся мне тусклой и бессобытийной. Казалось, этот своеобычный человек, предельно любознательный и общительный, жил анахоретом и ни с кем не общался. Ребенком я думала, что он оказался в Рязани по недоразумению, случайно, – позже я поняла, что это произошло по воле обстоятельств, контуры которых обозначились постепенно, но так до конца и не вырисовались.
Он был не только лыс, как колено, но и беззуб. С самого начала я его знала только таким, поэтому в детстве мне казалось, что иначе и быть не могло, но понемногу стало ясно, что и то и другое, очевидно, было следствием перенесенной в лагере цинги. Где проходит граница между знанием и незнанием такого рода? Когда, от кого и при каких обстоятельствах я узнала, что он принадлежал к «племени зэков», бывших заключенных, столь многочисленных, что не заметить их было трудно, несмотря на то что сами они стремились привлекать к себе как можно меньше внимания? Затрудняюсь сказать. Наверное, лет в 13–14, когда я начала читать самиздат. Мне вдруг открылась связь между описаниями заключенных – голодных, забитых, измученных – и тем обстоятельством, что в моем ближайшем окружении тоже был человек, потерявший все зубы и волосы. Не думаю, что кто-то – отец, бабушка или он сам – специально рассказал мне о его лагерном прошлом, скорее, я сама со временем догадалась.
Точно так же никто никогда не говорил мне: «Знай, что твоя бабушка провела значительную часть жизни за решеткой» – подобное сообщение выглядело бы нелепо и вдобавок грозило опасностью. Маленьким детям таких вещей говорить ни в коем случае не следовало: чего доброго повторят в детском саду или в школе, хлопот не оберешься. А детям постарше объяснять уже не было надобности: они и сами постепенно догадывались. Короче говоря, начиная с определенного возраста я знала, что бабушка и некоторые ее знакомые в прошлом были политзаключенными. И благодаря самиздату вскоре поняла, что лишь в редких советских семьях никто не сидел в тот или иной момент.
Однако учитывая то обстоятельство, что, несмотря на тюремное прошлое, бабушка сохранила и зубы, и волосы, я сделала вывод, что дядя Сема прошел через особо суровые лагеря и что сидел он там особенно долго. Кроме того, он был старше бабушки и ее друзей, казался личностью более значительной, центром их маленького кружка – поэтому я представляла себе его лидером оппозиции, важной фигурой, опасным противником режима. Проверить правильность этой гипотезы мне так никогда и не удалось. Если в биографии бабушки и ее друзей немало пробелов, биография дяди Семы представляет собой сплошное белое пятно. Я даже не уверена, что имя, которым мы его называли, Семен Михайлович Любимов, не псевдоним. По некоторым сведениям, это была не настоящая его фамилия, что укрепляло меня в мысли о его особом статусе.
Когда он бывал у нас в гостях, взрослые члены семьи, отправив меня спать, подолгу беседовали на кухне. Я видела луч света на полу под кухонной дверью, слышала невнятный шум голосов – это была моя версия прустовского «Давно уже я привык укладываться рано…». Столь поздние разговоры, контрастировавшие с обычным укладом жизни, питали мои догадки о том, что взрослые говорят о прошлом, расспрашивают дядю Сему, слушают его рассказы о лагерной жизни. Много лет спустя отец разуверил меня: лагерное бытие в этих беседах никогда не затрагивалось.
Согласно данным, которые мне удалось обнаружить, дядя Сема родился в 1893 (по другой версии в 1898) году. Учился на экономическом факультете, потом на юридическом, и даже успел стать адвокатом. Рано увлекся политикой, был членом одной из социалистических группировок. В 1924 году был арестован и отправлен на Соловки, а год спустя переправлен в политизолятор в Тобольске. За тюрьмой, как водится, следует ссылка, с 1927 по 1930, в Иркутскую область; потом, опять же по заведенному порядку, трехлетнее поселение сначала в Свердловске, затем в Саратове. В 1935 году повторный арест и три года ссылки в Среднюю Азию, в Душанбе. По окончании которой – новый арест, и теперь уже лагерь. Точнее лагеря: Соликамск, Боровичи, Печора, на этот раз на севере. Отсидев положенную десятку, он вышел на свободу, но ненадолго, в 49-м его опять арестовывают и для пущего разнообразия отправляют в Воркуту, а затем ссылают на поселение в Раздольное, до 1954 года.
О том, что кроется за этой вереницей названий и дат, не известно ничего, кроме двух чудом сохранившихся эпизодов.
Незадолго до ареста маленький лысый человечек (хотя наверняка он не всегда был таким) женился на красавице. Ее арестовали одновременно с ним и на допросах сильно били. Она была беременна, случился выкидыш. С мужем им суждено было увидеться лишь однажды, на короткий миг при отправке на этап. В лагере она умерла – или ее убили. Изощренность садизма, которым веет от этой истории, позволяет безошибочно датировать ее концом 30-x годов.
Датировать второй эпизод тоже не трудно: на этот раз дело происходит в 40-х годах. Семена Михайловича арестовали уже в лагере (такие аресты особенно широко практиковались в начале и в конце войны, их целью было гарантировать постоянную численность лагерного населения и, соответственно, бесплатной рабочей силы), скорее всего по доносу – другого зэка, вольнонаемного или кого-то из лагерной обслуги – за неосторожно сказанное слово или из зависти, из чувства мести. Следствие проходило «не отходя от кассы», прямо в лагере. По ходу допросов феноменальная память обвиняемого и его опыт юриста позволили ему обнаружить неувязку в показаниях, зацепку, дающую возможность доказать, что в момент совершения инкриминированного ему «преступления» он находился в другом месте. Это было спасительное алиби! Но он понимал, что скажи он об этом следователю, тому ничего не стоило бы уничтожить неудобную бумажку, сфабриковать новую, и строптивого зэка пустили бы «в расход» – тогда как, если дождаться суда, а потом обжаловать приговор (дело пахло высшей мерой), мог появиться шанс на спасение, поскольку советская юриспруденция представляла собой шизофреническое сочетание предельного произвола с предельным же буквоедством. И он принял решение ждать. Наверное, это стало самым долгим ожиданием за всю его жизнь – и самым мучительным. Потом он предстал перед судом, на котором тоже ничего не сказал и который, как и следовало ожидать, приговорил его к смертной казни; его поместили в камеру смертников – и только тогда, составляя апелляцию, он привел спасительное обстоятельство, позволявшее аннулировать приговор. И приговор аннулировали – что, впрочем, не помешало оставить его в лагере для досиживания десятки. По истечении срока его наконец выпустили. На дворе стоял уже 1954 год, и когда зубастое государство, хорошенько прожевав, выплюнуло наконец свою беззубую жертву, жертва эта как раз достигла пенсионного возраста – пора было уходить на покой.
Многие факты биографии этого человека остаются неизвестными, но немногие известные цифры говорят сами за себя. Начавшееся в 1924 году хождение по мукам Семена Михайловича Любимова продолжалось ровно 30 лет: проглоченный Левиафаном юноша выбрался из чрева чудовища уже стариком. А расстояния! Сумма этапов и пересылок, как правило, железнодорожных, в товарных вагонах, составляет приблизительно 27 тысяч километров – цифра головокружительная, равная двум третям длины экватора. Широка страна моя родная.
После окончания вынужденных странствий по российским просторам дядя Сема поселился в Рязани и больше никуда не ездил. За исключением кратковременных посещений Москвы он провел последующие 30 лет в полной неподвижности, словно сама идея перемещения в пространстве стала ему ненавистна. Ему было позволено жить в Рязани, находившейся за пределами стокилометровой зоны, он снял там комнату и некоторое время спустя женился на хозяйке. Та была вдовой, жила с дочкой и работала в аптеке. Дядя Сема принимал активное участие в воспитании девочки и относился к ней с большой нежностью, но явно не претендовал на роль отца. То же можно сказать и о его отношениях с женой – трудно было увидеть в них настоящую супружескую пару: слишком очевидно было, что они выходцы из разных слоев, слишком мало у них было общего. Он словно продолжал принадлежать другому миру, который, впрочем, давно уже канул в лету. Остались лишь жалкие обломки: несколько чудом уцелевших друзей молодости, а также сохранились вкусы и привычки, которым он не мог следовать в течение трех десятилетий: любовь к литературе, к музыке, к искусству. Жизнь его представлялась вполне благоустроенной даже в последние годы, когда он много болел, и тем не менее духовное одиночество бросалось в глаза: его мир был прежде всего царством книг и ограничивался пределами его комнаты.
Дядя Сема, человек, которого, казалось бы, я хорошо знала, оставался для меня загадкой. Я ни секунды не сомневалась, что из всего моего окружения именно он был самым осведомленным. В какой области? Во всех областях: истории вообще, советской истории, истории моей бабушки, истории ее мужа и их друзей. С его исключительной памятью он наверняка все помнил, ничего не забыл. А ум и склонность к анализу несомненно делали его ценнейшим свидетелем прошлого. Обладатель энциклопедических знаний, блестящий собеседник, который, однако, так ничего мне и не рассказал! Долгое время я думала, что мне просто не повезло, что разница в возрасте делала невозможной откровенность с его стороны. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что и моим родителям он ничего не рассказывал. Разочарование было велико, но поразмыслив, я поняла, что иначе и быть не могло. Мой дед ведь тоже никогда не рассказывал о своей жизни на фронте. Да и другие люди из моего окружения, обходившие молчанием свое чудовищное прошлое, – сколько их было! Почему они молчали? Из осторожности? Потому что не было сил вспоминать? Как бы то ни было, в случае дяди Семы это обстоятельство казалось мне особенно обидным – и, главное, противоречащим всей его натуре, его открытому характеру, его тяге к общению. Но, видимо, давление эпохи оказалось сильнее естественных склонностей, и этот человек, оратор и собеседник милостью Божьей, никогда не затрагивал в разговорах двух самых интересных тем: истории и политики.
И что еще досаднее: он ничего не написал; от него не осталось ни воспоминаний, пусть даже отрывочных, ни дневников, ни заметок. Конечно, и это можно понять: если разговоры на определенные темы представлялись опасными, насколько опаснее было об этом писать! С его тюремно-лагерным прошлым идти на риск явно не стоило. Но существовало еще и другое обстоятельство: этот «ничего не написавший» человек на самом деле только и делал, что писал… письма.
Сидя в Рязани, в своей загроможденной книгами комнате, он вел нескончаемый диалог с членами нашей семьи (каждым в отдельности) и с разбросанными по стране друзьями. Эпистолярные беседы, длившиеся годами и десятилетиями.
Именно ему я обязана умением и привычкой писать письма. Когда это началось? Трудно сказать. Достаточно рано, если судить по моей младшей сестре, которой он стал писать (и настаивать на ответе), как только та научилась грамоте. Переписка начиналась с приписок заглавными буквами в письмах к взрослым членам семьи, за ними следовали «настоящие» письма: коротенькие записки, адресованные уже лично корреспонденту, с его именем на конверте, с красивыми марками, которые так нравятся детям. Первое из сохранившихся писем получено, когда мне было 12 лет, но производит впечатление звена уже хорошо отлаженной регулярной переписки. В этом возрасте я писала письма только во время поездок, например на каникулы, то есть достаточно редко, поскольку все мои друзья и знакомые жили в Москве. Дядя Сема был исключением.
Писал он мне раз или два в месяц, под конец жизни – реже. Внешне все его письма выглядели одинаково: сложенный вдвое лист А4 превращался в четыре небольшие страницы, целиком или частично исписанные. Почерк у него был убористый и крайне неразборчивый, интервалы между строчками минимальными – сказывалась привычка экономить бумагу. С годами разобрать написанное становилось все труднее. По роду деятельности мне иногда приходится иметь дело с эпистолярным наследием писателей, работать с рукописями в архивах, да и в моем собственном их накопилось довольно много, так что есть с чем сравнить. С точки зрения материальной, как артефакты, письма его ничем не примечательны, другое дело – их содержание: перечитывая их по прошествии многих лет, я вдруг вспоминаю начисто забытые события, обстоятельства, переживания собственной жизни, оставившие след в его вопросах и комментариях, словно в слепках, позволяющих воссоздать забытое.
Подобно охоте за книгами, его эпистолярная деятельность носила обдуманный и систематический характер. Он вел журнал переписки, внося пометки в разлинованную тетрадь, где в одну колонку вписывалась дата получения, в другую – имя отправителя, в третью – дата написания ответа.
«Моя настоятельная к тебе просьба – датируй, пожалуйста, свои письма, это значительно облегчит нашу переписку. Мне не надо будет ломать себе голову над тем, как обозначить полученное от тебя письмо, и царивший всегда в моем „кондуите“ порядок будет восстановлен». Это был настоящий воспитательный процесс: мягко, но настойчиво он призывал меня следовать его примеру, объяснял необходимость датировки, позволяющей избежать путаницы, добивался, чтобы в начале каждого письма я указывала, на какое из его посланий я отвечаю. Он не ослаблял усилий из года в год, многие письма начинались с упреков, если речь шла обо мне, или извинений за недостаточно быстрый ответ, если дело касалось его самого[11]:
«Писала ты письмо 8-го, а на конверте штемпель отправления из Москвы 11-го. Значит ли это, что письмо пролежало у тебя в портфеле, кармане или другом месте в ожидании отправки с 8-го по 11-е? Получил я письмо 16-го, т. е. в пути оно находилось достаточно долго. Причин тому может быть несколько, но одна из них та, что ни ты, ни бабушка не можете подчиниться новому почтовому коду. И открытки, и конверты теперь имеют специальное место для написания индексов. <…> Обзаведитесь конвертами установленного образца! Прошу!»
За такого рода введением следовала реакция на мое предыдущее послание, которое нередко содержало и план для последующего ответа: «В своем письме ты ответила на мои вопросы, но ими не исчерпывается мой интерес…» – после чего следовал список тем, которые он желал бы обсудить. Его интересовало все: просмотренные фильмы и театральные постановки, концерты, на которых мне довелось побывать, мои спортивные успехи, воспитание сестренки, «сердечные дела», и даже впечатления о чемпионате мира по хоккею.
В последние годы жизни он пристально следил за моей учебой на филфаке МГУ. Большая часть сохранившейся переписки относится именно к этому периоду. Любопытство Семена не знало границ, его интересовали преподаватели, предметы, программы. Он давал советы: не разбрасываться, не увлекаться обилием предметов и спецкурсов, а придерживаться наиболее важного, найти наименее ортодоксальных профессоров, избегать выходок, которые могут быть расценены как провокация. «Приглядывайся к своим однокурсникам не торопясь, внимательно. Не допускаю, чтобы среди двухсот твоих новых коллег не нашлось думающей молодежи. Не спеши!» – увещевал он меня. «Понимаю, что „все время врать“ – непосильная нагрузка для психики. Если даже не непосильная, а просто трудная нагрузка. Но „такое“ следовало заранее предвидеть, и если ты решила заниматься на филфаке, если не раскаиваешься в этом, то надо, не изменяя себе в существенном, стараться „перебарывать“ себя, не допускать „психологического срыва“. Особенно у звероподобных преподавателей». Он предостерегал от ненужных конфликтов: «Спор хорош, когда из столкновения мнений рождается истина».
Особенно его интриговала моя лингвистическая всеядность («Заниматься одновременно четырьмя языками – не слишком ли много?»), тем более что в его глазах возможность изучения иностранных языков, особенно редких, являлась «большой привилегией», признаком либерализации системы, тогда как для меня, выросшей в более мягком идеологическом климате, речь шла скорее о неотъемлемом праве. В письмах он часто возвращался к этой теме, подробно расспрашивал о моих занятиях, а однажды, случайно попав на радиопередачу о шведском языке, внимательно прослушал ее и пришел к выводу, что он напоминает… Plattdeutsch. Такое наблюдение под силу лишь человеку, хорошо знакомому с Hochdeutsch, однако при мне он никогда даже не упоминал о таком знакомстве. Также мимоходом проскальзывает сообщение о том, что он владел и другими языками:
«…Очень рад твоим успехам и твоему увлечению французским языком. Когда в молодые годы я поверхностно занимался иностранными языками, французский был мне люб больше других. Не берусь, как ты, сравнивать его с английским, но и теперь я иногда с восхищением слушаю передачи на французском языке. Какая легкость, какая музыкальность! Ты, не сомневаюсь, освоишь его на все 100 %, т. е. будешь не только переводить, но и свободно изъясняться по-французски. Благословляю тебя на такой подвиг!»
Мысленно следя за моими занятиями, он словно возвращался в собственную юность, заново переживал свою учебу, хоть и избегал прямого упоминания о ней. Вновь прочитанная 30 лет спустя после его смерти фраза о том, что ему случается слушать передачи по-французски, на которую я тогда, скорее всего, не обратила внимания, напомнила мне, что большинство людей, окончивших гимназию до 1917 года, владели как минимум немецким и французским. Тогда мне этот общеизвестный факт не пришел в голову – сам же дядя Сема никогда об этом впрямую не говорил. Зато он с нескрываемым удовольствием уснащал свои письма крылатыми латинскими словечками – в его окружении я была, пожалуй, единственным человеком, способным их оценить.
Письма его представляли собой письма воспитателя и наставника, но учительский тон в них начисто отсутствовал. Это был разговор на равных, где речь шла не только о моих делах, но и о его собственных. Конечно, в последние годы много места занимали рассуждения о болезни, точнее о процессе старения и об ожидании конца, и меньше о литературных открытиях; тем не менее он до конца оставался внимательным и вдумчивым читателем, и над безукоризненно отточенным стилем его писем время и возраст были не властны.
О себе он говорил исключительно в настоящем времени. Прошлое упоминалось редко, всегда мимоходом, как бы невзначай: «По хорошему завидую тебе, что ты смогла прочесть Шекспира и Байрона в подлиннике. Радость, которой я отчасти по собственной вине, отчасти по причине всяких злых обстоятельств жизни, не испытал и не мог испытать из-за незнания языка…» В другой раз, откликаясь на мои восторги по поводу Грузии, он писал: «Твои тбилисские впечатления мне понятны. Я, правда, никогда не был активным „потребителем“ северной природы, но на севере живал подолгу, и даже в подневольном своем состоянии любил его, восхищался им. Суровая красота тамошних мест мне больше по душе, чем порой фантастическая, но в какой-то мере сладковатая красивость южной природы». По другому поводу он замечает: «У бабушки в этом месяце день рождения. Я помнил этот день и тогда, когда мы чуть больше 20 лет не переписывались с нею…», а потом сразу меняет тему, переходя к обсуждению подходящего книжного подарка. И никаких политических комментариев, за единственным исключением, когда речь зашла о «Бесах»:
«Твои рассуждения заинтересовали меня, чтобы не сказать точнее, понравились мне. Я невольно вспомнил свои студенческие годы, когда в возрасте чуть старше твоего работал в кружке над этой книгой. Тогда, конечно, и в мыслях не было считать ее, говоря твоими словами, „источником“ или „причиной бедствий“. Тогда мы больше рассуждали об исторической ограниченности эпохи, диктовавшей такое искаженное представление о высоком общественном идеале. И хотя „пророк русской революции“, как называли Достоевского, предостерегал об опасности такого представления о будущем, многим правдолюбам казалось невероятным практическое осуществление такого идеала. А получилось не так. И книга стала не „источником“ и не „причиной“, а, в известном смысле, провозвестием грядущего. При этом последнее оказалось намного страшнее книжного варианта…»
Львиная доля его писем была посвящена литературе. Во-первых, практическому аспекту: как раздобыть то или иное произведение. Сам он не только покупал книги, но и брал в библиотеке, занимал у знакомых, обменивал. Был регулярным читателем доброй дюжины журналов, большим охотником до мемуаров, переписок и разного рода эссеистики, а также зарубежной художественной литературы, в ничтожных дозах и с большим опозданием появлявшейся главным образом в периодике. Так в 1973 году он пишет о своем разочаровании от чтения «Группового портрета с дамой» Генриха Бёлля в «Новом мире»: «Я явно осовременился: потерял вкус к объемным романам». Это один из редких случаев почти синхронного чтения, после выхода книги в Германии прошло всего два года, обычно переводы запаздывали на много лет. Дядя Сема жадно набрасывался на получаемую от меня информацию о новых книгах, требовал комментариев и подробностей: «Интересной художественной литературы не появлялось ни на книжных прилавках, ни на полках добрых знакомых. Ты не в курсе, какие книги этого жанра теперь „в моде“? Поделись со мной. Ведь я все-таки провинциал, и это сознание ужасает меня». Эта тема проходит красной нитью через все его письма: «Тут я совсем отстал, и чем дышит век не представляю даже. Расщедрись!» Помню, с каким любопытством он расспрашивал о новых для него именах – Герман Гессе, Трумен Капоте, – как интересовался моим чтением Пруста, признаваясь при этом, что его проза кажется ему слишком сложной. Если в отношении современной литературы он мог испытывать затруднения, то литературу классическую, русскую и иностранную, он знал досконально. Казалось, до своего ареста в 1924 году он успел прочитать буквально все и ничего не забыл за последовавшие десятилетия.
Случайный характер чтения был уделом не только дяди Семы, все мы читали не то, что хотелось, а то, что удавалось достать, – но в его случае ситуация значительно ухудшилась с того момента, когда он больше не мог ни ездить в Москву, ни совершать обходы рязанских книжных магазинов, ни ходить в библиотеку. Отсюда возрастающая настойчивость его просьб о поставках недостающей «духовной пищи»: «в книжные магазины я теперь не хожу и живу только случайными дарами бывших моих покровителей», «…выбор книг для чтения очень ограниченный. В библиотеки не хожу. Читаю, что люди добрые приносят. А приносят часто такое, до чего руки не доходят».
Но это касается лишь самых последних лет его жизни – до того поток литературных впечатлений казался неиссякаемым. Он не давал советов в прямом смысле слова, скорее комментировал прочитанные им самим книги или те, что посылал или собирался послать. «Рад, что мой Овидий пришелся тебе по душе, – пишет он по поводу очередного подарка. – Как ни склерозирована в последние годы моя память, я помню свое обещание подарить тебе Анненского. С небольшим опозданием выполняю его. А ты, дорогая, вспомни о своей книжной задолженности передо мной и пришли данные тебе во временное пользование книги».
В отличие от многих библиофилов он охотно давал читать собственные книги и радовался, когда к нему обращались с такого рода просьбами. Одновременно он вел им строгий учет и при необходимости настойчиво требовал возвращения: «Моя память зафиксировала, что ты увезла от меня четыре книги. Три из них я помню (Рерих, Эразм и „Культура Исландии“), а четвертой никак не вспомню. Откорректируй, пожалуйста, мою плохую память!» Гораздо резче он реагировал на промедления в выполнении просьбы передать ту или иную книгу кому-нибудь из московских друзей: «Есть такие обязательства – я называю их обязательствами чести – которые нельзя нарушать, точнее, надо выполнять при любых обстоятельствах, кроме болезни. В твоем распоряжении было больше месяца! Теперь мой гнев, конечно, остыл».
Если значительная часть его писем, адресованных мне, сохранилась (полученные уроки все-таки не прошли даром!), переписка с другими корреспондентами большей частью пропала. Однако мне довелось читать несколько его посланий, адресованных бабушке и другим близким. Помимо свойственной ему ясности и элегантности стиля, они обладали еще одним общим качеством: их автор никогда не торопился – сказывался, в частности, опыт великолепного шахматиста. Полновластный хозяин своего времени, он тратил его щедро, входя в мельчайшие обстоятельства собеседника, при этом не теряя целостности видения ситуации. Я узнала в них того же благожелательного советчика, которого знала по письмам ко мне, человека, старавшегося принять во внимание все аспекты проблемы, учесть точку зрения адресата, но при этом никогда не подыгрывавшего ему, никогда не жертвовавшего принципами во имя компромисса: «Не берись быть судией, но и не самоустраняйся от своего мнения», – писал он. Старясь по возможности встать на точку зрения собеседника, он оценивал ее в соответствии с собственными твердыми, долгим опытом выработанными взглядами. В каждой фразе чувствуется, что человек размышляет как о том, чтó он читает, так и о том, чтó он пишет. Он расспрашивает, дает советы, ищет решения конфликтов, апеллируя к лучшему в собеседнике, призывая его превзойти самое себя: «Мне бы хотелось, дорогая, чтобы ты по-взрослому отнеслась к случившемуся и не дала семейному разладу разрастись в конфликт, при котором стороны теряют уважение к друг другу», – пишет он по поводу семейной драмы. Литература присутствует в них повсеместно, может быть, в чуть меньшей степени, чем в письмах ко мне, но тем не менее достаточно, чтобы поднять на более высокий уровень даже самые заурядные обстоятельства личной жизни, язык же и стиль остаются литературными, о чем бы ни шла речь.
Вспоминая его посещения, разговоры, советы, подарки, нетрудно понять причину всеобщей любви к нему. Детская интуиция не обманула меня: для всех нас Семен Михайлович/Семка/дядя Сема был полноправным членом семьи, надежной опорой в трудных обстоятельствах. Но лишь перечитав недавно его письма, я поняла, сколь важную роль играла наша семья в его собственной жизни, до какой степени она была ему необходима. «Письменный „товарообмен“ с тобой стал для меня потребностью», – признается он в одном из писем. Эта потребность еще больше возросла после смерти бабушки: «По ее письмам я чувствовал себя как бы членом вашей семьи. Понимаю, что в таком объеме „наследство“ не может быть принято тобой, но в доступных тебе пределах удовлетворяй мою потребность в осведомленности о жизни всех вас. Мама мне вообще никогда почти не писала, папа – занятый человек и небольшой любитель эпистолярного общения, а ты пишешь легко, и для тебя такая обязанность – не очень большая обуза. Согласна?»
«Ближе вашей семьи, роднее вас у меня никого нет…» Переписка с каждым из нас позволила ему приобщиться к жизни, которая могла бы быть его собственной, но которую ему не дали прожить – жизни, оказавшейся конфискованной.
Давид
– А теперь сосредоточься, выслушай внимательно, что я тебе скажу, и постарайся запомнить. Когда приедешь в Европу, перешли всю информацию человеку, адрес которого я тебе дам. Его тоже следует запомнить и ни в коем случае не записывать.
Кивнув в знак согласия, я приготовилась слушать. Мой собеседник прочитал наизусть список имен, дат и географических названий, который привел меня в ужас, несмотря на то что был не так уж велик: как все это запомнить?! Он же спокойно повторил его несколько раз, до тех пор, пока тот не отпечатался у меня в памяти вместе с данными адресата, где-то в Голландии. Оставшись доволен результатом, он добавил:
– Ничего не записывай, пока не пересечешь границу. И постарайся ничего не забыть.
Дело происходило в начале 80-х годов в комнате коммунальной квартиры в центре Москвы. Моего собеседника звали Давид Миронович Бацер; при разговоре присутствовала жена его, Елена Андреевна. Им обоим было тогда уже за восемьдесят. Я ушла от них сильно озабоченная, не столько риском, сопряженным с данным мне поручением, сколько недоверием к собственной памяти. Хорошо ему, бывшему зэку, говорить «выслушай и запомни» – у меня-то не было подобной необходимости тренировать свою память.
Эта престарелая пара досталась мне «в наследство» от бабушки, так же как еще несколько ее друзей, бывших заключенных. Вторым наследником был отец, но в его случае отношения складывались по-другому. Во-первых, он был человеком занятым, во-вторых – и это было даже важнее – с ним они познакомились после освобождения в 50-е годы, когда он был уже взрослым, меня же знали с рождения, я росла у них на глазах.
При жизни бабушки мы виделись нечасто, но когда ее не стало, я взяла себе за правило время от времени звонить им и иногда забегать в гости – узнать, как дела. Они радовались этим визитам, поили чаем с печеньем. Говорила, как правило, я: рассказывала о семейных новостях, об университетских делах, о книжных новинках, о концертах-театрах. Они слушали с большим интересом – похоже, в их ближайшем окружении молодежи совсем не было, и все, что я говорила, занимало их в высшей степени. Эти визиты поощрялись нашим общим рязанским знакомым, дядей Семой: «Радует меня, что у тебя налаживаются отношения с семейством Д. М. Хорошие люди! Таких не часто встретишь в наше время! Я сам, можно сказать, считаю себя „на вылете“ и буду очень рад, если это семейство заменит папе и тебе меня. В советах старших вы еще будете нуждаться, не очень долго, но будете».
Вспоминается новогодний визит к ним 1978 года. Зима была рекордно холодная, транспорт не работал, за исключением метро, канализационные трубы полопались, целые кварталы остались без отопления, город был парализован. Протанцевав всю ночь в гостях у знакомых, я решила с утра, прежде чем вернуться домой, заехать к Бацерам узнать, как дела. Застала их на кухне: съежившись, они сидели на стульях у плиты с четырьмя зажженными конфорками, единственным источником тепла – отопление в доме вышло из строя…
В те времена мне было мало что известно об их прошлом, за исключением того, что Давид Миронович, подобно бабушке, сидел, что его специальностью был музыкальный фольклор, по которому он составил монументальную библиографию, и что жена его до выхода на пенсию работала в Ленинской библиотеке. Кроме того, ходили слухи, что он был связан с диссидентским движением.
Все остальное я узнала значительно позже, и надо признаться, это не стоило мне больших усилий – пары ключевых слов в поисковике интернета оказалось достаточно:
«Давид Миронович Бацер (1905–1986). Экономист, историк, библиограф. С 1921 член кружка молодежи при Московской группе РСДРП. В 1922 студент социально-экономического факультета Пречистенского практического института. Впервые арестован в 1922, затем 28.8.1923 в Москве. В октябре 1923 сослан на 3 года в Печорский лагерь, где арестован в августе 1924 и на 2 года переведен в СЛОН. В 1925 заключен в Верхнеуральский политизолятор. В 1926 отправлен в ссылку на 3 года в Ашхабад, в 1929 прибыл с „минусом“ в Ташкент, где в июне 1930 был арестован, приговорен к 3 годам, заключен в Верхнеуральский, а затем в Суздальский политизолятор. В 1931 при пересмотре дела заключение заменено ссылкой на 3 года (отбывал в Джизаке). В 1934–35 жил в Москве, в 1935 выслан, жил в Калинине. Арестован в 1937, заключен в ИТЛ до 1948, затем выслан на поселение в Мотыгино. В 1954 освобожден. После освобождения жил в Москве».
За этими строчками кроется еще одна чудовищная история – история человека, с которым государство несколько десятилетий подряд играло в кошки-мышки, травило, не оставляя ни передышки, ни надежды. Допустим, что адвокат Семен Любимов в какой-то момент был действительно опасным противником, врагом режима – но чем мог так насолить властям мальчишка-первокурсник, студент экономического факультета, чтобы таскать его по тюрьмам и лагерям в течение 30 лет? Можно ли вообще говорить в его случае о политическом противостоянии режиму? Если и можно, то лишь в отношении нескольких первых лет – все остальные годы речь шла об элементарной борьбе за выживание. Существуют три скупых свидетельства о том, на что было похоже это выживание и что ему предшествовало. Первое – прелестный фрагмент воспоминаний, начатых незадолго до смерти и прерванных буквально посреди фразы, в них он успел лишь описать обстоятельства своего появления на свет. Второй текст, тоже принадлежащий его перу, посвящен транспортировке зэков из Соловецкого лагеря в Верхнеуральск в июне 1925 года и их борьбе за сохранение статуса политзаключенных. Третий эпизод, рассказанный Еленой Андреевной уже после смерти мужа, относится к периоду 1927–1930 годов. Это история любви молодого социал-демократа, сосланного в Центральную Азию, и пианистки, студентки Московской консерватории, приехавшей навестить ссыльного родственника. Они знакомятся, влюбляются, женятся. По окончании летних каникул она возвращается в Москву продолжать учебу, на следующее лето снова едет к нему, потом возвращается домой… В 1930 году, добравшись до места, она узнает, что накануне Давида арестовали; ей удается увидеть его уже за решеткой, перед отправкой на этап: его везут в Верхнеуральский политизолятор. «Мы с Давидом были связаны брачными узами пятьдесят восемь лет. Первые двадцать пять лет его участью было изгнание – тюрьма, ссылка, политизолятор… Я же училась, а потом и служила в Москве. Встречи и расставания. Встречи были краткими, иногда это были часы или даже минуты… Но по прошествии четверти века Давид вернулся, и мы прожили – уже дома – еще тридцать лет и три года», – вспоминает она. Судьба, в конечном счете, довольно обычная, если не считать того, что, освободившись, этот человек нашел в себе силы, будучи уже пятидесятилетним, не только начать все заново, но и принять участие в диссидентском движении. По словам жены, его последние слова были: «Я прожил счастливую жизнь».
Еще одно обстоятельство привлекло меня в этой найденной в интернете справке: разительное сходство с биографией моей бабушки, в которой не хватало даже самых элементарных дат, а то немногое, что было известно, являлось результатом вычислений и трудно проверяемых гипотез. Судя по географическим названиям, которые мелькали иногда в ее рассказах, ее перемещения были те же, что у Давида Бацера, – что, впрочем, совершенно естественно: всей этой молодежи (в момент первого ареста Давиду было 17, бабушке только-только исполнилось 20) инкриминировались не индивидуальные преступления, а коллективная «борьба с советской властью». Их арестовывали оптом, судили оптом, они проходили по одним и тем же статьям (точнее, по одной и той же статье, 58-й, с многочисленными ее разновидностями), им выносили сходные приговоры, их осуждали на сходные сроки и, дабы облегчить работу правоохранительных органов, оптом же отправляли к месту заключения в пресловутых товарных вагонах. Давид Бацер и бабушка, судя по всему, познакомились либо в Москве, либо на Соловках, и впоследствии оказывались, вместе с другими социал-демократами, то в Верхнеуральске, то в Таджикистане, то в Узбекистане. Проведенные вместе годы заложили фундамент дружбы на последующие десятилетия, когда им уже не суждено было видеться.
В начале 30-х годов их пути расходятся: бабушка после суда получает несколько лет ссылки, что обеспечивает ей относительную передышку, а у Давида тюрьмы и лагеря сменяют друг друга. Вновь встретиться им привелось в 1955 году после бабушкиного возвращения из Якутии, где она отбывала последнюю ссылку. Он тогда уже жил с женой в Москве. Они не виделись четверть века. И конечно, все это время не переписывались: право переписки для заключенных, как известно, строго регламентировалось (в лучшем случае – раз в месяц, лишь самым близким родственникам, а зачастую и вообще ничего: лишение переписки являлось распространенной санкцией за «нарушение режима»). Что, впрочем, не означает, что они вообще не имели сведений друг о друге: частые этапы способствовали обмену информацией, и пересыльные тюрьмы были для заключенных настоящими информационными агентствами, позволявшими узнавать если не все обо всех, то по крайней мере многое о многом, в том числе и о происходящем на воле.
Мне ничего не известно о том, как протекала их первая встреча. Состоялась ли она в Москве? Когда именно? (Почему-то хочется думать, что это случилось весной и стояла хорошая погода.) Встретились ли они где-то в городе или же бабушка, которая тогда не имела права жить в столице, пришла к ним в гости? Узнали ли они друг друга после 25-летней разлуки? Расплакались ли при виде друг друга? Каковы были первые произнесенные ими слова? Все это мне знать не дано. Известно лишь, что, вновь обретя друг друга, они сохранили привязанность до конца и что частица этой привязанности после смерти бабушки была перенесена на меня, ее внучку.
И вот эта внучка, жившая во Франции, приехала в Москву и зашла их навестить.
Уехав из СССР «на постоянное место жительства» в Европу, я не испытывала ни тени ностальгии, ни малейшего желания посетить родные пенаты. Но иного выхода не было, я скучала по близким, они скучали по мне, и, чтобы повидать их, я решилась приехать на пару недель, другой возможности не существовало. Это была моя первая поездка в страну в «новом качестве».
Как и следовало ожидать, радость от встречи с родными была омрачена неизбежным столкновением с советскими порядками, с действительностью, которая, естественно, не изменилась ни на йоту и от которой я уже порядком отвыкла, так что впечатление оказалось еще более удручающим. Тот же официальный маразм, та же серость, та же разлитая в воздухе враждебность, та же подозрительность. Вдобавок буквально через пару дней после приезда, в квартире родителей, у которых я остановилась, раздался телефонный звонок, еще более усугубивший ощущение паранойи:
– С вами говорят из Комитета государственной безопасности. Мы хотели бы пригласить вас для беседы.
– На какую тему?
– Вам сообщат.
Я совершенно растерялась. КГБ! Этого еще не хватало. Самой мне до тех пор никогда не приходилось иметь с ними дела, но вполне возможно, что они-то имели дело со мной: следили, прослушивали телефон, с них станется… Что было делать? О том, чтобы идти на Лубянку, нельзя было и думать, я бы там умерла от страха – но и отказаться было невозможно: речь шла явно не о приглашении, а о приказе.
Я сказала, что приехала в Москву с новорожденным сыном, оставить которого не с кем, и поэтому прийти к ним никак не могу. Ложь во спасение, думалось мне, но долго радоваться не пришлось: голос в трубке заявил, что в таком случае их сотрудник готов посетить меня на дому. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Условились о времени. Адреса давать не понадобилось, они и так его знали.
В условленный день и час в дверь позвонили; на пороге стоял чин КГБ, молодой человек в штатском, вежливый, с любезными манерами и явно никуда не спешивший. Наш разговор показался мне бесконечным. Он задавал вопросы, я отвечала, силясь догадаться, что ему от меня надо. Постепенно я начала понимать: я интересовала его как потенциальный источник информации о настроениях среди французской интеллигенции. Его вопросы постоянно вертелись вокруг моих знакомств, занятий, поездок, встреч с людьми. Поняв это, я «окопалась» и стала держать оборону, отвечая на все вопросы общими фразами типа: «Никуда не хожу, нигде не бываю, ни с кем не встречаюсь… Мои интересы крайне узки, носят чисто академический характер… Да-да, скандинавское средневековье, с 10-го по 12-й век… Вот именно, метрические аспекты древнеисландского стихосложения… Помимо этого, ни за чем не слежу, телевизор не смотрю, газет не читаю…» Моего собеседника все это ничуть не обескураживало, и он мягко, но настойчиво продолжал задавать свои вопросы. В конце концов я не выдержала:
– Простите, у меня малыш проголодался, пора кормить.
– Конечно-конечно, давайте я его подержу, пока вы греете соску, – галантно предложил он, беря младенца на руки.
Спустя какое-то время он все-таки ушел, и больше я о нем не слышала; скорее всего, в ГБ решили, что я не представляю достаточного интереса, и дело закрыли.
(Эпизод этот, кстати, получил забавное продолжение вскоре после моего возвращения во Францию: мной вдруг заинтересовалась французская контрразведка и тоже вызвала на собеседование. Их я боялась меньше и потому согласилась прийти к ним в контору. Там мне пришлось ответить на множество вопросов касательно моей биографии и круга моего общения, весьма похожих на те, что незадолго до этого мне задавали в Москве, после чего принимавший меня полковник поблагодарил за проявленное терпение и призвал немедленно оповестить их в случае, если русские агенты попытаются установить со мной контакт на территории Франции. «А вы сможете меня защитить?» – наивно поинтересовалась я. Полковник задумался, потом покачал головой: «Боюсь, что нет». О них я тоже больше никогда не слышала.)
Бесспорно, вся эта клоунада с гэбэшным офицером, нежно баюкающим крошечного французского подданного, пока его мать разогревает на кухне молочную смесь, не имела ничего общего с настоящими тюремными допросами, угрозами, избиением, голодом и холодом сибирских лагерей. Времена давно уже настали иные, климат помягчел – но если задуматься, так ли уж изменилась суть? Не был ли этот эпизод очередной псевдоморфозой той же системы, того же всемогущего, все себе позволяющего государства, суть которого оставалась неизменной и основой которого служил страх?
Просьба Давида Бацера передать на Запад информацию о судьбе группы политзаключенных вызвала у меня не страх, а тревогу: смогу ли я запомнить и не перепутать все эти даты и имена? В отличие от бывших зэков меня никогда не лишали книг и бумаги на долгие месяцы, принуждая, хочешь – не хочешь, развивать мнемонические способности. Но мой убеленный сединами собеседник не мог представить себе, что нормальная молодая женщина не в состоянии быстро запомнить со слуха сравнительно небольшую информацию – в его среде это считалось детской забавой.
Гордая его доверием, обрадованная возможностью принести хоть какую-то пользу, я, не колеблясь, взялась исполнить поручение, молясь, чтобы память меня не подвела. Вернувшись во Францию, немедленно записала все, что следовало, и отправила по адресу, в Международный институт социальной истории в Амстердаме (МИСИ). Что касается собственно социальной истории, внесенная мною лепта особой ценности иметь не могла: и без меня эти сведения рано или поздно туда бы поступили по каким-нибудь иным каналам; для меня же ее значение оказалось огромно: ведущая в прошлое, казалось бы, наглухо закрытая дверь вдруг неожиданно приоткрылась…
Борис
Спустя некоторое время пришел ответ. Его автор интересовался, кто я такая, откуда знаю Т. Тилля (псевдоним Бацера) и знакома ли с кемнибудь еще из бывших заключенных. Я ответила, что у меня мало знакомых среди людей этого поколения, но что моя собственная бабушка, которую звали так-то и так-то, провела немало лет за решеткой. Мой ответ явно произвел эффект разорвавшейся бомбы:
«…Вы вряд ли представляете, какое впечатление произвело на меня это имя. Я знал ее мать, ее отца, брата и сестру, и даже припоминаю ее бабушку. Она была гимназисткой, когда мы впервые встретились. Она принадлежала к небольшой группе – нас было 8 юношей и девушек – бесконечно близких друзей, живших, как одна семья, начиная с 1918 г. Последний раз я видел Розу на Соловках в Савватиевском скиту поздней осенью 1924 г., когда меня отправляли на материк в Кемский к[онц]л[агерь] досиживать мой срок, а она оставалась на Соловках…»
Задумавшись над этими строчками, я попыталась представить себе сцену: нагруженный арестантами пароход (очевидно, последний в году: осенью навигация прекращалась, и Соловки оказывались отрезанными от мира на добрые полгода) отходит от пристани и медленно растворяется в тумане. Оставшиеся на берегу заключенные провожают его взглядом: там на палубе друзья, родные и близкие, которых им, может быть, никогда больше не суждено увидеть. Среди провожающих – двадцатитрехлетняя молодая женщина, моя бабушка.
Савватьевский скит, входивший в СЛОН, как известно, занимает особое место в истории ГУЛАГа. Вот одно из немногих сохранившихся свидетельств о самых первых годах его существования, которым мы обязаны побывавшему там С. Мельгунову: «Савватьевский скит, где заключены социалисты, находится в глубине острова, он занимает десятину земли и кусочек озера и окружен колючей изгородью. Там, в доме, рассчитанном человек на 70, живет в настоящее время 200 человек социалистов разных оттенков и анархистов. В пределах этого загона им предоставлена полная свобода: они могут голодать, болеть, сходить с ума и умирать совершенно беспрепятственно, без малейшей попытки администрации вмешаться в их внутренние дела». Со временем количество свидетельств лавинообразно нарастает, чем дальше, тем страшнее. Самое яркое описание соловецкого ада, пожалуй, в «Архипелаге» Солженицына и в «Погружении во тьму» Волкова. 19 декабря 1923 года скит становится сценой массового убийства заключенных охраной, ставшего одной их первых ласточек – предвестниц красного террора по отношению к политическим противникам левого толка[12]. Оно фактически положило конец статусу политзаключенных, который поначалу признавался за представителями левых партий и в частности включал самоуправление, даже если в реальности оно означало главным образом право «сходить с ума и умирать совершенно беспрепятственно». Выходит, бабушка была свидетельницей этой бойни. Год спустя она смотрела на отплывающий пароход, увозивший неведомо куда явно очень близкого ей человека.
«…Потом, уже за границей, я имел от нее несколько писем, а сравнительно недавно мне прислали из России снимок большой группы ссыльных, среди которых я узнал Розу. У меня имеются ее карточки начала двадцатых годов. Кроме меня, никого не осталось на свете, кто был в те далекие времена тесно связан с ней. Я был моложе их всех. Роза старше меня на год. Вы поймете без лишних слов, как мне хочется узнать все, что связано с Вашей бабушкой».
Кто был этот человек? Имя отправителя на конверте – проф. Борис Сапир – мне ничего не говорило, бабушка никогда не произносила его, по крайней мере в моем присутствии. Сегодня достаточно ввести пару ключевых слов в интернетовский поиск, чтобы получить нужные сведения, но даже в те годы, при отсутствии интернета, больших усилий не требовалось: научный сотрудник амстердамского МИСИ не мог не оставить следов в печатной сфере. Но я не успела даже начать поиски: не дожидаясь моего ответа, незнакомец прислал новое письмо:
«Я был и продолжаю оставаться ошеломленным, что мне довелось встретиться с человеком, связанным родственными узами с Розой. <…>. Быть может, Вас покоробил несколько экзальтированный тон моего письма. Встреча с внучкой Розы показалась мне каким-то чудом. Так или иначе, если это только возможно, напишите мне…»
Разумеется, я немедленно написала, стараясь по мере возможности ответить на вопросы, которыми были полны его письма, порой повторяя друг друга – так велико было его желание поскорее узнать обо всем до мельчайших подробностей. Он же в ответ рассказал мне о своей жизни. Бабушкин земляк, уроженец Лодзи, Борис Сапир тоже оказался в Москве в конце 1914 года. В 1917-м увлекся политикой, стал одним из основателей социал-демократической организации молодежи, членом партии меньшевиков. В отличие от других моих знакомых, бывших скорее жертвами, нежели участниками истории, он до конца своих дней остался активным, если не деятелем, то наблюдателем и комментатором политических событий.
«В 1925 г. окончился мой срок и, в Кемском к[онц]л[агере], я получил новый приговор, опять в административном порядке – три года ссылки в Сибирь. Прибыв по месту назначения в начале лета 1925 г., я стал готовиться к побегу и осенью бежал. В Москве я разыскал нелегальное Центральное бюро партии (меньшевиков. – Е.Б.) и, по поручению последнего, в день нового (1926) года с помощью контрабандистов перешел русско-латвийскую границу. Из Риги я перебрался в Берлин, местопребывание нашего партийного центра, где издавался „Социалистический вестник“. В Германии я оставался до начала 1932 г. Приход Гитлера к власти заставил меня переехать в Париж. К концу 1935 г. я получил приглашение заведовать русским кабинетом в возникшем тогда Институте (МИСИ. – Е.Б.). Пребывание в Амстердаме закончилось немецкой оккупацией. В ноябре 1941 г. я бежал из оккупированной Голландии и, побывав в оккупированных Бельгии и Франции, в т. н. Франс Либр., и на Кубе, очутился в конце концов в 1944 г. в Нью-Йорке, где я оставался до 1967 г. С февраля 1967 г. я опять в Голландии и опять связан с тем же Институтом. Я отдаю себе отчет, что мой рассказ – только хронологическая канва. Но вышивать на ней узоры, т. е. писать свою автобиографию в письме, да и вообще, очень не просто…»
Он не счел нужным упомянуть, что после нескольких лет заключения и скитаний снова пошел учиться, на юридический факультет гейдельбергского университета, и защитил диссертацию о концепции права у Достоевского и Толстого. Впоследствии его политическая борьба приняла форму научных исследований и публицистики, в частности издания «Социалистического вестника», печатного органа меньшевистской эмиграции. Летописец меньшевистского движения, он стал хранителем памяти о жертвах советского строя, социалистах, подвергавшихся гонениям внутри страны.
Между нами установилась регулярная переписка. Иногда к его письмам, написанным на безупречном, чуть старомодном русском языке, напечатанные на папиросной бумаге, что позволяло предположить наличие копий, прилагалась приписка по-английски женским почерком – его жены-голландки.
Ни разу, ни в одном из писем Борис Сапир не говорит прямо, что был влюблен в бабушку, ни тем более что она отвечала ему взаимностью, но живость его реакции и общий тон писем свидетельствуют об этом несомненно. Позже я получила подтверждение этой гипотезы из других источников, но нужны ли в данном случае дополнительные доказательства? «У меня имеются ее карточки начала двадцатых годов», – пишет он в начале 80-х. Две фотографии, которые ему удалось сохранить в течение шести десятилетий, несмотря на аресты, обыски, этапы, нелегальный переход нескольких границ, – снимки, с которыми он не расставался и во время войны, которые увез с собой на другой континент и четверть века спустя вновь привез в Европу. Вскоре его коллекция пополнилась: «…я должен был проявить смелость и попросить Вас прислать мне Ваш фотографический снимок. Надеюсь, что у Вас имеются лишние карточки, с которыми Вам нетрудно расстаться. Ежели я ошибаюсь, игнорируйте мою просьбу». «Лишние карточки» у меня, естественно, имелись и были тут же ему отправлены. Реакция была мгновенной:
«Большое, большое спасибо за присылку Вашего фотографического снимка. Мне показалось, что я уловил в Вашем лице черты, напоминающие Р[озу]. Таково же было впечатление моей жены. Так или иначе, благодаря снимку, Вы стали мне еще ближе. <…> Надеюсь, что Вы не рассердитесь, если я позволю себе задать Вам вопросы, касающиеся Вас самих. Делаю это не из пустого любопытства. Мне хочется знать Вас ближе и тем самым как бы приблизиться к дорогому для меня образу…»
Его любопытство по поводу обстоятельств жизни бабушки и других членов семьи, по поводу моей жизни, занятий, интересов и планов на будущее не знало границ. Почти полвека он не имел сведений о подруге своей юности. Покидая СССР нелегально, он понимал, что уже никогда ее не увидит, отдавал себе отчет и в том, что ее собственные шансы выжить были невелики. И что, даже если предположить, что оба останутся в живых, он все равно не сможет ни написать ей, ни дать о себе знать иным способом, не подвергая ее опасности: он был не просто эмигрантом, а открытым противником режима, членом партии меньшевиков, самой организованной, объединявшей самых непримиримых врагов советской власти партии.
И вот после стольких лет у него наконец появилась возможность что-то узнать, этим желанием проникнуты все его письма. Его любопытство не ограничивалось узко семейными рамками, а носило гораздо более общий характер: помимо того что я была чудом нашедшейся внучкой некогда любимой им женщины, я родилась и выросла в стране, доступ в которую был ему закрыт, обладала неведомым ему жизненным опытом и знанием вещей, о которых он сам мог узнавать лишь из газет и книг. Те немногие советские люди, которым было знакомо его имя, которые знали, чем он занимается, и разделяли его взгляды, если и оказывались на Западе, как туристы или по работе, ни за что не отважились бы с ним встретиться, это было слишком опасно. Для обладателя советского паспорта переступить порог Института социальной истории было все равно, что заглянуть на огонек в ЦРУ.
К большому своему сожалению, я не могла по-настоящему удовлетворить его любопытство насчет бабушки. В те времена мне было известно еще меньше, чем сейчас, точнее почти ничего, не хватало самых элементарных дат и фактов, за исключением тех лет, что она прожила с нами. Проще было попытаться заполнить пробелы в его знаниях о жизни в Советском Союзе. Его собственные письма производили странное впечатление. С одной стороны, он был отлично осведомлен обо всем, что происходило: ведь СССР являлся объектом его профессиональной деятельности, он читал многочисленные научные труды, следил за периодикой; имея доступ ко всей накопленной на Западе информации, он располагал достаточно точной и подробной картиной происходящего, даже более точной, чем та, что была в распоряжении советских граждан. С другой стороны, покинув страну более 60 лет назад, Борис Сапир не мог опираться ни на какой личный опыт. Его рассуждения были безупречны с точки зрения логики, его аргументы неоспоримы, и тем не менее возникало ощущение, что им не хватает чего-то самого главного: его СССР оставался абстрактной, умозрительной конструкцией, своего рода рентгеновским снимком, на котором был ясно различим скелет, вплоть до мельчайших косточек и суставов, но полностью отсутствовала плоть, так что невозможно было представить себе конкретный облик человека, с которого сделан снимок: оттенок кожи, цвет волос…
Сам он не заблуждался на этот счет: «За долгие годы эмиграции я потерял всякое представление о трудностях повседневной жизни». Отсюда его любопытство и радость от получаемых ответов: «Вы всякий раз поясняете мне тот или иной аспект жизни в России, от которой я совершенно оторвался и которую никак не усвоить на основании сведений, почерпнутых из газет». «Нелегко представить себе, что происходит в России» – эта фраза становится лейтмотивом всех его писем. «О структуре средних школ я не был осведомлен. В прежних гимназиях было 8 классов, а теперь, видимо, только шесть. Преподается ли латынь, и каким иностранным языкам обучают учащихся?» Читая подобные замечания, трудно было удержаться от улыбки – латынь! «Какая такая подготовка требуется для поступления на медицинский факультет в Москве? Разве успешное окончание средней школы (гимназии) недостаточно? Требуется вступительный экзамен, а если да, то по каким предметам? Идет ли речь о том, что медицинские факультеты в Советской России не располагают достаточным количеством мест для студентов? <…> Как объяснить преобладание женщин на врачебном поприще и такую низкую оценку их труда? <…> Считается ли московский университет более престижным, чем, скажем, петербургский?» В этих письмах для меня все дышало экзотикой – даже слово «петербургский», дело ведь происходило задолго до переименования города, который в те времена для всех обитателей СССР был исключительно Ленинградом. И даже слово «Россия» вне сочетания «царская Россия» звучало непривычно.
«Я ничего не знал о существовании „внутренних виз“. Объясните мне, пожалуйста, где такие визы получают и кто их получает. Я думал, что всякий гражданин Советской России может передвигаться внутри страны куда ему угодно», – писал он по поводу внутренних паспортов, так до конца и не поняв, о чем собственно шла речь. «Я плохо понимаю, что Вы пишете. <…> Разве нужно становиться в очередь, чтобы получить билет на проезд во Францию? А если аэропланы так переполнены, отчего не сесть на поезд? Ведь от Москвы до Парижа не так уж далеко. За два дня можно добраться». Для любого человека, пожившего в Советском Союзе, не только эти «аэропланы», но и сами вопросы казались порождением иного мира, иной эпохи. Они свидетельствовали о некоем фундаментальном изъяне в понимании советской действительности. И если этим изъяном страдали такие, как он, прекрасно информированные люди, чего же можно было ожидать от всех остальных?
Круг его чтения был типичным для всего его поколения. «О Бродском я, к сожалению, мало знаю. Я только сравнительно недавно усвоил Мандельштама. Мои поэты – Пушкин, Тютчев, Баратынский и отчасти Блок». «Сейчас я освежаю в памяти свои познания по древней истории – Рим и Византия – и пополняю прорехи в этой области моих знаний»; «Моя беллетристика в настоящее время – русские классики, в частности Достоевский, которого я перечитываю. С Пушкиным я расстался на время и собираюсь в скором времени перейти к Толстому, но, может быть, до того возьмусь за прозу Мандельштама, которую давно не перечитывал»; «Последнее время я стараюсь освежить и пополнить свои познания в области средневековой и древней истории, а, так сказать, для души перечитываю русских классиков. Благо они у меня имеются. Перечитал все тома Достоевского и взялся за Толстого. С удовольствием освежил в памяти его ранние произведения – „Севастополь“, „Казаки“ и др. и теперь наслаждаюсь „Войной и миром“. Да, до того сидел за Гоголем. К сожалению, мой Лесков не полон и в Чехове и Тургеневе недостает нескольких томов…»
Временами он напоминал мне Арчибальда Муна, персонажа набоковского «Подвига», оксфордского профессора, влюбленного в Россию, которая была в его глазах некой «прекрасной амфорой», завершенной и неповторимой, которую можно «взять и поставить под стекло». По его мнению, «печной горшок», который теперь обжигался в России, ничего общего с ней не имел: «Гражданская война представлялась ему нелепой: одни бьются за призрак прошлого, другие за призрак будущего, – меж тем, как Россию потихоньку украл Арчибальд Мун и запер у себя в кабинете». Конечно, я понимаю, что это сравнение несправедливо. Пусть даже представления старого человека, болезнью обреченного на затворническую жизнь в деревне под Амстердамом, среди книг домашней библиотеки, были сформированы реальностью, которая осталась в далеком прошлом, мысли и заботы его касались в первую очередь настоящего. Значительная часть нашей переписки была посвящена ситуации в России, попыткам проанализировать ее, а позднее – все более очевидным изменениям, которые там происходили: в СССР началась перестройка.
По части исторического анализа наши мнения полностью расходились. Он оставался верен марксистским идеалам своей юности, своим учителям, лидерам меньшевистского движения, то есть по-прежнему признавал лишь левое крыло политического спектра. Даже такой противник режима, как Солженицын, не находил у него полного одобрения и казался ему «слишком реакционным». Он не упускал случая подчеркнуть гибельную роль Ленина, видя в нем корень российских несчастий ХХ века, – я же, разделяя точку зрения Солженицына, для которого любая идеология сама по себе зло, не могла отказаться от мысли, что, приди к власти столь почитаемые им Мартов, Богданов или Дан, результаты были бы не менее плачевными.
Мы не полемизировали. Я ограничивалась тем, что пересказывала прочитанные книги, с улыбкой читала его комментарии и старалась не высказываться по поводу его анализов того или иного явления, основанных на посылках, которые в моих глазах не имели ничего общего с реальностью. Исторический и диалектический материализмы, которыми меня закормили во время учебы в МГУ, начисто отбили вкус ко всему, что даже отдаленно напоминало марксистский подход к действительности.
С наступлением перестройки ситуация изменилась. Поначалу он отнесся к ней настороженно, считая, что речь идет о косметическом ремонте, убежденный, что Горбачев никогда не пойдет на реформы, способные повлечь за собой реальное изменение системы и поставить под угрозу господство коммунистической партии. Несмотря на явные признаки либерализации, он продолжал соблюдать строгие правила конспирации при обмене информацией с живущими в стране корреспондентами, чтобы как-нибудь не повредить им. Отчасти, по-видимому, считая, что излишняя осторожность никогда не повредит, отчасти же, мне кажется, потому, что в отличие от людей, обладавших советским опытом, он был начисто лишен чутья, позволявшего инстинктивно оценить степень риска, «нутром» почувствовать, что можно и чего нельзя:
«Я с удовольствием и с пользой прочитал Вашу интересную статью [13] <…> и теперь я себе более реально, чем прежде, представляю существующие в России кооперативы. Но как Вы решились поместить эту статью в столь „одиозном“ журнале да еще под своим собственным именем? Полагаете ли Вы, что такой шаг никак не отразится на Ваших поездках в Москву или Вы отказываетесь от этих посещений?»
Мало-помалу он стал опасаться меньше и даже осмеливался посылать почтой письма людям по ту сторону железного занавеса. Масштаб происходивших в стране изменений подталкивал его к переоценке ситуации, и наконец настал день, когда прошлое, его собственное прошлое, до сих пор замалчиваемое и оболганное, вдруг выплыло из забвения, заново материализовалось и стало частью настоящего:
«Прилагаю копию статьи из „Литературной России“, посвященную Соловецкому концлагерю, в котором, как Вы знаете, провела три года Ваша бабушка. Если Вы справитесь в „Гулаге“ Солженицына, Вы найдете чуть ли не теми самыми словами описание режима Соловецкого лагеря. И это в советской печати. Глазам не верится…»
Постепенно, несмотря на убеждение, что «режим, основанный Лениным», по существу не изменился, он начинает вносить коррективы: «Выпали лишь какие-то пружины, что, в конечном счете, не может не ударить по основам этого режима. Я бы сказал, что мы переживаем начало конца». Со временем эта мысль все более крепнет: «Процесс этот длинный, и мне, наверное, не дано увидеть его завершение. Но самый процесс несомненен. Существенным его элементом является, по-моему, утеря правящей верхушкой всякого подобия идеологии. Ничего не осталось, во что эти люди могли бы верить. Ведь они утеряли даже свою собственную историю. Даже наиболее циничные из них знают, что все слышанные ими или прочитанные рассказы о прошлом – ложь. Остается лишь цепляться за собственные привилегии. На этом далеко не уедешь. Большевизм или коммунизм, как мировое явление, сходит на нет. Что придет на смену у нас в России, известно одному Господу Богу. Не решаюсь гадать».
1989 год подходил к концу. В ночь с 9 на 10 ноября пала Берлинская стена, и отныне уже нельзя было сомневаться в необратимости процесса. Однако Советский Союз, политический строй, против которого старый меньшевик боролся всю свою жизнь, продолжал существовать, и его взгляд был по-прежнему прикован к этой стране, все остальное имело лишь второстепенное значение.
«Меня занимает вопрос, можем ли мы рассчитывать на эволюцию большевистского режима в направлении демократии. Мы, меньшевики, еще в самом начале встали на точку зрения эволюции и отвергали вооруженное свержение правительства Ленина. <…> Я усомнился в ней по мере вырождения ленинизма в тоталитарную систему. Но сейчас, наблюдая процессы, совершающиеся в Восточной Европе, включая Советскую Россию, я начинаю допускать возможность эволюции. Правда, это затяжная история. Многое зависит от того, возникнет ли в России народное движение, стремящееся к демократии. Пока что его еще нет, но может быть оно вырастет на дрожжах успехов в Восточной Германии, Венгрии и Чехо-Словакии. <…> Объединение Германии, по моему, неизбежно. Без коммунизма ГДР теряет raison d’être».
Это письмо датировано 5 декабря 1989 года. Несколько дней спустя я получила известие о смерти Бориса Сапира: он умер 11 декабря. Открытка в траурной рамке, извещавшая об утрате на двух языках, голландском и английском, содержала фразу: «We are deeply grateful that he lived long enough to witness the onset of the process of the disintegration of Communism in Eastern Europe»[14]. На следующий день пришло письмо от его жены: «Boris’ letter to you of the 5th has been the last one he wrote. <…> I want you to know that he was always very happy with your letters. Finding the granddaughter of Rose has meant an awful lot to him and he used to tell people about how this came about with great pleasure»[15].
Советский Союз прекратил свое существование два года спустя.
* * *
Всю свою жизнь, за исключением детства, моя бабушка была бедна как церковная мышь. За годы тюрем и ссылок, добровольных и вынужденных переездов с места на место она не смогла обзавестись никаким имуществом, довольствуясь носильными вещами и чемоданом или мешком с самым необходимым. По возвращении из якутской ссылки ей было 54 года, и, как всем бывшим политзаключенным, пенсия ей полагалась мизерная. Она подрабатывала поделками, разного рода игрушками и безделушками, но жили они с мужем, конечно, главным образом благодаря финансовой поддержке отца. После смерти деда она переехала жить к нам, и положение улучшилось, но в ее привычках мало что изменилось: многолетний вынужденный аскетизм стал второй натурой. Она демонстративно давала понять, что презирает любое излишество, кокетство, попытки нравиться. Собственный ее гардероб сводился к минимуму, и она категорически противилась любым покупкам, за исключением самого необходимого. Меряя расходы своей крошечной пенсией, она не хотела, чтобы родители «тратили на нее деньги». Поймав осуждающий взгляд, которым она удостаивала мои подростковые старания следовать моде, я ясно читала в нем: «О внешности заботятся только те, у кого внутри пусто». Я смущалась и спешила убраться подальше с глаз ее. Подозреваю, что моя молодая, красивая и элегантная мама тоже временами испытывала желание куда-нибудь спрятаться – в своих суждениях бабушка была категорична и неумолима.
И хотя она прожила с нами десять лет, после ее смерти почти ничего не осталось, ни украшений, ни ценностей, ни даже безделушек. Конечно, ее комната отнюдь не напоминала тюремную камеру, но имела определенное сходство с монастырской кельей: в ней не было ничего лишнего. Стол, кровать, стул, полки с книгами – почти исключительно подарками ее друга Семы (я вообще не помню, чтобы она что-нибудь когда-нибудь покупала), на стене – портрет Толстого, цветная репродукция в раме темного дерева.
Тем не менее наследство, полученное от нее мной, огромно. Из всей семьи она единственная обладала настоящим даром рассказчика. Ее истории стали частью моих воспоминаний, элементом моей собственной личности, своего рода продолжением моей памяти. Таким образом, все, что хронологически располагается до нее и ее воспоминаний, принадлежит «истории», а все, что начинается с нее, – включая самые первые эпизоды, путешествие в поезде с «дядей Сашей», имевшие место в начале прошлого века, – почти часть моей собственной биографии.
Второй элемент этого наследия не менее важен: ее друзья. Три человека, судьбы которых одновременно различны и схожи, типичны для их поколения. Первый, обреченный на безмолвие и бездействие, внутренний эмигрант, целиком ушедший в себя. Второй, нашедший в себе силы возобновить борьбу после 30-летнего хождения по мукам. Третий, которому чудом удалось вырваться из жерновов адской машины и который, храня верность кумирам своей юности, посвятил жизнь ставшей навсегда недоступной стране.
Птифуры
Самое темное место – под фонарем.
Китайская пословицаМне всегда казалось, что моим родственникам по материнской линии рассказать особенно нечего: ничем интересным в своей биографии они похвастаться не могли. Никто из них не мог сравниться с бабушкой, папиной мамой, прекрасной рассказчицей, к тому же жившей вместе с нами и всегда бывшей у меня под рукой. Мои собственные родители работали, родители мамы – тоже; я видела их относительно редко, и никто, похоже, не имел ни времени, ни желания развлекать меня рассказами. В лучшем случае, когда я была совсем маленькая, они читали мне вслух. Поэтому я долго пребывала в убеждении, что одни члены семьи прожили жизнь полную драматических событий, в то время как другие – обычные законопослушные советские граждане, не отведавшие ни тюрьмы, ни лагеря, и, соответственно, не представляют для меня большого интереса. Одна бабушка, на протяжении десятилетий преследуемая властями, – почти героиня, а другая – всего лишь заведующая детским садом, да еще вдобавок член партии – какое тут могло быть сравнение? Вплоть до того дня, когда при работе над этой книгой мне понадобилось уточнить какую-то деталь, имевшую отношение к «интересной» части семьи, и я позвонила маме. Мои надежды оправдались: прекрасная память не подвела ее и тут, я немедленно получила все интересующие меня сведения, а кроме того – в качестве неожиданного бонуса – несколько эпизодов, относящихся к семейной истории бабушки и деда со стороны мамы, которые по драматичности ни в чем не уступали ужасам, выпавшим на долю «врагов народа».
Действительно, мамины родители никогда не сидели и никуда не ссылались – бывало и такое, даже в самые грозные годы советской истории. Тем не менее их биография свидетельствует о том, что в СССР разница между тюрьмой и волей была относительная и что в редких семьях вообще никто не сидел: взаимопроникновение этих миров делало это невозможным даже чисто статистически.
В моем раннем детстве мой дед, мамин отец, разведшийся еще до войны, был женат вторым браком на даме, которая мне никогда особенно не нравилась. Она была очень хороша собой, в ней чувствовалось нечто изысканное, она прекрасно одевалась, была отменной хозяйкой, а со мной была ласкова до такой степени, что мне делалось не по себе. Не менее любезно она держала себя и с другими членами семьи, но я чувствовала, что мои родители тоже ее недолюбливают. И этот взгляд… Он словно перечеркивал все ее улыбки.
Меня водили к ним в гости на дни рождения и прочие праздники, но к нам домой дед всегда приходил один. Возникало ощущение, что его жена оставалась чужой в нашей семье. Причиной тому служил скорее ее характер, чем ее прошлое – прошлое, о котором никто никогда не обмолвился при мне ни единым словом и о котором я узнала лишь много лет спустя.
В 16 лет она вышла замуж за профессионального революционера, подпольщика, который после 1917 года пошел на работу в ЧК. Во время Гражданской войны он был членом ревтрибунала, председателем Комиссии по приемке-отправке ценностей, изъятых у буржуазии, потом стал продвигаться по дипломатической части. В 20-х годах он сделал стремительную карьеру и вскоре оказался в Японии: секретарь консульства… вице-консул… консул… В начале 30-х он уже важное лицо, вращается в высших кругах дипломатов и разведчиков, к которым принадлежал, в частности, Рихард Зорге. Он явно был не только ловким аппаратчиком, но и талантливым человеком, знал английский, японский и, вероятно, немецкий. Баловень судьбы, женатый на красавице (кстати, подруге детства бабушки по материнской линии), отец прелестных дочерей-двойняшек, маминых ровесниц.
В марте 1937-го, в разгар всенародных чисток, затронувших и дипработников, он получает приказ вернуться в Москву. И возвращается, похоже, ничего не подозревая, уверенный в прочности своего положения, поскольку везет с собой на родину целый вагон (!) имущества: мебель, посуду, одежду, в том числе комплект всего, что может понадобиться пятилетним дочерям до самого их совершеннолетия, включая школьные принадлежности. Достойный представитель страны «реального социализма», он прекрасно знал, что в пролетарском раю зачастую не купишь ни мыла, ни туалетной бумаги.
Два месяца спустя, когда он с женой возвращался с дипломатического приема, их арестовали. Ей было тогда лет 25, на ней было длинное вечернее платье – так она и перешагнула порог Лубянки в сопровождении вооруженного энкавэдэшника. И уже там, в тюрьме, имел место неожиданный эпизод: то ли она случайно столкнулась с мужем, когда ее вели по коридору на допрос, то ли муж ее, упрятанный в бокс во избежание подобных нежелательных встреч, узнал ее по голосу, когда ее проводили мимо, – во всяком случае, он успел крикнуть: «Анна, подписывай все!» «Все» в данном случае означало все обвинения, не только касающиеся ее самой, но также мужа и других людей, знакомых и незнакомых, забранных по тому же делу, которым инкриминировался шпионаж в пользу Японии, терроризм, государственная измена, и пр., и пр. И она подписала все. Несколько месяцев спустя мужа расстреляли, а она получила десять лет лагерей, которые отбывала в Мордовии, одном из самых страшных мест заключения. Ей удалось выжить.
После освобождения мой дед, знавший ее с юности, вызволил ее в Москву (что само по себе потребовало немалых усилий) и устроил лаборанткой на один из подведомственных его институту керамических заводов – поступок, требовавший немалого мужества: взять на работу «врага народа» осмеливался не каждый. Как заметил Солженицын, «каждый поступок противодействия власти требовал мужества несоразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа». Дед мой пошел еще дальше: он женился на бывшей зэчке! Они разыскали двойняшек: благодаря самоотверженности одной из родственниц девочкам удалось избежать детского дома, куда автоматически помещали детей «врагов народа». Началась новая, казалось бы, вполне нормальная жизнь: школа, уроки рисования, лето на даче, абрикосовое варенье… Словно не было десяти лет мордовских лагерей. Жуткое прошлое было раз и навсегда похоронено, и даже намека на него не осталось – разве что странное выражение никогда не смеющихся глаз. Любила ли она моего деда? Пожалуй, нет. Любил ли он ее? Несомненно. Об этом свидетельствовало хотя бы то, чтó он ради нее сделал: для непартийного специалиста (иными словами, специалиста «с изъяном») жениться на «шпионке» и бывшей зэчке было шагом безрассудным и с точки зрения карьеры самоубийственным.
Однако на опрометчивые поступки его толкала не только любовь. Среди его «подопечных» имелся, например, занимательный персонаж, бывший матрос крейсера «Аврора», принимавший участие в штурме Зимнего дворца в октябре 1917 года. Лучшее начало для стремительного восхождения по социальной лестнице в те времена трудно было себе представить: после революции перед ним открылись все двери. Несколько лет спустя молодой парнишка, крестьянский сын, наскоро обученный, уже не в тельняшке, а в двубортном костюме с галстуком, оказывается в Риме в составе советского полпредства. Однако ему не суждено было состариться на дипломатической службе: на очередном приеме он выпил лишнего, принялся буянить, а потом отправился с приятелем в бордель. Кто-то увидел, настучал – пришлось срочно отозвать его в Москву. Вернувшись на родину, он быстро почувствовал, что его ожидает, и потому почел за лучшее уехать из столицы и затаиться; дед помог ему устроиться на работу на один из ведомственных заводов, производивших огнеупорные материалы.
После смерти Сталина роли поменялись. Пострадавшие от репрессий коммунисты были реабилитированы, и Виктор Павлович (фамилию его вспомнить не удалось) вновь обрел статус героя революции и связанные с ним привилегии. Помимо славы и почестей, звание «старого большевика» обеспечивало доступ к благам, о которых простые смертные не могли даже мечтать. Это было вполне официальное наименование, почти должность, типа «ударника производства» или «участника Великой Отечественной войны», обладатель которого имел право на приличное жилье, лечение в ведомственной больнице и т. п. А также возможность «отовариваться» в закрытых «распределителях» – специальных магазинах, где номенклатурным работникам продавали по символическим ценам или выдавали по талонам разные дефицитные продукты: копченую колбасу, осетрину, икру.
До конца своих дней Виктор Павлович считал деда своим спасителем, и по праздникам часть номенклатурной манны перепадала и нашему семейству. Чаще всего она принимала форму банок с икрой и… журнала «Америка». Здесь надо пояснить: в период холодной войны отношения между враждующими блоками регулировались принципом строгой взаимности, и для того, чтобы иметь возможность распространять в Соединенных Штатах журнал Soviet Life, СССР вынужден был разрешить продажу на своей территории «Америки», ежемесячника на русском языке. Выходившая под эгидой Госдепартамента «Америка» придерживалась сугубого нейтралитета, тщательно избегая материалов, которые могли бы вызвать малейшую полемику. И разумеется, она не публиковала никаких статей на политические темы – номера содержали репортажи о фермерах, выращивающих кукурузу, о жизни в университетских кампусах, о достижениях науки, о выставках и музеях. Несмотря на это, журнал представлял собой настоящую идеологическую бомбу: роскошное издание большого формата, на глянцевой бумаге, обильно иллюстрированное цветными фотографиями, могло поспорить по качеству с самыми дорогими альбомами по искусству, печатавшимися в СССР. Таких ярких красок, такой печати, такого оформления советский читатель не видел нигде. А главное – эти люди, их лица… Дабы уберечь строителей коммунизма от шока, вызванного подобной полиграфической роскошью, власти придумали способ ограничить ее распространение, не нарушая пресловутого принципа взаимности: тираж (50 000 экземпляров) не поступал в розничную продажу, не продавался по подписке, а распространялся по номенклатурным каналам, среди читателей, идеологическая выдержанность которых не вызывала сомнений. В их числе партийные боссы, разного рода герои соцтруда и, судя по всему, «старые большевики», во всяком случае, столь заслуженный большевик, как наш Виктор Павлович, легендарный матрос легендарной «Авроры». Таким образом, в нашей семье регулярно появлялись номера «Америки», предмет внимательного чтения, подробного обсуждения и аккуратного хранения.
Наш благодетель-большевик испытывал, как я уже говорила, безграничную благодарность к деду, видя в нем своего спасителя, но существовало обстоятельство, которого он не мог ему простить: его женитьба. Считая эту женщину предательницей, виновницей гибели своего первого мужа, а возможно, и других людей, он отказывался иметь с ней дело и никогда не бывал у них в гостях.
* * *
В отличие от моего отца, в принципе не употреблявшего местоимение первого лица единственного числа и избегавшего рассказов о вещах, касавшихся его самого, мама охотно делилась воспоминаниями о детстве – при условии, что ее расспрашивали; сама она никогда не проявляла инициативы. Для нее главным событием прошлой жизни была война. В июне 41-го ей было восемь лет, в мае 45-го – двенадцать, и эти годы остались у нее в памяти как череда ярких, твердо очерченных эпизодов, обладавших каждый своей тональностью.
В июне 41-го они с четырехлетним двоюродным братом приехали на каникулы из Москвы в Киев к бабушке. Немцы бомбили город с первых же дней войны. За недостатком бомбоубежищ жителям было велено укрываться в подвалах, но дети, стоило бабушке отвернуться, то и дело выскакивали на улицу поиграть. Бомбежки их, судя по всему, не пугали. Согласно маминым воспоминаниям, чаще всего они происходили днем и являли собой увлекательное зрелище; особенно ей запомнились два огромных светящихся снаряда овальной формы, медленно падавших с небес, – тогда как неизбежный грохот взрыва не оставил в памяти не малейшего следа.
Несмотря на надвигавшуюся опасность (и действительно, немцы заняли город уже в сентябре), моя прабабка, возможно, осталась бы в Киеве, если бы не дети, родителям которых пришлось тем временем покинуть Москву: их эвакуировали вместе с предприятиями, на которых они работали. В первые же дни войны мамина мама, студентка Института инженеров транспорта, вступила в партию и пошла рабочей на авиастроительный завод, с которым вскоре оказалась в Кирове (Вятке), в 900 км от Москвы. Муж ее, мой дед, тогда уже находился в Нижнем Тагиле на Урале. Его деверь, директор металлургического завода, был эвакуирован с заводом в Свердловск (Екатеринбург), по ту сторону Урала. Так что прабабушка решила уходить. «На восток».
Конец июля 1941 года. Пожилая женщина с двумя маленькими детьми влилась в один из бесчисленных потоков беженцев, бредущих по дорогам в восточном направлении. Передвигались чаще всего пешком, иногда на телегах, изредка на поездах: составы перегоняли поглубже в тыл, чтобы те не достались врагу. Чаще всего они состояли из теплушек – тех самых, что служили для перевозки зэков, там не было ни скамей, ни воды, ни туалета.
Моя восьмилетняя мама почти не обращала внимания на налеты немецкой авиации, возможно потому, что уход из Киева был связан для нее с горькой утратой – расставанием с любимой куклой. Двумя месяцами раньше, в мае, ей подарили на день рождения огромную куклу. Для того времени это было настоящее чудо: размером почти с маму, она закрывала и открывала глаза, на ней было кружевное платье – словом, роскошь невиданная. (На чудом сохранившейся фотографии мая 1941-го маленькая черноглазая девочка в коротких кудряшках нежно обнимает огромную куклу-блондинку с длинными косами.) Уходя из Киева, куклу, естественно, пришлось оставить: с собой брали лишь самое необходимое, вещи и продукты (в первую очередь мед), которые в пути можно было выменять на еду, и прабабушка категорически отказалась брать с собой игрушку. Мама столь же категорически отказалась уходить без нее. В конце концов ей пришлось смириться, но время от времени воспоминание о горестной потере охватывало ее с новой силой, тогда она останавливалась прямо на дороге и отказывалась идти дальше. Рассказывая об этом полвека спустя, мама продолжала краснеть от стыда.
Другое мучительное воспоминание относится к поездке в товарном вагоне: мама и ее двоюродный брат обнаружили на грязном полу вагона леденец и, стоило их бабушке отвернуться, схватили его и стали по очереди сосать. Последствия легко представить: весь остаток пути бедной прабабушке пришлось ухаживать за двумя корчившимися от поноса детьми в раскаленном от августовской жары товарном вагоне, без воды, без элементарных удобств… В конце пути им удалось выменять последний мед на разрешение пристроиться на крыше военного эшелона, где был устроен загончик для стрелка, поставленного наблюдать за вражескими самолетами, там они и расположились.
К исходу сентября троица добралась наконец до Свердловска, где мальчика сдали на руки родителям; прабабушка же с мамой поехали дальше, в Нижний Тагил к деду. Там мама пошла в школу, но несколько недель спустя ее мать приехала из Кирова, чтобы забрать дочь к себе. Получить разрешение на поездку было нелегко: по незадолго до того принятому закону неявка на завод приравнивалась к дезертирству, за это можно было угодить в лагерь. Бабушке как-то удалось отпроситься, и путешествие произошло без особых приключений, если не считать того, что при пересадке в Курске она задремала в ожидании поезда и у нее немедленно украли все, что было при ней, в том числе и основную ценность: буханку хлеба, а также предмет особенного сожаления ее дочери-первоклассницы – карандашик, подарок по случаю поступления в школу.
В ноябре бабушка с мамой должны были вернуться в Киров. Они ехали с вещами, вокзалы были переполнены, подаваемые поезда озверевшая толпа брала с боем, давка была страшная. Вдобавок вокзалы кишели ворами-карманниками, и маме было строго наказано беречь сумку с документами, которая была ей доверена и которую она изо всех сил прижимала к себе – думая при этом о втором сокровище, данном ей на хранение: коробочке с «птифурами», круглыми песочными печеньями с мармеладной пуговкой посередине, – компенсации за потерю куклы. Время от времени мама втягивала носом исходящий от коробочки сладкий аромат, и это придавало ей сил. «Держи сумку! Крепче держи!» – покрикивала на нее бабушка. Испуганная мама изо всех сил сжимала сумку, будучи при этом уверена, что из двух доверенных ей ценностей документы – отнюдь не главная…
В Кирове им удалось снять угол; они жили в одной комнате с хозяевами, за занавеской, спали на одной кровати. Девочку отдали в школу, но ничего хорошего из этого не вышло: одноклассники обижали ее, дразнили «москвичкой» и «маменькиной дочкой», так что в конце-концов она наотрез отказалась туда ходить. Тогда бабушка приняла радикальное решение: вернуться в Москву. Решение безрассудное, ведь пропуска у нее не было, был лишь студенческий билет. Тем не менее она продала все имевшиеся вещи, купила на вырученные деньги шоколаду и некоторое количество «чекушек» (250 гр) водки, бывших тогда расхожей валютой, и с тем они отправились в путь.
Происходило это в январе 1942 года, шли они пешком, обходя стороной заставы на дорогах, поставленные для вылавливания настоящих и воображаемых врагов: дезертиров и саботажников. Путь пролегал лесами, полями; мама шагала в шубе, укутанная в большой платок, с мешком за плечами и палкой в руке. Им предстояло пройти 950 км, возможно даже больше, учитывая, что они были вынуждены постоянно отклоняться от прямого пути, – для девятилетнего ребенка расстояние не шуточное. Вдобавок зима тогда выдалась особенно холодная. (Думая о маминых спортивных достижениях – в молодости она была отличной гимнасткой, лыжницей и конькобежкой, – я почему-то всегда представляю себе крошечную обвязанную платком девочку, бредущую по снегу с мешком за плечами и палкой в руке.) На ночь путешественницы просились к крестьянам в деревнях, через которые лежал их путь. Принимали их по-разному. В одной деревне хозяйка уступила немытым измученным путницам собственную кровать с пуховой периной, вынув для них – «на одну ночь!» – накрахмаленное, вышитое постельное белье. А в другой – во время последней ночевки перед Москвой – их отовсюду гнали, пока наконец какая-то женщина не разрешила им заночевать у нее в сенях, на полу на охапке соломы. Ужин состоял из последней дольки припасенного шоколада, который бабушка отдала маме, – все запасы съестного были исчерпаны.
По мере приближения к Москве все более остро вставал вопрос: как проникнуть в город без пропуска? За несколько километров до контрольного пункта изнуренные путешественницы вдруг увидели ехавший в нужном направлении грузовик с боеприпасами. Иногда шоферы соглашались их подвести, так что бабушка быстро вытащила из мешка последнюю «чекушку» спирта и резким движением подняла ее над головой. Шофер столь же резко затормозил. Они залезли в кабину, и бабушка попросила высадить их, не доезжая до заставы, чтобы дать им возможность обойти ее. Вместо этого шофер нажал на газ и остановился лишь перед самым контрольным пунктом буквально на глазах у охраны. Отступать было некуда. «Иди вперед! Не останавливайся и не оглядывайся!» – скомандовала бабушка, подталкивая девочку. Мама прошла мимо солдат, которые не обратили никакого внимания на маленькую закутанную в платок путницу с заплечным мешком. Дойдя до остановки трамвая, она остановилась и, перепуганная, стала ждать. Немного погодя она увидела бежавшую к ней бабушку, задыхавшуюся и триумфально размахивавшую студенческим билетом. Охранники не задержали ее, они наконец были в Москве! На улице уже стоял март, в воздухе пахло весной.
В столице их ожидал неприятный сюрприз: комната в коммуналке, где они жили до войны, была занята другими жильцами. Пришлось на время остановиться у знакомых, где девочка впервые за много недель увидела буханку сероватого хлеба; отрезанный ломоть показался ей вкуснее любого пирожного.
По счастью, студенческий билет позволил бабушке без особых трудностей вступить во владение прежней комнатой, но это была последняя услуга, оказанная им своей обладательнице: учебный год подходил к концу и восстановиться в Институте инженеров транспорта уже не было возможности. Кроме того, надо было зарабатывать на жизнь, кормить себя и дочку, поэтому бабушка решила вернуться на авиастроительный завод. Нужда в самолетах была по-прежнему велика, но сам исход войны оставлял все меньше сомнений. И действительно, пришло время, когда каждую ночь бабушка будила маму, чтобы та не пропустила салют, знаменовавший освобождение советскими войсками очередного города. Стоя на подоконнике, девочка видела их все.
Весной 42 года она пошла во второй класс, несмотря на то что учиться в первом ей почти не пришлось, большая часть учебного года ушла на переезды и на поход из Кирова в Москву. Год спустя провели образовательную реформу: школы поделили на мужские и женские, маму записали в районную школу для девочек. Восемь лет спустя она окончила ее с золотой медалью.
* * *
Все в жизни относительно. Случайный посетитель (особенно иностранец) наверняка счел бы тесным пространство, на котором наша семья жила первые восемь лет после моего появления на свет. Шестнадцать метров на троих и правда немного. Едва хватило, чтобы поставить в угол детскую кровать, подвесить тут же на стену небольшой секретер с откидной крышкой (он послужит письменным столом и вместилищем для учебников, когда я пойду в школу), пристроить под ним ящик с игрушками, сколоченный отцом. Занавеска на подвижной штанге отделяла мой угол от остальной комнаты: диван-кровать, раскладывающийся в случае прихода гостей стол, крошечный холодильник, подвесные книжные полки, три стула. Все было рассчитано с точностью до миллиметра – не даром оба родителя были инженерами. Я до сих пор удивляюсь, как люди справлялись с решением проблем, вызванных недостатком площади, ведь инженерами были далеко не все, и пресловутая норма 9 кв. м. на человека была такой же фикцией, как большинство показателей социалистической экономики. Мне самой пространство, на котором я росла, представлялось вполне достаточным, в нем помещалось все, что тогда составляло мой маленький мир. Мама, думаю, тоже чувствовала себя вольготно: ведь после того, как бабушка во второй раз вышла замуж, им пришлось шесть лет жить на тех же 16 кв. м. впятером.
Комната выходила в длинный коридор, и таких комнат, в каждой из которых обитала более или менее многочисленная семья, насчитывалось на этаже штук тридцать. Этажей было четыре. На каждом имелось по две большие кухни, одна в одном конце, другая в другом, там стояло несколько газовых плит, и каждая семья располагала шкафчиком для кастрюль и сковородок. Запах жареной рыбы смешивался с запахом накрахмаленного белья, которое кипятили в больших баках и сушили на натянутых под потолком веревках. Тут делились советами по хозяйству и кулинарными рецептами – и тут же по вечерам вспыхивали по поводу и без повода ссоры между измученными работой, дорогой и стоянием в очередях женщинами. Тут всегда можно было занять у соседки соли или попросить головку чеснока, и тут же слышались, в зависимости от обстоятельств, как веселые анекдоты, так и площадная ругань. На каждый этаж приходилось по два «общих» туалета с рядом умывальников, а на первом этаже или в подвальном помещении располагалась баня. Точно не помню: меня возили мыться к родственникам, которым незадолго до этого дали отдельную квартиру с горячей водой и настоящей ванной.
Зато хорошо помню коридор, составлявший часть моего Lebensraum. Как ни странно, он не был ничем захламлен: несмотря на крошечную жилплощадь и отсутствие подсобных помещений, жильцам строго запрещалось держать там какие бы то ни было вещи, что превращало его в отличный велосипедный трек. Коридор был такой длинный, что, кажется, я никогда не проезжала его до конца. Недавно выяснилось, что там было еще одно крыло, так называемый «профессорский корпус», где жили преподаватели Института нефтяной и газовой промышленности и куда я точно никогда не заглядывала. Когда я поделилась своим изумлением с мамой, она сказала:
– Естественно, что ты туда не ходила, в той части дома не было детей твоего возраста.
– Как это?
– Всех, кто мог бы их иметь, арестовали в 49-м.
Выяснилось, что в пресловутом 1949-м несколько соседей-десятиклассников решили устроить вечеринку. На которой кто-то рассказал анекдот, кто-то из слушавших настучал, и всю кампанию арестовали. Девочка, у которой происходило сборище, – единственная, о дальнейшей судьбе которой мама что-то знала, – была выслана в Казахстан, где ей пришлось выйти замуж за старого казаха, и больше она в Москву не вернулась. Маме было тогда шестнадцать лет, возраст, в котором разница в один год много значит, поэтому за малолетством ее на вечеринку не позвали. Если бы не это обстоятельство, она вполне могла бы повторить тюремную биографию своей будущей свекрови.
Для меня стало открытием существование ответвления в коридоре, который, как мне думалось, когда-то я знала как свои пять пальцев, но и мама узнала о некоторых, казалось бы, близлежащих вещах с опозданием на годы и десятилетия. Например, о том, что в небольшом особняке, чудом избежавшем изуродовавших город застроек и расположенном прямо напротив нашего дома, за белым оштукатуренным забором помещалась одна из секретных лабораторий НКВД-КГБ, где ученые-химики разрабатывали ядовитые препараты и испытывали их на подопытных зэках. Легковая машина с затемненными стеклами останавливалась перед постоянно наглухо закрытыми воротами, те открывались, пропуская машину во внутренний двор; через некоторое время она уезжала. Увозя заключенных или их трупы? Это происходило в сотне метров от дома, где мама прожила 19 лет.
– И ты ничего не знала?! И никто ничего не говорил?
– Никто. Все смутно догадывались, что лучше было вопросов не задавать.
«Почему ты мне об этом не рассказывала?» – «А ты не спрашивала». В этом-то вся загвоздка: как подступиться к близкому человеку с расспросами о прошлом? Каким образом за это взяться? Как выбрать подходящий момент? Очевидно, что такой момент не может наступить до тех пор, пока мы продолжаем видеть в близких не отдельных личностей, наделенных особой судьбой, а своего рода продолжение нашего «я». Со временем, однако, образуется дистанция, мы перестаем соотносить их только с собой, и тесные узы, изначально связывавшие нас, постепенно ослабевают. Но далеко не всегда это отдаление сопровождается пробуждением любопытства: часто оно приходится на лихорадочные годы, когда, поглощенные устройством собственной жизни, мы слишком заняты собой, чтобы интересоваться прошлым родных, казалось бы, досконально известным. Став менее необходимыми, близкие люди не становятся при этом более интересными. А в тот день, когда мы наконец ощущаем потребность расспросить их, оказывается, что многих уже нет в живых.
Парадоксальным образом, познание прошлого самым, на первый взгляд, очевидным способом: расспрашивая свидетелей, которые под рукой, на деле оказывается самым проблематичным. А собирание по крохам в своей и чужой памяти давно услышанного неизменно сопровождается сожалением по поводу упущенных возможностей расспросить, узнать… Моя бабушка по материнской линии, та, что шла пешком из Кирова в Москву, дожила до 102 лет и до самого конца, уже совсем слепая, сохраняла ясность ума и твердость памяти. «Представляешь, – говорила она мне, – я такая старая, что помню извозчиков. Когда мы приехали в Москву в 30-м году, на вокзале мы взяли извозчика…» Почему я никогда ее ни о чем не расспрашивала?
Но с другой стороны: как за это взяться, с чего начать? Как выбрать подходящий момент? Чистя картошку для супа? Стоя в очереди за селедкой? Или за ужином, когда вся семья в сборе? Спросить у одной: «Скажи-ка, бабушка, зачем ты вступила в партию?» Или поинтересоваться у другой: «А тебя избивали на допросах?» Немыслимо. Взрослые имели право на умолчание о прошлом, на секреты, на собственную, лишь им одним известную жизнь, и было что-то кощунственное в самой мысли о том, чтобы подступиться к ним с расспросами. В результате потребовалось немало времени, прежде чем сложились условия для того, чтобы попытаться воскресить хотя бы частицу этого одновременно доступного и запретного прошлого. Одним из этих условий стала временная дистанция. Другим – пространственное удаление. Только прожив какое-то время на Западе, я испытала потребность разобраться в том, что произошло. Третьим условием стала смена языка: эта история категорически отказывалась быть изложенной по-русски.
* * *
«Вопросов лучше не задавать». Реакция на мой взгляд вполне естественная: мне тоже потребовалось время, чтобы научиться расспрашивать; я тоже выросла в доме, по соседству с которым высилось загадочное здание, окруженное высоким забором, назначения которого никто не знал. Там не было никакой вывески, взрослые о нем никогда не говорили. Центр телефонного прослушивания? Институт космических исследований? Какая-нибудь секретная лаборатория? В советские времена Москва кишела этими зданиями-призраками за глухими заборами без вывесок; люди на всякий случай обходили их стороной, как обходили Лубянку, иностранные посольства – от греха подальше, чем черт не шутит… «Мы живем, под собою не чуя страны» – строки Мандельштама относятся к другой эпохе, но ощущение неуютности и изгойства в собственном городе, в собственной стране было непреходящим. Иногда завеса тайны чуть-чуть приподнималась: в один прекрасный день выяснялось, что в неказистом здании в центре Москвы, к которому подъезжали черные волги с затемненными стеклами, располагался шикарный ресторан, где кормили иностранцев, приезжавших в Советский Союз по приглашению ЦК, и куда простым смертным, конечно, не было доступа. А за еще какой-нибудь высокой стеной обреталась номенклатурная лечебница – знакомой знакомых удалось туда попасть, и она рассказывала такое… Но чаще всего загадка оставалась загадкой, и белые пятна на плане Москвы, словно пятна проказы, продолжали уродовать городской пейзаж. Что касается таинственного здания неподалеку от нашего дома, оно существует до сих пор – в отличие от самого дома.
Строительная лихорадка, охватившая Москву, не пощадила и наш микрорайон, превратившийся с конца 90-х годов в гигантскую стройку. Под рев бульдозеров дешевая рабочая сила среднеазиатского происхождения возводила корпуса, ночевала прямо на «объекте», без воды и отопления – кого волнуют подобные мелочи? Ее перевозили с места на место заодно с подъемными кранами и бетономешалками. «Хрущобы», панельные четырехэтажки, построенные в 60-е годы в момент пика жилищного кризиса, ветшали и разрушались буквально на глазах. Их обитателей переселяли, дома сносили, и на освободившемся пространстве росли, как грибы, высокие башни – будущие жилища представителей нарождающегося «среднего класса».
Мама тоже переехала в новый дом, но на старой квартире оставалось еще много невывезенного, главным образом книги и бумаги. Я приехала как раз вовремя, чтобы взглянуть на эти залежи и уберечь от гибели то, что представляло интерес.
Жильцов в доме почти не осталось, большая часть дверей была опечатана; отопление давно уже бездействовало, не было ни воды, ни электричества, ветер задувал в щели окон, которые никогда особо плотно не закрывались.
– «Моральный кодекс строителя коммунизма…»
– Выбрасывай.
– «Сто советов молодой домохозяйке»…
– Выбрасывай.
– «Краткий очерк грамматики норвежского языка»…
– Покажи-ка. Гм… Оставим.
– Ты уверена?
– Ладно, выбрасывай.
Дело двигалось быстро. Если вначале мы с сестрой внимательно осматривали каждый лист, разворачивали каждый рисунок, обсуждали целесообразность сохранения каждой брошюры, то поползав в течение нескольких дней на четвереньках в пыли по комнатам полутемной квартиры, разбирая обломки тридцатилетнего существования семьи, мы постепенно опустили планку. Вдобавок, по мере того как стопки предметов на выброс росли, все больше напоминая Манхэттен в миниатюре, горы вещей, подлежащих хранению, тоже увеличивались с пугающей быстротой. Необходимо было проявить твердость.
– …ну а это?
– Выбрасывай.
– А это?
– Тоже.
– А с этим что делать?
– Выбрасывай.
В такого рода операциях потери неизбежны. Я утешаю себя мыслью, что мы с сестрой старались изо всех сил и не выбросили по недосмотру ничего действительно ценного. Больше всего меня радует, что нам удалось спасти любительские фильмы, снятые моим дедом в начале 60-х годов, когда он завел кинокамеру и проектор, большую редкость по тогдашним временам. Мне смутно помнилось, что он показывал их, когда я была маленькая, на семейных праздниках. После его смерти и камера, и проектор куда-то исчезли, но у меня теплилась надежда найти катушки с пленками. И они нашлись – числом пять, без этикеток, черные ящики семейного прошлого, которое вот-вот должно было кануть в вечность.
Пару недель спустя, уже во Франции, ассистентка фотоателье протянула мне коробку с диском, содержавшим мои оцифрованные бобины:
– Железные! Никогда таких не видела – наверное, очень старые?
– Да, и вдобавок приехавшие издалека.
Придя домой, я с замиранием сердца вставила диск в компьютер: а вдруг на нем ничего нет? Мои опасения не оправдались: на экране компьютера возникла Москва начала 60-х годов, утопающая в сугробах, с широкими улицами, на которых почти не было транспорта, за исключением троллейбусов и редких грузовиков; по тротуарам шли прохожие с авоськами, во дворах играли дети… А вот и мои тогда еще совсем молодые родители, моя бабушка… и вдруг, мелькнувшая на какую-то долю секунды, незабываемая улыбка деда!
Мы кончили работу вовремя: спустя несколько дней входные двери дома были окончательно запаяны, росшие вокруг него деревья срублены, балконы срезаны – затем понаехали экскаваторы и бульдозеры…
Проезжая на машине, моя сестра теперь делает круг, чтобы не видеть место, где когда-то стоял наш дом. Впрочем, по ее словам, смотреть там особенно не на что: участок обнесен забором – из-за которого уже виднеется пробивающаяся молодая поросль.
Послесловие к русскому изданию
«Мне подменили жизнь…» – эта строка, часто цитированная на предыдущих страницах, не имеет ко мне самой ни малейшего отношения, и мне хотелось бы это подчеркнуть. Речь идет о других, о людях, судьба которых представляется мне интересной и достойной повествования. В моей же собственной жизни все значительные изменения – не подмены! – происходили исключительно по моей собственной инициативе, и ответственности за них никто, кроме меня, не несет.
Одним из таких изменений – повторяю: заменой, не подменой! – стало вытеснение русского языка французским. Как именно это происходило и по каким причинам – не суть важно, важно то, что начиная с определенного момента я на долгие годы перестала писать по-русски, если не считать дружеской переписки.
Эта книга – не исключение. Она писалась и «думалась» по-французски, и издавая ее – в Европе, для европейского читателя, – я была твердо уверена, что по-русски она не выйдет никогда. Изменение этого решения поставило меня перед необходимостью не перевести, а заново переписать весь текст, иначе говоря, заново продумать его в иных лингвистических, исторических и культурных категориях.
Российскому читателю нет нужды объяснять, что такое комсомол или бычки в томате, он об этом знает не понаслышке и на своей шкуре испытал прелесть жизни в коммуналке и стояние в очередях за всем, начиная от колбасы и кончая билетами на «Лебединое озеро». Такого рода этнографическим подробностям, столь важным для европейского читателя, в русском варианте было не место, и я по мере возможности убрала их, ограничиваясь упоминанием вскользь вместо подробного описания. И наоборот, появилась возможность добавить кое-какие детали, которыми пришлось пожертвовать во французском варианте, где они требовали слишком громоздких объяснений.
Но главной проблемой оказался собственно стиль – воссоздание средствами русского языка той атмосферы, той интонации, которая по-французски возникала в процессе написания сама собой. За вольное или невольное отторжение от родного языка пришлось заплатить высокую цену, процесс «обрусения» очерков был долгим и мучительным, и если в результате получилось более или менее полноценное повествование, этим я всецело обязана поддержке друзей, которые сначала убедили меня в необходимости русского издания, а потом помогли в ходе работы, читая рукопись на разных стадиях. А также доверию издателя. И усилиям редактора. Всем им – искренняя благодарность и низкий поклон.
Шартр, ноябрь 2016 года
Примечания
1
Одним из любителей разъяснять любознательным школьникам «как все происходило на самом деле» был учитель литературы и завуч Герман Наумович Фейн, гроза и кумир боготворивших его учеников. После 25 лет работы на поприще среднего образования он был уволен из школы за «развал педагогической работы», вынужден был эмигрировать в Германию, где преподавал еще 25 лет, теперь уже в престижных немецких университетах.
(обратно)2
Следующее столкновение имело место год спустя, когда мои одноклассники пытались поступить на мехмат. Теоретически все знали, что евреев туда не берут, и тем не менее все надеялись. Слушая рассказы о том, с каким цинизмом их заваливали на вступительных экзаменах, хотелось плакать. Они и сами плакали – а потом эмигрировали; многие впоследствии стали выдающимися учеными, но вряд ли то первое столкновение с туполобым государственным антисемитизмом полностью забылось.
(обратно)3
Рассказывали, что до начала советской экспансии в Африке лучший в стране специалист по португальскому долгие годы сидел без работы, зарабатывая на жизнь традиционным интеллигентским занятием – подметал улицы. Потом его отыскали, дали кафедру и велели срочно учить студентов португальскому. Это похоже на историю моего двоюродного деда, инженера оборонной промышленности, которого выгнали с работы за вольные речи (хорошо, что не посадили!), и ему пришлось десять лет проработать стекольщиком. Эти годы, вспоминал он, были самыми свободными за всю его жизнь. Но вот началась война, и его восстановили в должности на том же питерском заводе, откомандировав на производство танков и катюш.
(обратно)4
Согласно одной из слышанных мной значительно позже версий, Питер Темпест стал коммунистом как жертва майората. Будучи младшим сыном богатого лорда, он ничего не получил в наследство, которое ушло к старшим братьям. Левые убеждения стали, таким образом, выражением протеста против этой несправедливости. Чего только не бывает на свете…
(обратно)5
«Рабочая партия коммунисты Швеции».
(обратно)6
Сравним с печальной судьбой арабской вязи в среднеазиатских республиках, где установление советской власти в 20-х годах привело к смене алфавита на кириллицу согласно доктрине так называемого «языкового строительства». В результате население навсегда потеряло связь с собственной вековой письменной традицией.
(обратно)7
Несмотря на давление и строгий контроль, грузинская автокефальная церковь, возглавляемая католикосом, представлялась менее коррумпированной и чуть более независимой. Это сказывалось на общей атмосфере: участие в церковных обрядах (крестины, отпевание) считалось не слишком предосудительным и, соответственно, происходило открыто; на церковные праздники храмы ломились от верующих…
(обратно)8
Напомним, что Библия входила в список запрещенных для ввоза в СССР книг и систематически изымалась при таможенном контроле.
(обратно)9
Телефон приемлемой альтернативой не являлся. Во-первых, потому что международные разговоры прослушивались; во-вторых, потому что они дорого стоили; в-третьих, потому что такой разговор требовалось заказывать на почтамте заранее, на определенный день и час, и потом еще долго ждать, без уверенности, что разговор состоится. О чем можно было говорить в таких условиях? Единственное преимущество телефонных звонков состояло в том, что они позволяли услышать дорогой голос, поэтому люди, несмотря ни на что, звонили.
(обратно)10
В случае же самой Ирины информация пришла с еще бóльшим опозданием, спустя более чем полвека после описанных событий, через много лет после смерти отца. Готовя эту книгу к печати, я связалась с подругой, предложив ей прочитать текст и дать разрешение на публикацию – как-никак, речь шла о близких ей людях. Чтение произвело эффект разорвавшейся бомбы: оказывается, об этом эпизоде биографии отца она даже не подозревала, несмотря на то что он уже c десяток лет был достоянием общественности. Удар был чудовищным, особенно для больного человека. Воистину «наказуемы за вину отцов…». Известие о кончине Ирины настигло меня во время поездки в Москву. Круг замкнулся.
(обратно)11
Некоторые из этих уроков не прошли даром: датировать письма (с мейлами проблема не возникает: за нас их датирует компьютер) я не забываю никогда, но на то, чтобы вести журнал переписки, у меня дисциплины не хватает. За исключением первых лет жизни во Франции, когда письма составляли единственную связь с оставшимися в России близкими. Шли они неделями, и было необходимо вести учет, чтобы понять, что и когда доходит до адресата.
(обратно)12
В одном из писем Борис Сапир пишет по поводу происшедшего: «Сегодня 19 декабря. В этот день в 1923 году в Савватьевском скиту охрана убила шесть человек, шесть с. – р. – ов. Мне довелось рассказать об этом событии в печати после побега из России. Когда редакция „Соц. вестника“ перепечатала мой рассказ после 2-й мировой войны, в нее посыпались письма от бывших обитателей сталинских лагерей, попавших на Запад, обвинявших меня в приукрашивании действительности. Убивали не по шесть человек и не раз в год, в лагерях не позволяли подбирать убитых, не могло быть и речи о том, чтобы заключенные хоронили своих товарищей в братской могиле, и т. д. Одним словом, то, что описал я – это рай. Такова разница между лагерями моего времени и сталинскими».
(обратно)13
Речь идет о статье, опубликованной во французском журнале Est & Ouest, посвященной зачаткам рыночной экономики в горбачевский период.
(обратно)14
Мы несказанно рады, что он прожил достаточно долгую жизнь, чтобы застать начало развала коммунизма в Восточной Европе.
(обратно)15
Письмо Бориса Вам от 5 декабря было последним написанным им. <…> Мне хотелось бы заверить Вас, что Ваши письма всегда приносили ему огромную радость. Найти внучку Розы было для него большим событием, и он всегда с удовольствием рассказывал историю о том, как это произошло.
(обратно)




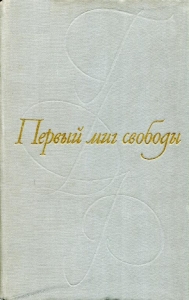
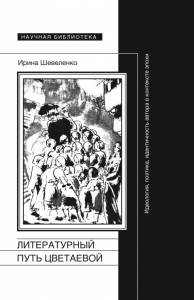

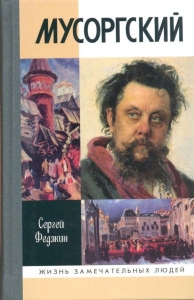
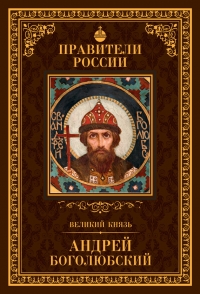
Комментарии к книге «По обе стороны (очерки)», Елена Бальзамо
Всего 0 комментариев