Алексей Фёдоров Моя война
© А. Фёдоров, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
В воскресенье 22 июня 1941 года cовет cпортивного общества завода «Серп и молот», где я тогда работал, наметил провести в Измайловском парке Москвы профсоюзно-комсомольский кросс. И мне, как одному из лучших бегунов на средние дистанции, не раз отстаивавшему спортивную честь нашего завода на соревнованиях, предстояло принять в нем участие. Но в тот день всем было не до спортивных мероприятий: началась война, которую у нас назвали Великой Отечественной, и судьбы большинства людей в ту пору, да и моя тоже, круто изменились. Я, тогда двадцатипятилетний советский человек, глубоко переживал случившееся, обивал пороги военкомата – просился на фронт, хотел бить проклятых фашистов, посягнувших на мою Родину… Но добровольцем меня не брали: кому-то ведь надо работать, обеспечивать армию оружием, обмундированием и военной техникой. Таинственное слово «бронь» в каких-то списках напротив фамилии «Фёдоров» удерживало меня на рабочем месте.
Темп работы нашего завода непрерывно нарастал. Приходилось вкалывать в две смены, а потом еще ночью надо было дежурить на крыше лаборатории – тушить немецкие «зажигалки».
15 октября 1941 года в Москве началась паника, люди рванули на восток страны. На шоссе Энтузиастов машины выстроились в шесть рядов и еле-еле двигались вперед…
И тогда я решил вступить в ряды коммунистической партии. Не ради карьеры, как это делали некоторые в мирное время. Тогда, в начале войны, иные из тех липовых коммунистов готовы были вовсе отказаться от своего высокого звания. Оно ведь могло и жизни стоить. Зная об этом, сбежали из города и люди, которые обещали дать мне рекомендации. Им было не до партии, не до народа, и уж точно не до рекомендаций. Они спасали свою шкуру. После войны я их встречал в министерстве – отделались легким испугом, даже по партийной линии получили только выговор, да директор завода Г. М. Ильин обратно на завод их не взял. А ведь они – дезертиры, на мой взгляд, настоящие предатели. Один из них – бывший начальник технического отдела завода.
16 октября меня вызвал секретарь парткома А. Д. Серов и сказал: «Хотя ты и беспартийный, но мы тебе доверяем. Хочешь сражаться за Москву – можешь пойти добровольцем в рядах коммунистических батальонов, которые создаются в эти дни в столице». Я, конечно, согласился, и больше того – обрадовался: наконец-то!
1
Коммунистический батальон, в который входили жители Первомайского района, формировался в школе у Горбатого моста на шоссе Энтузиастов. Там записали наши адреса и другие необходимые данные, а после окончания формирования всех вместе отправили в Тимирязевскую академию, где нас построили и провели перекличку. Мы стояли в строю без оружия, были в своей гражданской одежде. Кто-то из военных сказал соответствующие случаю слова о том, что Москву проклятому фашисту не отдадим, что её защищают на дальних подступах войска под командованием генерала Г. К. Жукова, а на ближних подступах – воинские части под командованием генерал-лейтенанта П. А. Артемьева. В состав войск, обороняющих Москву на ближних подступах, вошли и наши наспех сформированные коммунистические батальоны. Из них образовали полки, а потом и дивизии, получившие свои номера. Они стали называться дивизиями московских рабочих.
Я попал в первый стрелковый полк третьей дивизии московских рабочих (потом она стала гвардейской Тартусской дивизией), которая заняла позиции в районе Ховрина. Народ в этих формированиях был очень разный как по возрасту, так и по своим мирным профессиям. Некоторые когда-то проходили службу в Красной армии, но большинство держали винтовку в руках впервые.
Однажды полк построили, и вышедший перед бойцами командир спросил: кто хочет вступить в разведку? Желающих было много, и я, тогда молодой и сильный, с хорошей спортивной подготовкой, конечно же оказался в числе добровольцев. Меня зачислили в конный взвод разведки первого стрелкового полка.
Положение нашей армии под Москвой было сложным, и у разведчиков в то время дел хватало. Периодически они поступали в распоряжение штаба армии или 7-й гвардейской дивизии. И наш разведвзвод не раз выполнял задания командования этих частей, переходя линию фронта и бывая в немецком тылу.
Командиром нашим назначили молодого солдата-пограничника Ломтева. Он был, наверно, единственным профессиональным военным. Остальные: рабочие, инженеры, учёные – в общем, люди мирных профессий. Всего во взводе было 23 человека.
Случилось так, что однажды мы оказались в распоряжении штаба армии, обороняющей Москву на Ленинградском шоссе в районе села Ложки. Армейское командование приказало Ломтеву узнать, что за танковая часть вошла в соседнее село Х, и почему от её командования в штаб армии не поступало никаких сведений.
Оставив лошадей при штабе, мы, проваливаясь по пояс в снегу, лесом двинулись на выполнение приказа. Я шёл в головном дозоре: смотрел прямо и направо, а шедший за мной Борис Березанский – прямо и налево. И надо же, солдатское счастье: я на несколько градусов сбился с проложенного пути, и мы оказались совсем в другой конечной точке, как выяснилось – в деревне Терехово. Она была пуста и безлюдна. Только в одном доме жители спешно грузили пожитки на сани, стараясь как можно быстрее покинуть родное жилище. Когда я спросил о нужной нам деревне Х, они сказали, что до неё километра два, и вообще она занята немцами. Мы усмехнулись: генералы-то уж лучше этих деревенских мужиков знают, кто занял деревню. Вот мы сейчас проверим, кто там засел…
Не выходя на дорогу, пробираясь со стороны предполагаемой линии фронта, мы лесом двинулись по направлению к интересующему нас населённому пункту. И правильно сделали, что осторожничали, – это нас и спасло. Лес кончился – поляна, кусты… Вдруг слышу, командир шепчет: «Лёшка, танки!» Мы тут же плюхнулись в снег. Огляделись: слева перед деревней стоят два танка. Чьи?.. Разглядеть невозможно. Ломтев подползает ко мне, вместе ползём к этим машинам. До них – всего ничего: метров двести.
Я уже хотел подняться и идти к танкам, чтобы выяснить, какой такой части они принадлежат, всё же не очень приятно барахтаться в сухом сыпучем снегу. Но не зря наш командир был пограничником – он всегда мыслил: а вдруг… Поэтому мы снова поползли. Подобравшись к танкам, залегли. Совсем рядом, за кустами, работал мотор, слышны были голоса, но разобрать, кто и на каком языке говорил, было невозможно, мешал шум.
Мы задумались. Может, всё-таки встать и пойти? Нет, пожалуй, не стоит. Лучше приготовим гранаты. Так оно надежней.
Вдруг из танковых пушек раздались два выстрела, и снаряды, просвистев над нашими головами, полетели в сторону леса, откуда мы только что пришли. В следующую минуту, развернувшись, тяжёлые машины пошли в нашем направлении. На их заиндевелых металлических боках ясно были видны белые кресты – немцы!.. Мы отползли в лес, вышли на опушку и увидели, как немецкие танки, а за ними пехота начали наступление на деревню Ложки, откуда наши начальники отправляли нас на задание.
К слову, позже в Ложках к немцам перешёл наш боец по фамилии Бабкин. Когда мы подошли к южной оконечности села, где ещё оборонялись красноармейцы, и вместе с отступающими начали отстреливаться, Бабкин залез под мостик через кювет и в ответ на наши сигналы об отходе помахал на прощание рукой и исчез. Сначала мы не поняли его поведение и только на пути в деревню Х вспомнили, что он часто говорил, будто немцы ведь не звери, как пишут наши газеты, и, кто знает, в плену, может быть, не так и плохо. Восстановив в памяти поведение Бориса, мы поняли, что он добровольно перешёл к врагу.
Ну а тогда, после разведки, домой, в часть, нам пришлось добираться пешком: наши лошадки достались занявшим деревню фашистам.
2
Радостным для всех советских людей было время зимы 1941 года, когда Красная армия разгромила войска фашистских захватчиков под Москвой. Горжусь, что в той исторической битве в составе нашего полка принимал участие и я.
Вот ещё одно, почему-то застрявшее в памяти, воспоминание о том времени. Однажды я верхом возвращался в свой полк с донесением. Навстречу проехали несколько легковых автомашин. Знакомый постовой остановил меня, спросил пароль, пропуск и поинтересовался, знаю ли я, кто ехал в машинах. Я ответил, что мне, мол, не докладывают. На что он, ухмыльнувшись, сообщил: на фронт к генералу Рокоссовскому поехали сам Сталин (!) и Иден (министр иностранных дел Англии, между прочим, в те времена считавшийся одним из самых красивых мужчин Европы).
Второго января 1942 года отдел кадров МВО попытался отозвать меня из армии. Тогда многих отзывали – оставшись без специалистов, предприятия, работающие на армию, оказались в труднейшем положении. Но я попросил меня оставить в армии, и моё желание удовлетворили, но предупредили, что, прежде чем вернуть на фронт, меня отправят на курсы младших лейтенантов в знаменитые Гороховецкие лагеря. 5 января второго военного года я туда и прибыл.
Как оказалось – вовремя. В тот день предполагалось начало экзаменов очередного курса. Не имея особого желания тратить там время, я попросил командира полка включить меня в состав экзаменующихся. Строго посмотрев на меня, он спросил: «А зачем это Вам нужно? Осмотритесь, пройдите курс военных наук, ознакомьтесь с военной ситуацией, тогда и на экзамены…»
Я сказал, что спешу на фронт, там больше нужен, время терять не хочу. И, посмотрев ему в глаза, добавил: «Там же сегодня каждый человек на счету».
Несколько смутившись, словно я его в чем-то упрекнул, он, помолчав, ответил: все мы спешим на фронт, а там воевать надо, как известно, не только числом, но и умением, но этому надо учиться. Помолчав ещё, он резко произнёс: «Сдашь всё на „отлично“ – поедешь, будут „тройки“ – останешься ещё на шесть месяцев».
Да, жить шесть месяцев в тех условиях было бы нелегко. Бараки, в которых спали курсанты, сырые и холодные, питание скверное. И ведь дело было не в том, что не хватало продовольствия, нет. Обидно было видеть, что нам доставалась лишь половина положенного каждому пайка, а остальное воровали повара, штабисты и разное лагерное начальство.
Ну дело прошлое…
Экзамены продолжались 19 дней, и это было довольно напряжённое время, хотя результаты у меня были, в основном, отличные. Все теоретические предметы я сдал на «отлично», и только по физкультуре мне поставили «четыре». Это же надо… Мне, мастеру спорта, выигравшему лагерный кросс на 5 км по снегу в сапогах, принимавший экзамен старший лейтенант поставил «четверку» за то, что при перечислении разновидностей лыж по их назначению я не назвал… ступающие лыжи.
Так я стал командиром взвода танкового десанта.
3
Батальон наш формировался здесь же, в Гороховецких лагерях, и я имел прекрасную возможность видеть, как плохо готовили наших бойцов к войне. Маршируя по плацу, они много времени отдавали выработке строевого шага, до автоматизма доводили повороты «направо», «налево», «кругом», учились ходить в колонне по одному, по два и так далее, отдавали честь, делали ещё бог знает что, малозначимое и ненужное. Но при этом очень мало внимания уделялось тем дисциплинам, которые по-настоящему необходимы на фронте. Да что там – они редко и мало стреляли, а как без такого умения воевать с хорошо подготовленным в военном деле врагом? Дело доходило до того, что один полковник на офицерском собрании заявил буквально следующее: «Если я вижу, что солдат перед офицером чётко отбивает шаг и хорошо его приветствует, то я уверен, что он будет хорошо воевать на фронте!» Все это поражало тех, кто читал вышедшую незадолго до войны книгу о Суворове, который был против подобного обучения…
Наконец, на станцию Ильино прибыла танковая бригада. Мы погрузились в товарные вагоны и двинулись на юг. Куда и с какой целью, не знали, но скоро оказались на небольшом железнодорожном разъезде. Было ясно, что это Украина, вокруг стояли беленькие мазанки. Зимы не было. Пригревало апрельское солнце. Зеленая травка, молодые побеги деревьев – все располагало к отдыху. Хотелось лечь на спину, лежать неподвижно, запрокинув голову, и, позабыв обо всём на свете, долго-долго смотреть в бесконечную глубину весенней синевы.
Но рядом шла война. Наша 199-я танковая бригада влилась в состав танкового корпуса, которым командовал генерал Пушкин. Корпус входил в 6-ю армию. Юго-Западным фронтом, в составе которого была эта армия, командовал маршал Тимошенко, а членом Военного совета фронта был Н. С. Хрущёв. Бригадой командовал полковник Демидов, комиссаром был Зимин. Командир моего танково-десантного батальона – бывший учитель капитан Галактионов, командир нашей роты – Телешев, лейтенант запаса. Заместителем его был тоже лейтенант, учитель. Мне достался первый взвод, командирами других стали младшие лейтенанты Торопов и Шанин.
Хорошо помню лишь нескольких бойцов своего взвода. Они не были кадровыми. Это – повар Рябков, столяр Кукавякин и плотник Липин. Заместителем моим был сержант Баранов. Числа седьмого мая к нам в бригаду приезжали командующий фронтом Тимошенко и член Военного совета фронта Хрущёв. Их приезд здорово воодушевил бойцов и командиров. Настроение поднялось, и даже выглядеть они стали по-иному. А тут ещё питание со дня приезда начальства улучшилось, так что бойцы, которые в Гороховецких лагерях были на скудном пайке, здесь начали приобретать нормальный человеческий вид.
10 мая в бригаду приехал полковник, заместитель Тимошенко по технике, и выступил перед комсоставом. Он обрисовал обстановку так: мы находимся на южном участке Харьковского фронта, который острым углом врезается в расположение войск противника. На вершине этого угла находится город Лозовая, взятый у немцев в феврале. Фронт со стороны немцев, по данным нашей разведки, держат румыны и венгры, немецких частей практически нет.
Из его слов стало понятно, что наступление не за горами. Наступать на Харьков будем с юга, сильного сопротивления там не встретим.
И вот 12 мая на Харьковском фронте с юга и с севера наше наступление началось. Противник бежал, а мы его преследовали и уничтожали. И всё бы ничего, но нас нещадно стали бомбить самолёты. Несколько раз в день нам приходилось слезать с танков, убегать метров на сто в поле, а немецкие бомбардировщики в это время с воем пикировали и наносили бомбовые удары по танковой колонне. После того как у них кончались бомбы, они начинали обстреливать наших бойцов из пулемётов. Я ложился на спину и стрелял из автомата в пикирующие на нас бомбардировщики, но без толку.
Прошло пять дней наступления. Наша и правофланговая 198-я бригада оказались в районе деревни Рябухино. Вот здесь мы впервые почувствовали, что такое немец! Почти 100 наших танков в течение дня не могли взять деревню. Они горели, как хаты. В атаку идти было невозможно, от леса до деревни было метров восемьсот – ровное поле. Ты у немца на виду и спрятаться негде.
Меня подзывает командир второго танкового батальона, спрашивает, где мой взвод. Я указываю, где залегли бойцы.
– Бери взвод, садись на «КВ» и вперёд. Выполняй!
Приказ есть приказ. С боков башни ложатся два пэтээровца со своим противотанковым ружьём, я как командир ложусь за башню, а бойцы – рядом со мной. Танк выходит из укрытия и направляется в деревню. Проехав метров сто, я оглянулся, думая, что за нами следуют другие машины. Ничего подобного – мы одни! Ещё сто метров – опять одни. До деревни оставались буквально метры – а за нами никого. Немцы начали молотить нас из пулемётов. Что делать? По уставу полагалось прыгать с танка на расстоянии 30 метров от противника и идти в атаку. Но что мы можем сделать – 20 человек? Вокруг танка рвутся снаряды. Даю команду – покинуть броню. Прыгаем, а танк один идёт на деревню, и ему хоть бы что – ни одного попадания. Это было какое-то чудо.
Весь взвод собрался в большой воронке от авиационной бомбы и с её края стреляет по деревне. Враг перед нами – стреляем по врагу. И вдруг слышим: «Ура-а-а!» С левого фланга наши ворвались в деревню. Только тогда мне стало ясно, какую задачу мы выполняли: участие в отвлекающем маневре.
Но далеко не все события в тот день развивались так удачно. Наступил вечер, а село Рябухино ещё не было взято.
Это было 17 мая. Командир бригады собрал офицеров и начал свою речь так: «Получено радио с Большой земли (такое вступление ошеломило буквально всех командиров). Нашей бригаде дан приказ идти назад, прорвать окружение и у реки Донца ждать отходящую пехоту». Можно представить наше состояние после этих слов… Пять дней успешных боев коту под хвост! Оказывается, немецкие войска, освободившиеся под Керчью (как я после узнал у одного немецкого офицера), были срочно переброшены на харьковский участок и спокойно, не встречая сопротивления, отрезали три наши наступающие армии, заняв весь правый берег Донца.
Штабам трёх армий удалось переправиться через реку. Бойцам сказано, что танковая бригада идёт в тыл. Жители деревень, которые мы проезжали, приветствовали нас как победителей. В одной был госпиталь. Раненые бойцы подбегали к танкам, спрашивали, как дела на фронте, смеялись, радовались удачному наступлению. Да и наши солдаты, не знавшие, в каком катастрофическом положении мы находимся, тоже смеялись, делились с больными махоркой, шутили и предсказывали близкую победу. Мол, вот-вот, ещё немножко…
А кольцо-то вокруг нас уже было замкнуто. И всех – и раненых, и не раненых – ожидала одинаковая судьба.
Недалеко от Донца, километрах в четырёх, раскинулось в яру село Волобуевка. Большое такое село. Мы подошли к нему вечером и увидели на той стороне яра немецкие танки. Нашего комбрига не было – он исчез. Командовал бригадой Зимин. Ясно, что бронемашинам в деревню идти нельзя, селение нужно занимать пехотой. Началась артиллерийская дуэль танков, а нам был дан приказ занять деревню. Меня вызвал комбат и сказал: «Сейчас поведёшь в атаку роту». Мы постояли с ним, глядя в сторону селения, и вдруг он говорит: «А знаешь, Фёдоров, пойдём перед атакой выпьем». Мы пошли и выпили с ним уже и не помню сколько водки. Но очень много. Я столько раньше никогда не пил. Тем не менее во время атаки я даже не почувствовал опьянения. Приставив автомат к животу, повёл за собой роту.
И тут – на тебе: попадаем под минометный обстрел. Удовольствие это, прямо скажем, небольшое, и мы сначала растерялись, заметались, но вскоре довольно удачно вышли из-под огня и рванули дальше, вперёд. Наконец вошли в деревню. Как выяснилось, немцев там было мало, да и те не очень-то держались за этот населенный пункт. Тогда мы с гранатами в руках устремились на немецкие танки, надеясь расправиться с грозными бронированными чудовищами, но… танки ушли. В деревню вошли наши бронемашины, забрали нас, и мы направились к Донцу.
Идём дальше, занимаем село Чапель. Немцы бегут. Мы пьём воду из Донца, настроение улучшилось. Будем держать деревню. Если что, на той стороне наши – помогут, да и Донец можно переплыть. Но когда же подойдёт пехота?.. Этого никто не знал.
И вдруг с той стороны приказ: отойти назад, занять село Волобуевку и там закрепиться.
Что ж, отошли. Закрепились как могли. Напряжённо ждём, что будет дальше. На сердце тревожно и погано. Как выяснилось потом, неспроста. Утром нас атаковали уже с западной стороны. Десятка два немецких автомашин высадили десант. Наши минометы сработали безотказно: несколько залпов – и десант рассеян. И тогда в атаку на наши позиции пошли немецкие танки. Между ними и нашими машинами началась артиллерийская дуэль. Вот только наши передвигаться уже не могли – кончился бензин. Танкисты с помощью десантников зарыли их по самые башни, и они яростно огрызались, ведя прицельный огонь по противнику. После их удачных выстрелов немецкие танки вспыхивали и горели ярким пламенем. Правда, не менее ярко пылали и наши.
Кругом немало убитых и раненых. Бригада тает на глазах. К вечеру остаются живыми и не ранеными не больше ста человек. У танков кончились снаряды, у бойцов на исходе патроны. Попробуй тут удержать деревню! Немцев-то вон сколько – прут и прут. И скоро они уже были в Волобуевке. Оказавшись там и сконцентрировавшись, они методично выдавили нашу группу в соседний лесок.
Комиссар собирает командиров в небольшом овражке и объявляет устный приказ: оставшиеся танки взорвать, офицерам пробиваться к Донцу. Вперед посылает меня и Торопова.
4
Ночь безлунная… Мы идем, как нам кажется, на восток, прошли уже немало, вот-вот должна была показаться река, а там – свои, там – спасение. Но не тут-то было. Попадаем под сильный автоматный огонь противника. Ложимся, пытаемся отстреливаться. Ага, на восток не пробиться. Зимин даёт приказ повернуть назад. Той же дорогой, далеко обходя Волобуевку, движемся теперь уже на запад. Идём туда целую ночь и ещё полдня. Никаких сил уже нет, да и откуда им взяться?
И тут… о, эту картину мне не забыть никогда. После очередного поворота дороги, которая вела к реке, мы увидели, а прежде чем увидеть, услышали оглушительный рёв немецких самолётов. С воем и свистом они сбрасывали свой смертоносный груз на головы советских солдат, пытавшихся перебраться на другой берег реки. Глядя на лица обезумевших от ужаса бойцов, становилось ясно, что перед нами никакая не армия, не боеспособное воинское соединение для борьбы с сильным и коварным противником, перед нами – растерянная, не управляемая в своём безумстве, обречённая на смерть толпа.
Уже не помню, как мы оказались на холмах перед селом Петровским, что стоит на Донце, районным центром Харьковской области. Но очень мы тогда обрадовались: спасены – скорее, скорее к реке!.. И тут же нарываемся на сильную, хорошо организованную немецкую оборону, довольно мощно поддержанную бронетехникой. Остатки нашей бригады рассеяны на мелкие группки по несколько человек в каждой. В нашей оказались Телешев, Рябков, Кукавякин, Липовой, Торопов и Шанин.
Началось блуждание. Несколько дней мы ходили по степи вдоль линии фронта, пытаясь ночами пробиться к Донцу, который мы видели издалека, но весьма отчётливо. Вода в реке словно горела, ярко освещённая светом беспрерывно взлетающих в чёрное ночное небо ракет. Подойти к реке близко было невозможно, не говоря о том, чтобы каким-то образом через неё переправиться. Против отступающих красноармейцев немцы заняли крепкую оборону по всему берегу реки. Идёшь ли, ползёшь ли – всё равно натыкаешься на немцев. Примерно через каждые пятьдесят метров в направлении тыла у них были расположены пулеметные точки, а за ними окопы и блиндажи. По ночам мы пытались хоть как-то пробраться поближе к воде, в надежде попасть на другой берег, а днём прятались в небольших балках.
Хорошо помню ночь с 27 на 28 мая. После очередной безуспешной попытки добраться до Донца, мы заснули под утро в балочке с журчащим внизу ручейком. Было очень холодно. На мне только солдатская гимнастёрка. Чтобы немножко согреться, я по пояс залез в вещевой мешок и, положив под голову автомат, заснул на собранных накануне сухих листьях. А когда снял с себя мешок… увидел стоящих передо мной немцев! Руки сами потянулись вверх. И не только у меня. Все мои попутчики стояли с поднятыми руками. Лениво переговариваясь друг с другом, немцы обыскивали нас, выворачивая карманы, выбрасывая на землю скудное имущество из солдатских вещмешков. Некоторые ругались. Но не били. Обыскав, приказали подняться наверх и привели к офицерской палатке.
Так я попал в плен.
5
Скажу честно: неожиданность пленения вызвала у меня страх. Оттого, думаю, у меня был очень растерянный вид. Да и у моих коллег, попавших в плен – Рябкова, Торопова, Шанина (Телешев исчез) и ещё кого-то, – не лучше. В памяти моментально всплыло газетное сообщение о зверствах немцев, о вырезанных на спинах звёздах и прочих жестокостях. Но спустя какое-то время я стал успокаиваться. Обращение немецких солдат с нами не предвещало казней и пыток. Им просто нужно было от нас поскорее избавиться.
Два солдата повели нас в штаб в одиноко стоящем деревенском доме. У штаба – машина, в ней сидели двое штатских. Не вспомню сейчас, почему я так уверен, но могу утверждать, что они были немецкими агентами в нашей армии. Вот почему: сильно чувствовалось, что они недавно сменили советскую военную форму на штатскую одежду.
Когда нас подвели, один из штатских спросил по-русски:
– Давно ли, ребятки, попались?..
Мы ответили, что только что.
– Ну ничего, для вас война уже окончена, – заверил он нас и что-то сказал немецким офицерам. Один из них пошёл в дом и вынес нам несколько бутербродов.
От штаба в сопровождении двух конных немцы повели нас дальше. Шли мы долго, ноги заплетались от усталости, хотелось пить и есть. И вдруг, буквально на глазах, Шанин стал ослабевать. Лицо опухло, он зашатался, и мы с Тороповым взяли его под руки. Но он с трудом переставлял ноги, и некоторую часть пути мы его волокли. Немцу всё это надоело, он остановился, пристально посмотрел на Шанина, потом приказал его положить и выстрелом из винтовки в затылок прикончил, не слезая с коня.
Нас привели в село Петровское, где был организован лагерь за колючей проволокой. В нём уже содержалось несколько сот пленных. Для офицеров был выделен дом, рядовой состав располагался под открытым небом. О еде для пленных никто и не думал. Хотя спустя какое-то время немцы все же привели подстреленную лошадь и приказали пленным самим организовать себе питание. Тут же нашлись специалисты – лошадь убили, ловко разделали и сварили. Раздача пищи прошла организованно, хотя все изголодались.
Весь день и всю ночь в лагерь прибывали новые партии военнопленных. А когда он переполнился, нас построили в огромную колонну и вывели на шоссе. Откуда-то появились ещё несколько таких же колонн, их объединили в одну, в её голову собрали офицеров, и под сильной охраной конников начался наш трёхсуточный марш до города Лозовая.
Несколько слов о настроении. Испуг момента пленения сменился жаждой жизни. Я попытался осмыслить случившееся, но это давалось с трудом. Ведь всего несколько часов отделяет человека от привычной обстановки, в которой он ещё недавно находился, а теперь на своей же земле ты чужой человек. Кажется, всему настал конец. А как же Родина? Что там, за линией фронта? Может, это вообще конец? И кто ты такой? Ты же предатель Родины, ты поднял руки… Мысль об этом довлеет над сознанием. Меня это угнетало в самые тяжёлые моменты трёхдневного голодного марша на Лозовую. Под гнетом переживаний я не чувствовал ни голода, ни жажды. То же самое происходило и с Тороповым. Он шёл рядом, но мы не обменялись ни словом. Лицо моего товарища по несчастью заострилось, взгляд устремлён вперёд, глаза остекленели, и, казалось, он ничего не видит. Это было похоже на умирание.
Я не знал тогда, что в плен попали миллионы наших солдат, офицеров и генералов. Не знал слов генерала Карбышева, что можно (и нужно!) сохранить честь в бесчестье. Я не знал, что генерал Лукин говорил о том, что в любых условиях солдат должен выполнить свой долг перед Родиной, а не стреляться. Ты – солдат, считал Лукин, и должен выполнять свой долг солдата перед Родиной даже в плену. Не знал я и что маршал Тухачевский пять раз бежал из плена. Что из плена бежал де Голль. Я вообще не знал, что плен не позор, а несчастье. Мыслил сталинскими понятиями: плен – это предательство. А ведь в плену по вине Сталина находились семь миллионов солдат и офицеров. Разве все они были предателями?
6
…В той огромной колонне, насчитывавшей порядка двадцати тысяч человек, люди шли молча. Три дня стали самыми тяжёлыми в моей жизни. Я никогда – ни раньше, ни позже – не испытывал таких моральных мук. Мысли лихорадочно роились в голове. Что делать? Умирать, как предателю, или бороться? Как бороться? За что? Ведь Родина потом тебя не примет. А может, все-таки примет? Что-то нужно делать. Там, дома, маленький сын и любящий меня пасынок. Им нужно жить, им нужна Родина, им нужен отец. Мысль о детях и спасла меня от смерти. Я воспрянул духом, вновь захотелось жить.
Марш шёл через Барвенково и Малиновку на Лозовую. Первая ночёвка была в Барвенкове. Мы надеялись на пищу и воду, но не получили ни того ни другого. В Барвенкове нас разместили за каменной оградой. Полицай, из русских, обходил лежащих группами военнопленных. В руках у него была буханка хлеба. Он громко извещал: «Кто выдаст жида или комиссара, получит буханку хлеба в награду». Подлецы нашлись: кто-то получил свои тридцать сребреников, кого-то повели за стену.
Всю ночь мы слышали крики людей, убиваемых палками. Утром начался марш на Малиновку. Пекло солнце. Когда проходили деревни, женщины выходили из хат и, стоя у дороги, качали головами, плакали и старались незаметно сунуть нам кусок хлеба. Но получить его было невозможно. Попытка одного из военнопленных протянуть руку за хлебом закончилась смертью. Его настигала пуля часового. Конвоиры очень жёстко поддерживали порядок в колонне. Ослабевших и отстающих тут же пристреливали. Тот, кто пытался напиться из лужи, тоже получал пулю в спину. И так три дня без хлеба и воды. Выдержать это мне помогла спортивная закалка.
На третий день вечером мы пришли в Лозовую. Огромная территория, окружённая колючей проволокой, под охраной пулемётчиков, была заполнена десятками тысяч военнопленных. Влилась в эту ограду и наша колонна. Мы упали на землю – хотелось пить, есть, спать. У кого-то оказался кусочек зеркала. Я посмотрелся в него. Глаза были без белков – сплошная кровь. Очевидно, от напряжения полопались сосуды.
Один из тех, кто прибыл раньше, подошел к нам. Вид у него был не такой измученный, как у нас. Он сказал, что сейчас нас поведут на водопой. И действительно, через некоторое время группами по сто – двести человек нас повели к водоему. Когда партия, в которой был я, пришла туда, вода была очень грязная. Но мы пили, буквально захлебываясь. Я нашёл консервную банку, зачерпнул воду и стал пить через носовой платок. Опустошив банку, увидел, что в платке что-то шевелится. Оказалось – несколько головастиков.
Напившись и окунувшись, почувствовал себя лучше. Страшно захотелось есть. Придя в лагерь, я лёг на землю и уснул. Сквозь сон слышал стрельбу, жужжание пуль – оказывается, нельзя было вставать. Случайно поднявшиеся подвергались риску ранения или смерти. Как после я выяснил, кто-то в это время сумел бежать из лагеря, пролезши под проволокой.
Да, я забыл сказать: когда нас привели в лагерь, я увидел шеренгу полицаев, около которой мы проходили. И в числе предателей был мой сослуживец лейтенант Телешев. Это меня не удивило. В нем органично сочетались две ипостаси: блатного и труса. Он был предателем по своей природе, как и перешедший к немцам Бабкин.
Утром в лагерь пришёл офицер-железнодорожник и на немецком языке громко объявил, что ему для работы нужны сто человек. Желающим предложил выйти из строя. Я понял его слова, поняли и многие другие. Вместе с Рябковым и другими пленными мы подошли к офицеру. Среди шагнувших вперед я узнал своего помощника сержанта Баранова. Он хромал – схлопотал пулю во время марша. Каким образом, не знаю, а расспросить подробно возможности не представилось.
…Не секрет, что в каждом невольнике постоянно живёт мысль о свободе. Не покидала она и меня, и многих из тех, кто шёл в колоннах советских военнопленных, захваченных немцами после окружения наших войск под Харьковом. Во время марша, проходя мимо полос из посадок ясеня, горячие головы пытались бежать, используя прикрытие зелени, но их фигуры хорошо были видны немецким конникам, которые, как в тире, с небольшого расстояния расстреливали бежавших.
По-разному представляли себе путь к освобождению недавние еще солдаты. Интересный разговор во время марша на Лозовую у меня был с одним старшим лейтенантом. Он наметил себе план побега с помощью… немцев. Завербуюсь к ним в диверсанты, говорил он, забросят меня в тыл к нашим, а там явлюсь в соответствующие органы. И будь что будет! Предложил мне действовать вместе. Я отказался, но предложил ему совместный побег.
Моего предложения он не принял…
Рябков, Баранов и я, на ходу обменявшись несколькими словами, решили, что шансы бежать есть. Офицер построил отобранных сто человек, а затем заставил каждого пройтись перед ним. Некоторых отбраковал. Исключил и Баранова, который сильно хромал. Мне было жаль Николая, но сделать я ничего не мог. Мы остались с Рябковым, договорились бежать при первой же возможности и только ждали удобного момента. Перебирали разные варианты, намечали, кто и как будет действовать, но ни он, ни я не ожидали, что возможность эта представится буквально через несколько минут, при выходе из лагеря.
Вот как развивались события. Наша команда была направлена на кормёжку тут же, на лагерной территории. В добрые времена хозяин кормил подобным варевом разве что скотину, а здесь тысячи людей были рады каждому кусочку сваренного в чане жмыха. Котелков не было, и «повара» черпаками выливали «еду» прямо в вывернутые пилотки. Я глотал баланду, обжигаясь, не чувствуя отвращения, а, проглотив содержимое пилотки, снова стал в очередь и получил ещё одну порцию. Её уже ел не так торопливо. Дожевав остатки, был счастлив и чувствовал себя прямо-таки в спортивной форме. Перекусил!
После кормежки всех, кто вызвался на работу и кто был признан годным, построили в колонну по шесть человек и повели узкими улицами города Лозовая.
Ещё недавно население смотрело на нас как на освободителей, а теперь, увидев колонну советских военнопленных, женщины, выходившие из домов, пристально и как-то горестно вглядывались в измождённые лица солдат. Многие вытирали уголком платков набежавшую слезу и старались всучить в руки проходящих страдальцев кусок хлеба, шматок сала или ещё что-то съедобное. А на одном из перекрёстков красивая полная девушка-блондинка вынесла и поставила на землю ведро кислой капусты. Возникла давка, каждому хотелось заполучить хоть немного этой настоящей еды.
И меня пронизала мысль: вот он, тот самый случай, – надо бежать, не теряя ни секунды. Воспользовавшись суматохой, я крикнул: «Рябков, за мной!», перепрыгнул через ближайший плетень и оказался во дворе дома. Когда бежал, слышал, как Рябков крякнул, но за мной не последовал. Что ж, хозяин – барин, как знает. Подползаю к хлеву, встаю, открываю дверь и, оказавшись внутри, ложусь на пустующее место борова, который, очевидно, достался немцам. От напряжения меня буквально трясло. Я ждал, что сейчас войдут немецкие конвоиры и без суда и следствия тут же пристрелят, как это всякий раз случалось с беглецами. Затаив дыхание, я прислушивался.
Но, как оказалось, им было не до меня – оттаскивали голодных людей от ведра с капустой и строили их в колонну. Да и конвойных-то было только двое – офицер и солдат. Мой побег остался незамеченным, и я с облегчением услышал топот удаляющейся колонны.
И тут же раздался звук открываемой двери. Я увидел фигурку худенькой девочки. Переступив порог, она посмотрела на меня, но лицо её абсолютно ничего не выражало. Сразу повернулась к выходу, закрыла за собой дверь и опустила щеколду. Я оказался взаперти.
7
Через некоторое время послышались лёгкие шаги. Щеколду сняли, открылась дверь, вошла пожилая женщина.
– Милый мой! Скольких же я переодела, а для тебя у меня одежды нет никакой. Не осталось ни одной тряпки… Хотя надо же что-то найти. В форме тебе идти никак нельзя.
Она опять ушла, но через несколько минут вернулась с рваными ватными брюками и не менее рваной рубахой из мешковины. Я переоделся, оставив, по совету хозяйки, свои сапоги. «Не дойдешь босиком, ведь ты городской», – сказала она. Одна штанина у меня была выше колена, другая – ниже. Правое колено было голое. В рубашке был вырван клок прямо на животе. На голове – старенькая фуражка. Хозяйка позвала в дом и дала молока с хлебом. Когда я пил молоко, вошла девочка. Улыбнулась, поздоровалась со мной, протянув руку, и сказала: «Так и знала – спасу чью-нибудь душу».
Минут через десять я с лопатой на плече маршировал на восток. На душе было легко, хотелось напевать: «…подари мне, сокол, на прощанье саблю». Кстати, эта песня сопутствовала мне во всех моих побегах. Мне казалось, что самое главное уже сделано, а перебраться через линию фронта – ерунда.
Неопытность!
Это было 2 июня 1942 года. Солнце ласково пригревало. Я целый день шёл, напевая песни, заходя в деревни, чтобы попросить поесть. Немцы не обращали внимания на оборванного крестьянского парня. Таких в тех местах тогда было полно.
На второй день я встретил на дороге трёх девушек, с которыми дальше пошли вместе. Полюбопытствовал откуда и куда. Они отвечали нехотя и неопределенно. Разговор не клеился. Тогда я рассказал им о себе, о своих военных злоключениях, и через некоторое время мы были с ними на вполне дружеской ноге. Как выяснилось, моими попутчицами были работницы райкома комсомола города Славянска. Они пробирались к фронту. С ними мы шагали два дня, а на третий пришли на хутор Заря, где остановились в крайней хате. В ней жил старик со снохой – сын погиб. Наутро девушки пошли дальше, а я по просьбе старика остался на несколько дней, чтобы вместе с ним починить крышу, да и в обстановке надо было сориентироваться.
Старик, кряхтя, помогал мне снизу указаниями, подавал солому, успокаивал плачущего внучонка и ругал сноху, которая нарумянилась и открыто ждала прихода немцев. Отдыхая, мы со стариком курили сушеные листья. Вдруг на дороге показался путник. Он шел из деревни, и было ясно, что это – мешочник. Увидав нас, подошёл, дал закурить махорки и сказал хозяину: «Ты мне, старик, береги хлопца, а ты, – обратился он ко мне, – сбегай вон в ту землянку. – Он указал на ту сторону ручья. – Спроси Николаева. Когда он выйдет к тебе, скажи ему „3—15“. Он тебе всё расскажет».
Таинственность пробуждает надежду. Я помчался к землянке, вырытой у воркующего рядом ручья. Дверь открыла молодая женщина. Я спросил Николаева. «У нас таких нет», – ответила она. Но, услышав возню за дверью, я громко сказал: «3—15». Сразу же ко мне вышел высокий мужчина средних лет. «Проходи. Ты откуда?» Я ему рассказал о встрече с мешочником.
Он поделился со мной доступной ему информацией. Час назад к нему явился парень из города и сказал, что завтра в четыре утра сюда прибудет автомашина с оружием, и на ней мы постараемся пробраться к линии фронта. Пароль для сбора – «3—15». Что это – правда или провокация – я не очень понимал. Решил ждать. Человек в землянке сказал, что в одном из домов живут ещё хлопцы. Более того, на хуторе находился и бежавший из плена дивизионный комиссар.
Я пошёл по хутору, нашёл дивизионного комиссара, мы с ним обсудили ситуацию. Выяснилось, что и он толком ничего не знает. Я нашёл ещё двоих молодых ребят, которые тоже с нетерпением ждали утра. Вместе с ними мы забрались на сеновал и там проспали до тех пор, пока рано утром, часа в три, нас не разбудила хозяйка. Она дала нам лепёшек и посоветовала забраться на чердак школы. Мы так и сделали. Устроившись поудобнее, стали ждать, до боли в глазах всматриваясь в дорогу. Четыре часа, пять часов, шесть – никого. В седьмом часу раздался конский топот. Мы прильнули к щели и увидели, что на хутор вступает немецкая часть. Вот тебе и «3—15»! Это был карательный отряд. Дождались. Спешно эвакуируемся. Посреди поля в пшенице я зарыл паспорт и военный билет, которые захватил из дома, когда шел 16 октября 1941 года в школу, где формировался коммунистический батальон Первомайского района. Тогда в спешке документы у нас не забрали, и они так и оставались у меня. Как мне тогда казалось, я хорошо запомнил место захоронения своих бумаг и, убедившись, что смогу найти их даже спустя время, двинулся на восток. Мне надо было попасть в так называемый Теплинский лес, о котором слышал, что он находится на берегу Донца. Говорили, что там будет легко переплыть реку.
К вечеру я был в селе, расположенном километрах в пяти от Донца. Зашёл в первый попавшийся дом, и оказалось, что там жила молодая женщина, которая встретила меня очень тепло и сердечно. Излишне тепло и излишне сердечно. Она рассказала, что в деревне немцы, но их, мол, не надо бояться. Довольно долго уговаривала меня остаться у неё. Говорила, что зарыла пудов 20 подсолнуха, у неё много сала, мёда. «Будем жить хорошо, – убеждала хозяйка. – Отец у меня хороший. А муж погиб. Если уйдёшь, тебя тоже убьют. Всё равно не перейдёшь Донец. Конца войны дождёшься у меня, будешь как сыр в масле».
Я никак не мог согласиться. Сердцем я был в Москве, там мой сын, семья, друзья. И я пошёл дальше.
…Ночь. Тихо и медленно иду, пытаясь найти тот самый Теплинский лес, а его все нет и нет.
Мне уже стало казаться, что он начинается за каждым поворотом. Или вот тут, за этими кустами – вот он, лес… Нет, ничего подобного.
Дело к утру. Зарываюсь в кусты. Когда рассвело, соображаю, что я забрался в кусты около села, в котором полно немцев. Очень хочется есть. Рядом женщина мотыгой обрабатывает землю. Ползу к ней. «Тётка!» Она вскрикивает, поворачивается ко мне и, увидев, ещё больше пугается.
– Чего тебе, милый?
– Где Теплинский лес?
– Вон, милый, вон. Он километрах в трёх отсюда, – она показывает на юго-запад.
– Принеси мне поесть.
– Сейчас, милый, – она забирает мотыгу и охотно идёт домой.
Я отхожу в сторону по разрыхленной земле и по канаве отползаю дальше. Мне видна вся деревня, я даже вижу немецких солдат…
8
Около часа я дожидался эту женщину. Наконец она появилась в сопровождении двух немцев, показала им пальцем на то место, где мы с ней стояли. Немцы огляделись и увидели мои следы на рыхлой земле. По следам добрались до меня. Наган в живот, обыскивают, по-русски говорят плохо, один из них находит справку, забирает в карман. Идём в деревню, к нам присоединяется её староста. Он уговаривает меня не воевать, ругает за попытку перебраться через линию фронта и говорит, что я должен быть благодарен его жене за то, что она выдала меня немцам. А село, как хорошо помню, называлось Богородичное.
Меня привели в штаб. Офицер устроил краткий допрос. Кто, куда, откуда, зачем? Говорю, что иду из окружения, пробираюсь к своим. Переводчик – чех – пытался меня переводить.
– А почему в штатском? – спрашивает офицер. – Шпион?
Он рисует на обратной стороне пачки папирос «Казбек» виселицу, показывает мне – «шпион, капут». Тогда чех вспомнил о справке. Достает её, читает и переводит. Лейтенант что-то сказал, замахнулся на меня стеком, но не ударил. «А если бы тебе удалось перебраться к своим, разве ты не рассказал бы, что видел здесь?» – спрашивает он меня. Я ответил, что воинская дисциплина обязывает меня всё рассказать. Он спросил меня ещё о чём-то, но на некоторые вопросы я отказался отвечать. Ко мне подошли два солдата и вывели из хаты. На выходе я услышал по-немецки: «Сегодня вечером» (Heute Abend). В воспалённом мозгу сразу же возникла мысль, что сегодня вечером меня повесят. «Бежать, скорее бежать!»
И когда оказываюсь в крестьянском бомбоубежище – землянке – тут же начинаю копать, пытаясь найти выход на волю, но в тишине раздались ровные шаги часового, и я понял, что пытаться бежать просто бессмысленно. Трезвое осмысление ситуации успокаивает. Хочется пить. Открываю крышку над выходом, часовой равнодушно смотрит на меня. Прошу воды. Рядом – кухня. Повар, оглянувшись по сторонам, прячет буханку хлеба под фартук, подходит и бросает мне. Кричит по-русски: «Спать, спать!» – закрывает отверстие и наваливает на доски камень. Мне хочется пить, а дают хлеб. Правда, через некоторое время я почувствовал и голод. Буханка исчезла в мгновение ока. Часа через три отваливается камень и над выходом появляется офицер, но не тот, который допрашивал. Улыбаясь, он предлагает мне выйти из моего заточения. Вылезаю. Неподалеку от моей ямы – небольшая поляна с тремя еще свежими пеньками. На двух расположились два офицера, на третий предлагают сесть мне. Протягивают чашку кофе. Я быстро и с удовольствием пью. Наливают ещё. Молча разглядывают меня. Я пью ещё и ещё. Спрашивают: напился? Отвечаю – да. Просят удалиться в землянку.
Вечером меня не повесили, подумал я, значит, повесят утром. Начался дождь, да ещё какой: как из ведра. Землянку затопило. Я сидел на ступеньках в воде. Шанса бежать не было никакого. Выход плотно завален камнями. Наконец настало утро, и меня вывели из моего заточения. Ефрейтор и солдат получили от офицера пакет и повели меня из деревни. Дорога шла через лес, может даже через тот самый Теплинский. Иду и думаю: если решат расстрелять, побегу. А что: силы есть, бегаю хорошо, в лесу попасть в убегающего не так просто. Надо рискнуть.
Припекало солнце. Дело солдатское – никуда не торопись и всюду будешь вовремя. Километрах в двух от леса ефрейтор предложил перекурить. Дали сигарету и мне, смеются, хлопают по плечу, призывают не бояться. Я спросил: расстреляют ли меня? А они, смеясь, отвечают – нет. Часа через полтора мы подошли к лесистой балке, заполненной немцами. В лесу стоял шикарный автобус. Как выяснилось, это был штаб. Ефрейтор вошел в автобус и кому-то отрапортовал о своём прибытии, затем вернулся, кивнул мне и с солдатами пошёл обратно.
Я стою у автобуса, грязный, усталый, одетый в нищенское тряпье, настроение ужасное. И вдруг слышу: «Гражданин Фёдоров, войдите!»
Захожу в автобус.
– Садитесь, – говорит по-русски офицер в чине капитана. – Будем знакомы. Я тоже русский, моя фамилия Зюзин, работаю при штабе полевой жандармерии переводчиком. Вот этот, – он указал на сидевшего в кресле офицера, – шеф полевой жандармерии. Я прочитал протокол вашего допроса. Считаю, что вы поступили неосторожно, не отвечая на некоторые вопросы. Ведь «передовики» – они звери. Могли вас расстрелять или повесить. И потом, к чему этот риск – переходить линию фронта? Надо беречь свою жизнь. Война скоро кончится. Я тоже очень сожалею о поражении Родины, но считаю, что такая операция необходима для очищения страны от заразы большевизма. Скоро отдохнем. А сейчас идите к ручью, умойтесь, и вас отведут в палатку.
Солдат отвёл меня к ручью. Я старательно вымылся. Мне дали кофе с хлебом и отвели в палатку.
В одном её углу лежал истощённый человек, тоже военнопленный, капитан. В другом было несколько буханок белого хлеба. Из разговора выяснилось, что он – украинец, так же, как и я, пытался через Теплинский лес пробраться на ту сторону Донца. Но лес окружен немцами, и пройти к своим не удалось. Он решил сдаться. После этого начал ругать большевиков, москалей, Сталина. Мне эти разговоры пришлись не по нутру, но я промолчал.
Открылась палатка. Немецкий офицер протянул мне свои ботинки, щётку и гуталин. Я отодвинулся. Хохол говорит мне: «Бери, чисть, получишь буханку хлеба». Видя, что я отказываюсь от работы, офицер спросил почему. Сказал ему, что я тоже офицер, и чистить ботинки кому-то не собираюсь.
Он вдруг заулыбался и сказал, что действительно офицеру чужую обувь чистить негоже, и кинул ботинки хохлу, приказав: «Быстро!» (Schnell.)
А меня позвал выйти. Мы сели на бревно, закурили его сигареты и общались, насколько позволяло мне знание немецкого языка, до тех пор пока капитан не почистил ботинки. Получив пачку сигарет, он поблагодарил немца, а на меня взглянул с ненавистью.
Я лёг и пытался осмыслить своё положение. Было трудно понять, что происходит. С одной стороны – наша пропаганда о зверствах немцев, да и сам я видел, как они расстреливали людей из колонны. С другой – сейчас нормальное, даже гуманное отношение к военнопленным. Что это? Действительно ли немцы уничтожают военнопленных по какой-то системе? Или здесь проявляется индивидуальное отношение отдельных немцев? Факты были настолько противоречивы, что я не мог прийти ни к какому выводу.
Часов в пять вечера к палатке подошёл солдат и повёл меня в штаб. Я вошёл в автобус, там были Зюзин и его шеф – майор. Стол накрыт. Стояли бутылки с вином и один свободный стул. «Мой шеф, – начал Зюзин, – хотел бы поговорить с советским интеллигентом в спокойной обстановке. Это не будет допросом. И на любой вопрос, который вам будет задан шефом, хотите – отвечайте, а хотите – нет. Вы тоже можете задавать вопросы. Право ответа шеф оставляет за собой».
«Что это? Ловушка, замаскированный допрос?» – пролетела мысль. Делать нечего. Сажусь.
– Кто, по-вашему, выиграет войну? – с интересом поглядывая на меня, начал беседу майор. Я ответил, что, конечно, мы.
– Почему?
Я ответил, что у нас много человеческих и технических ресурсов и что, очевидно, союзники скоро откроют второй фронт, а война на два фронта для Германии гибельна.
Майор улыбнулся и возразил:
– Вы знаете, что промышленность всей Европы работает на нас, следовательно, наши ресурсы превышают ваши, а человеческого материала в европейских странах не меньше, чем у вас. И о втором фронте думать рановато. Скоро у вас откроется второй фронт на Дальнем Востоке – японцы ведь наши союзники. В то время как англичане и американцы не смогут начать боевые действия против нас, потому что мы топим их кораблей больше, чем они производят.
Под влиянием нескольких рюмок вина я начал горячиться в споре. Зюзин сказал, что горячиться не стоит, ведь это – спор двух солдат, которые, может быть, больше не увидят друг друга никогда. Майор поинтересовался, много ли азиатов в нашей армии. Я ответил, что у нас представлены народы всех республик. «Кого вы считаете вашим лучшим генералом?» Я ответил, что генерала армии Жукова. Он согласился. «Какой танк вы считаете самым лучшим?» Я сказал, что Т-34. «О, это лучший в мире танк, – признал майор». Потом у нас зашёл разговор о ресурсах. Он сказал, что у Германии очень много синтетического бензина и, кроме того, в Румынии, как он выразился, «мы столбом нефть качаем».
Говорили и спорили мы с этим офицером примерно час. Затем майор ушёл, а Зюзин начал рассказывать о себе. Подробностей не помню – от вина клонило ко сну. Ночью спал как убитый.
9
Утром меня посадили в легковую машину и в компании двух немцев, которые ехали по своим делам, доставили в город Дружковка, в очередной лагерь.
Военнопленные солдаты находились в железобетонном многоэтажном здании производственного назначения прямо на бетонном полу по всем этажам. Для офицеров особо выделенного места не было, да и офицеров не было. Меня поместили в одну комнату с полицаями и врачами-украинцами. Полицаи были молодые солдаты, а врачи все – офицеры. При знакомстве между нами и врачами завязался спор с врачами. Они хором нападали на большевиков, Сталина, москалей, которые со времён Петра эксплуатируют-де Украину. Полицаи в споре не участвовали. Видно было, что эти ребята для сохранения собственной шкуры решили прислуживать немцам. И они добросовестно делали своё дело. Во время трёх– или четырёхдневного пребывания в этом лагере я видел, как не раз гуляли ремни полицаев по спинам голодных военнопленных. А немцы не вмешивались. Во время одного из споров присутствовал лагерный повар – бывший черноморский моряк. Он следил за дискуссией молча, потом встал и, обложив хохлов витиеватым русским матом, предложил мне выйти. Зашли к нему. Он сказал, что мои доводы не убедят эту контру, и что он тоже спорил с ними, а теперь просто их ненавидит. Рассказал о себе, накормил меня жирной свининой, в результате чего у меня сильно расстроился желудок.
Лагерь в Дружковке не был стационарным, поэтому нас вскоре должны были перевести в другой. Врачи и полицаи с ненавистью смотрели на меня. До ликвидации лагеря меня одного направили в офицерский лагерь в небольшом городишке Константиновка.
Я ехал по дорогам промышленной Украины, видел разрушенные заводы, здания без крыш, сожжённые мазанки. Двигались немецкие автомашины, танки, самоходные артиллерийские установки и тягачи. В кузовах автомобилей сидели немецкие солдаты – сытые и самоуверенные. От их вида на душе становилось тяжко.
Лагерь в Константиновке размещался на месте бывшего фосфатного завода. Большая территория, обнесённая колючей проволокой, имела ряд зданий барачного типа, в которых теснились несколько тысяч военнопленных. В помещениях всем места не хватало, и люди спали на голой земле. Офицерское отделение расположилось в центре лагеря в маленьком здании, обнесённом колючей проволокой. Рядом была санчасть и так называемый госпиталь. Туда можно было пройти из офицерского домика. Врачи – хохлы – были настроены резко антисоветски: те же речи, что и в Дружковке, а вот фельдшеры были свои ребята. Они молчали в спорах с врачами, но были на нашей стороне. Офицеров было человек восемнадцать разных рангов и возрастов. Запомнил я одного – москвича Сашку – лётчика. Отец его тоже лётчик, кажется генерал, а жил он в Москве на Ленинградском шоссе. Среди офицеров был комиссар с четырьмя «шпалами». По национальности украинец. Как же он ругал советскую власть, москалей, Сталина! Имея хорошо подвешенный язык и ориентируясь в литературе и истории, он всегда подбирал веские аргументы для доказательства своих доводов. Все офицеры его ненавидели. Он хвалил националистическое правительство Украины и бубнил, что, как только вырвется на свободу, отдаст всего себя, все свои силы и знания борьбе за самостийную Украину. Это же надо – комиссар, коммунист! А может, провокатор?
Офицеры быстро нашли общий язык и договорились о побеге при транспортировке. Из рассказов старожилов лагеря я узнал, что прошедшей зимой военнопленных не кормили. Сотни людей умерли с голода. Их зарывали в общую яму и засыпали шлаком. Весной эти ямы начинали вонять, и тогда на них наваливали горы шлака. Рассказывали про одного немецкого солдата, наверное коммуниста, который помогал военнопленным бежать. Он сам предлагал им уходить, когда было его дежурство.
Однажды, когда в его присутствии ребята начали перелезать через колючую проволоку, неожиданно появился начальник. Часовой моментально обернулся и, увидев очередного убегающего, тут же снял его метким выстрелом. За что получил благодарность начальства. Поэтому среди наших офицеров не утихал спор: правильно ли поступил этот немец. Сошлись на том, что он сделал всё верно. Отпустив несколько сот человек, он не имел права ставить под удар свою жизнь. Ведь скольким людям он мог бы ещё помочь!
Приводили и такой случай. Замерзшие трупы складывали в мертвецкую. Она обслуживалась тоже военнопленными. И вот однажды ночью, когда служитель дремал около печки, вдруг начал рассыпаться штабель трупов и из середины вылез голый покойник. Он подошёл к печке и стал греть руки. Служителя охватил ужас. Оказалось, что один парень очнулся от холода и ожил. Его, как редкостный экземпляр, немцы начали откармливать, но в апреле или в мае он всё же умер.
Как-то в наш лагерь явился немецкий офицер и по-русски дал команду: «Украинцам становиться в строй!» Поскольку все время были разговоры, что хохлов скоро будут распускать, то строиться бросились не только они, но и русские. Выстроив всю эту команду, офицер обратился к военнопленным: кто желает поступить в немецкую армию? Снабжение там будет такое же, что и для немецких солдат.
Соблазн, конечно, был сильный, ведь все мы прекрасно понимали, что в этом лагере вряд ли сможем выжить. Слишком жестокое отношение к нашему брату – советскому солдату и офицеру. Казалось, что уцелеть просто невозможно. Никто на такой благополучный финал и не рассчитывал. Тем не менее из нескольких тысяч подняли руку, кажется, человек двадцать, да и то это были перебежчики, которых содержали отдельно и кормили из другого, намного более сытного котла.
А наша кормёжка была организована так. Три раза в день мы вставали в общую длинную-длинную очередь и медленно продвигались к большим бакам. Счастливцы имели котелки, а у кого их не было, пользовались пилотками. Литровым черпаком повара наливали баланду из варёной гнилой пшеницы, да и той было с гулькин нос. По мере приближения к котлам нетерпеливые бросались вперед, нарушая очередь. Стоявшие рядом толстомордые полицаи – все бывшие офицеры – лупили их по спинам пряжками. Немцы стояли в стороне и никогда не вмешивались в избиение. Три литра баланды в день и граммов триста хлеба с опилками – это был наш суточный рацион. Мы мучились желудком, попадали в лазарет, где не было никаких лекарств, кроме марганцовки, и многие умирали. Лучшим лекарством был бы хлеб, но его-то и не хватало.
Я тоже заболел и оказался в лазарете. В одной комнате со мной расположился совершенно здоровый лет пятидесяти перебежчик, капитан Георгий Александрович Иванов. Он люто ненавидел большевиков. Нам он рассказывал, что его отец – дворянин, при царе был командиром Преображенского гвардейского полка. Жили они прекрасно, имели даже собственную яхту, на которой в 1912 году он ходил в Стокгольм, участвовал в Олимпиаде. Так же, как и я, он в своё время бегал восьмисотметровку. По образованию инженер. При советской власти был арестован по делу промпартии. Процесс тот он назвал фальсификацией, но хорошо отзывался о советских тюрьмах. Главное – там неплохо кормили: два или три фунта хлеба в день и много гречневой каши. Это говорилось для сравнения с лагерным питанием. Осужденный по делу промпартии к расстрелу, который заменили десятью годами, он был направлен на работу к авиаконструктору Туполеву по созданию резиновых скатов из синтетического каучука для самолёта АНТ-14. Создав шины, он через два года получил свободу. Работать уехал на завод в Симферополь. Там его и застала война. Он ушёл в крымское ополчение, договорившись с женой встретиться в Гамбурге. У него было много знакомых в Германии. Владея немецким языком, Иванов работал при комендатуре лагеря.
Однажды он сказал мне, чтобы я прекратил споры с врачами и армейским комиссаром-украинцем, который особенно активно дискутировал с остальными офицерами, выступая против советской власти, Сталина и москалей. «Наконец-то наступает эра свободы для Украины, – говорил этот прохвост. – Я тут не задержусь. Там, за Днепром, наше украинское правительство, найдутся знакомые, выручат меня».
На другой день после построения украинцев вновь пришла группа немецких офицеров во главе с генералом (а с ними десять солдат с автоматами) и вновь предложили им построиться.
Теперь уже построилось гораздо меньше желающих. Генерал дал команду «Смирно!». Отсчитал сто рядов по четыре человека, остальных приказал распустить. Отобранным объявил, что отныне все они зачисляются в германскую армию. И добавил: «Может, кто-то не желает служить нам, так пусть поднимет руку». Нежелающих не оказалось. Всем было ясно, что последует за отказом.
Однажды привели большую партию военнопленных из-под Калача. Немцы начали наступление на Сталинград. Военнопленных обыскивали за колючей проволокой около лазарета и снимали с них сапоги ради экономии – пусть летом военнопленные ходят босиком, а зимой что-нибудь им выдадут. Офицеров не раздевали, не разували и не обыскивали. По следу от нашитой на рукаве звездочки искали только комиссаров.
Как-то раз военнопленным удалось раздобыть газету «Правда», кажется, за июнь. Там было сообщение Информбюро о катастрофе, которая разразилась под Харьковом. Говорилось примерно так: сейчас ещё продолжаются бои (хотя всё было кончено три недели назад) на Изюм-Барвенковском направлении, и в ходе боев за Харьков немцы потеряли убитыми какую-то баснословную цифру. У нас убитых немного, а без вести пропавших 75 тысяч. Это было сплошное враньё. Тут следует верить только немецким данным уже нашего времени. Например, Типельскирх в своей книге «История Второй мировой войны» пишет, что под Харьковом было взято в плен 250 тысяч советских солдат и офицеров.
10
Зная о моём намерении бежать, фельдшеры дали мне метрику и, кажется, справку или красноармейскую книжку, сейчас не помню, одного умершего военнопленного – Курочкина Михаила Яковлевича, девятнадцати лет, проживавшего до войны в селе Уборки Лоевского района Гомельской области. Внешность моя, конечно, не соответствовала девятнадцати годам, ибо, забегая вперёд, скажу, что в то время, когда нас отправляли в гомельский лагерь, меня называли дедом. Худой, морщинистый, с отросшей бородой.
К тому же за несколько дней до отправки моя желудочная болезнь усилилась, меня буквально одолел понос, и я переходил в разряд «доходяг», поэтому при транспортировке был помещен не с офицерами, а с больными в санитарный вагон.
И вот ночью слышу стрельбу. Было ясно, что это конвоиры стреляют по убегающим. Я подтянулся на руках за деревянную перекладину над окном товарного вагона, оторвал колючую проволоку и начал вылезать ногами вперед. Но больные меня схватили и втащили обратно, заявив, что сбежать не дадут, ведь из-за меня расстреляют весь вагон. И чтобы я не смел даже думать о побеге, потому что, если я попробую бежать ещё раз, они доложат немцам. Да, случаи расстрела за побег товарищей в практике плена были. Поэтому мне пришлось на какое-то время от мысли о побеге отказаться.
Но, когда мы прибыли в Днепропетровск, выяснилось, что офицерский вагон пуст. Из пятидесяти офицеров в нём остался один сильно потрёпанный капитан Иванов, поведавший мне, что он пытался воспротивиться организации побега, за что его избили и хотели придушить. В окно сначала вылез лётчик Саша. Он пробрался к двери, открыл её, офицеры начали выпрыгивать, а конвой, увидев с паровоза такое дело, открыл огонь. Я очень жалел, что мне не удалось бежать с офицерами, и был рад за них, особенно за Сашку.
В Днепропетровске нас поместили в тюрьму с окнами, закрытыми деревянными щитами во времена Ежова. Готовясь к побегу, я не хотел отдавать свои сапоги, и в то же время, лучше было бы выглядеть как рядовому, ведь офицеру бежать труднее. При осмотрах и обысках я начал лавировать – где заявлю что я офицер, где скажу что рядовой. И, что было важно, так удалось остаться в сапогах. А затеряться среди тысяч солдат, расселившихся в камерах и на улице, было нетрудно.
За время переезда мне пришлось дня три поголодать, то есть не есть вообще ничего, и моему желудку такая диета пошла на пользу. Да и в Днепропетровском лагере кормили, можно сказать, хорошо. Два раза в день по литру густой лапши и приличной порции чёрного хлеба. Говорили, что лагерь снабжался националистическим украинским правительством. Пробыв там дня три, я начал организовывать «бригаду» для побега. Быстро договорился с одним, тоже выздоровевшим, ветеринарным фельдшером Михаилом из Белоруссии и с Яковом Жогло из села Чупаховка Ахтырского района Сумской области. Согласился бежать и невысокого роста сантехник из Нового Афона.
Одиннадцатого августа большую колонну повели на посадку в вагоны. Мы четверо держались друг друга. Нужно было занять место у вагонного окошка, но там уже сидели грузин и здоровяк-русский. Они о чем-то шептались.
В обычном двадцатитонном товарном вагоне тех времен помещались пятьдесят человек. Ложатся головами к стенкам по двадцать пять человек, ноги в середине. Посреди вагона – параша. Два маленьких окна, расположенных по диагонали на уровне человеческой головы, заделаны густой сеткой из колючей проволоки. На крыше нашего вагона со стороны площадки установлена будка, в которой сидели два охранника из крымских татар. И то, что на нашем вагоне ехал конвой, значительно усложняло положение.
Я лежу рядом с грузином, слева от меня Михаил, напротив – Жогло, а техник из Нового Афона почему-то лёг в другом углу вагона. Шепчемся с Мишкой – что делать? Решил поговорить с соседями по душам. Объясняю им, кто мы и чего хотим. Русский здоровяк, оказавшийся каменотесом из Тбилиси, приветствует наше решение, уступает место, сам бежать отказывается и говорит: раз уж судьба так сложилась, поеду в Германию, посмотрю, как там живут, может, повышу свою квалификацию, а потом свои знания отдам Родине. Так и сказал: «Отдам Родине».
Мы лежим и слушаем разговоры пьяных конвоиров. Миновали Днепродзержинск. Темно, скоро одиннадцать часов, конвоиры умолкли – уснули, пора «стартовать». Встаю, подтягиваюсь на деревянной балке и ударом ног выламываю сетку. С противоположного конца вагона раздается незнакомый голос: «Лёшка, ты что?! Брось это дело. Нас всех за тебя расстреляют». Стало ясно, что кто-то настучал этому человеку о нашем побеге. Это сделал струсивший техник из Нового Афона. Я ответил: «Давайте бежать все вместе». – «Нет, – ответил голос. – Сейчас бежать не время: на ходу поезда, да ещё с охраной над головой. Это значит остаться без головы». Три человека двинулись с того края, чтобы помешать нашему побегу. Мишка был рядом со мной, я начал будить Жогло. Тот не «просыпался». Я понял, что он струсил. К нам присоединились ещё двое – Тимофей Кучеров из Башкирии и работник НКВД из Константиновки. Камнетес и грузин встали на нашу защиту. Помню, камнетес сказал: «Если струсили, сидите на месте. Они молодцы. Они добьются своего и ещё ордена получат». В вагоне началась свалка. Я быстро накинул бывшее при мне одеяло на проволоку, чтобы не зацепиться, и вылез на буфера. За мной вылез Мишка, за ним Тимофей Кучеров и энкавэдэшник. Мы слышали крики в вагоне и боялись, что проснутся конвоиры. Но они, очевидно, были пьяны и спали. Я увидел, как снимается одеяло, поднимается сетка и чем-то твердым прибивают гвозди. Сетка встала на место, вагон успокоился (это было в ночь с 11 на 12 августа).
Поезд мчится под уклон. Михаил стоит с левой стороны, а с правой – я. В середине – Кучеров и энкавэдист. «Лёшка, станция», – крикнул Михаил. Я увидел цветные огни. Поезд мчался с бешеной скоростью. Только я хотел предупредить Михаила, чтобы не прыгал, как он сиганул с левой стороны поезда между путями. Мы думали, что он разбился, но потом, как оказалось, он шёл впереди нас. У станции поезд замедляет ход, мы прыгаем на земляную платформу. Собираемся вместе и бросаемся вперёд, подальше от железнодорожного пути. Болото. По грудь в воде мы переходим на ту сторону. Я разуваюсь, выливаю воду из сапог. Все выжимают бельё. Ночь безлунная, но звёздная. Идём на восток.
Перед тем как направиться на восток, мы прошли километра два вдоль железнодорожного пути, покрикивая Михаила. Иногда, где позволяло болото, мы выходили на железнодорожный путь. Идти по полотну было опасно: железная дорога охранялась вооруженными полицаями. Михаила не нашли и двинулись на восток.
Курс на Брянские леса, к партизанам. До них далеко, километров шестьсот – семьсот. Примерно через час мы наткнулись на огород и стали поедать сырые кабачки, огурцы и тыквы…
11
Вот показалась хата. Темно, люди спят. Решили постучать, чтобы определиться, где находимся. Открыл старик, впустил в хату и предложил варёной кукурузы. Объяснил, что мы в девяти километрах от станции Ерастово. На этой станции мы высаживались. Она недалеко от Пятихаток. Старик оставил ночевать. Расположились на полу.
Утром нас разбудили голоса. В хату вошёл полицай. Он был одет в телогрейку, на пальце левой руки – алюминиевое кольцо. Мы испугались, но он даже не обратил на нас внимания, поговорил с хозяином и ушёл.
Завтракаем, прощаемся. Опять на восток. Душа поёт: «Подари мне, сокол, на прощанье саблю». Как прекрасна жизнь! Обмениваемся впечатлениями, рассказываем друг другу о себе.
Тимофей Кучеров – старший воентехник, сорока девяти лет. Работал в Башкирии на суконной фабрике то ли экономистом, то ли делопроизводителем. Быстро идти не может – больное сердце.
Энкавэдэшник отмалчивается, больше слушает. Но мы не обращаем на это внимания и изливаем душу. Всех мучает мысль: где же Михаил? Проходя по деревням, останавливаемся и спрашиваем о нём. И вот в одной деревне нам сказали, что часа три-четыре назад прошёл рыжий парень, перевязанный, в зелёных брезентовых сапогах. Ну, конечно, это он, больше некому. Пытаемся нагнать его, спрашиваем в других деревнях – безрезультатно. Михаил для нас пропал.
Энкаведэшник останавливается почти у каждой хаты и что-то выспрашивает. Наконец к вечеру, по выходе из деревни, он говорит: «Ребятки, я останусь здесь в примаках, идти мне некуда». Почему? Ведь мы же все идём к партизанам. «Нет, мне место здесь». Так мы остались вдвоём.
С Тимофеем Кучеровым, которого я стал звать батькой, идём на восток, гуськом. В деревнях нас поят, кормят и оставляют ночевать. В одной деревне мы встретили советского майора в полной военной форме со знаками различия. Но он был на коляске (без ног). Ездил из деревни в деревню, немцы его не трогали.
Скоро Днепр. Как-то мы через него переправимся? Погода хорошая (мы бежали одиннадцатого августа). В поле поспевала кукуруза, и мы ели молочно-сладкие початки.
В одной деревне нас встретила молодая женщина. Была она не помню уже из какого города, но жила в сельской местности. В разговоре с нами ругала немцев и жаловалась на свою судьбу. Вдруг вошёл старик и спросил: «Зачем ты пустила их в хату? Тебя же расстреляют». «Ну и пусть», – с какой-то обречённостью ответила женщина. Далеко не все украинцы ругали москалей, советскую власть, Сталина. Там, где мы проходили, люди ругали немцев. Нас встречали хорошо. Только в лагерях проявлялся национализм; в основном среди офицеров. Почему? Плен, наверное, их напугал и деморализовал.
Так мы дошли до Днепра. Правый его берег высокий, а левый, на который нам нужно перебраться, – низкий, песчаный, поросший кустарником. На крутом берегу стоит большое село.
Батька не умел плавать, значит, надо мастерить плот из веток и камыша. Подходим к берегу. Откос покрыт большими валунами. До воды метров сто. На берегу стоит лодка и рядом полицай. Прячемся за камнями. Закуриваем и думаем, что ночью надо будет обязательно переправиться. Вдруг детский голос спрашивает: «Дяденьки, вы хотите переправиться?» – «Нет, кто тебе сказал». – «Да вы не бойтесь, полицай вас не заарестует. Он приказал вам идти в лодку». Делать нечего, идём. Два пассажира и полицай встречают нас молчаливым, но дружелюбным, полным любопытства взглядом. «Садитесь». Ни слова больше. Молчим и мы. На середине реки полицай спрашивает: «А платить-то есть чем?» – «Нет, денег у нас нет». – «Вот ремни у вас хороши», – говорит он. Я снимаю и протягиваю ему ремень, но он отказывается. «Самому пригодится. Небось из плена бежишь к партизанам». – «Нет, что вы, иду домой». – «Ну, это дело ваше».
Просим высадить нас на маленьком песчаном островке, что метрах в десяти – пятнадцати от берега. Прощаемся, благодарим и стаскиваем с себя бельё, бьём вшей, устраиваем постирушки. Потом нежимся на солнце.
Вечереет. Переплываем на берег. Батька плыл, положив руки мне на плечи. На берегу рыбачий поселок. Рыбаки чинят сети. Останавливают нас, спрашивают, кто мы, предлагают остаться с ними. «До конца войны переживёте. Харч у нас хороший, рыба есть, а хлеб будет». Батька не против, раздумывает. Но я говорю твёрдо – нет. Мы же идём в Брянские леса, к партизанам. Какие могут быть сомнения? Батька сдаётся, и мы идём к следующему селу.
Около околицы у батьки сердечный припадок. Что делать? Иду к старосте села, говорю, что мы идём из окружения из-под Ростова в Белоруссию. Я – Гомельской области, а батька – из Минской. «Так вы что, с отцом вместе воевали?» – спрашивает староста. «Нет, я просто так его зову. Помогите нам, он сердечник, ему идти нельзя, может умереть». Староста кричит полицая. Сердце уходит в пятки, а у околицы лежит батька. Староста говорит полицаю: «Поставить их у Богомаза!» Вместе с полицаем идём за батькой. Под руки ведём его к Богомазу. В покосившейся избе живёт этот старик со старухой. Батька лежит и стонет, охает, а Богомаз рассказывает мне о своём несчастье.
В период коллективизации его, бедняка, поселили в дом раскулаченных, а теперь немцы вернули хозяев-кулаков и его выселили в старую хату, в которой даже рам нет, одни дыры вместо окон, а вязать рамы сил нету, столяру заплатить нечем. Тихим голосом батька говорит: «Подожди, отец, свяжу тебе рамы».
На другой день мы принялись за работу.
Дед кормил нас на славу: курочки, сметана, ну и самогонка, конечно. Неделю мы стояли у Богомаза. Батьке стало получше. Богомаз сосватал нам ещё работу, но я торопился. И мы покинули деревню.
12
Опять поле, солнце, на душе песня: «В путь-дорожку дальнюю». Идут дни, идём мы. Курс на северо-восток. Кажется, в Лебединском районе Сумской области мы зашли в деревню. Жители встретили нас странными взглядами. Ни одного вопроса мы от них не услышали. Остановились у какой-то хаты. Хозяйка дала нам напиться и шёпотом спросила: «Вы не парашютисты?» – «Нет, а что такое?» – «Да вот сегодня ночью где-то здесь спустились советские парашютисты. Один прямо пришёл и сдался. Сейчас полицаи и немцы ищут их по всем лесочкам. Уходите отсюда скорее».
Дай бог ноги! Трудно идти старику, но темп мы взяли приличный. Мы обещали Якову Жогло зайти к его жене. И вот мы в Ахтырском районе Сумской области. Село Чупаховка, где жил Яков, расположено в огромной котловине. Село очень большое и просто так, без разведки, заходить туда опасно. Спрашиваем встречную старушку, знает ли она Параску Микитичну Жогло. «Знаю, миленький, а вы что, от Яшки, что ли?» – «Да мы вместе с ним были в плену» – «А он-то где, миленький?» – «Увезли в Германию» – «Ох ты, батюшки! Я сейчас позову Параску, а вы в село не ходите. У нас начальник полиции удавился, сейчас там очень много полицейских». В кустах ждём Параску. Минут через тридцать подходит полная, статная, я бы сказал, красивая женщина. Мне сразу вспомнилась Аксинья из «Тихого Дона». Мы вышли.
«Здравствуйте. Вы от мужа, а где он?» И, не дожидаясь ответа, начинает оправдываться, говоря, что вы не верьте, что я живу с фельдшером. Это всё неправда, я жду Якова. Успокаиваем, объясняем, где Яков, рассказываем ей всё. На прощание она даёт нам сало и называет адрес брата Якова.
Идём в то село, оно по пути. Брат Якова, колхозный кладовщик (немцы колхозы сохранили), радушно встречает нас и закатывает обильный обед. На столе «четверть» самогона. За столом – его друзья-старики. Беседа затянулась далеко за полночь. Старики спрашивали нас о фронте, о Красной Армии, о Сталине. Сами они говорили мало и мнение не высказывали. Жизнь научила осторожности.
Утром мы направляемся на север. По мере продвижения меньше дают поесть, в разговоры не вступают, ночевать без разрешения старосты не оставляют. Чувствуется, что приближаемся к партизанским краям. Решаем, что нам ещё рано переходить на нелегальное положение и прятаться в лесу, будем идти деревнями. Приходится идти к старосте. Он разрешает остановиться, смотрит мои документы. Батька отнекивается, говорит, что документов не было.
По мере продвижения на север мы меняем места нашего «окружения». Сначала Ростов, потом Харьков, а теперь уже Курск. В одном селе старостой оказался бывший раскулаченный. «Кто, куда, зачем?» – были его вопросы. Я предъявил документы, сказал, что идём из окружения из-под Курска. Идём домой, воевать надоело. «Правильно делаете, только вы бойтесь партизан».
На ночь он закрыл нас в амбаре. Ожидали неприятностей, но наутро он нас выпустил, накормил, и мы пошли дальше. Решили следующую ночь в деревне не ночевать и заснули на берегу реки под стогом. Ох и холодно было ночью! А утром нас обнаружили пастухи, но ничего, всё сошло.
Мы прошли село Клепалы и вошли в село на берегу. Там в одной из хат нас предупредили, чтобы мы не ходили через мост, на нём стоит полицай, и вообще сейчас везде их много, охрана усилена, а в лесах, за рекой, стоят немецкие части. На той стороне Сейма расположен город Путивль, который весной был взят партизанами Ковпака, и все предатели, которые были назначены немцами на административные посты, уничтожены.
Возвращаемся в Клепалы. Хотели ночью переплыть Сейм, но тут и случилась неприятность. Из-за угла вышел молодой парень с повязкой полицая и винтовкой в руках. «Стой, партизаны, так вас перетак…» Ведёт нас в полицию. Начальник – бывший офицер Красной армии – спокойно говорит: «Вот как хорошо работают бывшие комсомольцы. Ещё двух партизан задержали. Снимайте ремни». Отдаем ремни. Нас заперли в маленькой камере. На окне – решётка. Утром нас вызвали и повезли в районный центр Бурынь в тюрьму.
Часа через два батьку вызвали на допрос. Его привели, меня взяли. В комнате площадью метров двадцать за самодельным столом сидел начальник полиции – невысокого роста, жиреющий, самодовольный, лет сорока – сорока пяти. За другим, маленьким, столиком сидел мужчина лет на десять моложе – следователь. Вопросы задавал начальник полиции.
– Так вы, говоришь, не партизаны? – начал расспрашивать меня.
– Конечно, нет, я же показал документы, – сразу отвечаю ему.
– Да, документы твои на столе. Вот они. Так… Идёшь домой. Молодец, так и надо. Довольно воевать. А кто, по-твоему, выиграет войну?
Я отвечаю, что победят русские.
– Почему? Ты разве не видел, сколько наших самолётов полетело на фронт, а большевистских самолётов и не видно. А Красная армия существует или вся уже сдалась?
Отвечаю, что армия существует, и очень большая.
– А воевать она хочет?
Говорю, что дерутся как черти.
– А чем же они вооружены?
Рассказываю, что Красная армия имеет хорошее вооружение, вхожу в азарт, начинаю рассказывать о разгроме немцев под Москвой. Слушают разинув рот. Чувствую, что зарапортовался, заканчиваю агитационную речь словами: «Ну мне всё равно, лишь бы до дома добраться». Следователь говорит: «Ты счастливый человек. У вас ведь в Белоруссии колхозов уже нет, землю поделили, а у нас на Украине колхозы ещё не распустили».
Прошу отпустить нас.
– Нет. Этого мы не можем.
Два дня нас держат в тюрьме, почти не кормят. Батька работает у начальника полиции, плотничает. Дня через три мы уже в конотопской тюрьме. Она недалеко от центра города, в каком-то бывшем административном здании.
13
Небольшие бывшие кабинеты окрашены масляной краской, деревянный пол тоже выкрашен. Спим на полу. Дневной рацион питания: граммов по восемьдесят хлеба и ведро горячей воды на всю камеру. Заключённым из местных жителей передают домашние посылки, а мы медленно умираем. Сокамерники с нами не делятся. Их всех ждёт смертная казнь, и тем более непонятно, почему они так жадничают перед смертью. На что надеются?
На допросе та же версия, что иду из-под Курска домой. Как спасения от голодной смерти, ждём отправки в лагерь военнопленных. Ведь там дают триста граммов хлеба и три литра баланды в день.
Ура! Через неделю нас отправляют в лагерь. Вернули документы, поверили, что мы не партизаны. Лагерь расположен в больших казарменных зданиях, трёх-четырёхэтажных. Общие нары заполнены до отказа людьми и блохами. Насекомые досаждают днем и ночью. Нам повезло – успели к завтраку. Получаем дневной паёк хлеба и, не успев получить баланду, буквально проглатываем его. Вот она, долгожданная баланда из варёного проса… густая. Но, к великому сожалению, она пресная, в ней нет ни грамма соли. Почему – непонятно.
Утром другого дня мы попадаем в команду, работающую на реке Сейм по перегрузке грузов (мост разрушен), идущих с севера и северо-востока в Германию. Из вагонов на паром и с парома опять на платформы грузим доски. Есть шанс на побег. И с той, и с другой стороны нас охраняют по два немца. Второй день работаю без батьки. Для него эта работа тяжела, и он пошёл с плотниками в город. Вечером предлагаю ему план побега. Батька бежать отказывается, ссылаясь на сердце, на наступающие осенние холода.
– Лучше я останусь здесь и попробую связаться с партизанами в городе, – говорит он. И добавляет: – Прости меня…
Я злюсь. Эгоизм молодости мешает мне понять, что человек в пятьдесят лет может быть больным и слабым.
На третий день работы в поезде, который подвозит нас от лагеря к мосту, разговариваю с одним парнем о побеге. Выслушав моё предложение, он вдруг начал кричать, угрожая, что расскажет немцам о моих планах. Сидящий рядом со мной молодой человек вынимает нож и приставляет его к горлу крикуна. Тот мгновенно замолкает и даёт слово, что никому ничего не скажет.
Наутро мы с моим новым приятелем обсуждаем план побега: во-первых, надо обязательно попасть в ту часть команды, которая работает на другом берегу Сейма, а во-вторых, мы должны постоянно держаться друг друга, чтобы сразу использовать любую возможность.
Утро четвёртого дня пребывания в лагере выдалось на редкость для нас удачное. Шел сильный дождь, был воскресный день, и на работу выходила только наша команда. Я прощаюсь с батькой, мы целуемся, на глазах у него слезы. Идем. Нервы напряжены. Удастся ли? На конечном пункте выпрыгиваем из вагона и мчимся к берегу, чтобы попасть на ту сторону. Благополучно переезжаем. Ответственный за работы немец заводит нас в уцелевший станционный дом, объясняет: двадцать человек сушат одежду, а другие двадцать работают. Через полчаса меняемся, а сейчас – быстро за дровами. Выходим, с нами ещё пять человек. Подмигиваю напарнику. И вдруг в ответ – отрицательное покачивание головой. Тихо спрашиваю, в чём дело. А он: «Я не пойду».
Ну и чёрт с тобой, пойду один!
Немцы вышли из станционного здания – это хуже. Собираю дрова, незаметно переползаю в канаву и бегу по ней. Сердце стучит, как молот. Ведь канава выходит прямо к зданию, и если часовой увидит, то обязательно подстрелит. Не увидел. То ли он глядел в другую сторону, то ли сильный дождь укрыл меня, но, пробежав метров сто по канаве и не получив пулю в спину, я мигом поднялся на железнодорожное полотно, пересёк его и без остановки добежал до леса. Промок насквозь, а на душе спокойно. Из меня рвётся привычный мотив: «В путь-дорожку дальнюю». Бояться погони нечего! Мой побег могут обнаружить только часов через восемь, а сейчас дождь смоет все следы, и собаки будут бессильны. Хочется есть. Обрываю остатки конопли и ем прямо с листьями. Иду лесом, полем, в деревни заходить боюсь. Но голод не тётка. Захожу – накормили, подсушил одежду. Дождь перестал, и я иду дальше. Снова зашёл в деревню. Накормили и дали хлеба на дорогу. Ночью, ворочаясь в копне соломы, я с тоской думал о том, как же тяжело в побегах одному, тем более – осенью.
День выдался солнечный, и утром я расположился в каком-то огороде, где обнаружил капусту и рыжие-прерыжие огурцы. Я так увлекся едой, что не заметил, как ко мне подошёл старик-сторож. Он улыбнулся и, ничего не сказав, вынул краюху хлеба и кусок сала. Я поблагодарил его, и, ни словом не обменявшись, мы расстались.
Пообедать мне удалось в полевой бригаде, что убирала картофель. Подошёл, поздоровался, объяснил, кто я. Меня пригласили поесть. Начали расспрашивать. Я стал рассказывать о разгроме немцев под Москвой, увлёкся. Женщина, пригласившая меня, вдруг шепчет: «Осторожнее, сволочи везде есть, заканчивай еду и уходи. Если приедут немецкие надсмотрщики, тебя могут выдать».
Иду дальше с таким расчётом, чтобы город Глухов остался левее. Ночью в лесу наломал веток березы, а костёр развести боюсь. Холод не даёт спать. Чтобы согреться, среди ночи пустился в пляс. Так и не уснул до самого утра. А при дневном свете увидел, что кругом в лесу всё покрыто инеем.
Захожу в деревню – накормили. Разговоров никаких. Опять зашагал на север. Погода солнечная, но осенняя. Выстирал в ручье портянки, развесил на кустах сушить. Откуда-то слышались выстрелы, наверно, партизаны близко. Как мне их найти? Теперь и в деревни заходить будет опасно, придётся несколько дней голодать.
Портянки подсохли, я надел сапоги и только хотел идти, как вдруг из-за кустов: «Стой! Партизан!» И в грудь мне упёрся ствол винтовки. Опять попал. Страха уже нет. Очевидно, привычка. Какой я партизан? Объясняю, кто я, куда я иду, прошу меня отпустить. Полицай уверяет, что сделать этого не может, хотя и верит мне. Он забрал у меня документы и приказал идти в полицию. Прошу его, чтобы он не водил меня туда, потому что меня передадут немцам, а те направят в лагерь, где зимой я подохну. Но он приказывает идти. Идёт за мной, подсказывая путь. Подходим к большому селу Ярославец. Там крестьяне убирали поздние яблоки. Они напихали их мне в мешок. Полицай успокаивает. «Не бойся, если ты не партизан, тебе ничего не будет. Наш начальник – бывший лейтенант РККА».
Входим в помещение полиции, я жую яблоко. Полицай рапортует начальнику, тот поворачивается ко мне и кричит, подкрепляя свою ругань матом: «Что, за двадцать пять лет советской власти вас не научили, как надо стоять перед командиром?» Вытягиваюсь по стойке «смирно». Меня раздевают догола, осматривают всего, проверяют сапоги, начинают допрашивать. «Испугался?» Я говорю, что мне не хочется снова попасть в лагерь. «Ты не бойся, мы тебя отправим на родину. Осмотрел я тебя потому, что неделю назад так же вот один пришёл, мы его оставили ночевать, а он был обут в галоши, подвязанные веревкой. Ночью вытащил из галоши наган и застрелил нашего хлопца. Правда, мы его тут же убили, но хлопца-то потеряли».
– Поставить его к Мужику! – дает команду.
Хата Мужика недалеко от колодца. Хозяйка говорит, что сейчас накормит меня, и тихо добавляет: «Не вздумай от нас бежать. Хата под наблюдением, и тебя сразу застрелят. Тут часто бывает, что налетают партизаны. Тогда полицаи убегают в другое село. Партизаны поджигают их хаты и убивают скот».
Утром меня вызвали в полицию, приказали, вернув документы, садиться в телегу. «Вот председатель колхоза и полицай довезут тебя до деревни Х, им по пути, а там полицай тебя повезёт дальше, одному ходить здесь опасно». Я прошу меня отпустить, но тщетно. Так что вместо пути на север меня везут на запад, в «родной» Гомель. Не было печали – черти накачали. По дороге председатель колхоза расспрашивает меня о фронте. Я что-то ему рассказываю. Он слушает, слушает и вдруг говорит: «А что-то у тебя акцент московский?» Я не нашел ничего лучшего, как спросить, а что такое акцент? Он начал объяснять, а я тем временем постарался перевести разговор на другую тему. Да-а-а, председатель колхоза, судя по разговору, человек был грамотный.
На следующий день меня повезли в другую деревню, потом ещё в одну. Ночь я провёл в тюрьме при полиции не помню уже в какой деревне, ко мне привели ещё одного такого же, как я, молодого парня, но его везли под вооружённой охраной.
Случайно я попал на собрание бригадиров колхоза. Его вёл немец, судя по всему, агроном. Он стучал кулаком по столу и ругал крестьян за то, что они самовольно поделили землю и не засеяли межи. Их непременно надо засеять, потому что германскому государству очень нужен хлеб.
Один из бригадиров заявил: «Господин начальник! Ведь землю обещали поделить». Немец разгорячился и начал орать: «Сейчас идёт война, Германии необходимо продовольствие». – «А что же будем есть мы?» – раздался голос. «Как что? Разве мало вам дали – по триста граммов на человека в день».
Самый замечательный допрос я выдержал в Холме. Следователь предложил мне сесть на табуретку. Он вкрадчивым голосом спрашивал, кто я, откуда, где воевал, какое у меня образование. Я сказал, что семилетка. И вдруг, глядя на меня в упор, задаёт мне вопрос: «А ты Фёдорова знаешь?» Я был огорошен: откуда он знает мою фамилию? Но тренировка в притворстве помогла мне скрыть волнение. – «Нет, не знаю». – «Ты врёшь, ты же из его шайки». – «Ей-богу, не знаю, о ком идёт речь». И я действительно не врал. «Так ты не знаешь его?» Я осмелел и сам задал вопрос: «Скажите, кто он такой?» – «Это секретарь Черниговского обкома партии и руководитель партизанских банд».
Вот где и как я впервые услышал о своём знаменитом однофамильце – дважды Герое Советского Союза Алексее Фёдорове. Судьба свела меня с ним только в 1963 году. Мы должны были вдвоём ехать во Францию, но французы не дали нам визы на въезд. И пока это дело утрясалось, мы с ним о многом поговорили. Я рассказал ему и об этом случае. Он смеялся и расспрашивал о моей дальнейшей судьбе.
А тогда, в далеком 1942-м, мы вместе с моим попутчиком оказались в тюрьме. Днём работали на участке следователя – сгребали в копны сено. Участок был в лесу. Казалось бы, место очень благоприятное для побега, но сердце чувствовало, что что-то тут не то. И сено в октябре, и охраны никакой. Работая, мы обсудили это и решили выждать. Как оказалось, не зря.
Часа в четыре из-за кустов со стороны леса вышел полицай с винтовкой в руках и повёл нас в деревню. После мы узнали, что он целый день лежал за кустами и ждал, когда мы попытаемся бежать. И слава богу, какая-то сила удержала нас на месте.
В тюрьме нам тоже устроили испытание. Охранник при нас разобрал свою винтовку и усердно начал её чистить. При этом он мурлыкал себе под нос какой-то мотивчик, но с нами не разговаривал. Парень был плюгавенький, и для нас придушить его не составило бы труда. Тем более что мой коллега был здоровяк. Мы переглянулись и поняли, что повторяется то, что было в лесу. Случайно взглянув в окно, я увидел невдалеке тени. Свет мешал разглядеть, но и так было понятно – нас провоцировали.
В другой камере сидел одинокий арестант. Поздно вечером к нему в одиночку зашли несколько полицаев и пожилого возраста крепкий мужчина. «Ты за что убил моего сына?» – спросил заключённого этот старик. Заключённый ответил, что он не убивал, что это ошибка, что это не он. «Я тебе покажу, сволочь большевистская, не ты». Он и полицаи принялись избивать заключённого. Наш полицай тоже был там.
Через какое-то время все вышли, а полицай зашёл к нам и объяснил, что в той камере сидит пойманный партизан, который застрелил полицая, а сейчас отец того предателя приходил на очную ставку.
Наутро нас вместе с этим партизаном, связав по рукам и ногам, положили в телегу и куда-то повезли. Две телеги, два полицая.
К концу дня прибыли в Карюковку, и нас поместили в камеру с нарами. Дверь открылась, вошли два полицая. Один из них следователь, другой – начальник полиции. Вошли они вместе со вчерашним стариком. Один из полицаев обратился к нему: «Кто из них?» Старик прямо указал на партизана. Его увели.
Стемнело, когда партизана привели обратно. Он лёг около меня, его била лихорадка. Стуча зубами, сказал: «Завтра утром мне конец». Я спросил его: «Тебе холодно?» Он сказал – нет, это так, волнение. Я обнял его и прижал его спину к своей груди, чтобы немного согреть.
Успокоившись, он рассказал свою историю:
– Я не партизан. Я шёл к партизанам, и не один, мы шли вдвоём. Сам я из Мариуполя – майор кадровых частей. В начале войны попал в окружение, в плен, бежал и жил в селе на правой стороне Днепра. В августе или сентябре мы с приятелем, вооружённые пистолетами, решили идти в Брянские леса к партизанам. В одном селе молодой полицай хотел нас арестовать, но выстрелом из пистолета я убил предателя, и мы смогли скрыться. Заночевали в стогу сена. Там нас и нашли полицаи. Они окружили стог, меня схватили, а приятель удрал. Теперь меня расстреляют.
Всю ночь мы не спали. К утру он, кажется, на часок заснул.
Рано утром в камеру вошёл следователь. «Вставай!» Майор встал, пожал нам руки и вышел с гордо поднятой головой. Его вывели на двор и поставили к стене тюрьмы. Окно было высоко и за решёткой, поэтому мы ничего не видели.
– Ну говори, ты расстрелял хлопца? – спросил его следователь.
– Нет, это был не я, – ответил майор по-украински.
– Врёшь, подлец! – и мы услышали звук удара.
Все свои слова следователь сопровождал крутым русским матом.
– Не я, господин следователь, – твёрдо отвечал майор.
– Ах, ты ещё будешь врать!
Раздался выстрел. Слышно было, как по стене поползло тело. «Что держишься за живот, притворяешься?» Очевидно, другой полицай подошёл к телу и сказал:
– Господин следователь, вы попали ему в живот.
– Добить собаку!..
Выстрелы, и всё кончено. Этот десятиминутный эпизод ошеломил нас. Мы не могли даже разговаривать. Русские люди уничтожали друг друга в угоду немцам!
14
Вскоре нас повезли дальше, тоже связанных, на двух телегах, с двумя полицаями. Привезли в Сновск. При советской власти этот город назывался Щорс. Провели через казарму, в которой размещались венгерские солдаты, воевавшие против партизан. Солдаты играли в карты, пили водку. Нас привели к офицеру. Полицай передал бумагу и сказал: «Не знаю, чи пленные, чи партизаны…»
Вот так меня и везли на «родину» в Гомельскую область.
Из казармы нас отвели в тюрьму – большое здание амбулатории, там поместили в камеру – кабинет с заключёнными из местных жителей. Маленький дворик был огорожен колючей проволокой, за углом стояла вышка с часовым.
На другой день нас допрашивали. Немец обратил внимание на несоответствие моей внешности и данных документов, по которым мне было девятнадцать лет. Сказал, что я его обманываю. Я ответил, что если мне отдохнуть и некоторое время хорошо питаться, то я буду выглядеть моложе девятнадцати лет. Позвали переводчицу из русских. Я понял, что переводчица говорила им то же самое: вы хотите от изможденного человека, чтобы он выглядел мальчиком?
На этом немцы успокоились.
Нас повезли в Гомель на открытой платформе. День был солнечный. Два охранника на платформе и нас двое. Когда охранники завтракали, у меня появилось желание спрыгнуть на ходу. Шанс бежать был стопроцентный. Едва ли немец мог попасть в меня из винтовки на ходу поезда. Но воля к борьбе ослабла, чувствовал я себя плохо, пугала и наступающая зима.
Через несколько часов я был на «родине» в Гомеле, в лагере, где меня зарегистрировали. Комендант первого барака, куда меня определили, – бывший командир роты, капитан, неплохой парень. Он вызвал к себе и стал расспрашивать. А я в который раз принялся рассказывать о разгроме немцев под Москвой, о харьковской операции. Он сказал, что сейчас немцы под Сталинградом, там идут тяжелые бои. Поведал и о здешних порядках. В каждом бараке – администрация из пленных советских офицеров. Месяц назад произошёл такой случай. Все офицеры на административных постах договорились поднять бунт, известив об этом партизан, чтобы они могли напасть на лагерь. Один из офицеров – майор – оказался предателем и почти всех бунтовщиков повесили. Теперь на эти посты назначены новые офицеры.
В гомельском лагере мы пробыли недели две. Каждое утро к воротам приходили немецкие солдаты, отбирали партии военнопленных и вели их на разные работы. У ворот возникала давка: каждый хотел оказаться за проволокой, чтобы что-нибудь достать (выпросить, украсть) из съестного. Я два или три раза попадал с солдатом – судетским немцем – на работу по переборке картошки в госпиталь для так называемых «отечественных бойцов» – тех предателей, которые воевали против нас в немецких войсках.
Попав однажды в здание госпиталя, я увидел безногих и безруких молодых парней – солдат и офицеров в немецкой форме. Они играли в домино, в карты. Их обслуживали молодые девушки-санитарки. Одна из них дала мне миску лапши, назвав меня дедушкой.
Ничего себе «дедушка», я был тогда чуть старше её самой.
После работы мы всегда возвращались с мешками картошки, и в лагере открывался настоящий базар – вовсю шёл обмен добытыми на работе продуктами. Кто-то предлагал за еду одежду. Но самым ходовым товаром наряду с пайками хлеба была махорка. Одна маленькая цигарка шла за дневную хлебную пайку.
Первое время я был одинок. Изголодавшись в пути и в тюрьмах, я в лагере поглощал неимоверное количество картошки. Не брезговал и баландой, которой отпускалось по три литра на душу. Да ещё триста граммов хлеба, что выдавалось на день. Картошкой, если её было много, я наедался так, что, казалось, она застревала в горле. Но чувство голода не проходило.
Однажды в воскресенье в лагерь пришёл священник, чтобы отслужить обедню. Мы все, верующие и неверующие, стояли и слушали его, при этом каждый думал о своём, о своей судьбе, которая складывалась у всех нас настолько драматично, что за завтрашний день каждого никто не дал бы и ломаного гроша. Конечно, многим в эти минуты вспоминались родные и близкие люди, места, где родился и рос… э, да что там говорить, только душу бередить.
В молитвах священника ничего не говорилось о победе германских войск, не восхвалялась их сила и мощь – не для этого он шёл к нам, сирым и обиженным. Чувствовалось, что пришёл он, чтобы, насколько возможно, облегчить измученные войной души. Многие молились, а после службы о чём-то шептались с ним. Но чем мог помочь им божий пастырь в суровое время, в безнадёжной ситуации?
Хотя, кто знает, кому-нибудь он, вероятно, и помог…
У меня появились в лагере друзья, с которыми я мог говорить о текущих делах и событиях, рассказать о своей прошлой жизни, о семье, жене и детях. Трудно было молчать и носить все свои проблемы в себе, трудно было находиться среди этих голодных, оборванных людей и ни с кем не общаться. Заела бы, загрызла тоска. Так что разговаривали мы с моими друзьями много и обо всём, как все живые люди, строили какие-то планы, говорили о своих надеждах, не хотели отказываться от будущего, обсуждали возможности обустройства настоящего… Не разговаривал я со своими новыми приятелями только о побеге, потому что не было у меня для этого сил, слишком много неудач пришлось перенести. Я выдохся.
А тут ещё немцы показали фильм, как их войска вышли к Волге и улыбающиеся солдаты черпали касками и пили воду из великой русской реки. После такого кино настроение упало до нуля. Неужели они возьмут город, который носит имя Сталина? Тогда конец России. Они пойдут за Волгу, отрежут Москву от Урала, и – всё.
15
Ситуация несколько разрядилась в один из вечеров.
Вдруг раздалась команда – строиться! Все вышли на плац, в строю стоял весь лагерь. Я долго стоять не мог и, чтобы никто не видел, незаметно присел на стоявший неподалеку стол. Немец – комендант лагеря – сказал короткую речь, из которой можно было понять, что мы счастливцы, ибо едем в самую великую страну мира – Германию, чтобы трудиться во имя скорой победы немецкого народа. «Там вам не придётся голодать, – говорил он, – вам будут платить деньги за работу. Вы должны честно трудиться, чтобы после окончания войны вас отпустили домой».
В вагон мы сели своей компанией. И сразу разговор о побегах. В вагоне оказались здоровые толсторожие ребята – бывшие полицаи гомельского лагеря. Услышав это, они загорелись желанием бежать, но инициативы проявить не могли и просили меня командовать побегом. Я долго отказывался, объясняя это слабостью, холодом, снегом и морозом. Они меня уговаривали, обещали, что будут вести под руки. Только бы я руководил организацией и самим побегом. Я загорелся и согласился.
…Поезд идёт, вагон покачивается, колеса стучат, в щелях стен мелькают деревья. В такт колесам стучит и моё сердце. Испытанным уже способом я ломаю сетку из проволоки на окне, и в это время поезд останавливается. Быстро поднимаю сетку, заделываю её, иду в свой угол, устраиваюсь для сна. Почему-то очень долго стоим.
Я заснул. Через несколько часов поезд наконец тронулся, но мне уже не до побега. Мелькают мысли – только бы не вспомнили, не будили, не трогали. Все равно замерзать. Не здесь, так дальше или ближе. Конец один. Ко мне никто не подходит, меня не будят. Все так настаивавшие на побеге лежат и молчат. «Трусы, – лениво, безо всякой злости думаю я. – Да и сам-то я тоже трус, ссылаюсь на слабость». И тут же засыпаю.
В Минске друзья ведут меня в лагерь под руки. Я очень ослаб.
Поместили нас в кирпичном бараке, кажется в пятнадцатом (лагерь был расположен в бывшей военной казарме). Потом повели в баню. Вымывшись, мы расположились своей компанией на втором этаже нар. Барак вмещал 1500–1600 человек. Вдоль нар неторопливо ходил комендант из русских и объявлял, чего нельзя делать: курить, выходить ночью, нельзя петь революционные песни и т. д. После каждого «нельзя» он добавлял, что нарушитель получит «25 на сраку». Я вгляделся в него и вдруг заметил, что лицо это мне знакомо. Это же… Сашка-сапожник! Вместе в расшибалочку играли в детстве. Он или нет?
Своим открытием делюсь с друзьями. Объявиться или нет? Друзья советуют объявиться, мол, чего тебе бояться? Если он побоится, что ты его после войны выдашь, то тебя убьет, а если не объявишься, то все равно с голоду сдохнешь. А друг он тебя узнает и по дружбе накормит как следует. Я решил подойти.
Он сидел на столе и объяснял нескольким военнопленным их обязанности (они были выделены для подноса баланды в бочках от кухни до барака). Я встал в освещенную лампочкой зону, он продолжал говорить, усиленно жестикулируя, пересыпая фразы матом. Вдруг его взгляд упал на меня, руки повисли в воздухе, он замолчал, вскочил со стола и бросился ко мне:
– Это ты, Лёшка?
Он обнял меня, расцеловал и повел к себе в небольшую комнату коменданта.
Положив на стол хлеб, сало, стал рассказывать о себе. Я ем и слушаю. Биография простая. В 1941 году попал в плен, пошел в полицаи.
Спрашиваю:
– А что дальше думаешь делать?
– Не знаю, меня всё равно не простят, – сказал он и предложил мне жить в его комнатенке.
Я отказался, но сказал, что у меня есть друзья, что хорошо бы и их подкормить.
Друзей он устроил командирами взводов. Взвод – это сто человек, которых выстраивают для получения пищи. Командир взвода отвечает за порядок, составляет список и по списку вызывает для получения пищи. За это ему давали три литра баланды в день добавочно.
Нужно сказать, что баланда была очень густая, и в ней даже попадалась кровяная колбаса. Сашка достал нам теплые телогрейки (нас было человек десять), сказал, что, если мы собираемся бежать, эта амуниция очень пригодится.
Через неделю сформировался этап в Германию. К тому времени я уже не доходяга, силы восстановились. Решил во что бы то ни стало попасть в этот этап в надежде на побег.
Но на этот раз Сашка сделал всё, чтобы мы не осуществили свой замысел. Какими соображениями он руководствовался, понять трудно.
Через несколько дней – новый этап. К нему-то нам пристроиться удалось. В этапном бараке лежим на нижних нарах, вдруг громкий голос Сашки: «Отзовись! Или получишь „25 на …“. Отозвался. В комнате коменданта этапного барака прощаемся, распиваем с ним бутылку самогона, он дает мне с собой пару буханок хлеба, пачек пять махорки, немецкие марки. И вдруг расплакался. Я попытался его успокоить, предложил ему ехать вместе, говорю, что нужно бежать. Но он испуганно зажимает мне рот рукой и шепчет: «Что ты, что ты! Услышат».
Наконец, все мы в одном вагоне. И тут же – разочарование: на окне не проволока, а самая настоящая решётка. Вырвать её, как мы ни пытались, не удалось. Тогда тупыми ножами мы попытались резать стену, но и тут нас ждала неудача, она оказалась двойной. Резать трудно, сил маловато, а от Родины отъезжаем всё дальше и дальше.
И чем больше удаляемся от родной земли, тем сильнее становится желание бежать. Но все попытки впустую.
Остановка надолго. Выясняем: это Польша, город Хелм, огромный лагерь военнопленных. А где-то рядом (я тогда не знал) был знаменитый Майданек.
Как водится у чистоплотных немцев, прибывших ведут в баню.
Это в мирное время мы произносим слово «баня» и сразу же представляем себе жар, пар, раскрасневшиеся человеческие тела и зелёный березовый веничек. А то помещение было очень далеким от такого представления: дверь в раздевалку раскрыта настежь, вовсю гуляет холодный ветер со снегом, мы стоим голые, одежду сдали в вошебойку и, чтобы не замерзнуть, жмёмся друг к другу. Тощие, кожа сухая, если её слегка потереть – сыплется. Наконец нас пускают в душевую. Какое счастье – минут пять идёт теплая вода. Мыла нет, трёмся ладонями. Двери открываются, и мы выбегаем в холодную раздевалку. Минут десять – пятнадцать ждём на холоде белье. Как хорошо, что оно такое горячее!
Такие бани повторялись через день-два. Многие умирали от воспаления легких. А мы выдержали.
В Минске к нашей компании присоединился человек средних лет, с усами и остроугольной бородкой. Вид у него был далеко не измученный. Но благодаря усам и бородке он казался старше своих лет. Я разговорился с ним. Выяснилось, что он работник Тимирязевской академии – профессор, был направлен в Вязьму, чтобы при отступлении привести в негодность зерно. Выбраться не успел, долгое время жил нелегально. Позже ему пришлось выдать себя за военнопленного. Мы приняли его в свою компанию.
Вообще, люди в тех обстоятельствах менялись. У одних автоматически срабатывал инстинкт самосохранения, у других начинали проявляться эгоистические замашки, а третьих парализовал страх, и они готовы были пойти на любую подлость, только бы остаться в живых.
Был у нас в компании белорус по фамилии Коляка, человек с замашками подхалима. Он тоже был командиром взвода, получал в предыдущем лагере три литра баланды, вместе с нами курил из общего кисета, а вот в Хелме он уже заимел свой кисет. И как-то раз на лагерном базаре я протянул руку к его кисету, но он быстро убрал его и важно произнес: «Дружба дружбой, а табачок-то врозь». Я рассказал об этом ребятам, и мы решили выгнать его из нашей компании. Было голодно. Но вот один из нас пристроился мыть бачки из-под баланды. Благодаря его протекции через два дня мы уже все мыли бачки. Стал проситься к нам и Коляка, даже плакал, но мы его в свою компанию не приняли. А профессор бачки с нами мыл.
Лагерь был разделен на сектора двойной колючей проволокой, между которой по широкому коридору ходил часовой с винтовкой. Рядом с нами в следующем секторе помещались штрафники англичане. Их привезли с запада на восток за попытку к бегству. Как я узнал позже из газет, участь этих англичан-штрафников была трагична. Они погибли в газовых камерах Майданека.
Однажды меня окликнул на русском языке один англичанин: «У вас есть офицеры?» Я в ответ: «Я офицер». – «Я был у вас консулом в Харькове до войны. Как народ, верит Сталину?» Я сказал, что даже очень. «Это хорошо, значит, победим… подожди», – сказал он и ушел. Вскоре вышел и бросил на нашу сторону ружейную масленку, крикнув: «Читай записку». Голодные люди бросились на масленку. Кто-то ее схватил и побежал. Я бросился за ним. Когда раскрыл масленку, там оказались сигареты и записка. Её мне отдали. Там печатными буквами было написано: «Ваши окружили армию Паулюса под Сталинградом, а наши высадились в Алжире. Ваши взяли в плен сто тысяч немцев». Это было в декабре 1942-го, а может, в январе 1943 года. Настроение у заключенных поднялось. Это была радостная весть. Мы опять заговорили о побеге. Бежать, бежать, бежать…
Весть об этой записке быстро распространилась по бараку. К нашей группе подошли двое военнопленных. Один из них в прошлом кремлевский повар. Мы разговорились, решили бежать вместе. Это решение нас вдохновило, и мы долго были в состоянии эйфории, которая закончилась к вечеру, когда ко мне подошли полицай и немец и приказали следовать за ними.
По дороге полицай сказал: «Вот узнаете, как бежать, добегались!» Я понял, что кто-то нас предал. Как выпутаться? Но фактов не было, только слова. Привели меня к зондер-фюреру. Стою перед его кабинетом и вдруг вижу – оттуда выходит тот самый наш новый знакомец, кремлевский повар. Только какой-то осунувшийся, лицо бледное…
Забыл сказать. В Минске распространился слух, будто предстоит обмен военнопленными и поэтому всем нужно зарегистрироваться под своими фамилиями. Это была провокация, смысл которой мне остался непонятен. Но те, кто, как и я, были под чужими фамилиями, легко пошли на нее. Таким образом, и я в Хелм прибыл под своей фамилией.
Захожу в кабинет зондер-фюрера. Приказал сесть, заполнил анкету. «Так что же это вы, бежать задумали?» Я говорю, что даже слова такого ни разу не произносили. «Зачем врать? Ведь твои же товарищи тебя предают. Ты интеллигент, попал под влияние какого-то повара». Я отвечаю, что мы смотрели на лес и говорили о том, что как хорошо быть на воле, и кто-то, очевидно, понял наш разговор так, что мы собираемся бежать. Зондер-фюрер, конечно, мне не поверил, но сказал, что он меня из лагеря не выпустит, затем дал пачку сигарет и сказал, чтобы я раздал их ребятам. Меня повели обратно.
Ситуация была непонятной. Но друзья, увидев меня целым и невредимым, обрадовались. Я им всё рассказал, раздал сигареты. Стали размышлять. Подозрение пало на одного москвича – лектора или экскурсовода Музея реконструкции Москвы, потому что он пришел к ребятам после того, как меня увели, и как-то неестественно расспрашивал, почему меня увели, и прочее. Решили быть с ним поосторожнее.
В один из вечеров по лагерю распространился слух, будто приехал офицер из РОА (Русская освободительная армия), будет вербовать желающих в армию. Во всех уголках начались дискуссии: что делать? Оставаться в лагере, ехать в Германию? Этот путь, конечно, тоже дает шанс на побег, но если пойти в РОА, то удрать будет легче. Были разговоры и в нашей компании, но выступил профессор: «Вот пойдёте вы в РОА, наденете немецкую форму, и, предположим, вам не удастся бежать, а повезут вас на фронт. Что вы будете делать?
– При первом случае перебежим к своим…
– А если до боя не удастся перебежать, придётся стрелять…
– Мы будем стрелять вверх.
– А кто вам поверит, что вы стреляли вверх, что вы перешли в немецкую армию, чтобы бежать, кто вам поверит, когда на вас будет немецкий мундир и в руках немецкая винтовка?
Доводы его были убедительны.
Затемно выстроили весь барак. Вдоль строя шёл русский офицер в немецкой форме. Фонариком освещал лица и спрашивал: «Воевать хочешь?» – «Нет». Он шёл дальше. «Воевать хочешь?» И того, кто отвечал «хочу», выводили из строя. Их оказалось человек двадцать, не больше.
Распространился слух, что назавтра заключённых должны отправить в Германию. Слухи подтвердились. Но, как оказалось, отправлять стали не всех. Мы были в числе желающих. Только профессор ехать с нами отказался. Он сказал, что бежать не хочет, балластом быть не желает, а в Германию ему не хочется. И остался работать на кухне.
Ну а мы решили ехать своей командой в одном вагоне, в надежде, что так будет легче во время побега и после него. Вот только не учли, что немцы формируют команды заключённых по алфавитным спискам, а не по желанию. В результате группа была разбросана по разным вагонам и наша затея оказалась бесполезной.
За день до отъезда мне удалось поговорить с бывшим английским консулом. Он сказал, что они могли бы запросто всех нас накормить, у них барак ломится от бекона, но немцы не разрешат. На мой вопрос, почему их так хорошо кормят, он ответил, что их снабжает организация Международный Красный Крест, которая к тому же предоставляет возможность переписываться с семьями и даже получать газеты. «А ваше правительство, – сказал он, – конвенцию Красного Креста не подписало, поэтому вы находитесь на иждивении у немцев». Он признался, что у них есть подпольный радиоприёмник. Мне захотелось ночью переползти освещаемый коридор. Но англичанин сказал, что этого делать не следует, поскольку и у нас, и у них есть предатели.
16
…Поезд движется на запад. Мелькают польские пейзажи, города и городишки, далеко друг от друга расположенные хутора. Везут нас через Силезию. Дымят заводы, масса высоких труб. Такое скопление заводов я вижу впервые. Пейзаж меняется. Появляются домики с черепичными крышами, мимо проплывают целые деревни из стандартных домиков, на полях точная прямолинейная планировка посевов, леса все в просеках. Германия. Поезд останавливается в поле. Вылезаю из вагона.
Кормят баландой, выдают хлеб, опять загоняют в вагоны. Ночь. Настроение паршивое.
Утро. Открывают двери: «Вылезай, приехали!» Станция Хаммер. Ведут лесом. Открывается вид на большой, геометрически правильно распланированный, чистый лагерь «Шталаг-326». Всех прибывших выстроили. К строю подошёл печально знаменитый дядя Саша – огромный рыжий белорус. Он держал за поводок собаку. Рядом стоял немецкий офицер. «Есть ли мои земляки? Я из Полесья», – спросил дядя Саша. Кто-то нашёлся. «А ну иди сюда». Тот подошёл. Дядя Саша начал громко расспрашивать, откуда он. Ответ парня ему не понравился. Последовала сильная оплеуха. Парень упал на землю. «Не ври, сукин сын», – сказал дядя Саша. Теперь уже спросил немец. «Я был в плену, жил на Урале (он назвал город), работал у купца (назвал фамилию). Есть ли кто-то оттуда?» Нашёлся один. Вызвал, спросил. Ответ тоже не удовлетворил. Оплеухи не было, но офицер прочитал короткую нотацию о том, что врать нельзя.
Что касается судьбы дяди Саши, то вот что я узнал о нём в Бресте в июне 1945-го. Когда наши войска занимали Хаммер, дядя Саша не сумел бежать. Он спрятался в уборной, залез под стульчак. Освобождённые военнопленные долго искали его. Наконец нашли и утопили в уборной.
А тогда в Хаммере после знакомства с руководством нам принесли контейнеры с баландой и хлеб. Баланда была из брюквы. Контейнеры принесли немцы. Все заключённые ринулись в очередь. Конечно, вместе со всеми и я. И тут же получил мощный удар в челюсть, напрочь выключивший моё сознание. Но я всё же удержался на ногах. Оказалось, это обычный метод наведения дисциплины.
Медосмотр. Всем выдают тупые бритвы и приказывают брить волосы на всём теле. Посреди большого зала сидят немцы с палками. Кто закончил бриться, подходит к одному из них, и тот его осматривает. Если где остался волос, он бьёт палкой и отправляет доскабливаться.
В бараках холодно. Окон нет. Зима, правда, не суровая, но всё-таки зима. Режим строгий. Ночью выходить из барака нельзя. Лежим, тесно прижавшись друг к другу. А рядом штрафной барак, в котором мучают провинившихся. Целый день они маршируют. Ложатся, встают, ложатся, встают, бегут. Охраняют штрафной барак эсэсовцы из советских военнопленных – азиатов и кавказцев. Каждый барак выгорожен проволокой, чтобы заключённые не общались между собой.
Впрочем, мы там не задержались. Дня через четыре нас сажают в поезд и отправляют дальше. По рельефу местности нетрудно определить, что мы поднимаемся в горы и таким образом добираемся до станции Хобельхоф.
От станции до лагеря – рукой подать. Этот лагерь «6-А». Прибыли в сумерки, мороз, может, и не сильный для живущих в нормальных условиях, но нас пробирал до костей, ведь наши измождённые тела прикрывало жалкое тряпье.
При выгрузке из вагонов я постарался встать в числе первых в большой колонне, чтобы в бараке попасть ближе к печке. Почти бегом рванул до барака по тягуну (тягун – это длинный подъем: термин легкоатлетов-бегунов) в сопровождении охраны с собаками. Барак был без окон и дверей – все выломано и сожжено, но военнопленные, эти гениальные приспособленцы, мигом затопили печку всем, что горит. Наверху над печкой, на деревянных формах, лежала широкая, сантиметров 40, доска. Я первый заметил её и мигом решил, что она будет прекрасной постелью. Так оно и оказалось. На ней я хорошо устроился и спал без сновидений, хотя потом весь день откашливался и сморкался сажей.
В лагере «6-А» я пробыл с неделю. Кормили плохо. Два литра супа из свекольной ботвы с изрядной долей песка и граммов 150–200 хлеба в день.
Три события остались у меня в памяти от пребывания в тех местах. Это молниеносная дружба с мордвином по имени Николай, с которым мы все дни проводили вместе, делились воспоминаниями, мыслями, планами и хитро добытыми продуктами – лишней порцией баланды, куском хлеба. Мы хотели и дальше двигаться вместе, но на шестой день судьба нас разлучила: медкомиссия отобрала его на шахту, он выглядел здоровее меня, а я, со своими сорока девятью килограммами веса и недержанием мочи от слабости, на шахту не попал и был направлен дальше, на запад, в другой лагерь.
Му́ки расставания с другом и сознание, что голодная смерть не за горами, сопровождали меня ещё очень долго. Вместе с нами этим же эшелоном везли пленных поляков – они при посадке ели краковскую колбасу и откусывали хлеб от больших буханок. Я зря тогда подумал плохо об этих поляках, ларчик-то открывался просто – их страна тоже подписала в своё время конвенцию Международного Красного Креста о статусе военнопленных.
Это наш «папа» Сталин считал плен позором, а они не гордые, подписали конвенцию, и их заключённые легче переносили тяготы пленения. Правда, к чести вождя народов надо сказать, что и своего сына Якова он не стал выручать из плена, несмотря на предложения немцев об обмене. Да и Яков не выступил против отца, как фашисты его ни уговаривали. Он умер где-то в неизвестности…
Поезд спускался с гор, и становилось теплее. Был март. Сколько времени мы ехали – не помню, но прибыли, наконец, в город Дорстен, лагерь «-6J». По слабости здоровья, я не попал ни в какую команду, а был оставлен работать при лагере. Там было много команд – постоянных, работавших на каких-то предприятиях, и временных, формируемых по мере надобности. Некоторые работали у «бауэров» (крестьян) или расчищали разбомблённые города. Была внутрилагерная команда, которая занималась уборкой, доставкой картошки с товарной станции и т. д. Те команды, которые работали на стороне, имели возможность доставать себе дополнительное пропитание, а внутрилагерная команда получала лишний литр баланды. Кормили в этом лагере лучше, чем в «6-А». Я поправлялся, хотя и медленно. Через некоторое время меня определили в команду по расчистке разбомблённых городов. Питание сразу улучшилось за счет украденных в городе продуктов.
По сравнению с теми, где я был, например в лагере № 326, режим здесь был довольно щадящий. После построения – скудный завтрак: эрзац-кофе, пайка хлеба 300 граммов, кусочек кровяной колбасы. После завтрака работа.
Нёс я какую-то доску и, проходя мимо маленького барака, услышал стук в окно. Оглянулся: из окна на меня глядел человек. Он поманил пальцем и указал на дверь. Я открыл её, вошёл и увидел невысокого, толстого, с оплывшим красным лицом немецкого офицера лет 50. Хриплым голосом он спросил: «Hast du Pfeife?» («У тебя есть трубка?») Я ответил – нет. Он выругался, но злости я не услышал. Он спросил, из какого я барака, и, дав мне пачку табаку и курительной бумаги, велел раздать моим коллегам.
В тот день я накурился вдоволь, а вечером услышал непонятное. Ребята из восемнадцатого барака, в который меня поместили, рассказали, что этот офицер – комендант лагеря, обер-лейтенант, прусский помещик. Он прибыл недавно и сразу установил небывалые порядки: запретил рукоприкладство, а решения о наказаниях принимал лично. Наказывал мало, часто беседовал с пленными в бараках, правда, сам не говорил, а только задавал вопросы и слушал. Мог вызвать к себе военнопленного в барак, усадить его за стол и молча наблюдать, как тот ест. Табак раздавал часто. По наблюдениям военнопленных, солдаты охраны любили его за справедливость, а офицеры и часть унтер-офицеров недолюбливали. Обер-лейтенант был всегда под хмельком.
Ещё одна встреча с этим странным пруссаком: питания в лагере было недостаточно, и пленные, как всегда, изощрялись – воровали на стороне и в лагере, только не у своих и не у немцев, а на кухне или на складах. Наиболее доступным для русских был склад картошки, располагавшийся в буртах около кухни. Кухня помещалась в большом бараке и разделялась на два отделения: для военнопленных и для солдат охраны. На кухне работали русские повара, на немецкой кухне – немецкие. Общим начальником был шеф-повар. Он слегка владел русским языком, но умел виртуозно материться. Ругался отменно, как старый боцман, и сильно смешил нас.
Картошку не просто воровали, но и проигрывали в «очко». Банк начинался с единиц, потом переходил на десятки, сотни и миллионы картошин, затем их делили на миллион, и частное от деления составляло предмет воровства.
Проиграв 64 миллиона картошин, я взял ведро и пошёл к кухне (это было в воскресенье после завтрака, а по воскресеньям мы не работали). Залез в бурт, набрал картошки, на выходе присыпал её углем, чтобы встречные немцы и полицаи видели, что я несу уголь, и вышел из бурта. На моё несчастье, в дверях кухни появился шеф-повар. «Иван, ко мне!» Я подошёл. «Что несёшь»? Я ответил – уголь. Повар, конечно, знал, что русские таскают картошку, и смотрел на это сквозь пальцы, но в тот день у него было плохое настроение. Он нагнулся, разворошил прессованный уголь и, достав картошину, спросил: «Это тоже уголь?» Я молчал. Он заорал, что все русские – воры и свиньи, и он на меня пожалуется. На крик выбежали русские и немецкие повара и, как из-под земли, явился дежурный по охране унтер-офицер. Узнав, в чём дело, спросил, из какого я барака, велел высыпать картошку и следовать за ним. Я видел в окнах лица ребят и думал: за что они сейчас больше переживают: за то, что остались без картошки, или сочувствуют, ведь мне грозило суровое наказание. И тут как раз напротив нашего барака, из-за поворота, показался обер-лейтенант. Он был одет с иголочки и направлялся в город. Сердце у меня упало. Унтер-офицер подбежал к нему и, рапортуя, указывал в мою сторону пальцем. Я стоял от них метрах в восьми. Выслушав рапорт, обер-лейтенант подозвал меня и, спросив, из какого я барака, велел, чтобы сегодня вместе с Николаем (он знал переводчиков во всех бараках) в 19.00 явился к нему.
С пустым ведром я под насмешки и шутки вошёл в барак. А ровно в 19.00 мы с Николаем постучали в дверь барака обер-лейтенанта. Лежа на диване, он начал разговор:
– Николай, спроси его, зачем он воровал картошку.
– Я голоден. Поэтому ворую, – ответил я.
– Николай, спроси его, он что, съедает целое ведро картошки?
– Я делюсь картошкой с камарадами, они ведь тоже голодают.
– Николай, спроси его, знает ли он, что за воровство в Германии судят и отправляют на каторгу?
– Нет, не знаю, – ответил я.
– Николай, передай ему, что на первый раз я его прощаю, а в следующий раз прикажу подвесить его пайку хлеба к флагштоку (при этом он указал пальцем на видневшийся в окне флагшток у входа в лагерь), и он будет у меня целый день прыгать за ней. Идите!
Так закончилась моя вторая встреча с этим странным человеком.
Ещё один эпизод для характеристики обер-лейтенанта. В один из воскресных дождливых дней мы в бараке «дулись» в подкидного дурака на интерес: на щелчки, носики, картошку. И вдруг в окно увидели, как из уборной вышел обер-лейтенант. Уборные в лагере были в одном месте и все с надписями – общая уборная на много очков «Только для русских военнопленных», общая уборная – «Только для германских солдат», маленькая уборная – «Только для германских офицеров» и отдельная уборная на одно очко под замком без надписи. Это и была уборная обер-лейтенанта. Он вышел, а дверь не запер.
«Сыграем, кому оправиться в уборной обера?» – предложил кто-то. Решили сыграть. Проиграл Лёшка-хохол, здоровенный флегматичный детина. Встал и зашёл в уборную, а ремень вывесил наружу. Такой эксперимент и по сути, и по форме был грубым нарушением всех норм поведения военнопленных. Виновника в те времени могли даже казнить.
Мы наблюдаем в окно и видим, как к уборной спешит обер-лейтенант. Увидев ремень, он остановился как вкопанный, потом дернул за ручку, дверь не открылась, и обер-лейтенант дунул в свисток. Тут же появился дежурный унтер и, выслушав коменданта, начал дергать дверь. Ремень убрался, дверь отворилась, и вышел Лёшка. Мы не видели лиц немцев, но за судьбу Лёшки я очень испугался, да и мои коллеги тоже. Разговора мы не слышали, но из поля нашего зрения не ускользнуло, что к бараку вместе с Лёшкой шёл унтер-офицер. Что-то будет? Унтер объявил, что за проступок одного будет отвечать весь барак – а это человек сорок.
Два часа муштры. Под командой двух солдат мы бегали, ложились, вставали. Всё это под дождём, а «Ложись!» солдаты командовали тогда, когда мы пробегали по лужам: «Ложись!» (в лужу), «Вставай!», «Марш-марш!», «Ложись!», «Вставай!», «Марш-марш!» под жуткую ругань. Играли-то четверо, а гоняли всех. Разозлённые 36 человек нам бы наверняка всыпали, но, на наше счастье, среди провинившихся был переводчик Николай. А его побаивались.
На этом беда не закончилась. Минут через пять появился унтер и приказал всю одежду привести в порядок. Мыли, стирали, чистили, сушили допоздна, а в 6.00 подъем. Так прошёл в нашем бараке воскресный июньский день.
Привожу этот случай в доказательство благородства обер-лейтенанта. Он мог запросто расстрелять Лёшку на месте. А он наказал по статье за недисциплинированность.
За своё отношение к военнопленным он и пострадал. Как-то раз в июне или июле после построения на работу нас не повели, а оставили в строю. Стояли часа полтора и вдруг видим: к нам строем подходит охрана, даже часовые были сняты с вышек. Нас выстроили буквой «П», а в основании встал весь конвой при оружии. Мы недоумевали. Вдруг в центре появился обер-лейтенант в парадной форме и при всех регалиях. Повернувшись лицом к немецкой охране, он что-то стал говорить, а затем начал обходить солдатский строй и пожимать руки всем солдатам, унтерам и своему заместителю лейтенанту. Повернувшись к нам, сказал: «До свидания, русские, желаю вам быстрее вернуться домой, я уезжаю на русский фронт».
Как мы после узнали, обер-лейтенанта «подсидел» его заместитель – лейтенант. Он стал комендантом лагеря, и тут уж начался настоящий мордобой, посыпались свирепые наказания – карцер, лишение рациона, ремень. Особенно свирепствовал один унтер, брюнет, среднего роста, похожий на кавказца. Придравшись к пустяку, он ставил перед собой провинившегося и бил его то с правой, то с левой руки, разбивая нос и выбивая зубы. Говорили, что он мстил за брата, погибшего на русском фронте. Жизнь наша заметно ухудшилась.
17
В августе 1943-го мы попытались устроить побег, который, увы, не удался. Бежать собрались трое – я, переводчик Николай Миронов (шофёр из Ташкента) и Яков (фамилии не помню), тоже шофёр. План был такой: во время воздушной тревоги не бежать в расположенное на территории лагеря земляное бомбоубежище, а, пользуясь темнотой, пробраться под проволокой (поскольку прожектора гасят), пересечь посев и, заметая следы, пройти как можно дальше по берегу речушки. Потом, минуя городские постройки, выйти за черту города (лагерь находился на окраине Дорстена) и двигаться на восток. Быстрого раскрытия нашей задумки быть не могло, поскольку каждую ночь случалось три – пять тревог, и охрана не проверяла по баракам, все ли на месте.
Мы накопили хлеба, и в одну из ночей, прихватив котелок и одеяло, побежали из барака вместе со всеми к бомбоубежищам. Затем свернули в сторону, пролезли под колючей проволокой и бросились в овес. Когда протискивались под «колючкой», прекратился вой сирен и, поскольку стрельбы еще не было, наступила зловещая для нас тишина. Мы не догадались, что в этой тишине шум от передвижения по овсу (очень сухому) будет далеко слышен, и продолжали бежать. Это нас чуть не погубило. Охрана услышала шум и подняла тревогу. Солдаты бросились окружать овес, и если бы мы продолжали бежать, то были бы пойманы где-то в конце поля. Но мы вовремя повернули обратно. Безумная ночь и отсутствие охраны внутри лагеря – почти вся она выскочила наружу ловить нас – позволили нам, минуя бомбоубежище, вернуться в барак и до конца тревоги отсидеться под нарами. Когда военнопленные вернулись в бараки, началась проверка, но она была прервана новой сиреной, затем последовали еще две, а последняя проверка проводилась в 6 утра. Все оказались на месте, собак не привели, искать больше не стали. Охрана тоже уставала от бесконечного ночного бдения.
Эта неудача надолго выбила нас из колеи – желание бежать пропало. С неделю мы даже не касались этой темы. А когда я обратился к ребятам с новым предложением, Яшка отказался наотрез. Он был из блатных: я встречал в плену троих блатных, и все они категорически отказывались бежать. Очевидно, «привычка» к тюрьмам скрашивала им лагерную жизнь. О патриотизме и говорить нечего.
А вот Николай согласился. Но, прежде чем перейти к описанию очередного побега, я расскажу, как мне пришлось один день отработать у крестьянина. Там я понял, что пленные, попавшие к «бауэрам», в принципе жили лучше нас – и питание лучше, и работа здоровая.
Меня и ещё одного заключённого солдат забрал в воскресный день из лагеря (случайно, мы просто первыми ему повстречались) и повёл к выходу. Там поджидал парень лет 30-ти. Мы пошли к нему на близлежащую ферму. Она была километрах в двух от города. Конвоир доставил нас двоих, а сам отправился к хозяйке на кухню. Вместе с хозяином мы пошли на картофельное поле, где уже работали нанятые в городе женщины. Наша работа: ползая на коленях, обернутых в мешковину, выбирать из обработанной земли картофель и наполнять им большие корзины, расставленные по полю на определённом расстоянии друг от друга. Для нас это занятие не было изнурительным, и время прошло незаметно.
Когда стемнело, все пошли на ферму. Женщины умылись, получили у хозяина деньги и ушли, а нас хозяин повел на кухню, где были накрыты два столика. За большим сидели хозяйка с солдатом, туда сел и хозяин, а нам указали на маленький столик. Еда была очень вкусная. Хозяйка наблюдала за нами и приговаривала – ешьте-ешьте, ведь вы такие тощие. Когда мы съели вторую добавку второго блюда, она подошла к нам, принялась резать сало и кормить нас чуть ли не насильно. Видно, хотела за один раз довести нас до нужной кондиции.
Хозяин с солдатом изрядно выпили шнапса и немного спели. Мы наблюдали за ними, хозяйка тоже была навеселе. Часиков в восемь-девять вечера хозяин распрощался с солдатом, дал ему пять марок, нам по две, и мы пошли в лагерь. От непривычно жирной пищи дня два мы с товарищем мучились животами.
Ночи становились всё длиннее, а погода всё более пасмурной. Режим в лагере ужесточался, побоев стало больше, настроение – хуже некуда.
И мы с Николаем решили бежать, пока не наступила зима.
Однажды мы попали в команду, которая возила доски на грузовиках на какое-то находящееся в лесу оборонное строительство. День выдался погожий, и мы решили в последнюю ездку, когда, по нашим расчетам, спустятся сумерки, «нырнуть в кусты». Это было нетрудно – кругом большой лес, из немцев только шофёр, который дремал в кабине, и один часовой на восемь человек (одну машину). Грузовиков – три. Последняя ездка заканчивалась часов в шесть вечера. Мы разгрузили доски и пошли к бараку. Один солдат шёл впереди, двое сзади. В барак мы вошли последними перед солдатами, пропустили их вперёд, и, пока они шли в другой конец барака к конторке, мы вышли и медленно двинулись к кустам, готовясь оправиться (для маскировки). За нами вышли ещё двое и, копируя наши движения, направились к нам. Зайдя за кусты, мы бросились бежать по редкому лесу, и те двое, сопя, бежали за нами. Мы остановились. Они подбежали и, задыхаясь (оба были старше нас лет на десять – пятнадцать), сказали: «Мы с вами». Вчетвером мы быстрым шагом удалялись от поляны всё глубже в лес, ориентируясь по звездам, на северо-восток. Ещё летом, когда мы собирались бежать, планировали идти на восток северными районами Германии, где меньше промышленности, городов, где преобладают сельскохозяйственные районы. Наивные мы были – фронт под Курском, до него 2500–3000 км вражеской и оккупированной территории. Но глубокая ненависть к врагу и тоска по Родине отгоняла мысли о бесперспективности выбранного маршрута. Нам казалось, что достаточно перебраться за колючую проволоку, и мы преодолеем всё: и длинный путь, и голод, и зимний холод.
Той ночью до утренней зари мы шли, питаясь захваченным хлебом и молоком из бидонов, выставленных хозяевами ферм к воротам. Утром забрались в одиноко стоящий сарай с сеном. Рассвет выдался промозглым, с обильной росой и туманом, но в сене было тепло и уютно. Мы проспали весь день и вылезли когда уже стемнело.
Во время побега решается множество проблем, но основные из них:
– действия при уходе (надо уйти незаметно);
– питание в пути;
– правильная ориентация (сельская местность, необходимость обойти города);
– осторожность (не попасться и даже не «засветиться»).
Первую проблему мы решили на «отлично». Труднее оказалась вторая. Где взять пищу? Выклянчивать нельзя – мы на чужой враждебной территории. Воровать? Ещё не научились делать это умело. Оставался единственный надёжный источник – остатки овощей в поле. Шли мы ещё три ночи без приключений, отдыхали днём на сеновалах. Но силы постепенно нас покидали. Ничего не поделаешь, при тяжёлой нагрузке – ходьбе целую ночь – сырая картошка (костёр разводить боялись), морковь и турнепс – очень хилое питание. Хорошо ещё, погода благоприятствовала, дождей не было, днём пригревало солнце.
18
Случилось это на 5-й день. Сеновал был небольшой, и мы решили разделиться по двое. Мы с Николаем залезли в сарай на сено под самый конец крыши, а те двое пошли в соседний сарай. Кто из нас храпел – неизвестно, но собачонка учуяла, облаяла, собрала крестьян. Нас разбудили, когда приехал полицай. Сколько времени они кричали: «Прочь! Вон!» – я не знаю, но от этих истошных криков мы проснулись, пришли в себя и поняли, что вопли относятся к нам. Спустились на землю…
Полицай, приехавший на велосипеде, спросил, кто мы такие, а когда мы ответили, что русские, то крестьяне начали просить полицая оставить нас – у них не хватало работников. Полицай колебался, но, когда мы признались, что мы военнопленные, сел на велосипед и велел нам идти впереди. Понуря голову, мы шагали по дороге. Он пытался из нас выудить, откуда мы бежали, а мы у него – где находимся. Как и предполагали, находились мы юго-восточнее Мюнстера. Не торопясь, дошли до какого-то местечка, где полицай сдал нас в жандармерию.
О судьбе двух примкнувших к нам беглецов мы ничего не знали.
В крошечном карцере мы уныло глядели друг на друга – что-то будет? Не дай бог, вернут в лагерь – конвоиры забьют насмерть. Надо сочинить легенду. И мы быстро договорились…
Меня вызвали первым. В большом кабинете в левом углу стоял массивный стол, за которым сидел полный лысеющий жандарм в офицерском чине. В стороне от стола, у левой от входа стены, стоял здоровый рыжий детина-жандарм – рядовой. Меня ввел другой жандарм и поставил посредине кабинета. Оба, и офицер, и рядовой, в упор уставились на меня. Офицер тасовал какие-то фотографии, мельком взглядывал на них. Я смотрел в окно, приняв безучастный вид, но был в жутком напряжении, перебирая в мыслях легенду и непрерывно потея.
Прошло минут десять, которые показались вечностью. И вдруг дверь открылась, вошел небольшого роста молодой человек в гражданской одежде. Я повернул голову в его сторону как раз в тот момент, когда он вскидывал правую руку в приветствии и громко отчеканил: «Хайль Гитлер!» Наметанный глаз сразу определил – украинец, из штатских, переводчик. Сердце сжалось от страха – ведь, по легенде, я украинец, а переводчик по выговору сразу узнает, что я русский.
Он сел на стул, облокотился правым локтем на стол (видно было, что он знаком с офицером и не первый раз здесь), а рыжий детина подошел ко мне, повернул меня лицом к правой стене, подвел к ней вплотную, и я уперся в нее лбом. Своими лапищами взял мои руки у локтей и слегка отвел их назад, а коленом уперся в поясницу, и в это время офицер через переводчика спросил:
– Фамилия?
– Хоменко, – ответил я.
В это время рыжий рывком дернул мои руки вверх. Адская боль заставила меня вскрикнуть.
– Не врать! Как настоящая фамилия?
– Хоменко, – выдавил я.
Опять рывок, опять адская боль в плечевых суставах, я не вскрикнул, а заскрежетал зубами и почувствовал, как пот заливает и ест глаза. Вот она, дыба, пронеслось в голове.
– Фамилия? – опять рявкнул офицер.
– Хоменко!..
Еще рывок, туман в глазах. Я понял, что могу потерять сознание от боли, и испугался, что в бессознательном состоянии назову свою настоящую фамилию. Испуг пошел на пользу, и следующий рывок я выдержал более стойко. Наконец:
– Genug (довольно).
Рыжий отпустил мои руки, и они упали как плети. Жандарм поверил, что я Хоменко, и начал допрос. Руки болели, я с трудом приподнял правую, нагнулся к ней, чтобы вытереть пот с лица. Потом руки болели очень долго. Однажды во время боя, уже во Франции, я не мог держать в руках автомат и стрелял стоя, подвесив его на шею. Болели они и после войны. Даже теперь я не могу, например, швырнуть камень – рука сразу начинает болеть надолго.
– Откуда бежал?
– С фабрики.
– С какой фабрики?
– Не знаю, всего три дня как нас привезли.
– Что делал на фабрике?
– Возил кирпичи.
– Почему бежал?
– Конвоиры били и плохо кормили.
– Нельзя было бежать. Надо было жаловаться.
Побег – нарушение дисциплины, за это наказывают. Попал в плен – сиди до конца войны, а после отпустят домой, продолжал офицер.
– Чем питался в дороге?
– Где подадут, где украдешь…
– Это нельзя говорить, – вдруг перебил меня нарочито грубым тоном переводчик. – Будут судить и за воровство сошлют на каторгу. У них строго.
И перевел офицеру:
– Остатками овощей на полях, – (выручил!).
Если мне не изменяет память, на этом допрос закончился. Я выдержал экзамен. Выдержит ли Николай?
Меня ввели в карцер, а Николая взяли на допрос, но я успел ему сказать:
– Держись, Николай, выворачивают руки. Я выдержал. Держись, иначе хана. Переводчик выручил: «Питался остатками овощей на полях».
– Понял, – испуганно ответил он.
Его привели минут через 20, потного, в слезах, руки как плети, но в глазах – веселый огонек.
– Все в порядке, но руки изуродовали.
– Ничего, заживут!
Часа через два нас на машине отвезли в штрафное отделение лагеря «6-S». Мы испугались, что нас могут узнать, но вспомнили, что накануне побега произошла замена конвоя – прежних отправили на фронт, а взамен прислали инвалидов: кто без руки, кто без ноги. Эти-то нас не узнают, вот офицеров и унтеров заменили или нет, мы не знали. За своих мы не боялись, да они нас могли и не увидеть, ведь штрафной барак был в дальнем углу лагеря, за дополнительными рядами колючей проволоки, и пленным подходить к нему не разрешалось.
Как назло, заболел немец-переводчик, и мы просидели дней семь – девять в карцере, а пребывание в нем подарком судьбы не назовешь. Духота. Смрад. Теснота – двухэтажные нары на маленькой площади (3×3 м), два отверстия для вентиляции размером 30×15 сантиметров (в них удобно было оправляться с верхних нар), параша в углу. К концу недели в наш карцер набилось 18 арестантов. Все беглые. Кормежка обычная, лагерная. Суп из брюквы и три картошины на второе – обед; 300 граммов эрзац-хлеба, эрзац-кофе – завтрак; 20 грамм маргарина, эрзац-кофе – ужин. От духоты и смрада все лежали без движений. Но спали как убитые. К концу недели все мы пожелтели и опухли.
Конечно, было много разговоров и рассказов. Никто не знал, что его ожидает после допроса (все были дилетантами в побегах в Германии), но настроение было приподнятое. Все-таки попытались! Примерно на третий день нас вывели на воздух и усадили на травку. Принесли стул, поставили его перед нами, и все 20 минут там были мы, стул, охрана и солнце. Дышим – не надышимся. Обмениваемся мнениями, что нам предстоит сейчас. Предположения самые разные. Но вот уж чего никто не мог предположить, так это того, что в чине старшего лейтенанта к нам явится власовский агитатор.
19
Ничего нового из его выступления мы не узнали. Всем было известно, что гитлеровская Германия наш «лучший друг», что большевикам скоро наступит конец, что русский народ вот-вот приобретет свободу и что мы должны помочь ему в этом благородном деле, вступив в РОА (Русская освободительная армия), которой командует «истинный патриот» и «сын русского народа» генерал Власов.
Слова-семена старшего лейтенанта-власовца падали на каменистую почву и всходов явно не давали, никто из арестантов не пожелал нести «свободу» русскому народу в рядах РОА. А вот один, очень молодой, лет восемнадцати, арестант сглупил. Он спросил агитатора:
– Господин старший лейтенант, скажите, кем вы были до войны?
– Учителем, – последовал ответ.
– Так, значит, до войны вы учили нас одному: что большевики принесли русскому народу свободу, а теперь учите другому, что большевики враги русского народа. Чему же верить?
– Раньше мне приказывали, как вас учить, а теперь я говорю во что верю сам.
– А я вам не верю. Нельзя нести свободу русскому народу на фашистских штыках!
Горе-агитатор ничего не ответил и быстро ушел. Увели и нас, а вскоре забрали того горячего паренька, и больше мы его не видели.
Наконец выздоровел немец-переводчик, и мы, пройдя тщательный допрос, были направлены в штрафной барак, из которого путь был один – в штрафную команду со строгим режимом и усиленной командой охраны.
Штрафной барак стоял отдельно и был как бы лагерем в лагере. Конвоир передал нас коменданту барака – бородатому средних лет мужику. Он был полновластным хозяином в своем помещении, но оказался неплохим человеком. Звали его дядя Костя. Он был москвичом, и фамилия его была Московский. До войны жил на Малой Коммунистической улице в доме, во дворе которого была в свое время пожарная часть.
Приняв нас под расписку, он завел всех в свою довольно большую конуру и начал так:
– В бараке, куда вы сейчас попадете, находятся примерно сто таких же бродяг, как и вы. Кормят штрафников очень плохо. Единственная надежда выжить – это продукты, добываемые за пределами лагеря. Из нашего барака берут на работы в городе – на разгрузку картошки для лагеря и для города Дорстена. Конвоиры разрешают приносить картошку с собой, но уже сваренную. По дороге детишки меняют на продукты игрушки из дерева, которые делают арестанты в бараке. Вот этим и питается весь барак. Поэтому у нас закон: из команд, которые формируют на работу в город, – не бежать. В случае побега никого в город направлять не будут, и тогда конец. Когда вас направят в штрафную команду, бегите куда хотите. А отсюда не советую. Ясно?
– Ясно, – ответили мы.
– А теперь возьмите вот эти банки-котелки и идите в барак.
Забрав консервные банки, мы вступили в новый для нас мир – штрафной барак.
Мы привыкли к обычной схеме бараков – двух-, а то и трехярусные нары в два ряда, с центральным проходом, – и для нас полной неожиданностью стало увиденное. Барак был без нар. Люди лежали на полу, точнее, на толстом слое сухого папоротника, и каждый занимался своим делом – кто играл в карты, кто спал, и таких было большинство, кто-то беседовал или выстругивал что-то из дерева. Воздух был насыщен табачным дымом и испарениями давно не мытых тел.
Как всегда, появление новеньких вызвало большой интерес – искали земляков, расспрашивали, откуда и как бежали, – начался «обмен опытом». Москвичей не оказалось, ташкентских тоже, и мы с Николаем остались вдвоём. Мы о себе особо не рассказывали, а если что и говорили, то в пределах легенды для жандармерии – опасались провокаторов.
Через некоторое время меня позвал земляк – дядя Костя. Мы поговорили о Москве. Он рассказал о себе (я не запомнил его биографию), а я о себе. Он меня накормил и обещал направить нас с Николаем в первую же команду для временной работы вне лагеря.
И всё вроде бы складывалось благоприятно, но ночью начался настоящий ад: блохи. Мириады блох. Спасения от них не было. Спать невозможно. Даже старожилы, и те мучились, а мы уж тем более. Блохи вылезали из папоротника и несметными полчищами атаковывали нас, высасывая остатки крови из наших скелелетоподобных тел. Невидимые в темноте, они до боли были ощутимы. И только к утру, насытившись, они уходили в папоротниковую подстилку и там скрывались. Беспощадно изъеденные, на короткое время засыпали и мы.
Рано утром – побудка, построение во дворе, проверка и раздача хлеба и «кофе». Затем томительное ожидание – придут сегодня конвоиры брать на работу или нет? «Старики» искали мешки, а те, кто сделали деревянные игрушки, тщательно готовили их к продаже.
В 8 часов явился солдат с протезом вместо ноги и передал дяде Косте заявку на нужное количество людей. Дядя Костя заранее приготовил списки, и счастливчики, в число которых попали и мы, двинулись по знакомым улицам Дорстена к железнодорожной станции.
Солдат никого не торопил и с интересом наблюдал за обменом, который происходил тут же, по ходу нашего движения.
К колонне подбегал мальчишка лет восьми с буханкой хлеба и негромко говорил:
– Русс, птичку, птичку!
Пленный доставал из мешка деревянную, раскрашенную в белый и красный цвет игрушку, передавал мальчику, и тот, отдав буханку, которая моментально исчезала в мешке военнопленного, стремглав бежал домой. Очевидно, это была форма помощи пленным от жителей, потерявших на войне своих близких.
Основной нашей работой была разгрузка из вагонов картошки для лагеря. Делали мы это неторопливо, да от нас особого усердия никто и не требовал. Конвоир в это время флиртовал с медсестрой в санчасти вокзала, в том же помещении на пылающей жаром печке варились два ведра картошки.
Бежать? Конечно, можно без большого труда. Забирайся в товарный вагон и катись за городские пределы, но никто об этом и не думал. Нас ведь предупредили… Все помнили слова дяди Кости Московского: солидарность – прежде всего. Вагоны, предназначенные для лагеря, быстро разгружались, и мы, прихватив обжигающе горячую картошку, поспешили в лагерь, чтобы успеть еще и пообедать.
Барак нас встретил шумно – ведь мы несли пищу. Сложив картошку в общую кучу на дележку, мы взяли свои консервные банки и пошли получать у коменданта нашу порцию баланды.
Что это было? Сваренная ботва от турнепса. Мне досталась ботвинья сантиметров в сорок. В банке она разместилась винтообразно и была залита горячей жидкостью. Я немного насытился картошкой, но и ботву просто сожрал, жадно запив жидкостью. Да-а-а, размышляли мы с Николаем после такого обеда, если водить на работу нас не будут, долго здесь протянуть невозможно.
И мы решили просить дядю Костю скорее направить нас в штрафную команду. Надо бежать.
Конечно, мы при этом взвешивали все «за» и «против», ведь тут худо-бедно было хоть что-то. За птичек из деревяшек мы имели почти каждый день буханку хлеба, да еще картошка, да еще баланда. Но очень хотелось на волю…
Ну а пока безрукий солдат девятнадцати лет водил нас, штрафников, на строительство железнодорожной ветки к частной мельнице. Я попал в эту команду в порядке очереди, и как раз тогда произошел случай, о котором я хочу рассказать. Мы пришли на место, солдат слез с велосипеда и сказал: «Все работают, а один человек пусть идёт воровать картошку у „бауэра“, один человек разжигает костер и варит её, а я поехал к фрау». Сел на велосипед и был таков.
Один из наших пошёл с мешком за картошкой, вскоре накопал и принес ее, но хозяин картофельного поля заметил его и проследил, куда это он тащит свой мешок. Дождавшись нашего конвойного, он потребовал, чтобы тот наказал вора. То ли солдат был пьян, то ли ненавидел тыловиков, но, вместо того чтобы для маскировки отругать ворюгу и пообещать ему карцер, он вдруг накинулся на «бауэра» и стал кричать: «Ты видишь, какие они (т. е. мы) худые и измождённые, ты видишь, что я руку на фронте потерял, а ты сидишь здесь, в тылу, и тебе жаль мешка картошки для этих бедолаг. Уйди, или я тебя изобью!»
Фермер повернулся и ушёл. А часа через два подъехала легковая машина, из неё вышел фермер и важный человек в штатском. Сделав несколько шагов в нашу сторону, он поманил пальцем солдата. Тот, прихрамывая, вразвалочку подошёл к нему, но после нескольких слов штатского вдруг вытянул руки по швам и, заикаясь, начал твердить, что он инвалид, у него больная мать, и он просит простить его, а русского он непременно накажет. По лицу его текли слезы.
Солдата судили, дали ему 2,5 года с отсидкой после войны, и больше он за ворота лагеря с пленными не ходил.
И ещё один эпизод из жизни штрафников. Под вечер была поделена картошка, принесённая очередной командой, мы уже перевязывали рукава, штаны и затягивали воротники, чтобы блохи не проникли внутрь, а могли бы «грызть» только наши руки, ступни и лицо. И в это время отворяется наружная дверь и в барак входят два шикарно одетых «джентльмена». Шляпы, галстуки, белые сорочки, габардиновые пальто и ботинки на каучуке приковали внимание изъеденных блохами обитателей барака.
– Здорово, ребята, – сказали пришельцы.
– ?
– Ну что молчите? Здорово, говорим…
Опять гробовое молчание. В голове бегут мысли: кто они? Власовцы? Вербовщики… Одно ясно – русские. Но какие?
– Чего испугались, не власовцы мы, – словно читая наши мысли, сказал один из пришельцев. – Такие же, как и вы, только нам немного повезло – мы пожили на воле.
Это уже был другой разговор, и главное, их можно было расспрашивать, не говоря ни слова о себе. Их окружили, и начался рассказ. Вышел послушать и дядя Костя.
Бежали они из Германии и направились не на восток, как мы, а на запад, ибо слышали, что на западе помогают беглецам. Действительно, в Бельгии их встретили хорошо, и в этой стране они пробыли полгода, два месяца даже прожили у какого-то крупного торговца в самом Брюсселе. Обещали их передать партизанам, но не повезло – попались без документов в облаве. Торговца они не выдали, признались, что русские – беглые военнопленные. Теперь они вместе с нами будут блох кормить.
Их рассказ сильно повлиял на мою дальнейшую судьбу. Поразмыслили мы с Николаем и поняли, что ошиблись, избрав в последний побег путь на восток – и далеко, и опасно. Запад рядом, до голландской границы километров восемьдесят, а там, оказывается, много людей, которые смогут нас поддержать и даже направить к партизанам. Решили мы бежать в Швейцарию, только при этом идти не прямо на юг, а на запад, в Голландию. Дальше сделать крюк – поворот на юг, через Бельгию дойти до Франции, а там взять курс на Швейцарию. Рассматривали мы еще испанский вариант, но он отпал – в Испании у власти фашисты…
Каждый день мы с Николаем обдумывали детали, исподволь расспрашивая «джентльменов» об интересующих нас моментах. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Все пришло в своё время, но только для меня, а не для Николая, но об этом позже.
А теперь третий случай.
Привели как-то в штрафной барак троих человек. Ну привели и привели, к нам тогда часто приводили новеньких. Беглецов было много в те времена. Но интересно было, что вошли-то они втроём, а как только оказались в помещении, двое отошли от третьего, и он остался один. Этот был москвич. Возраст 22–23 года. Красавец писаный и фигурой хорош. Разговорился я с ним, и он мне рассказал о своих любовных похождениях, о том, какие у него красавицы были и как они его содержали. Мне это не понравилось, хотя, как и каждый в молодости, я тоже был не безгрешен. Но в этом блоховнике обстановка была не та, чтобы об этом бубнить взахлеб. Здесь лучше слушались сказки, рассказы из героической истории Родины, и главное – о побегах. А тут – слушай сладострастный шёпот молодого ловеласа!
Спросил я его попутчиков, почему они от него откололись. Они не скрыли. Бежали вместе, но и суток не прошло, как они продрогли под дождём, устали, проголодались, и каждому из них стало ясно, что даже лагерная крыша над головой будет желанным местом. Храбрый ловелас заплакал, запросился обратно, попутчики его тоже были не прочь – и все трое вернулись в лагерь.
Смешно и грустно.
Я попросил дядю Костю, чтобы он никогда не ставил этих трёх «мушкетёров» в одну команду с нами. Он пообещал и своё обещание выполнил.
20
И вот в ноябре 1943 года настал долгожданный день побега. Вызвали по списку 14 человек, в том числе и нас с Николаем. Мы простились с дядей Костей, расцеловались и адреса друг друга записали. Он приходил ко мне в Москве в ноябре 1945 года, хотел рассказать обо мне жене, но встретил меня самого. Выпили мы с ним бутылочку-другую и расстались навсегда; опасно было тогда встречаться бывшим военнопленным, да к тому же он скрыл, что был комендантом барака (наверняка придрались бы), потому и остерегался меня. Но я-то умею молчать, а главное – он не был подлецом.
Где-то он теперь?
…Повели нас, худых, голодных, оборванных, к выходу, построили. Два солдата в охране на флангах. Вышел офицер и через переводчика произнес речь:
– Вы недисциплинированные военнопленные, сейчас мы вас направляем к капиталисту. Если он будет плохо обращаться с вами, плохо кормить, не бегите, а напишите жалобу. Мы заберем вас, и больше он никого не получит. Бегать больше не надо. Штрафников за побег будем вешать как неисправимых большевиков. Сидите смирно. Кончится война, поедете домой. Если убежит хоть один, вся команда возвращается в лагерь. До свидания!
– Auf Wiedersehen, – ответили мы и зашагали на вокзал.
Ехали мы в поезде с подножкой во весь вагон и с дверью наружу на каждое купе. Мелькала мысль – открыть да выпрыгнуть. Разместились мы в двух купе, в каждом по охраннику: один, старший, – обер-ефрейтор, а другой, помоложе, ефрейтор. Обер-ефрейтор встал в коридоре между купе и говорит ефрейтору:
– Посмотри, какие худые эти русские, кожа да кости. Мы с тобой после госпиталя тоже не ахти какие, но против русских – силачи. Надо будет их подкормить, чтобы на людей стали похожи.
Мы думали, что обер-ефрейтор шутит, задабривает нас ласковыми словами и обещаниями, чтобы мы не сбежали. А сам небось зажмет будь здоров как.
Но слова обер-ефрейтора не разошлись с делами.
Доехали до Крефельда. Помылись в бане. Сменили белье, а затем долго шагали. Почти в сумерки подошли за городом к Рейну. На воде стояли землечерпалки, лодки, а метрах в 100 от них у берега – маленькая баржа-барак. Это и был наш «дворец». По сходням мы вошли внутрь. После штрафного барака это жилье для нас было действительно дворцом. Чистота. Масляная краска, каюта на четыре человека. Кухня, туалет. Свободно. Спокойно, и главное – нет блох. Вспоминая их, мы теперь облегченно вздыхали.
Распределились по каютам в порядке дружеских симпатий, разлеглись на нарах, предвкушая отдых на соломенных матрасах, под одеялом, на подушке. Наступила какая-то сладостная тишина, которую вдруг прорезал резкий голос обер-ефрейтора:
– Woldemar, komm zu mir! («Вольдемар, подойди ко мне!»)
Переводчик Володька, он же повар команды, ниже среднего роста, шустрый паренек, побежал к выходу, где находилась большая каюта охранников. Минут через пять он вернулся и позвал с собой цыгана и Николая и опять ушел к обер-ефрейтору. Не прошло и двух минут, как все трое вернулись с четырнадцатью буханками хлеба и таким же количеством пачек плавленого сыра.
– Это на ужин, ребята, – крикнул Володька, – завтра еще будет.
Всю еду очень быстро поделили и не менее быстро съели.
Через полчаса появился улыбающийся обер-ефрейтор. Он уселся на скамейке в маленькой зале перед нашей каютой и начал речь.
Сначала представился:
– Я австриец, воевал на русском фронте, был ранен и сейчас из госпиталя. Знаю, какие хорошие солдаты русские, мне понятны ваши переживания, плен – не рай, но я постараюсь создать вам нормальные условия. Только прошу вас не бежать сейчас, иначе меня отправят сразу на русский фронт, а там зимой очень плохо. Прошу вас слушаться меня. Вы здесь будете опрокидывать вагонетки с землей, разравнивать ее и сажать деревья. Раньше этим занимались вольнонаёмные голландцы, а теперь они уехали домой, и хозяин не стал больше брать вольнонаёмных – вы обойдётесь дешевле. В ваши дела я вмешиваться не буду, но если придёт санитарная комиссия, то всё должно быть в полном порядке.
А теперь давайте сыграем в карты, – и он достал из кармана колоду карт.
Играли в очко. Банковал всё время обер-ефрейтор. Мы с удовольствием проигрывали ему свои марки военнопленных, которыми оплачивали наш труд хозяева. Тратить нам их было негде, пищу на них не купишь, а в игрушках мы не нуждались. Деньги обер-ефрейтор мог использовать. Проиграли мы ему марок 80 (а он в месяц получал примерно 20), и он прекратил игру. Собрав выигрыш, довольный ушел к себе. Было часов 10 вечера, все готовились спать, и вдруг опять раздался крик обер-ефрейтора.
– Woldemar, komm zu mir!
Минут через десять вернулся улыбающийся Володька:
– Ребята, воры есть среди вас?
Вопрос был странный, потому что все военнопленные научились воровать провиант. Ответ последовал единый:
– Есть…
– Так вот, господин обер-ефрейтор разрешил сегодня ночью пойти пошукать у соседних «бауэров» кое-чего съестного. Только, чур, не бежать.
От удивления у всех отнялся язык, и ответом было гробовое молчание. Затем раздался чей-то возглас:
– Вот это штука!
В результате недолгой дискуссии в поход отрядили четверых: цыгана, меня, Яшку и еще кого-то.
Мы «пошукали» и нашли одного барана, двух гусей, двух уток, мешок муки и табак. Вполне прилично для первого раза.
Возвращались около полуночи. Было темно и дождливо. Подошли к берегу – на барже тишина и темень.
Что делать?
Разбудить ребят? Решили будить.
По бревну, которое одним концом было закреплено на берегу, а другим на барже, я добрался до забранного решеткой окна и тихо постучался. Ответа не было. Сильнее – молчание. Повторные попытки ничего не дали. Заключённые – чистые, избавленные от блох – спали как убитые. Пришлось стучаться в дверь, выходящую на трап, и поговорить с обер-ефрейтором. Не хотелось, но пришлось. Цыган тихо постучал, не прошло и пяти секунд, как дверь отворилась, и в ней показался наш начальник. Очевидно, ждал и волновался.
– Где были?
– В туалете.
Мы проходили мимо него, а он облегчённо вздыхал и щупал мешки.
Разбудили ребят, и специалисты стали быстро снимать шкуру с барана, ощипывать перья и разделывать птичьи тушки.
Такие у нас установились отношения с конвоирами – утром Володька подавал им к завтраку жаркое, а вечером, если продукты были на исходе, обер-ефрейтор отпускал нас «кое-чего пошукать». Позже он поинтересовался, есть ли поблизости «русские фрау», – мы уже знали, что недалеко работают гражданские украинки, и ответили утвердительно. Он разрешил нам позвать их в воскресенье, купил нам втридорога гитару и эрзац-пиво. Несколько раз были у нас 4–5 дивчин, мы с ними подружились и по секрету сказали им, что собираемся бежать. Они снабдили нас шерстяным тряпьем.
Обер-ефрейтор нас особо не тревожил. Если заходил к нам, то чтобы пошутить или обыграть в карты. Но один раз пришел сердитый, явно не в духе.
– Почему салат не жрёте?
И дальше начал придираться по пустякам. Мы недоумевали. Разгадка не заставила себя ждать:
– А что, шнапс умеете делать?
Ах, вот в чем дело! Специалисты сразу нашлись. Обер-ефрейтор расспросил, что для этого требуется. Записал и… вечером послал «пошукать» муки. Назавтра были и дрожжи, и змеевик, и все что нужно. Энергия из него била ключом – предстояла выпивка.
Так началось самогоноварение. Специалисты освобождались «по болезни» от работы, и целыми днями из барачной трубы шел дымок.
Продукцию он забирал, но в воскресение выдавал полтора литра на всю братию. Да и братия была не промах – два-три литра всегда были в заначке.
На работе дела складывались так: наша команда числилась под № 387 Rur. Четверо немцев и 14 пленных. Главный мастер немец, лет 50–55,– не работал с нами, а сидел все время в вагоне. Был он коренаст, кривоног (носил краги), молчалив и к нам выходил редко.
Нами руководил мастер в больших черных усах. Ему было лет 55–60. Постепенно познакомившись, мы узнали, что у него на Восточном фронте пропали два сына.
Мы успокаивали его, говорили, что они могут быть в плену. Делали мы это не из любви к усатому, а чтобы смягчить его характер и меньше слышать ругани. А характер у него был дрянной. Видно, в начале войны, если он соприкасался с военнопленными, то поиздевался над ними всласть. Но теперь времена не те. Даже тупицы уже понимали, что войну немцы проиграли, и большинство начало рядиться в тогу дружелюбия.
…Работали с нами два старичка, обоим за 60. Выглядели не блестяще. Мы долго гадали, кто они – вольнонаемные, мобилизованные, из тюрьмы? Постепенно у нас укрепилось мнение, что они вольнонаемные. Едва ли частному лицу дадут мобилизованных, а работали мы на земле хозяина. К тому же ежедневно старички приносили по тонкому бутерброду для нас и незаметно совали всем по очереди.
В беседы они с нами не вступали, только иногда говорили, чтобы мы работали не торопясь: в их годы лопатами и ломами ворочать тяжеловато, а отставать от нас неудобно. И мы равнялись на них.
Экскаватор нагружал плодородной почвой вагонетки, мы катили их до нужного места и там опрокидывали, а землю разравнивали.
Однажды мы заспорили с усатым. Сути разногласий не помню, но немец накричал и пошел в барак жаловаться обер-ефрейтору. Привел его. Тот выслушал и усатого, и нас и попросил показать на деле наш и его способы разгрузки вагонеток. Увидев, что по нашему методу двигать легче и быстрее, он велел усатому по пустякам его не беспокоить и ушел. Но во втором споре недели через две он накричал на нас и согласился с усатым, хотя тот был неправ, – очевидно, обер-ефрейтор был политиком.
Приходил к нам капитан из гестапо и вызывал всех по одному с работы в барак. На меня орал, что я офицер и комиссар и что маскируюсь под солдата. Он на всех так кричал. А потом ушёл.
Два-три раза приезжал хозяин. То ли земли, то ли это был подрядчик. Обещал прислать мешок муки. Но так и не прислал. А салат и шпинат поступали регулярно. Мы не голодали. Был как будто разговор окрестных хозяев с обером – не повадились ли твои подопечные воровать? Он заявил, что это практически невозможно, и свалил на голландских баржевиков, которые часто прибывали за гравием, добываемым со дна Рейна. Но нас «на дело» стал пускать реже.
А теперь о самом главном.
На второй день по прибытии по моей инициативе открылась «конференция» с повесткой дня – как жить дальше.
Поскольку собрание затеял я, то и вступительная речь была за мной. Зная, что присутствующие – все беглецы, и многие не единожды, а также понимая, что в храбрости никому из них отказать нельзя, я сразу же «взял быка за рога» – после патриотического вступления поставил вопрос о побеге и настаивал на исполнении его в ближайшее время. Куда бежать – все уже знали: только на запад, а там – будь что будет.
После длительного обсуждения решили месячишко-другой выждать, осмотреться. А потом бежать всем. На риск быть повешенным не пошел только один «старик»: невысокого роста, черноусый, лет около пятидесяти, мордвин. Он сказал откровенно и четко, что не побежит, так как его здоровье не выдержит. Сообща решили, что он «заболеет», и недели через две его вернули в лагерь.
Мне показалось, что единение полное, и стоит только дать команду, как все дружными рядами зашагают на запад. Но примерно через месяц выяснилось, что сытая жизнь, хорошее отношение конвоиров, не слишком тяжелая работа (можно и посачковать), ворованный табачок (да еще и девушки появились) сделали своё дело.
Первым с сомнениями по поводу побега выступил цыган – блатной ухарь. За ним потянулись другие. Мой напарник Николай долго молчал, но, наконец, с трудом выдавил из себя: «Давай дождёмся лета».
Собирать «конференцию» второй раз не имело смысла. Я и еще несколько товарищей хотели бежать немедля и только ждали подходящего момента. Какого? Да мы и сами не знали, но хорошо представляли, что просто так бежать трудно, нужен какой-то толчок, ибо «беговая инерция» давно пропала.
И этот толчок появился. Тот день в команде «387 Rur» ознаменовался очередным инцидентом с усатым мастером. Он явился на работу в плохом настроении, придирался по пустякам и явно вызывал нас на ссору. Обед не смягчил его настроения, а наша необычная для него пассивность не успокаивала его, как того желали мы, а наоборот, злила еще больше. Накалив себя бессмысленными придирками, он пришел в ярость от какого-то пустяка и, схватив толстого Ивана за грудки, стал осыпать его бранью. Иван молящими глазами глядел на меня, работавшего по соседству.
Ярость подкатила к горлу, глаза заволокла пелена, я понял, что сейчас совершу глупость, но сдержать себя не смог. Положив лом на плечо, я подошел к взбесившемуся мастеру и, задыхаясь от гнева, крикнул: «Zurück!» («Назад!») Усатый, отпустив Ивана, оторопело и с испугом уставился на меня.
Не в силах сдержаться, я продолжал кричать по-немецки: «…Если ты, арийская собака, еще раз полезешь драться, я проломлю тебе голову».
От этих слов усатый пришел в себя. Не сказав ни слова, он направился к вагончику и, тяжело поднявшись по ступенькам, хлопнул дверью.
Ребята побросали работу и подошли к нам с Иваном. Громко, не стесняясь в выражениях, они возмущались случившимся. Больше всех орал цыган. Он крыл усатого отборным матом, призывал бросить работу и уйти в барак. Некоторые ему возражали, памятуя о недавнем визите гестаповца.
В разгар споров открылась дверь вагончика, и на крыльцо вышел усатый, а за ним кривоногий. Усатый молча указал пальцем на меня. Кривоногий кивнул и вернулся в вагончик, а усатый с торжествующей улыбкой направился к военнопленным.
– Работать! – гаркнул он.
Ребята разошлись по местам. Усатый подошел ко мне и, погрозив пальцем, шепотом проговорил: «Это тебе даром не пройдет». Я промолчал, но от этих слов по спине пробежал холодок. Стало ясно – готовится расправа. Надо было что-то предпринять. Бежать! И как можно скорее. Вот единственный выход, тем более что мысль о побеге меня никогда не покидала.
Смущало только, что бежать придется одному, ведь большинство ребят заявили, что о побеге можно будет серьезно говорить только летом, а сейчас – начало февраля, снег, дождь, холод. Но толчок получен, виселица в случае неудачи меня уже не пугала. О компромиссах и не думал, хотя такая возможность не исключалась. Достаточно было с переводчиком и обер-ефрейтором (он бы поддержал) переговорить с усатым и кривоногим, извиниться перед ними.
Но мне все равно пропадать, а ребят я не имею права уговаривать на такой шаг. Да и уговаривать опасно, уж слишком они расслабились. Кто-нибудь из них может и предать.
Я решил бежать в одиночку, хотя уже пережил тоскливое одиночество отверженного, когда осенью 1942 года бежал из конотопского лагеря.
Обер-ефрейтор правильно рассчитал, думал я: после голода, холода и побоев хорошая кормежка и тепло на какое-то время удержат и самых строптивых. О побеге со мной говорят 2–3 человека, остальные молчат.
Итак – один. Мучил вопрос: говорить о своем решении? Не сказать? Бежать втихую? Это равносильно предательству. Ведь, в конце концов, здесь все такие же, как я, – беглецы, штрафники.
Сказать – поставить себя под угрозу выдачи. Ведь люди-то изменились. Вспомнилось, как в Борвенково подлецы за буханку хлеба выдавали евреев и комиссаров. И это было в первые же дни пленения. Теперь, когда люди прошли суровую школу борьбы за жизнь, когда некоторые, дорожа своей шкурой, стали предателями, можно ожидать всего.
А что, если это – моя трусость? В чём могу обвинить таких же, как я, военнопленных?
Ведь в Гомеле я сам не нашел в себе сил для побега. Но мысли о предательстве не было. Почему же я плохо думаю о своих товарищах? Нет, надо сказать. Но когда и как? Чем напряженней работала мысль, тем энергичнее я налегал на лопату. Ребята стали поглядывать на меня. Я это заметил.
– Что, думаете, прощения вымаливаю?
– Ничего мы не думаем, просто удивляемся.
Я вытер пот со лба и опять начал работать, но уже не так рьяно.
Решение пришло. Бежать нужно в первый же час пребывания в бараке. Будет уже темно, а проверяет обер-ефрейтор в 23.00. Перед уходом надо объявить, и если найдется предатель, то не успеет доложить.
Тело ощутило знакомую дрожь спортивного азарта, а в глубине души зарождалась песня: «В путь-дорожку дальнюю». Это был симптом верного решения и… успеха. Уже ничто не могло меня удержать, даже виселица в финале.
После работы я вошел в барак и бросил на ходу Владимиру:
– Повар, готовь бифштексы на дорогу – я ухожу!
– Как уходишь?
– Очень просто. Думаешь, приятно попасть в гестапо?
– Ты зря затеял. Во-первых, сейчас зима. Где прятаться днем будешь? Где спать? Во-вторых, никакое гестапо тебе не грозит – просто обратно в штрафной лагерь отправят. В-третьих, убежишь – нас подведешь, всех отправят в штрафной. Хочешь, я пойду и договорюсь с кривоногим по-хорошему – попрошу за тебя прощения? Он вызовет тебя. Ты тоже извинишься, и все закончится благополучно.
Нас окружили ребята и внимательно слушали разговор.
– Ты меня брось уговаривать, Володька. Я знаю, что мне грозит. То, что я сделал сегодня, – это не нарушение правил поведения военнопленных, а политика. Понимаешь? Мы же знаем, что за нарушение правил – карцер, штрафной лагерь, а за политику – гестапо, концлагерь, смерть. К тому же, – голос мой начал повышаться, я волновался все сильнее, – мне надоела эта «теплая печка». Стали бояться зимы, а в первый день все были за побег (я говорил уже лишнее, но удержаться не мог). Струсили! Тёпленькое место приготовил вам обер-ефрейтор. Он хитер. Подкармливает, а сам вторые решетки на окна ставит. К лету готовится. А ты, Володька, вдвойне трус: и бежать боишься, и боишься, что в штрафной отправят, если я убегу. Говоришь, я подведу всех? Подводят те, кто на немцев работает!
Лишнее, лишнее говорю, стучало в сознании, и я огромным усилием воли остановил себя.
Ребята угрюмо молчали. Правда моих слов колола глаза. Ко мне подошел толстый Иван.
– Не волнуйся, друг. Я тоже с тобой пойду. Хватит отсиживаться. Сергей, а ты? – обратился Иван к парню, пришедшему недавно на место старика.
Тот молча подошел к Ивану, положил ему руку на плечо и мрачно взглянул на остальных.
Из группы молчаливо стоявших с опущенными глазами людей отделился еще один – москвич Алексей. Он подошел ко мне и, повернувшись к остальным, сказал:
– Алексей прав. Работают на немцев только трусы.
Ободрённый такой поддержкой, я немного успокоился и, стараясь быть спокойным, спросил:
– Может, еще кто хочет идти с нами?
Подошли Яков и Михаил.
Мои глаза остановились на Николае. «А ты?» – молча спрашивал его. Николай отвел взгляд и пробормотал:
– Я подожду.
И вдруг взорвался цыган.
– А б…, продаете нас. Хотите опять в штрафной загнать, чтобы с голоду подохли? Таких у нас режут. Все, так все. Нас больше, мы не хотим сейчас бежать, и вы не посмеете!
Комок ярости подкатил к горлу, и я закричал:
– Ты блатные законы здесь не вводи! У вас, у блатных, правит сила. Товарищей и друзей у вас нет. Есть круговая порука и боязнь силы. Замолчи, погань.
– Ах ты стерва, меня учить! Я тебя сейчас проучу ссученного!
И он бросился на меня, выхватив нож из-за голенища сапога.
Ловкой подножкой стоявший рядом с цыганом Николай сбил его с ног и, молниеносно выхватив нож, ударил его ногой в бок. Цыган скорчился и завизжал.
– Замолчи, падло, а то сейчас… – и Николай замахнулся на него ножом.
Цыган поднял руку и умоляюще промолвил:
– Не трогай. Сейчас встану.
Он встал и, держась за бок и охая, пошел к своей койке.
Я протянул Николаю руку, и он ответил крепким, но каким-то нервным рукопожатием.
– Спасибо, друг. Может быть, всё-таки пойдем?
– Не могу, Лёша. Знаю, что плохо будет, в штрафной обратно отправят, но не могу. Не сердись. Счастливого тебе пути, друг. А этого провокатора, – он указал на цыгана, – я еще проучу. Этой швали только плётка нужна. А ты, Владимир, перестань отговаривать ребят. Приготовь им лучше жратвы на дорогу.
Владимир молча направился на кухню. Оставшиеся начали расходиться по койкам.
Вдруг с шумом раскрылась входная дверь и по лестнице застучали подкованные сапоги.
В коридоре показались обер-ефрейтор, ефрейтор, незнакомый унтер и за ними в темноте еще фигура.
Все оцепенели. Я почувствовал на лбу испарину, а в коленях предательскую дрожь. В голове промелькнуло: «Не успел, теперь конец».
Обер-ефрейтор, слегка под хмельком, оглядел всех и спросил:
– Что собрались? Почему не жрёте?
– Сейчас собираемся, – залебезил появившийся из кухни Володька.
– А ты знаешь, что тебе грозит? – обратился обер-ефрейтор ко мне. – Сегодня и завтра из барака не выходить: ефрейтор будет за тобой смотреть.
– Господин обер-ефрейтор… – начал срывающимся голосом цыган.
– Цыган у нас заболел, господин обер-ефрейтор, – резко перебил его Николай, – в боку что-то колет. – Он смотрел прямо в глаза обер-ефрейтору, а за спиной показывал цыгану нож.
– Завтра отправим его в госпиталь, в лагерь.
– Подождите, господин обер-ефрейтор. Я его полечу день-другой, если не получится, то отправите.
– Ладно, смотрите, чтоб только не издох здесь. Владимир, кто у вас специалист «шнапс махен»? Научите своего коллегу, – и он показал пальцем на стоящую позади немцев фигуру. – Иди сюда!
– Фигура вышла на свет. Это был обычный русский пленяга.
– Пока вы будете своего товарища учить, мы посидим в нашей каюте. Часа два вам на учебу хватит?
Слава богу! Пока миновало. Но что делать? Дверь заперта, а ключ у обер-ефрейтора.
– Николай, кто сегодня дежурный?
– Я.
– Вот это повезло! Выручай, друг. Через полчаса проси ключ у обер-ефрейтора.
– Сделаю.
Володька приготовил ужин. Все сели есть, но мне еда не лезла в горло. Волнение достигло апогея. Видно было, что все ели без обычного аппетита. Цыган и вовсе отказался от ужина, лежал на койке, отвернувшись к стене.
Володька со слезами на глазах подошел ко мне с большим свёртком:
– Куда класть будете?
– Разберём по карманам. Ребята, быстро разбирайте.
И пока ребята, собравшись в кучу, раскладывали еду по карманам, я шёпотом говорил:
– План старый, тот, что я излагал на «конференции». Идём в Швейцарию как нейтральную страну, но не прямо на юг, а через Голландию, Бельгию, Францию.
– Нужно идти прямо в Бельгию, – предложил Сергей, – я дорогу знаю.
– Неправильно. До голландской границы 50–60 километров, а до бельгийской – 100–120. Путь в два раза длиннее, и риску вдвое больше.
– Лёш, мы с Сергеем пойдем вдвоём в Бельгию, а то ведь нас шесть человек, – предложил толстый Иван.
– Я не возражаю, но выходить надо всем вместе. Если кто попадется, маршрут других не выдавать. Все согласны?
– Все, – раздался единогласный шёпот.
Дискуссиям места не было. Все торопились.
Я подошел к Николаю:
– Николай, что с тобой? Почему не хочешь бежать?
– Не могу, Лёш, духу не хватает. Со страхом думаю об этом. Развратил нас обер-ефрейтор.
– Но ведь тебя со всеми вместе вернут в штрафной!
– Ничего. До лета дотяну как-нибудь. Ты же знаешь, я хороший сапожник. Прокормлюсь. А летом видно будет. Летом легче бежать. Сейчас какой-то страх берёт, не могу и не хочу.
– Понимаю. Ты не готов морально, со мной тоже не раз так бывало.
– Ты прав, Лёша. Морально не готов. Во всём виноват обер-ефрейтор. Не мучай меня!
Он отошёл и заторопил специалистов по самогону. Отправил их на кухню, а сам пошёл к каюте немцев. Постучал.
– Войди!
Николай открыл дверь. За накрытым столом, уплетая утку, сидели немцы. Одна бутылка с самогоном была почти пуста, другая стояла нетронутой.
Немцы раскраснелись и сидели в рубашках, повесив мундиры на спинки стульев.
– А, это ты, Николай. Что надо? Ты сегодня дежурный?
– Так точно!
– Как у вас там дела?
– Господин обер-ефрейтор, ужин закончен, обучение новенького «Ивана» идет полным ходом. Желаете посмотреть?
– После ужина, может, посмотрим. Учите его как следует.
– Попрошу у вас ключ, в уборную надо сходить.
– Держи. Только Хоменко пусть в парашу ходит. Его выпускать нельзя.
– Слушаюсь!
Николай захлопнул дверь и показал мне на выход. Я рванул по лестнице к выходной двери. Не успел добежать до выхода, как дверь солдатской каюты распахнулась от толчка ноги.
– Николай!
– Я здесь.
– Не закрывай дверь. Мы будем смотреть, кто выходит.
Мимо двери прошли пять человек – все те, кто собрался бежать.
– Гут. Николай, передай ключи Якобу, а сам зайди, выпей чарку. Ты хорошо говоришь по-немецки, почти как Владимир. Дверь не закрывай.
– Слушаюсь. Сейчас только отдам ключ.
Николай вышел от немцев, поднялся к выходу. Мы обнялись.
– Вам, ребята, везёт. Заприте нас, а ключ в воду. До свидания. На Родине встретимся. Цыган будет молчать. А обер-ефрейтору я скажу, что если он сейчас организует погоню и вас поймают, то вы расскажете, как он пускал нас воровать.
Все вышли на трап. Я и Николай ещё раз обнялись. Мы оба всплакнули. Наконец Николай оторвался от меня и вошёл в барак.
Я запер дверь, бросил ключ в Рейн и сбежал по трапу на берег.
Рубикон перейдён, назад путь отрезан. Я подошёл к ребятам, они поеживались от холода. Погода была морозная, на небе стояла полная луна, но дул западный ветер – погода могла измениться.
После тёплого барака на воле было зябко.
– Как идти? – послышался вопрос.
– Мы идём вот так, – показал я правой рукой на запад. – Там Голландия. Вы, Иван и Сергей, идите так, – указал я левой рукой на юго-запад. – Там Бельгия. Счастливого пути.
Я обнял Ивана и Сергея. Все простились. Наша четверка пошла на запад. Я шёл впереди, не чувствуя холода. Душа ликовала и пела ту самую песню. Все молчали. Через час начался дождь со снегом. Мы быстро промокли и промочили ноги, но шли и шли вперед, огибая фермы и избегая дорог. Шли целиной, выбирали межи. Мы уже не боялись, что останутся следы. Дождь усиливался – он все смоет.
21
Теперь, насколько позволит память, обрисую своих спутников.
Алексей – москвич, говорил, что он корреспондент какой-то газеты, кажется «Комсомольской правды». Моего роста, блондин с голубыми глазами, нос немного картошкой. Всегда разделял мое мнение, что засиживаться не следует, надо бежать. Характер спокойный, говорил мало, перед немцами не лебезил. Последний раз бежал один, в команде ни с кем не сдружился, но тяготел ко мне как к земляку. Возраст 24–26 лет.
Михаил – учитель из Курска, 24–26 лет. Шатен, подвижный, энергичный, говорливый. Я не помню его высказываний на «конференции» и после, но думаю, что он тоже торопился. В плен попал в 1943 году под городом Белым Смоленской области. Рассказывал, что Белый держали власовцы, и очень упорно. После взятия города танкисты давили власовцев без всякой жалости.
Яков – с Украины, ниже меня ростом, шатен с узкими бегающими глазами. Судьба свела меня с ним надолго, и позже я не мог понять, почему он решился на побег. Придет время, и он бесславно закончит свой жизненный путь.
Иван толстый – молодой, лет 19–20, паренек, с одутловатым лицом (за что и получил прозвище «толстый»), русский, с самого прибытия в команду «387 Rur» держался около меня и был готов бежать в любой момент. Когда вместо старика прибыл Сергей – ровесник Ивана, они быстро подружились и стали неразлучны. Ушли в Бельгию.
Сергей – в команде был всего 3–4 недели. По прибытии рассказал, что был пойман в Бельгии и при первом удобном случае пойдет туда же.
Вот и все мои коллеги по побегу. Где-то сейчас Алексей, Михаил, Иван и Сергей? Неужели только мне одному судьба улыбнулась? Страшно подумать, что кто-то из них попался и был опознан, – виселица.
Итак, мы шли час, другой, третий. Потом остановились у стога, перекусили, разулись и выжали портянки. Обуты мы были в брезентовые башмаки на деревянной подошве. Холод не располагал к отдыху и разговорам, и мы молча двинулись на запад. Дождь прекратился, тучи начали редеть, и между ними проглядывали звезды. Еще часа три быстрой молчаливой ходьбы.
– Дело идет к утру, не пора ли искать ночлег? – нарушил молчание Михаил.
– Пожалуй, пора, – ответил я. – Надо искать сарай с сеном.
Через несколько минут справа затемнели строения. Одинокая ферма, обнесенная высоким каменным забором. Не дом, а крепость, все закрыто наглухо, только щель между верхом ворот и балкой перекрытия. В эту щель и можно пролезть внутрь.
Все мы знали из опыта добычи продуктов в команде, что лезть безопасно, хозяева крепко спят на втором этаже в наглухо закрытой спальне и ничего не услышат.
И все же страшновато – кругом глухие каменные стены, окна дома закрыты массивными ставнями, и только одна щель, до которой еще нужно добраться. А не окажется ли этот дом-крепость ловушкой? Но промокшая насквозь одежда, холодный ветер и, главное, приближающийся рассвет ставили нас в безвыходное положение. А там, за стеной, сено!
И мы решились. Михаил и Алексей подсадили меня и Якова, а мы, в свою очередь, лежа поперек ворот, подтянули их к себе за руки. Спустились в кромешную тьму двора, вернее, сарая. Прямо был выход во двор, слева угадывалась стена, а справа на ощупь обнаружилась солома. В глубине очень большого двора залаяла собака. Но ее лай нас не испугал – мы привыкли к собачьему лаю за время побегов и набегов на хозяйства «бауэров». Знали, что хозяева все равно не выйдут во двор. К тому же опять пошел дождь. Под шорох дождя и скрип каких-то деревяшек от порывов ветра мы, подсаживая друг друга, забрались на солому.
В густой, прямо-таки осязаемой темноте съели свои запасы, установили порядок дежурства, зарылись поглубже в солому. Разулись, портянки выжали и положили под мокрую одежду на грудь, сушиться. Башмаки положили под голову и, плотно прижавшись друг к другу, быстро заснули…
Я дежурил первым. Глаза поминутно смыкались и появлялись сны, но, помня, как выдал нас храп, я делал все, чтобы не заснуть. Этого не позволял и храп ребят – когда кто-нибудь начинал храпеть, я толкал его в бок. Потом появились далеко не радужные мысли. Что нас ждет? Виселица или свобода? Как сложится наша судьба? Только бы скорее добраться до Голландии, там, говорят, жители помогут. И тут же вспомнились «джентльмены», доставленные в штрафной барак из Бельгии, и Сергей, что пошел с Иваном. Значит, и там могут поймать.
Вспомнил я разговор свой с «джентльменами», когда все поняли, что это не власовцы.
Я задал вопрос одному из них:
– Что-то вы хорошо выглядите для пленного.
Не отвечая, он спросил меня:
– Ты какого года?
– Пятнадцатого.
– И я пятнадцатого. А посмотри на себя. Ты – старик, а я молодой жених. Ты когда бежал?
– В октябре.
– И куда направлялся?
– На родину, на восток.
– Дурак, – сказал он беззлобно. – Из западной Германии идти на восток! Это же глупость. Через запад до родины может оказаться ближе. Надо бежать в Голландию, Бельгию, Францию. Там нашего брата встречают как родного. Мы полгода прожили в Бельгии. Вот почему я толстый.
– А если хочу воевать, а не отсиживаться у какой-нибудь вдовы? Что я буду делать в Бельгии?
– Там тоже можно воевать.
– Так второго фронта еще нет. Где вы собирались воевать? На сеновале с бельгийками?
– Там тоже есть свои «брянские леса»…
Он не закончил: второй дернул его за рукав и строго взглянул на говорившего.
Уже тогда мысль о партизанах окрылила меня, а сейчас опять взволновала. Но я гнал её. Не время сейчас мечтать, надо сосредоточить всю энергию на том, чтобы добраться до Голландии.
Я снова и снова гнал мысль о партизанах, а она лезла и лезла в голову.
Стало тепло, и меня опять начало клонить ко сну. Сколько времени мы пролежали? Не пора ли будить Алексея? Я растолкал тезку и, чтобы привести его в себя, прошептал:
– Я засыпаю, земляк, держись. Толкай тех, кто храпит, иначе попадёмся.
– Не засну, не бойся.
Сам я заснул моментально.
Проснулся от толчка и сразу услышал шаги по соломе, ворчание и заигрывающий собачий лай. Собака оказалась уже на соломе.
Сна как не бывало. Я почувствовал, что и товарищи не спят. Нервное напряжение моментально овладело всеми.
Человек сбрасывал вилами солому вниз. Мы были глубоко, но сколько соломы он будет скидывать? Собака может учуять? Минут 10–15 возился человек с соломой, рядом с ним вертелась собачонка, но, наконец, они спустились вниз. Пронесло! Мы облегченно вздохнули и стали прислушиваться к разговору во дворе. Долетавшие отрывочные фразы и слова тревоги не внушали. Постепенно успокоившись, задремали и заснули все, кроме дежурного.
Проснулись, когда было уже темно, шум на дворе стих, и мы начали готовиться к дальнейшему походу.
За ночь портянки высохли, более или менее обсохла одежда. Стараясь не шуметь, мы выбрались наверх, быстро обулись и, застыв в молчании, прислушались, нет ли чего подозрительного. Глаза привыкли к темноте, и мы увидели лестницу. Спускались по ней почти без шума. Без шума подошли к воротам. Тихо, по поперечным брусьям, скрепляющим доски ворот со стороны двора, по двое добрались до щели и, повиснув на руках, спрыгнули на землю.
Моросил дождь. Все поеживались от холода, пока я устанавливал направление дальнейшего движения по вчерашним ориентирам. Итак, пошли вторые сутки нашего исхода из Германии. Опять гуськом, опять молча идем на запад.
Через час голод остановил нас. Посовещались. Решили искать ферму. А вот и она. Зашли во двор, ворота были открыты, собаки не слышно. Сразу напали на крольчатник. Яшка шепчет: «Возьмем кролика, я его обдеру». Я хватаю в клетке на ощупь самого большого, он царапает мне руку задними лапами, кричит громко и пронзительно, как малый ребенок. Первый раз в жизни услыхал голос кролика, и такой громкий, что от неожиданности чуть не выпустил добычу. Судорожным движением выхватываю его из клетки и передаю Яшке. Ему было не впервые расправляться с кроликами. В его руках зверек вздрогнул и затих.
Мы вышли со двора и быстро направились дальше. Вот и лесок. Яшка мигом ободрал и выпотрошил трофей, а мы разложили костер. Это оказалось почти непосильной задачей – все было мокро, но Мишка недаром увлекался туризмом.
Мы разорвали кролика на четыре части и, плотно окружив небольшой костер, на палках стали жарить мясо.
Риск и недостаток времени не позволили нам как следует приготовить еду. Затоптав костер, мы двинулись дальше, на ходу расправляясь с полусырым жестким мясом. После лесочка, где мы готовили кролика, открылось большое поле. Идём целиной. Вдруг справа, метрах в двадцати от нас, – земляной вал. Похоже на зенитные батареи. Мы их видали немало. Отклоняемся влево, и вовремя – на бруствере показалась темная фигура – очевидно, часовой. Видел он нас или нет, неизвестно, но двигался он вдоль земляного бруствера, который являлся катетом треугольника, по гипотенузе которого мы шли, удаляясь от батареи.
Привела нас эта гипотенуза в большой парк с длинными узкими каналами, по берегам которых росли высокие, похожие на пирамидальные тополя, деревья. Каналы, по нашим прикидкам, располагались с севера на юг, а нам был нужен запад. Сколько мы ни ходили вдоль них, а пришлось преодолеть ручей (не канал) вброд, по пояс в воде. Февраль. Ледяная вода. Голод. Опасность. Вроде бы заболеть – пара пустяков, но нервное напряжение спасло нас от хвори.
Мы сняли, выжали и вновь надели сырую холодную одежду и пошли по тропинке.
Время было к рассвету.
Ферма. Отдельный сарай с сеном. (С сеном! Оно теплее соломы.) Забираемся поглубже, опять снимаем портянки для просушки на груди, прижимаемся плотно друг к другу и закуриваем. Опять я дежурю первым, и снова примерно в полдень на сено взбирается мужик и вилами начинает сбрасывать его. Чувствуем, приближается к нам.
Крайним со стороны приближающегося человека лежал Михаил, его-таки и вскрыл он, не задев вилами. Я лежал рядом и почувствовал, как Мишка от растерянности язык проглотил. Я сбросил с себя сено и увидел средних лет мужчину, растерянно смотревшего на Мишку. Я отрекомендовался по-немецки: «Мы русские военнопленные». – «А я – голландец. Работаю на фермера». Нам стало легче. Может, не выдаст.
Я попросил у него поесть, а Мишка, осмелев, стал совать ему в руки новые кальсоны, которые захватил с собой. Голландец от подарка отказался, но пообещал принести поесть и быстро ушел. На всякий случай мы обулись и осмотрели сарай на предмет срочной эвакуации в случае опасности. Спать уже не пришлось, а голландец не явился, и, как только стемнело, мы быстренько покинули сарай.
Но тут со мной случилась неприятность. Я перестал видеть, мне отказало зрение. Нужно было определить направление по ориентирам, намеченным утром перед заходом в сарай, а меня одолела куриная слепота.
Я попросил ребят вести меня под руки, объяснив им направление. Идем минут 30, а я по-прежнему ничего не вижу. Если так продолжится, то положение моё будет незавидное. Прежде всего, я стану бременем для моих товарищей. А вдруг опасность, погоня?!
Но примерно через час зрение постепенно вернулось. А вскоре мы уже были в подвале у «бауэра». Коньяк оказался кстати, а закусили мы мясными консервами. Но, к сожалению, без хлеба.
Небо по-прежнему покрыто тучами, темно, и мы движемся гуськом на запад. Или, во всяком случае, не на восток.
Вскоре перед нами возникло довольно крупное селение, и мы попадаем на его центральную улицу. Окна домов закрыты ставнями. Собак нет. Идем тихо по тротуару, и вдруг навстречу громкое «швайн» («свинья»). Похоже, патруль. Бросаемся к какому-то дому и забиваемся в промежуток между этим и соседним зданием. Менять место уже поздно. Если патруль увидит, бежать некуда. А тяжелый звук шагов уже рядом. Посреди мостовой спокойно, не торопясь, шли, тихо переговариваясь между собой, двое полицейских. Они нас не заметили, да и увидеть с середины мостовой нас в темной щели было невозможно. Когда они прошли, мы покинули убежище и, стараясь не шуметь, пошли по улице дальше.
Что за селение или городок, мы так и не узнали. Да и до этого ли нам было?
По-прежнему мучает голод. Впереди что-то темнеет. Лес, а может, парк… Но в этом лесу до того темно, что нетрудно и дорогу потерять. Никто ничего не видит. Беремся за руки, медленно, очень медленно идем лесом.
Лес показался нам бесконечным. Наконец, опять открытая местность, а время уже к утру. Вот и долгожданная ферма. Не ферма даже, а настоящая крепость. Обходим ее вокруг – ни одной щели. А тут уже всё заметнее становится рассвет. Решили забраться в том месте, где к стене вплотную примыкает внутреннее строение – по нашему мнению, сарай. При помощи длинной жерди, встав на плечи кому-то из ребят, я быстро оказался на стене и пролез в чердачное окно. Сено. Даю сигнал. Ребята быстро поднимаются. Тяжело было последнему, он лез по наклонной жерди, но ему помогли наши руки. Исследуем сеновал. Оказывается, мы на потолке, но сена, чтобы зарыться, вполне достаточно.
Мучит голод, но искать пищу поздно – светает. Зарываемся поглубже, как всегда, устанавливаем дежурство, и только хотели заснуть, как на дворе послышались голоса, и главное – прозвучала русская речь. Это работники у крупного «бауэра». Спуститься и попросить поесть? Эта мысль была не только у меня, хотя мы и не совещались. Но осторожность заставила отложить знакомство с земляками до лучших времен.
22
Говорят, на голодный желудок лучше спится. Это верно – спали мы без сновидений и крепко. Разбудить на дежурство соседа было нелегко. Но вот говорят также, что сон заменяет еду, – это неправда.
Вечером проснулись голодные, как волки. Еле дождались, когда на дворе всё стихнет и все улягутся спать. Наконец мы осторожно начали спускаться. Глаза уже привыкли к темноте, и мы стали различать предметы. Исследуем помещение – окна внутрь двора, ворота открыты. Вот бетонные закрома. Что в них? Кислая капуста. Закромов несколько. Мы разгребаем верх и начинаем набивать желудки квашеной капустой. Она нам кажется самым лучшим из того, что мы когда-либо в своей жизни ели. Но всему есть предел, даже истощенный голодный человек без хлеба много ее не съест. В поисках хлеба выходим во двор, вдоль стен пробираемся к дому, где должны быть русские. Дверь – настежь и богатырский храп. Вместе с Алексеем заходим к братьям-славянам. Различаем стол, а на столе – большую банку повидла, и всё. Искать больше не решаемся, можем кого-нибудь разбудить. Берём повидло и уходим. Тут же, прямо руками, все четверо вычерпываем его. Подходим к воротам, они на крепких запорах, но деревянная рама ворот обшита досками только снаружи. Значит, с выходом вопрос решен – по поперечным брусьям, как по лестнице. Рядом с воротами – бидоны с молоком. Пьем его и вылезаем через ворота. Снова в путь. Никого не смущает сочетание молока и квашеной капусты. И желудки нас не подвели. Но не прошло и часа, как опять начал мучить голод. А тут еще снег с дождем. Настроение меняется, хочется в тепло. Барак военнопленных уже кажется раем, а литр баланды пределом мечты. Хоть просись обратно в лагерь!
Говорят и пишут, что воспоминания о еде еще больше обостряют голод, портят настроение, от чего действительность становится хуже. Неверно это. По-моему, такие воспоминания есть защитная реакция организма от быстрого наступления голодной смерти. Они вызывают положительные эмоции, отвлекают от голодной действительности и скрашивают ее. Неправда, что реакция на них обостряет голод – он и без того острый.
Дождь, снег, холод, голод. Не можем найти пищу, промокли насквозь, замёрзли, зубы выбивают дробь, а дело идет к рассвету. Прижавшись вплотную друг к другу, засыпаем в сене очередного сарая. Стемнело, но мы не торопились вылезать – крестьяне еще не спят. Перекурили (к счастью, табачок не намок), переобулись, бельишко вроде подсохло, и тихо покинули сеновал. Решили обойти всю деревню в поисках пищи и нашли подвал с окошком, хорошо забранным решёткой. Есть так хотелось, что мы вытащили кирпичи и вырвали решётку. Как оказалось, не зря. Коньяк, колбаса, хлеб. Быстро все уничтожили, кое-что прихватили с собой и двинулись сквозь пелену дождя. Куда? Думали, что на запад, а когда под рассвет стали искать место для ночлега, то оказались опять около сарая, где спали прошедшим днем. В нерешительности остановились. Но начинало светать. Мы хотели уже вновь забраться на насиженное место, как из дома вышел хозяин и направился в нашу сторону. Он нас еще не видел, да и шел, пригнув голову от дождя, но у страха глаза велики, и мы бросились бежать. Топот ног, очевидно, заставил его поднять голову, и вслед нам полетело что-то очень крепкое. Не только мы были напуганы, испугался и он.
Бежали мы полем, деревня скрылась из поля зрения, сараев нет, леса нет, а уже светло. Решили залезть в стог соломы. Подсаживая друг друга, забрались наверх и быстро начали зарываться вглубь. Но что там было! Сплошное месиво – просто жижа. Весь стог пропитан водой. Отступать некуда, и мы легли в это месиво, отдельно друг от друга. Спать никому не пришлось, ведь снизу была вода, а сверху лил дождь. Рядом со стогом была пешеходная тропа, по которой довольно часто проходили люди, и мы слышали весь день немецкую речь. Не только выглянуть, но и повернуться было опасно – ведь сразу зашевелится солома наверху стога, и нас могут обнаружить.
Полумертвые от холода, мы не сползли, а попадали сверху, когда сумерки только начали сгущаться. Пошли дальше. Разрывы в тучах помогли нам определить направление – теперь-то мы твердо знали, что идем на запад. Но настроение было неважное, хотя дождь прекратился. Мы были насквозь мокрые, и, как всегда, мучил голод.
Шли полем, не разбирая дороги. На ногах, как пудовые гири, висела глина, и вдруг – ручей. Что делать? Брода близко нет, и мы перешли его по пояс в воде. Холод жуткий. Вода ледяная, мы и сами как ледышки. Настроение наше, без того очень плохое, ухудшилось.
Кончилось поле. Мы стояли на опушке леса и не знали, как в него войти. Темнота была невообразимая, прямо-таки жуткая какая-то, липкая.
В такую темень в лесу не пройдешь, да и что это за лес? Какие тайны он хранит в это военное время? А он лежал у нас на пути. Решили обойти его и двинулись на юг по опушке. Ни ветра, ни дождя, ни звука. Только густая темнота и чавканье ног по глинистой почве… Что это? Мы остановились около колеи от колес. Дорога! С востока на запад (или наоборот) через лес. Замечательно! Но в лесу-то темень непроглядная. Как не сбиться с дороги? Решили опять идти гуськом, держась за руки. Я шел впереди, с палкой. Долго ли, коротко ли, спотыкаясь, падая, натыкаясь на стволы деревьев и кусты, выбрались из леса. Опять поле. Дорога привела нас к маленькому городку. Если бы мы были сыты, то обошли бы его стороной, но голод и холод заставили углубиться в узкие улочки в поисках пищи. Нашли подвал. Тихо вырвали решетку. Яшка спустился и начал подавать нам съестное.
То ли мы действовали недостаточно тихо, то ли у хозяйки был плохой сон, но в нижнем окне, точно над подвалом, загорелся свет. Я нагнулся к отверстию подвала и крикнул:
– Яшка, шухер!
Его реакция была мгновенной: не успел я выпрямиться, как Яшка оказался рядом. И в это время свет из окна упал на нас – хозяйка приоткрыла штору.
– Кто здесь?
Мы бросились бежать вдоль улицы, стуча по асфальту деревянными подошвами и теряя съестное. Быстро пробежали через городок и оказались в поле. Мгновенно проглотили остатки трофеев – яблоки, колбасу и еще что-то. Червячка слегка заморили и, поскольку наступал рассвет, стали искать сарай с сеном.
На этот раз удачно – прямо по курсу, на бугре оказался сарай. Мы осторожно обошли его – это был наполовину сарай, наполовину навес. Под навесом – сено и солома, разделенные проходом, в сарае – за соломой немного сухих стеблей кукурузы, а за сеном (в выгороженном помещении) – мякина.
Рядом с сараем стояли большие круглые копны сена.
Мы с Мишкой предпочли сено, а Яшка с Алексеем – солому. Забирались в сено обычно от стенки, так сделали и в этот раз.
Ветер дул сильный и холодный, он быстро выгнал из соломы наших спутников, ведь солома продувается сильнее. И опять вчетвером, прижавшись друг к другу, мы уснули под утро 17 или 18 февраля 1944 года.
Дежурство устанавливать не забывали.
Когда наступила моя очередь караулить, было часа четыре дня. Я решил вылезти и оправиться. Ребята уже не спали, ведь через пару часов можно двигаться.
Я вошел в сарай и выглянул в дверь – по дороге в городок мимо нас шел путник. Я не мог его разглядеть, поскольку внезапно выглянувшее солнце слепило глаза, а он меня видел хорошо. Я шёпотом предупредил ребят о ситуации и стал ждать. Минуты через три в проход между сеном и соломой шагнул широкоплечий мужчина лет тридцати пяти – сорока. Одна рука была перебинтована и висела на перевязи.
– Ты кто такой?
– Русский военнопленный.
– Куда идёшь?
– Куда глаза глядят.
– Что думаешь делать?
– Хочу устроиться к «бауэру» на работу.
Все это говорилось громко, чтобы слышали ребята.
– Пойдём со мной.
– Если поведёшь в город, то не пойду.
– Пойдём, будешь у меня работать.
Мы вышли из сарая, и он направился к городку.
– Я не пойду в город.
– Не бойся.
– Нет, не пойду. Auf Wiedersehen.
Я быстрым шагом направился к лесу. Немец остался на месте, глядя мне вслед и что-то обдумывая. Очевидно, сожалел о том, что у него не в порядке рука, и он не может меня удержать силой.
«Auf Wiedersehen», – услышал я его крик почти около леса, к которому приближался легкой рысцой.
Я помахал ему рукой и послал воздушный поцелуй. В ответ он погрозил мне кулаком.
Я сел на пенёк и стал дожидаться сумерек. В лесу слышались голоса – командная немецкая речь изобиловала знакомыми словами:
– Los, los, Russe! («Давай, русский, пошел!»)
Там явно работали пленные. Кто они такие, сколько их? Но я не стал искушать судьбу и не пошел смотреть, да и нельзя было отлучаться – вдруг ребята вздумают уходить, а с моего пенька я мог их заметить.
Подмораживало. Чтобы не замерзнуть, я разложил маленький костер из сухих веток, от которых не было дыма, а заходящее солнце не давало возможности увидеть огонь. Просидел часа полтора и, когда начали сгущаться сумерки, короткими перебежками двинулся к сараю.
– Ребята!
Молчание. Я несколько раз повторил свой призыв, внутренне холодея от страха, – вдруг ушли. Но нет, не ушли.
– Ты один?
– Да.
– А мы думали, он тебя увел.
– Слезайте, двигаем.
– Сейчас.
Но так быстро уйти не удалось. Мы услышали топот нескольких пар ног, и я, не теряя времени, зарылся в стебли кукурузы. По голосам было ясно, что вошли трое: тот, с перевязанной рукой, и еще двое, кажется полицейские.
– Russe, raus! («Русский, выходи!»)
Знакомые слова. Четыре месяца назад мы с Николаем под такой же крик спускались с сеновала. Но теперь этот приказ не получил желаемого для немцев отклика. Сарай безмолвствовал. Между соломой и сеном по проходу они вошли в сарай, и луч фонаря скользнул по кукурузе. Один из полицейских шагнул на стебли, у меня сжалось сердце, но тут заговорил хозяин:
– Здесь его не может быть, здесь маис. Он в сене или в соломе.
Они вышли и полезли на сено, непрерывно крича: «Russe, raus! Russe, raus!»
Потоптавшись минут пять по сену и соломе, они спустились и стали совещаться.
– Может, он в копнах? – сказал хозяин, и они вышли из сарая.
Я выскочил из-под кукурузы и тихо позвал ребят. Они не заставили себя ждать и спустились вниз.
Пока немцы кричали и осматривали копны, мы через ту злополучную дверь, где меня увидел хозяин, вышли и, согнувшись почти до земли, стараясь не шуметь, двинулись на запад. А немцы продолжали кричать у копен.
Мы остановились около леса отдышаться.
– Вот это да! – промолвил кто-то. – Еще чуть-чуть и… – последовал известный жест петли на шее.
– Да, нужно быть осторожней, а то дойдет дело до виселицы…
– Этот чертяка мне всю морду искровянил своим сапогом, – сказал Мишка. – Так наступил на щеку, да еще прижал ее, что я чуть не завыл от боли, но не дернулся.
Мы в темноте стали разглядывать Мишкины царапины и предложили ему вымыть лицо, что он и сделал, пробив тонкий ледок большой лужи.
Небо было ясное, но безлунное. Видимость достаточная и даже излишняя. Дорога шла через лес. Мы шагали молча, думая о минувшей опасности и о том, где найти еду. Заросшие щетиной, худые, мокрые, грязные, мы были непривлекательным зрелищем.
Но благополучный уход от опасности поднял наше настроение. А оно, это проклятое настроение, все время было прескверное и улучшалось, да и то чуть-чуть, лишь после хорошей жратвы. Ясное дело, голод и холод не поднимают настроения. Но вот бороться с природой и идти к цели с плохим настроением тяжело. Тем не менее, преодолевая трудности и собственный страх, постоянно рискуя, мы шли на запад.
Да, риск в нашем положении был делом обычным и чаще всего оправданным…
Мы с Яшкой оказались в подвале большой одиноко стоящей фермы, а Мишка с Алексеем ждали нас за углом сарая. Когда мы выглянули из подвала, ребят на месте не оказалось, и нам пришлось тащить провиант без их помощи. Очутившись за углом, мы увидели их за соседним сараем.
– Часовой ходит, – шепнули они.
– Где?
– Вот здесь только что прошел. Как он вас не заметил?
– Идём, – сказал я, направляясь к большому отдельно стоящему сараю, чувствуя, что там сено.
Поели на сеновале. Покурили. Установив дежурство и зарывшись поглубже, заснули.
Нас разбудила русская речь. Подумалось: вот бы спросить – далеко ли до Голландии? Нет, риск неоправдан. Когда смолкли голоса, мы потихоньку вылезли. Было темно.
– Там был коньяк, – сказал вдруг Яшка. – Пойду, возьму его.
Мы не пытались его отговорить, хотя у нас были продукты, и стоило ли рисковать из-за коньяка? Но, как назло, очень хотелось выпить. И мы вернулись все вместе. Яшка спустился вниз, а мы напряженно ждали его наверху, считая секунды. Управился он быстро, и мы с коньяком двинулись на запад. Мороз крепчал. Около копны мы выпили и бодро зашагали, закусывая на ходу.
Шли быстро, помогали выпитый коньяк и уверенность в правильном направлении – Полярная звезда светила справа.
Лес. Поле. Опять лес. На опушке отдых и молниеносное уничтожение оставшихся продуктов, особенно спиртного, а потом опять в путь. По сторонам дороги закончился мелкий сосняк, когда показались первые признаки рассвета.
Надо искать сеновал, в лесу оставаться на день опасно – могут обнаружить. Скорее вперед. Увидели железную дорогу. Пересекаем ее почти бегом и опять углубляемся в мелкий сосновый лес. Когда же он кончится?! Наконец, опушка, неподалеку поле и стога, большие круглые. Впереди мелькнул огонек, другой – селение. Почти бегом приближаемся к нему. Что за черт – нет сараев с сеном. Обошли несколько домов – сена нигде нет. Придётся бежать в лес, который виднеется с другой стороны деревни. Наконец Мишка находит нужный сарай. Заходим. В темноте трудно разобрать что где, но у Мишки кошачье зрение. Быстро разулись, портянки на грудь и зарываемся в сено. Его мало, но внутри сарая оно не продувалось…
Проснулись от острого чувства голода. Был день, но, который час, мы не знали. Мишка обулся и спустился вниз. Скоро мы услышали его шепот:
– Есть картошка, ведро, лес рядом, я пойду, сварю картошки.
– Иди, – сказал я после короткого совещания с товарищами, – только осторожней, чтобы не увидели.
– Не увидят.
Мишка отсутствовал часа полтора.
– Тебя никто не видел?
– Никто.
Обжигаясь, по-быстрому чистили картошку и большими кусками проглатывали ее. Торопились, как будто чувствовали, что наш разведчик все же нас подвёл.
23
Не прошло и двадцати минут, как во дворе послышались голоса и замелькали лучи фонариков. Мы притихли. Внизу разговаривали не по-немецки. Кто-то приставил лестницу, и, держа фонарь над головой, поднимался к нам. Луч света ослепил нас, и мы оказались видны как на ладошке.
Послышался голос, говоривший по-немецки:
– Американцы?
– Нет.
– Англичане?
– Нет.
– Кто вы такие?
– Русские.
– Да здравствует СССР! – воскликнул мужчина и позвал нас вниз.
Мы спустились. Нас плотно окружили, жали руки, хлопали по спине и подталкивали к дому.
Наконец я пришел в себя и спросил женщину, активно тянувшую нас к дому:
– Где мы находимся? Кто вы?
– Вы в Голландии, а мы – голландцы.
Сначала тихо, а потом все громче, с каким-то истерическим надрывом мы захохотали и начали обнимать и целовать голландцев. Слезы радости текли у нас по заросшим и грязным щекам, когда мы вошли в дом. Прослезились и женщины, а мужчины смущенно улыбались и стали ободряюще похлопывать нас по плечам.
Одна из женщин, учительница, принесла зеркало, из которого на нас по очереди смотрели худые, с воспаленными глазами щетинистые лица.
Нам дали бритвенные приборы и отвели в комнату, которая служила хозяевам баней. Мы скинули одежду, вымылись горячей водой. Пытаясь отмыть накопившуюся грязь, мы остервенело скребли тело ногтями.
Голландцы выдали нам старенькие костюмы, а нашу одежду сожгли. И правильно сделали – она была вшивая, а на комбинезонах было написано белой краской SU. Жаль, что мы, побоявшись холода, оставили свои шерстяные свитера. В них сохранились наши постоянные внутренние враги – насекомые, которые быстро распространились по чистой одежде.
Выбритые, раскрасневшиеся, довольные, мы вошли в общую комнату, где стоял накрытый стол. Ели с жадностью, проглатывая недожеванную пищу, чем вызывали улыбки у многочисленных присутствующих.
Когда мы насытились, пришла учительница с большой картой Европы и стала показывать, как наступают советские войска. Мы были счастливы услышать знакомые фамилии прославленных советских полководцев – Жукова, Рокоссовского, Конева, а сердца наши переполнялись радостью и гордостью за успехи Советской армии, за наш великий народ. Но и мелькала мысль: что ты сам сделал для победы? Вот если бы попасть к местным партизанам или еще лучше – каким-то чудом вернуться на родину и вступить в ряды фронтовиков… Но все это мечты. Такие мысли обескураживают, не позволяют полностью вкусить радость известий, которые слышишь за столом, поэтому стараешься отогнать их от себя, но это не удается, и мне не удалось избавиться от них до сих пор. Я пишу эти строки, а сам думаю: да, я проявил много желания и энергии, чтобы в итоге получить оружие и сражаться с фашистами. Но этого мало. Как нельзя сравнить действия наступающей армии с действиями партизанского отряда, так нельзя сравнить и солдата наступающей армии с партизаном. Армии, солдаты отвоевывают территорию, а партизан лишь помощник этого солдата. В итоге приходится удовлетвориться тем, что я смог в тяжелейших условиях морального и физического гнета проявить максимум инициативы, чтобы вырваться из плена и встать на путь сопротивления врагу. А ведь если бы не плен… Физическая и идеологическая закалка, пренебрежение опасностью, спортивное честолюбие позволяют думать, что я смог бы сделать гораздо больше. Не повезло…
Поели, напились эрзац-кофе, наслушались интересных новостей о нашем фронте и действиях союзников, поблагодарили радушных хозяев и двинулись дальше.
– Идите спокойно, заходите в любой дом, везде вас накормят и согреют, – напутствовали нас.
Да, чуть было не забыл. Оказывается, ферма, где ходил часовой, немецкая, и стоит она у самой германо-голландской границы, а тот часовой – пограничник.
В ту ночь мы прошагали не очень много. Пьяные от радости, что выбрались из фашистского рейха, мы часа через два постучались на огонек в один из домов, где нас встретили довольно пышная хозяйка и две похожие на маму дочки.
Нас провели в небольшую столовую, стены которой были обвешаны маленькими картинами в позолоченных рамках и полочками с фарфоровыми статуэтками. Налицо были все атрибуты того, что у нас называлось мещанским уютом. Но обстановка не вызывала отторжения. Ощущались уют, простота, радость людей, помогающих ближним в их несчастье.
Помню бутерброды – кусочек чёрного хлеба, тонкий слой масла, слой сыра, слой ветчины и тонкий слой белого хлеба. Здорово! Но порция уж очень миниатюрна. Кладёшь такой бутербродик в рот, раз – и нет его. Хорошо, что их было много.
Смехом сопровождали хозяева рассказы Мишки о том, как воюют в России зимой. Что они могли понять в его повествовании, не знаю. Это был процентов на пять рассказ, а на девяносто пять – пантомима. Но смеялись они от души, посмеивался даже хозяин, который, прижавшись спиной к кафельной печке, курил трубочку. Закатывалась от смеха пышная мамаша, колокольчиками вторили ей две пышки-дочки. При этом женщины безостановочно готовили нам бутерброды, которые мы заглатывали как крокодил маленьких цыплят.
Заночевали на очередной ферме, как всегда, на сеновале. И проспали там до тех пор, пока нас не разбудил своим тявканьем пёсик. А потом почувствовали, что над нами, рядом с псом, остановился человек. Ободренный присутствием хозяина, пёс залаял еще сильнее и азартнее. Вилами или граблями хозяин откинул слой сена и увидел нас. Молча посмотрев, повернулся и вышел. Мы стали собираться. Но через двадцать – тридцать тревожных для нас минут к нам прибежала девочка лет четырнадцати и по-немецки сказала, чтобы мы лежали тихо до темноты, отец придет за нами. Мы успокоились и даже вздремнули, а когда стемнело, хозяин пришел за нами и позвал в дом. Пока мы ели, он осторожно расспрашивал нас – кто мы такие и как оказались в здешних краях. Ничего не скрывая, мы рассказали обо всем, что с нами произошло, и о своих планах на будущее.
Он молча слушал, а когда мы поели, вывел нас на дорогу и указал где запад. Это было очень важно, так как погода вновь испортилась.
Началась наша вторая, и последняя, ночь в Голландии.
Было тихо и ещё не поздно, когда мы подошли к мосту (или к плотине) через не очень широкую реку Маас и тут же наткнулись на канал. Его мы тоже перешли по мосту. На обоих мостах охрана отсутствовала. На левом берегу стояли четыре двухэтажных кирпичных домика, которые были освещены. Кто в них, немцы или голландцы?
После кратковременного обсуждения решили, что там живет персонал по обслуживанию канала, и решили попросить поесть. Разделились на две группки по двое.
Мы с Алексеем постучались в первый дом и, когда услышали мужской голос, робко открыли дверь. Перед нами была большая кухня, в углу которой мужчина лет тридцати – тридцати пяти чинил велосипед. Мы представились по-немецки предварительно заученной фразой: «Мы русские военнопленные, идём из Германии в Швейцарию». И попросили поесть.
Он с минуту глядел на нас, а потом крикнул что-то по-голландски наверх, откуда появилась женщина. Она поздоровалась, пригласила сесть за стол посередине кухни, а сама начала готовить яичницу с ветчиной. Хозяин вышел. Аромат яичницы возбуждал аппетит, но уход хозяина вызывал тревогу.
Правда, мы помнили вчерашние слова учительницы – «не бойтесь, здесь все свои», но всё же, всё же… А где ребята? Время шло. Пять, десять, пятнадцать минут… Мы уже доедаем яичницу. Вдруг раздаётся стук в дверь, и на пороге появляются улыбающиеся Яков и Миша. В руках у них пакет с бутербродами.
Не успели они войти и поздороваться, как дверь распахнулась и появился хозяин… с полицейским! От неожиданности и испуга мы даже привстали со стульев. Все четверо уставились на полицейского. Бежать, бежать, но путь отступления отрезан. У двери, заложив руки за спину, стоял полицейский, рядом с ним – хозяин.
– Я должен вас арестовать, – как-то буднично сказал полицейский.
Вот тебе на… Пройти Германию, столько отшагать по дорогам Голландии и так бездарно попасться! Правда, испуг длился недолго. На лице полицейского появилась добродушная улыбка, и он медленно высвобождал из-за спины руки, в которых мы увидели по горке бутербродов. Полицейский и хозяин рассмеялись, улыбалась хозяйка. А потом засмеялись и мы.
– Я пошутил, – сказал полицейский и протянул нам четыре пакета. – Берите, это вам в дорогу.
Каждый взял по пачке и запихнул в карман.
Мы быстро доели яичницу, поблагодарили хозяев и полицейского и вышли из домика. Полицейский и хозяин довели нас до перекрестка.
– Той дорогой вам идти нельзя, там немцы, – указал полицейский на шоссе, ведущее на запад. – Идите в этом направлении, – и он показал более безопасную дорогу.
Мы направились по шоссе, ведущему на юго-запад. А вот и деревня. Мы знали, что пересекаем Голландию в юго-восточной части, где она узким языком спускается на юг, врезаясь в территорию Германии и Бельгии. Это мы узнали еще в первую ночь пребывания в Голландии. Ширина «языка» 40–50 километров и, как мы предполагали, в третью ночь подойдем к голландско-бельгийской границе, а может, и пересечем ее.
24
Решили спросить в деревне, далеко ли до границы. В это время была воздушная тревога. Армады бомбардировщиков шли из Англии на восток бомбить Германию, грохотала зенитная артиллерия, по небу рыскали прожектора, и, вероятно, все население деревни было на улице. На нас никто не обращал внимания, все смотрели в небо, а по приподнятому настроению, которое чувствовалось по тону разговоров и смеху, можно было понять, кому симпатизируют местные жители. Когда я спросил одного паренька, где граница, он даже не заметил, что мы чужаки и задаем такой вопрос. Сказал, что граница в ста метрах от деревни и что эта дорога ведет к границе. На вопрос – где может быть часовой, ответил, что он где-то здесь, в деревне.
Все же мы не решились пересекать границу по дороге. Вышли из дома в поле и, обогнув небольшой кустарник, вброд перейдя ручей, пошли параллельно дороге в двухстах метрах от нее. А самолеты продолжали гудеть, артиллерия – грохотать, прожектора – рыскать по небу. Разрывы снарядов были видны впереди на западе и сзади на востоке. Вблизи нас батарей не было.
Пройдя пару километров, мы решили, что пора искать пристанище на день. Настроение было приподнятое. Мы склонили головы, став в тесный кружок, и шепотом три раза произнесли: «Ура!» Мы – в Бельгии!
Ищем сеновал, но ничего подходящего не встречаем. Дома здесь под одной крышей с сараем, и нам пришлось проникать во двор так же, как мы забрались на первую ферму в Германии – в щель между воротами и балкой. Пробравшись таким образом внутрь, мы оказались на необмолоченных снопах в левой части двора. Перекусили бутербродами, перекурили. Потом, зарывшись поглубже и прижавшись друг к другу, заснули. Надо сказать, что, несмотря на нервотрёпку, спали мы без сновидений. А часов в десять во дворе заработала молотилка. Сначала работники бросали в нее снопы, лежавшие внизу, потом один из них залез наверх и вилами начал сбрасывать снопы оттуда. Стало ясно, что очередь дойдет до нас. И она дошла. Работник, поднимая вилами очередной сноп, открыл кого-то из нас и так испугался, что с криком бросился вниз. Мы не успели встать, как наверх поднялся среднего роста худощавый хозяин.
Когда мы отрекомендовались, он заулыбался и позвал в дом. Дочь хозяина быстро приготовила кофе, мы перекусили и предложили хозяину свою помощь в молотьбе. Он с радостью согласился, и мы быстро начали передавать снопы друг другу, а работник закладывал их в молотилку. Хозяин обмолоченные снопы складывал стенкой у открытых ворот, чтобы загородить нас от любопытных глаз – дом был крайний в деревне и кто-нибудь мог заглянуть мимоходом.
Мы работали энергично и без перерыва закончили молотьбу часам к четырем.
Отряхнулись, умылись и по сигналу дочери хозяина пошли на кухню, где был накрыт стол. Съели сытный обед и в седьмом часу вечера с очередным запасом бутербродов двинулись на юго-запад, к далекой французской границе. С хозяином ни о чем таком не говорили, разве что «войне скоро конец, Гитлер капут, да здравствует Россия, да здравствует Сталин». Разве этого мало?..
Но вот следующая ночь осталась в памяти каждого из нас на всю жизнь. На одинокой ферме, где мы остановились, хозяин, пока мы ели, включил радиоприемник и отыскал Москву. Передавали последние известия. Трудно описать наше волнение, когда мы услышали голос Левитана, читавшего сводку Совинформбюро. От волнения мы даже плохо понимали, о чем он говорил. Слезы лились из глаз сами собой, и мы вытирали глаза и носы грязными заскорузлыми руками. Волнение достигло апогея, когда кремлевские куранты пробили двенадцать раз и прозвучал новый советский гимн. Мы плакали, не стесняясь…
Прощаясь, хозяин сказал:
– Вы у меня не первые, были у меня и англичане, и французы, и поляки, но, когда я, например, включал Лондон, никто так не переживал, как вы, услышав свою Москву. Да, любите вы, русские, свою Родину, и это хорошо.
Мы долго жали ему руку. Взволнованные, в быстром темпе отшагали целый час и остановились на краю деревни около двухэтажного кирпичного дома. В щелях штор был виден свет, и мы постучались. Дверь открыл мужчина средних лет в черном костюме. Мы отрекомендовались, и он провел нас в столовую, где был накрыт стол, за которым сидели трое мужчин и женщина. Хозяин представил нас и поманил за стол. Женщина принесла еще четыре прибора. Хозяйка предложила вымыть руки, что мы и сделали с большим удовольствием, ибо наши руки были в полном несоответствии с белоснежными скатертями и салфетками.
Когда мы вошли в столовую, мужчины горячо о чём-то говорили, и это сразу заставило нас насторожиться. Хозяин сказал нам:
– Вам нужно очень торопиться, в соседней деревне стоит немецкая танковая часть и Schwarzbrigade («Черная бригада»). Утром они будут прочёсывать лес, искать Wei brigade («Белая бригада»). Чтобы быстрее выйти из зоны действия карателей, вам нужно двигаться как можно быстрее в южном, а лучше в юго-восточном направлении.
И он показал нам карту – путь проходил по мелколесью, большой лес оставался справа.
– Сейчас четыре часа утра. В вашем распоряжении семь-восемь часов. Ешьте быстрее и уходите. Мы хотели вас спрятать, но после обсуждения решили, что это опасно.
Через пять минут мы вышли, хозяин указал нам направление, и мы, попрощавшись со всеми (они вышли нас проводить), быстрым шагом двинулись проселочной дорогой на юго-восток.
Кто они были, мы не узнали, но решили, что они входят в Wei brigade или, по крайней мере, связаны с партизанами.
Поясню.
Wei brigade – это участники активного сопротивления, лесные партизаны, нелегальные группы в городах и поселках.
Schwarzbrigade – это военные части полковника Дегреля, воевавшие на стороне фашистов, как и наши власовцы, только одеты они были в чёрную униформу (как большинство фашистских и реакционных военизированных формирований). Отсюда и название – «Черная бригада». В противовес им партизан именовали «Белой бригадой». Это было символично – белая, чистая, справедливая.
Шли мы почти без отдыха часов десять. Страх подгонял нас, мы почти бежали. Попасть в руки карателей – значит принять смерть в страшных мучениях…
Припоминаю, как мы зашли в крайний дом маленькой деревушки, и я посмотрел на часы – 14 часов 20 минут. Мокрые, усталые, мы представились и сели в кухне на стулья. Хозяйка стала нарезать хлеб, а хозяин спросил:
– Откуда вы, почему такие разгоряченные?
Я назвал деревню, видимо неправильно, не запомнил названия, которое прочитал на карте в двухэтажном доме.
Хозяин покачал головой и сказал, что такой деревни близко нет. Я попросил карту и показал тот пункт, из которого мы вышли.
– Ого, так до нее пятьдесят километров! – удивился хозяин.
Вообще-то мы прошли не меньше шестидесяти километров, это по прямой было пятьдесят.
Я объяснил причину нашей спешки, хозяин заволновался и попросил нас быстрее покинуть его дом.
Мы захватили тонкие бутерброды с повидлом и направились к молодому сосновому лесочку. Присели и стали есть бутерброды. Для голодных, как волки, людей граммов двести хлеба, тонко намазанных повидлом, ничего не значат. Усталые, загнанные, голодные, не спавшие уже больше суток (ведь молотилка разбудила нас часов в 10 утра предыдущего дня), мы были в мрачном настроении. А в перспективе возможны каратели и немецкие танки. Вот тебе и троекратное «ура» в честь Бельгии!
Я предложил послушать – не тарахтят ли моторы танков. Но их не было слышно. Это немного успокоило, и мы стали думать о пище.
Яков предложил:
– Надо курочку стащить, вон они гуляют. А, ребята?
Куры рылись в навозной куче метрах в тридцати от нас.
– Попробуй, – согласились мы.
– А вы ведро раздобудьте.
Мишка и Яшка направились к навозной куче, откуда скоро раздалось кудахтанье, и мы увидели лежащего на навозной куче Яшку и летящих в разные стороны кур.
Яшка встал, держа в руках обмякшую курицу, а Мишка пошел в деревню. Вскоре он вернулся с ведром.
– В деревне никто не слышал куриного переполоха? – спросил я.
– Нет. Куры туда прибежали и успокоились, а петух считать не умеет, не обнаружил отсутствия одной жены.
– А ты как? Нашумел?
– Будь спок! Тихо, спокойно.
– Может, так же, как в Голландии с картошкой?
– Нет, точно тихо.
– Ну ладно, отойдем подальше. Собирайте сухие палки.
Найти их оказалось не так-то просто, но все же что-то наскребли и, когда отошли с полкилометра от деревни, разожгли костер (спички мы просили в каждой избе, да еще кресало было у Яшки).
Пока варилась курица, кто-то предложил прокипятить белье и таким образом избавиться от вшей, которые мучили нас все время. С особым усердием они грызли потные тела.
Курицу слопали полусырой, как того несчастного кролика в Германии, хрустели кости на зубах, но насыщения не чувствовали даже после того, как выпили горячий бульон. К тому же все было несоленое.
Я первым сбросил с себя одежду и закинул в кипящую воду. Минут десять плясал голый на снегу, а ребята терли мне то спину, то грудь, а я поворачивался к ярко горящему костру боком, спиной, грудью. Прокипевшее белье вытащили, выжали, заложили другое, а мое начали сушить над костром. Плясали все по очереди, и эта процедура заняла часа два. Белье надели теплое, но слегка влажное и поэтому решили еще погреться у костра, хотя всех клонило ко сну, и хотелось забраться на сеновал.
От тепла настроение улучшилось, да и опасность встречи с карателями, казалось, миновала. Мы даже шутили, назвав нашу примитивную вошебойку «жертвоприношением священных насекомых богу войны русскими дикарями на территории Бельгии».
В разгар последней сушки верхней одежды у костра, который мы старались держать бездымным, на поляну вдруг вышел мальчик лет 15-ти. Он сразу подошел к нам.
– Вы русские?
– Да.
– Бегите скорее, завтра здесь будут каратели.
– Кто тебе сказал?
– Меня послал отец. Вы были у нас, стащили курицу и ведро. Через час после вас в деревню прибыли каратели и сказали, что завтра будут прочесывать лес. Отец послал меня искать вас.
– Как же ты нас нашел?
– По запаху дыма.
Вот тебе и конспирация, которую так легко раскрыл этот юный следопыт!
Мы крепко пожали парнишке руку (ему это очень понравилось) и расстались с ним. Наш путь лежал на юг. К концу дня мы дошли до опушки леса и в сумерках двинулись полями между населенных пунктов.
25
Шли всю ночь. Третьи сутки без сна, в беспрерывном движении, мокрые, промерзшие, мы к утру подошли к какой-то деревне и стали совещаться: заходить ли к жителям за продовольствием? Желудок требовал еды, а осторожность подсказывала, что этого делать нельзя – здесь могут быть немцы.
Решили лечь спать голодными. К счастью, нашли большой сарай с сеновалом.
И вот тут-то, на сеновале, перед сном решился очень важный для нас вопрос: как идти дальше – вместе или разделиться по двое.
А началось все с разговора, что в Бельгии плохо с едой. Если в Голландии нас кормили маслом, сыром, ветчиной, то в Бельгии – повидлом. Долго так не протянешь, да и четверых жителям кормить трудновато. Кроме того, четверым опасней заходить – возьмут сразу всех. В итоге разговора решили разделиться по двое и сделать это по жребию. Каждый положил в мою шапку свой знак – монету, пуговицу, спичку, палочку и на ощупь тащил. В итоге мне достался Яков, а Алексей оказался в паре с Михаилом.
Мне было все равно, хотя симпатизировал я больше скромному Алексею, он же был моим земляком.
Алексей страшно расстроился и замолчал. В темноте я не видел его лица, но почувствовал его состояние и обнял его. Можно было договориться об обмене, но Яшка откровенно рад, что идет со мной, а мне было трудно начинать разговор об изменении пар.
Если бы знать, как сложится судьба! Если бы знать! Я бы сделал все, чтобы пойти с Алексеем.
Пора дать характеристику своим попутчикам.
Алексей – голубоглазый, моего роста блондин хрупкого телосложения. Вынослив, как показал весь наш путь, и очевидно смелый, если пустился в это опасное приключение. Москвич. По его словам, корреспондент, кажется «Комсомольской правды». Тихий, скромный, молчаливый, инициативы особенной не проявлял, но слушался меня во всем. Примерно мой ровесник.
Что с ним стало потом?
Михаил – коренастый шатен, моего роста, плотного телосложения. Учитель из-под Курска. Лейтенант. В плен попал в 1943 году под городом Белым Смоленской области. Балагур. Любил шутить даже в трудные минуты. По его поведению могло показаться, что он легкомыслен (ему было 24 года), но в пути был надежен и твёрд, а обычно легкомысленные люди по настроению очень изменчивы.
Где он сейчас?
Яков – черноглазый украинец, коренастый, крепкого телосложения. Профессии не помню. Был активен в добывании пищи. Не особенно разговорчив. Вынослив. Исполнителен. Держался меня. Его интеллектуальное развитие не очень высокое. Образование – 7 классов.
Если бы я знал, как поведет он себя дальше!
Финал его был ужасен.
Вот такие это люди.
Все мы были выносливы, тверды, дисциплинированны, но неопытны. Руководил этим переходом я.
Итак, мы разделились.
Спать пошли в разные места и решили друг друга не будить – разойтись молча.
Спали мы или не спали от волнения и переживаний, я уже не помню, но, кажется, мы двинулись в путь раньше, чем Алексей и Михаил.
Пусть только ребята достигнут цели, не попадутся в руки фашистов. Вот если бы перед концом жизни мы все встретились… Вот это был бы праздник!
Вышли мы из сарая часов в семь, я сориентировался по звездам, а потом огляделся вокруг. Сарай стоял недалеко от деревни, смутно черневшей восточнее нас.
Мы решили зайти с северного конца и пройти ее всю, до южного края, набрать хлеба с повидлом и маршировать на юг. Ноги после двух маршей слушались плохо, болели мышцы и суставы, бедра и колени. Мы шли еле-еле, но не обращали на боль внимания, зная, что через час ходьбы восстановимся.
Когда мы подошли к крайнему дому, услышали сквозь затемненные окна разговор. Постучались, вошли после приглашения и оказались на кухне. За столом сидели три женщины разного возраста и молодой парень. Нас позвали за стол. Запомнил, что куски серого хлеба отрезали от большой круглой буханки тем же манером, что и в наших деревнях – прижав буханку ребром к груди. Пока мы набивали желудки, налегая на хлеб, хозяева молча рассматривали нас.
Когда жор закончился, средняя по возрасту, лет тридцати, высокая и худощавая женщина спросила:
– И как же вы думаете добраться до Швейцарии?
– Пешком, – ответил я.
– Но это опасно, в любой момент можете попасться.
– Да, но до сих пор судьба нам благоприятствовала. Мы шли семь дней по Германии, три по Голландии и вот четвертый день идем по Бельгии.
– Вы шли всего две недели, а до Швейцарии, если идти пешком, еще месяца полтора ходьбы. В северной и западной части Бельгии промышленные районы, много немцев и плохо с питанием. Вам просто не пройти. Вас поймают.
– Что же нам делать?
– Ехать поездом до Парижа.
– А где взять деньги?
– Я напишу вам записку по-французски, обойдите все дома нашей деревни, у нас предателей нет, и на собранные деньги я отвезу вас в Париж.
Такое предложение звучало заманчиво.
– Согласны?
– Конечно.
А что нам оставалось делать? Женщина взяла листок бумаги, карандашом что-то написала и передала листок нам:
– Идите, люди сейчас еще не спят, но торопитесь.
Мы бросились на улицу, пошли по домам, собрали порядка 800 бельгийских франков и вернулись к этой женщине.
Посещение трех домов я запомнил. В первом мы попали к портнихе, маленькой пухлой женщине лет пятидесяти. Протянули записку. Надвинув очки на кругленький носик, она прочитала и, всплеснув короткими ручками, что-то затараторила. Взяв меня за руку, повела внутрь дома. В маленькой комнате она усадила нас за стол и поставила перед нами тарелки с варенной на свинине фасолью:
– Ешьте, ешьте…
Мы были сыты, но отказаться от такого аппетитного блюда не смогли. Пока мы ели, хозяйка принесла по сто франков каждому и, провожая, благословила в дальний путь. Мы с чувством пожали ее пухлые ручки и пошли в следующий дом, а портниха, накинув платок, вышла на крыльцо и смотрела, как нас поглощают сумерки.
Встреча с пастором. Даже в темноте угадывалось, что двухэтажный домик, окруженный палисадником и металлической изгородью снаружи, чист и аккуратен.
Мы поднялись по ступенькам и постучали. Встретила нас женщина лет тридцати пяти (очевидно, экономка). Прочитав записку, она позвала хозяина, которым оказался местный священник – худощавый, среднего роста, лет сорока. Он прочитал записку, и у него на лице появилась добрая улыбка. Жестом пригласил нас в комнату, а экономке сказал, чтобы она накрыла на стол.
Пастор задал нам несколько вопросов:
– Молодые люди, верите ли вы в Бога?
– Нет, – ответил я.
– Зря, если бы вы верили, вам легче было бы переносить те муки, которые выпали на вашу долю.
– Отец, те идеи, на которых мы воспитаны, – сказал я ему, – дают нам силу для борьбы.
– Я не думаю, что коммунизм может вести людей к светлому будущему, но то, что идеи коммунизма вдохновляют вас в борьбе, – это хорошо. Хоть вы и не верите, но я благословляю вас и прошу у Бога, чтобы он помог вам достичь цели.
Конечно, я передаю смысл разговора, так как мы не владели немецким языком в такой степени, чтобы вести полемику.
Мы очень быстро поели и, получив от пастора по сто франков, поблагодарили его и ушли.
Мы были сыты по горло, поэтому в других домах твердо отказывались от еды, ссылаясь на то, что ели уже три раза.
И вот третья встреча, которая запомнилась мне. Дом разделен на две половины. В большой половине нам дали франков по двадцать. Затем мы пошли в меньшую. Получив разрешение войти, мы оказались в маленькой комнате примерно два на четыре метра, в которой стояла железная койка, а к ней была привязана коза. На койке лежал человек лет сорока, на стене висел его пиджак, и больше в комнате ничего не было. Очевидно, это был батрак.
Мы хотели было уйти, но он спросил, что нам надо. Мы протянули ему бумажку, он прочитал ее, встал с постели, вынул из кармана пиджака две бумажки по пять франков, вручил каждому из нас по бумажке, молча пожал нам руки и лег на койку.
Обсуждая этот случай, мы решили, что бедняку, конечно, труднее было оторвать от себя десять франков, чем остальным сто или двести, хотя наша благодарность всем им была безграничной.
Итак, мы принесли более 800 бельгийских франков.
– О, это больше, чем я ожидала! – воскликнула женщина. – А теперь давайте знакомиться: Я – Гертруда Герист, это моя сестра Мария, брат Петер, а это наша мама. Я учительница. На эти деньги я отвезу вас хоть до Испании.
– Но мы хотим в Швейцарию, ведь в Испании фашистский режим, и нас могут опять передать немцам или посадить в концлагерь.
– А вот англичане, те стремятся пробраться в Испанию, – вмешался в разговор Петер. – Я сам отвозил до испанской границы английского летчика. Он спокойно перешел из Франции в Испанию и на прощание подарил мне вот этот нож.
Петер показал нам большой складной нож.
На этом и закончились наши разговоры о маршруте, потому что Гертруда вдруг сменила тему разговора, сказав:
– Вы, русские, специалисты по изготовлению шнапса, и, пока не приготовите его мне, я вас никуда не отпущу.
– Могу нагнать вам самогонки сколько угодно, – сказал Яшка.
Я вспомнил, что Яшка был у нас главный самогонщик в штрафной команде, и разозлился:
– Дурак ты, ведь так мы задержимся на неделю.
– А куда торопиться, погода видишь какая, а здесь отдохнем и обстановку выясним. Мне достаточно трех дней.
Три дня – куда ни шло, но времени все равно было жалко.
Яшка занимался с Гертрудой обсуждением подготовки к самогоноварению, а я продолжил разговор с Петером о его поездке с англичанином до испанской границы.
Оказалось, что это не просто – сел в поезд в Брюсселе и мчись до Парижа, а там пересадка на Тулузу и далее. По дороге часто проверяют документы, поэтому летчику в их деревне состряпали какую-то липовую бумагу, но она с грехом пополам могла пригодиться только на территории Франции, а для самой главной проверки на бельгийско-французской границе этот документ ничего не значил.
Кроме того, англичанин, как и мы, не знал французского языка. Поэтому он сошел с поезда в Монсе (одиннадцать километров от французской границы), ночью перешел на территорию Франции и встретился с Петером на вокзале во французском городе Мобеже. Поездка по территории Франции у них прошла благополучно, но два раза им пришлось выпрыгивать из вагона на ходу, чтобы не попасть в лапы французских жандармов, проверявших у пассажиров документы.
Чем больше я выяснял подробности этого путешествия, тем ясней мне становилось, что длительная поездка чревата бо́льшими опасностями, чем пеший переход, хотя поезд в десять раз сокращает срок приближения к цели.
Когда Яшка и Гертруда закончили деловой разговор, оказалось, что в доме есть всё: дрожжи, мука, сахар и все части будущего аппарата.
Позже мы сообразили, что покойный отец Гертруды держал кабачок, который после его смерти вела вдова с помощью Гертруды. И самогонка нужна была не для собственного потребления, а на продажу.
Яшка занялся производством алкоголя, а я – Марией. Эта интересная девушка была на редкость аполитична, хотя имела некоторые связи с «Белой бригадой». Она, например, говорила, что ей безразличны политические взгляды кавалера, лишь бы он был интересен внешне и хороший собеседник.
– А если это будет немец, фашист? – спросил я.
– Все равно, ведь он же тоже человек и мужчина.
Гертруда ругала Марию за такие взгляды, но на нее это не действовало, очевидно, потребительская психология, как мы теперь говорим, была нормой ее поведения.
Конечно, как кавалер я не мог иметь успеха у этой девушки – в качестве собеседника не подходил, ибо плохо знал язык, а внешне был скелетообразен. А уж одежда моя вообще оставляла желать много-много лучшего. Впрочем, об этом я не думал, да и не мог думать, все мои мысли были направлены на Швейцарию. Мария интересовала меня с точки зрения ее связей с местным Сопротивлением. Было понятно, что она связана с партизанами слабо, но, возможно, выведет нас на них? Мария обещала, но у нее ничего не вышло. Я просил ее познакомить меня с кем-нибудь из «Белой бригады», но это тоже не получилось. Может, все разговоры Марии на эту тему были девичьей фантазией?
На другой день у Яшки убежала закваска (слишком много положил дрожжей), и мы пригоршнями собирали эту бурду в большой молочный бидон. На четвертый день заработал Яшкин аппарат, и мы хватили с ним по полстакана первачка. Потом я простудился и стал сильно кашлять. Спросил Гертруду, не помешает ли нам во время поездки до Можа (оттуда собирались пойти пешком) мой кашель. Она сказала, что до Можа неопасно, а что будет дальше, когда мы опять пойдем ночами, предсказать трудно. Яшка предложил подождать до излечения, но я настоял на отъезде, да и хозяева не возражали, ведь держать у себя беглых военнопленных опасно и накладно – жрали мы в три горла.
Рано утром 29 февраля, еще затемно, в сопровождении Гертруды мы тронулись в путь с гораздо большей уверенностью в успехе, чем в тот вечер, когда выходили «оправиться» из штрафного барака команды «387 Rur».
26
В утренних сумерках мы миновали деревню, направились в городок Аш, чтобы там сесть на поезд до Хассельта. Недалеко от деревни, рядом с дорогой, размещалась зенитная батарея, при виде которой мы с Яшкой переглянулись. Опасное соседство! Я не помню, сколько километров было до Аша, но мы пришли туда до восхода солнца. Всю дорогу я кашлял, а в поезде кашель стал еще сильнее. Микроклимат вагона раздражал горло, привыкшее к наружному холодному воздуху.
Мы сошли в Хассельте и почти тут же сели на брюссельский поезд. Народу было много, все были одеты по-рабочему. На лицах ни тени улыбок, ни веселого блеска в глазах, в вагоне почти полное молчание. Из-за этой тишины мой кашель казался оглушительным. Я нервничал, но сделать ничего с собой не мог.
Поражало хладнокровие Гертруды. Бледная, с тонкими чертами лица, она сидела напротив нас и безучастно смотрела в окно. Ее сосед уткнулся в газету. Людей много, и мест всем не хватало. Многие молча стояли.
В Брюсселе Гертруда купила билеты до Можа и уточнила расписание. До отхода экспресса Брюссель – Париж было четыре часа.
Гертруда предложила пойти в город. Ей нужно было кое-что купить, и, хотя до открытия магазинов оставалось два часа и лучше было посидеть на вокзале, мы пошли бродить по городу.
– Так спокойней, меньше шансов навлечь подозрения, – объяснила Гертруда.
Центр Брюсселя был похож на торговый центр Москвы: Петровка, Неглинная, Кузнецкий Мост…
Мы бродили среди спешащих столичных жителей и с опаской поглядывали на встречных немцев и полицейских.
После почти двух лет лагерей и побоев пребывание в европейской столице напрягало нервы и вызывало безотчетный страх. Мы справлялись с ним, но всё же спина чувствовала неприятный холодок, когда навстречу шли фельджандармы с цепью на шее и огромной бляхой на груди.
Наконец, открылись магазины, и мы вслед за Гертрудой вошли в большой универмаг. Стараясь не отставать от нашей вожатой, мы в то же время не спешили: Гертруду интересовали почти все отделы и их витрины. А мы напряженно следили за Гертрудой – не потеряться бы. И всё-таки потерялись! Уже не холодок, а пот прошиб нас. Потеря могла оказаться роковой. Билеты были у Гертруды, как и деньги и, вероятно, кое-какие знакомства в Може. Если мы ее не найдем или она не придет к поезду, придется самостоятельно выбираться из города и держать путь на юг пешком. В этом варианте риска было слишком много.
Не торопясь, мы обошли весь этаж универмага. Гертруды не было. Решили быстро обойти следующий этаж и в случае неудачи двигаться на вокзал и ждать ее около поезда. Номер вагона мы запомнили. Гертруды не оказалось и на следующем этаже. Мы вышли из магазина и по памяти направились на вокзал. Ориентировались неплохо, так как на всякий случай запоминали повороты на пути к универмагу.
Вот и вокзал. Но где может стоять наш поезд? Как ни опасно, но перед выходом на продольную крытую платформу спросили у контролера по-немецки:
– Где экспресс Брюссель – Париж?
Контролер показал рукой, и мы вдоль решетки, мимо других контролеров, которые пропускали к поездам, пошли к той платформе
Остановились недалеко от контролера, пропускавшего пассажиров на экспресс. Сердце учащенно билось. Мы не разговаривали, вглядывались в лица пассажиров. Я смотрел в одном направлении, Яшка в другом. До отправки все меньше минут, а Гертруды нет. Я уже мысленно начал готовить себя к походу из города, когда Яшка потянул меня за рукав. Оглянувшись, я увидел почти бежавшую к нам Гертруду. Когда до отхода поезда оставалось не более пяти минут, она подошла к нам и сказала: «Быстро!» Мы побежали вдоль состава. Вот и третий вагон, Гертруда предъявляет билеты, и мы уже на местах.
От волнения хотелось поговорить, но Гертруда прижала палец к губам, и мы стали разглядывать соседей по купе. Их было трое: две знакомые друг с другом женщины непонятного возраста и неопределенных лет мужчина, глядевший в окно. Кашель не оставлял меня и явно раздражал соседей. Но до Можа доехали благополучно. Когда мы выходили из поезда, солнце стояло еще высоко, и было тепло. Не торопясь, следуя за Гертрудой, мы дошли до южной окраины города. Гертруда, заглянув в бумажку и открыв калитку какого-то дома, велела пройти за ней. Навстречу вышла хозяйка, поздоровалась с Гертрудой и позвала всех в дом.
Пока мы ели на кухне, Гертруда и хозяйка прошли в соседнюю комнату. Мы съели суп и жаркое (обед был горячий и обильный, мы подумали – не ждали ли нас здесь?), а женщин всё не было. Наконец они вышли. Хозяйка начала готовить бутерброды в дорогу, а Гертруда подала нам тонкую ученическую тетрадь, в которой были написаны фразы по-немецки и (как она догадлива, эта Гертруда) по-французски.
Эта тетрадь облегчила нам передвижение по Франции, а ведь до нее, до желанной, было всего-то 10–12 километров.
Мы расцеловались с Гертрудой (на глазах ее были слезы), она нас благословила, простились с хозяйкой, поблагодарили ее и вместе вышли из дома. Провожать нас женщины не стали.
По гран-рут Брюссель – Париж мы двинулись к бельгийско-французской границе. Светило солнце, клонясь к западу, зеленела трава, и настроение у нас соответствовало погоде. Мы не знали, как далеко граница, но помнили, что по дороге ее переходить нельзя. Где-то надо было расстаться с дорогой, но очень не хотелось шлепать по мокрой глинистой земле: и тяжело, и долго. Мы шли, болтали, но зорко смотрели вокруг. На дороге почти не было движения. Лишь один раз проехал грузовик с бидонами да легковая машина с немцами – ее появление заставило сжаться в тревоге сердце, но все обошлось благополучно. Я не помню, сколько селений мы прошли, но вот вдали показались дома, которые, по нашим расчетам, находились близко к границе. Там следовало произвести разведку. На наше счастье, от деревни в нашем направлении ехал велосипедист. Вот у него-то мы и спросим. Но каково нам было увидеть, что велосипедист – чернорубашечник-дегрелевец с автоматом на шее! Усилием воли мы заставили себя идти навстречу с равнодушными лицами. Что он сделает? Остановит? Он тоже заметил нас издалека и при приближении пристально посмотрел. Ноги наши стали ватными, когда он поравнялся с нами и остановился. Мы заставили себя идти, не оглядываясь, но наши уши не только все слышали, но и «видели». Они «видели», как дегрелевец посмотрел нам в спину и… поехал дальше. От сердца отлегло, но оно, бедное, билось как у спринтера на финише. Мы двигались медленнее, надо было прийти в себя.
Наконец подошли к большой деревне. Навстречу нам крестьянин вел лошадь под уздцы. Он курил. Я вынул сигарету и подошел к нему прикурить. Он остановился и, когда я прикуривал, с любопытством оглядывал меня.
– Далеко до французской границы? – спросил я его по-немецки.
– Метров двести, за поворотом.
Я поблагодарил, и мы разошлись.
– Яшка, ныряем в первый переулок направо.
Вот и маленький переулок. Сворачиваем и, еле вытаскивая ноги из глины, спешим отойти от домов.
Солнце на закате, еще час-полтора – и станет темно, надо где-то переждать это время.
Мы отошли с километр и присели на солому за стогом со стороны, обращенной к деревне, ведь именно оттуда могла нагрянуть опасность.
Бутерброды были давно съедены, ощутимо давал чувствовать себя голод. Курили, чтобы «заморить червячка». Но вот солнце село, и начала сгущаться темнота. Деревни уже не видно. Мы встали, обошли стог для проверки и двинулись на юг, к границе.
Было не совсем темно, когда мы подошли к маленькой деревушке и постучали в окно. На крыльцо вышла молодая женщина, и мы назвались уже по-французски. Я спросил, где Франция. Она указала на другую сторону деревни и что-то сказала. Я понял, что другая часть деревни лежит уже на территории Франции и что граница проходит по середине дороги.
– Где полицейский?
– Ездит на велосипеде от кафе до кафе.
Она принесла нам горку бутербродов, и мы, поблагодарив, пересекли границу. Не сговариваясь, шепотом «крикнули»: «Да здравствует Франция!» На другой стороне границы мой кашель прекратился. Чудо, да и только…
27
От переживаний дня мы так устали, что решили искать ночлег. Еще в Може подруга Гертруды посоветовала нам по Франции идти днем. Мы так и сделали. Когда из темноты на нас надвинулась темная громада строений, мы начали искать сеновал. Нашли быстро. Забрались и, съев бутерброды, заснули, зарывшись в сено, даже не думая об опасности. Проснулись в полдень. Было пасмурно и хотелось есть. Я решил пойти на разведку, а Яшке поручил зорко глядеть вокруг. Перед нами было поле, откуда мы пришли, а справа под углом к нашему сараю стоял каменный двухэтажный дом с высокой башней, увенчанной часами. Дом был обнесен каменным забором с открытыми воротами в нашу сторону.
Башня, большой дом, высокий забор. За́мок? Я медленно пошел к воротам, осматриваясь и подмечая места, куда можно бежать и где можно спрятаться в случае появления полицейских или немцев.
А кто в замке? Немцы? Подойдя к воротам, я встал за столбом, откуда хорошо просматривался двор. С противоположной стороны был выезд на шоссе, которое просматривалось далеко. Налево от меня был жилой дом, направо – каменные строения, похожие на конюшню. Двор для замка был невелик, но тогда я не обратил на это внимание.
У конюшни парень лет семнадцати седлал под верх коня, и больше никого не было.
Постоянно оглядываясь, направился к нему. Он стоял ко мне спиной, а когда услышал мой голос, мигом обернулся. На лице – растерянность. Выслушав меня, он бросил поводья коня и пошел к дому. Через пару минут вышел вместе с женщиной лет сорока, которая позвала меня войти. Я попал на кухню.
Хозяйка усадила меня за стол, а я, вынув тетрадку, пытался с ней «разговаривать». Узнав, что я не один, она предложила привести товарища. Разговор шел с помощью жестов. Оставив тетрадку на столе, я побежал за Яшкой. Когда мы уже сидели за столом, парень уехал на велосипеде. Мы ели, а сами волновались: куда он укатил? Покончив с едой, поблагодарили, забрали тетрадку и хотели идти. Но занятая вязанием хозяйка показала жестом, чтобы мы подождали. Мы сели, молчим, на душе тревожно. Надо идти. Мы решительно встали, поблагодарили и вышли во двор. Хозяйка тоже вышла и, пока мы шли к сеновалу, наблюдала за нами. Мы не решились уходить сразу: с сеновала был хороший обзор местности, и мы могли быстро смотаться, если завидим что-нибудь подозрительное.
Часа в два пополудни вернулся парень, и тут же во дворе к нам подошли двое мужчин. Чувствовалось, что это батраки. Более высокий по-немецки отрекомендовался: бывший пленный, бежал, сейчас батрачит. Он рассказал, что, пока я ходил за Яшкой, хозяйка прочитала тетрадку и послала сына на вокзал узнать, когда идут поезда на Париж. Она даст нам денег. Скоро позовет вас, сказал высокий, и батраки ушли.
Прошло часа три, в воротах появился хозяйский сын и призывно махнул нам рукой.
Мы слезли с сена и пошли к воротам. Юноша повел на кухню. На столе стояли два прибора. При нашем появлении хозяйка начала разливать по тарелкам суп. Юноша пригласил нас к столу, и мы, усевшись, принялись за еду. Пока мы ели, в кухню вошли два работника, в том числе и тот, который бежал из плена. Еды было много, но мы съели все быстро. Не только спешили уйти, но и потому, что трудно было сидеть и есть, находясь в центре внимания четырех чужих людей.
Не успели мы встать из-за стола, как к нам подошла хозяйка и начала что-то говорить. Работник перевел на немецкий язык:
– Хозяйка посылала сына узнать расписание поездов на Париж. Если вы хотите попасть в Швейцарию, то быстрее и безопаснее доехать до границы поездом. Путь ведет через Париж, но, к сожалению, союзники где-то разбомбили дорогу, и поезда идут до Бюзиньи, расписание не установлено. Хозяйка дает вам по 100 франков на дорогу, советует засветло пойти в город и на вокзале узнать, когда ближайший поезд. До Мобёжа четыре километра.
Мы поблагодарили хозяйку, пожали всем руки и вышли во двор. Было ясно, что хозяйка желает нам добра и боится, что нас могут арестовать, если мы долго будем сидеть на месте. Винить ее не в чем. Возможно, у нее были причины кому-то не доверять.
Мог ли я подумать тогда, что через двадцать лет буду снова в тех краях? А вот ведь случилось. В августе 1964 года я вместе с А. П. Маресьевым и В. Н Собко был направлен во Францию от Комитета ветеранов войны на празднование 20-летия освобождения Парижа от фашистов.
В те дни во французскую столицу приехал и секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. Георгадзе, чтобы вручить медали французам, помогавшим русским военнопленным бежать из фашистского плена. Награждались французы в северных районах Франции. Георгадзе пригласил нас поехать с ним в Мобёж. Так я опять попал в этот город.
После награждения, уже за столом, я разговорился с сидевшим рядом со мной секретарем КПФ севера Франции (он понимал русский язык) и рассказал ему о том, что со мной случилось 20 лет назад. На вопрос, где это было, я обрисовал дом, башню с часами, сарай и сказал, что это за́мок. Меня перебил Михаил Порфирьевич:
– Ты о чем так азартно рассказываешь?
Я объяснил. Георгадзе сказал:
– Поедем туда.
Все были готовы ехать, но секретарь захотел сначала выяснить обстановку. Трое французов поехали на ту ферму. А это действительно была ферма, а не замок, как мне тогда показалось. Единственная в округе богатая ферма с башней и часами.
Прошло с полчаса, посланные люди вернулись и доложили, что хозяйка умерла, а сын, хозяин этой фермы, помнит появление русских, но наотрез отказался принять у себя сейчас коммунистов. И мы туда не поехали.
…Было уже темно, когда мы подошли к Мобёжу и решили немного подождать. Знали, что в девять-десять вечера будет легче пройти в центр, а мы хотели заранее найти вокзал, да и ночные поезда могли ходить. А если нет, хотя бы узнаем, где находится здание вокзала. Мы сидели на окраине города под деревом около дороги и ждали. Около десяти часов вдруг слышим шуршание велосипедных шин. Не раздумывая, бросились в кювет. Ночь была темная, заметить нас трудно. Мимо проехали французские жандармы, мы определили это по силуэтам фигур. Патруль.
Почти сразу вслед за ними мы направились в город. Там, прижимаясь к домам и поблуждав немного, нашли вокзал, но он был на большом висячем замке. Значит, поезда ночами не ходят. Тем же путем мы вернулись на окраину. Нашли сарай, а в нем прессованный тюк деревянной стружки. Распустили его и улеглись. Было прохладно, но мы быстро заснули.
Проснулись раненько и вернулись в город. Вокзал, когда мы к нему подошли, еще был закрыт, и мы решили побродить по улицам. Появился рабочий люд, среди него нам удалось затеряться. Нагулявшись, вернулись к вокзалу, и он был уже открыт. У кассы стояло человека три, я встал в очередь и, когда подошел к окошку, протянул 100 франков:
– Два билета до Бюзиньи.
Кассирша удивленно поглядела на меня. Как я выяснил позже, у них не принято говорить «до», они просто говорят: «Два билета Бюзиньи». Билеты она выдала, и я быстро отошел. Остановил меня голос кассирши и стоявшего за мной француза. Я испугался, но напрасно: надо было забрать сдачу. Когда я брал эти деньги, она улыбнулась и даже ободряюще кивнула.
Мы вышли к поездам. Несколько платформ, несколько поездов. Какой до Бюзиньи? Старушка с молодой женщиной шли нам навстречу, и я осмелился спросить по-французски:
– Какой поезд до Бюзиньи?
Молодая женщина указала на один из составов, и мы направились к нему.
Вдруг кто-то потянул меня за рукав. Я обернулся, передо мной стоял моего роста худощавый, лет тридцати мужчина в кепке, клетчатом пиджаке, в черных галифе и крагах.
– Кель э ле трен пур Бюзиньи? («Какой поезд идет в Бюзиньи?»)
Я указал ему на состав, к которому мы шли. Он поблагодарил и пошел впереди нас. По типу лица, выговору и поведению мы догадались, что это англичанин, и почему-то решили, что летчик. Он вошел в вагон, а мы устроились в следующем. Вагон состоял из отдельных купе, соединенных коридором, но все купе имели свою входную дверь. В нашем были еще два пассажира. Оба сидели у окна друг против друга. До отхода поезда вошли еще несколько пассажиров, в том числе молодая женщина с шиньоном. Поезд тронулся, и нам стало легче. На нас никто не обращал внимания, все были заняты своими мыслями либо разговорами. Так же, как и в бельгийских поездах, среди французских пассажиров смех и улыбки отсутствовали.
По пути были остановки. Подсаживались еще пассажиры, но и у них лица были сосредоточенные, и разговоров было мало. Из литературы мне была известна общительность французов и их юмор, но тут я этих особенностей не приметил. Мы с Яшкой тоже молчали, да нам и нельзя было говорить – французский мы не знали, а русский выдал бы нас сразу.
Очередная остановка не вызвала у нас особой тревоги, ведь поезд стоит две-три минуты, на платформе немцев и полицейских не видно, вроде все спокойно. Но проходит пять минут, а поезд все стоит, десять минут, а поезд – ни с места. Слышим, в соседнем купе что-то проверяют – возможно, билеты. Заглядываем туда – двое мужчин в штатском смотрят бумаги и билет пассажира. Тревога, надо бежать! Но поздно. Один контролер вошел в наше купе, проверил документы и билет у стоявшего работяги и обратился к «дремавшему» Яшке: – «Папье, силь ву пле» («Документы, пожалуйста»). Яшка протягивает билет, контролер берет его и опять спрашивает документы. Яшка отвечает по-немецки: «Нет документов». Ну, думаю, влипли! А в это время сидевший у окна пассажир встал и попытался боком, незаметно, обойти контролера и выйти из вагона. А контролер как будто этого и ждал, быстро повернулся и начал ощупывать вставшего пассажира, расстегнул его пальто и, как фокусник, принялся вытаскивать пачки табака и бросать их на стол. Вошел второй контролер, поднялся галдёж. Все вскочили со своих мест. Мы не заставили себя ждать и выскочили из вагона стоявшего поезда. Яшка отказывался ехать дальше, но я убедил его, что теперь уже безопасно, до Бюзиньи мы доедем. Мы вошли в другой вагон. Поезд простоял еще минут десять и тронулся. Проверка документов оживила пассажиров, и мы узнали, что это ловили контрабандистов, которые провозили табак из Бельгии во Францию. Разговор шел оживлённый, и на нас в новом купе не обращали внимания.
Бюзиньи – небольшой городок. Мы прошли его с севера на юг и решили не искушать судьбу, а идти только пешком. Но хватило нас ненадолго, и в Париж мы прибыли поездом. Об этом позже. А сейчас постараюсь описать наш путь до Компьена, до встречи с русским эмигрантом, который уговорил-таки нас ехать поездом в Париж.
Покинув Бюзиньи, мы зашли в какой-то деревеньке в дом и попросили поесть. Пока хозяйка готовила, я увидел на небольшой географической карте отрывной календарь. При более тщательном рассмотрении это оказалась карта того департамента, в котором мы находились. Вот это да! Надо эту карту выпросить. Хозяйке хотелось нам помочь, и она охотно дала нам ее, объяснив, что подобные карты имеются на все департаменты. По мере того как будем переходить из департамента в департамент, мы сможем получать их карты, надо только обратиться к местным жителям. Теперь нам не надо было ориентироваться по солнцу. На дорожных указателях можно было прочесть наименование близлежащего пункта и определить правильность нашего пути.
Итак, мы выяснили, что наш путь лежит в направлении города Сен-Кантен, и обозначили ближайшие деревни. Те места изобиловали большими поместьями, а это – хорошее место для ночлега, там большие сараи с сеном и соломой, ну и народ там (батраки) приветливый – не выдаст.
К вечеру мы приблизились к усадьбе и по неопытности подошли по аллее оголенных деревьев прямо к главному крыльцу, где в темном пальто, закутавшись в одеяло, сидел старый помещик. Мы отрекомендовались, а он тупо глядел на нас и молчал. На крыльцо вышла молодая интересная женщина, мы вновь представились, тогда помещик поднял к уху слуховую трубку, и женщина ему что-то в нее прокричала. Он ей ответил, и вдруг она на ломаном русском языке говорит нам, что хозяин гонит нас и что нам лучше пойти к сараям, там работают ее отец и брат, они нас накормят, она сейчас им сообщит. Оказалось – семья поляков.
Мы поужинали у них, побрились, побеседовали и пошли спать на сеновал. Утром красавица снабдила нас мясом и хлебом, пожелала счастливого пути.
А вот иной случай. Наученные опытом, мы зашли в другое поместье со двора, где располагалась кухня. Нас встретила молодая и тоже красивая полька, только шатенка, а в прошлый раз была брюнетка. Выслушав нас, сказала, что нам лучше зайти с парадного входа в бюро, хозяин сейчас там. Мы усомнились в целесообразности встречи с хозяином и хотели идти дальше, но красотка сказала, что всё будет в порядке.
Решились последовать её совету.
Бюро с мебелью из красного дерева, за большим столом хозяин, очевидно, невысокого роста – его почти не видно из-за стола. Уставился на нас сквозь очки и что-то пробурчал, когда мы отрапортовали. Тут же вошёл старый поляк со своей красавицей-дочкой. Хозяин что-то забормотал, поляк перевёл:
– Хозяин говорит, что все уже пообедали и что он не может вас накормить обедом, но он пошлет сейчас мою дочь поискать чего-нибудь съестного.
Дочка ушла, а хозяин продолжал говорить.
– Хозяин говорит, – переводил поляк, – что до Швейцарии далеко, путь труден и опасен, вас могут поймать, посадить, даже казнить. Он предлагает вам остаться у него в работниках, платить будет хорошо.
Мы поблагодарили и отказались, объяснив, что нет гарантии того, что нас кто-нибудь здесь не выдаст. Вошла полька с окороком и большой буханкой хлеба в руках.
Хозяин развел руками и извинился, что не может нам ничего больше предложить. Мы поблагодарили, взяли пищу и ушли. За большим стогом соломы мы быстро разделались со всей едой.
Сейчас даже трудно представить, как много мы ели. Непрерывное движение на свежем воздухе вызывало непомерный аппетит. Во Франции мы питались уже хорошо, но голод продолжал нас преследовать ещё долго, даже когда мы были в «маки́».
Мы обходили стороной города Сен-Кантен, Лан, Суассон и крупные поселки. Шли проселками и тропками, иногда, чтобы лучше сориентироваться, выбирались на асфальтированное шоссе. Погода почти всё время стояла хорошая. А нас поражало обилие в полях кроликов: маленьких, сереньких, ушастых.
Заходили в деревушки или на фермы, а иногда и в поместья. Спали на сеновалах и в спальнях гостеприимных хозяев.
На одной большой ферме нас пригласили к обеду (обед у французов поздний – в 18–20 часов). Он был обильный, с вином и водкой собственного изготовления. Потом нас отвели в отдельную нетопленую комнату, где была широченная кровать с двумя перинами вместо одеял. Сопровождал молодой хозяин. Мне очень хотелось оправиться, но я не знал, что по-французски «уборная» тоже «туалет», и сказал ему, что хочу в sortir, думая, что это слово означает уборную. Улыбаясь, он вывел меня в сад и остановился в ожидании. Помог мой жест. Он засмеялся и отвел в теплый сортир.
Французы не любят отапливать спальни. Под перинами и так тепло. Но все-таки в сене лучше – спокойней и привычней.
Около местечка Анизи-ле-Шато протекает речушка или канал. Мы шли по дороге, заросшей травой, из-за колючего кустарника нельзя было дальше идти, а тропок не было. Рискнули выйти на асфальт. Он растрескался, прорастал травой, видно было, что по нему давно не ездят. А вот речка и разрушенный мост. Мы увидели её метров за 20 до моста и не успели подумать о переправе, как из-за разрушенной каменной опоры появились два французских жандарма. Мы встали как вкопанные, лица вытянулись, ноги стали ватными. Помню, как била мысль – бежать… Но куда? Заросли колючие, не продерешься, назад по дороге – получишь пулю в спину. Всё пропало!..
Представляю себя на месте жандармов – они без смеха не могли смотреть на нас. Потом даже стыдно стало – мы растерянные, безвольные, слабые. Наш смешной вид настроил их дружелюбно, а может, это были патриоты-сопротивленцы, и лишь нужда надела на них чуждую униформу.
Мы быстро пришли в себя и четко ответили на вопросы.
– Кто такие?
– Русские пленные, бежали из Германии, идём в Швейцарию.
И тут я не утерпел и добавил: «Дайте, пожалуйста, поесть», – чтобы выглядеть ещё глупее.
Жандармы дружно захохотали – видно, впервые у них просили пищу. Затем старший по чину сказал:
– Далеко вам до Швейцарии, попадетесь. А есть у нас нечего. – И добавил, обращаясь к оказавшемуся неподалеку лодочнику: – Перевези их на ту сторону.
Вместе с жандармами мы сели в лодку, лодочник взялся за весла и несколькими гребками доставил нас на другой берег.
– Мерси боку, камарады! – крикнули мы с того берега.
– Бон шанс, камарады, – ответили дуэтом жандармы.
Мы помахали руками, они ответили, и мы скрылись за кустами.
Переживания обессилили нас, и мы начали искать ночлег. Зашли в какую-то деревушку, встретили там сильно накрашенную и напудренную, но с грязной-прегрязной шеей девушку. Она не ответила на наше приветствие, и в этой деревне нам отказали в еде. Какие-то странные были люди. В другую деревню мы не пошли и заночевали на «втором этаже» скотного двора на сене. Сена было мало, и моя нога все время проваливалась через тонкие бревна перекрытия, они не были закреплены, лежали свободно и перекатывались, когда мы ворочались. Не свалиться бы на коров. Сарай стоял отдельно от домов и нас никто не слышал. Заснули мы быстро, а проснулись от голоса работника, выгонявшего скотину из сарая. Мы еще немного поспали и через окно вышли прямо на дорогу.
Конечно, во время маршей мы были заняты своими проблемами. Но у нас ведь были и глаза, и уши, и голова. Мы не могли не видеть, как живут здесь люди, отмечали про себя разницу в уровне жизни хозяина и батрака. Батрак живет в конуре, а то и просто в сарае. Например, те поляки, их красивая дочь, они работали у помещика. А тот живет в большом доме. Роскошь, вероятно, потрясающая (о роскоши могли судить по обстановке в усадьбе другого помещика), а семья поляков ютится в одной тёмной комнатушке. Все, человек пять, спят вместе. Такие условия, пожалуй, не лучше, чем в лагере военнопленных, разве что питание не сравнить. И живут же люди, не бунтуют, копят деньги, мечтают что-то купить или лавочку открыть, но забывают при этом, что все дорожает, а деньги «в чулке» дешевеют. И под старость эти люди не выходят из нужды, так и помирают на чужой, паханной-перепаханной ими земле.
Мы, конечно, на эту тему не очень раздумывали, но убеждались в преимуществах нашей социальной системы.
28
…Местность, по которой мы шли, была без гор и холмов, не было больших лесов, встречались рощи, отдельные группы деревьев, парки вокруг поместий. Мы шли вдоль лугов и обработанных полей. На такой равнинной местности на большом расстоянии друг от друга располагались фермы (хуторская система). На одной из них нас встретила молодая пышная, с красивым лицом хозяйка и позвала в дом. За столом сидели два молодца бычьего телосложения, но с интеллигентными лицами, хорошо одетые.
Хозяйка накрыла нам за другим столом и села с нами. Она рассказала, что ее муж уже четыре года как в плену, она ждет его, ей помогают по хозяйству два приятеля мужа, а то бы ей не управиться.
Помощники жрали в три горла, пили бутылку за бутылкой, смеялись, а на нас ноль внимания. По всему было видно, что живут они за счет хозяйки (и с хозяйкой), что это нахлебники, а помощь от них больше в постели, чем в поле.
Поблагодарили мы хозяйку и двинулись дальше. Где-то близко был уже знакомый Компьенский лес, когда у нас случилась волнующая встреча.
Маленькое местечко, всего четыре домишка в лесочке. Здания кирпичные, одноэтажные, и дорога к ним ведет проселочная. Идем дорогой, справа лесок, слева домики. Нам хотелось пить, и мы смотрели на окна, чтобы кого-нибудь увидеть. Первое жилье – никого, второе, третье – тоже никого, а вот около четвертого домика – худенькая черноволосая женщина развешивает бельё. Подходим, называем себя, просим пить. Молодая ещё, но с морщинами на лице хозяйка заулыбалась, заволновалась и пригласила в дом. Мы напились воды и хотели идти дальше, дело к вечеру, надо искать ночлег. Но хозяйка решительно заявила, что она нас никуда не отпустит, мы вместе пообедаем и переночуем у неё. Она оказалась тверже нас, и мы остались.
Готовя на стол, поведала, что она учительница, старший сын – в Германии, его забрали на работы. Он полюбил украинку, которая отвечает ему взаимностью. Сын хочет жениться на ней, и мать с нетерпением ждет невестку. Она не говорила о своём отношении к немцам, но было ясно без слов – это ярая антифашистка. Обед оказался очень скромным, но подан от души. На десерт – по леденцу, а в заключение младший сын лет девяти сыграл на губной гармошке «Марсельезу», «Интернационал», «Катюшу» и песню из фильма «Встречный», «Не спи, вставай, кудрявая…». Эти песни были в моде в довоенной Франции.
Она постелила нам две раскладушки. Достала чистые-пречистые простыни и пододеяльники, но сколько на этом белье было аккуратно посаженных заплат! Чистая совесть была у этой учительницы, если столько заплат было на ее постельном белье.
Она заставила нас вымыться в большом тазу эрзац-мылом, забрала наше грязное-прегрязное нижнее белье, верхние рубашки и всё выстирала.
Мы спали голые и чистые, сон наш был безмятежен и долог, а когда проснулись, нас ждало выглаженное белье, вычищенные и выутюженные брюки и пиджаки.
Бедная милая женщина наверняка не спала всю ночь, чтобы хоть чем-то облегчить жизнь двум иностранным бродягам. Её не надо было убеждать в благородстве наших целей, она всё поняла с полуслова и решила помочь нам, чем могла.
На прощание, после эрзац-кофе, она поцеловала и благословила нас, а мальчик сказал, что мы герои и пожелал нам счастливого пути. Эта скромная семья с её надеждами на будущее и чистой совестью осталась навсегда в моей памяти.
Мы, конечно, не чувствовали себя героями, зная, что цена нам пока что – самая что ни на есть малая.
Мы были на границе Компьенского леса. После сытного обеда у какого-то фермера, разморенные обильной пищей и ярким теплым солнцем, мы решили немного поспать на сене. Огромный крытый сарай, а в нем прессованные тюки сена. Мы забрались наверх и заснули сладким послеобеденным сном.
Разбудил нас громкий русский мат. Прислушиваемся – мат удаляется, я спускаюсь на нижние тюки и вижу спину человека, идущего за плугом. Ясно: пашет русский. Кто он? Бывший пленный, мобилизованный или эмигрант? Дожидаемся, когда он снова подходит к сараю, и спускаемся на землю.
Он остановил лошадь и с недоумением оглядел нас. Мы представились уже по-русски. Лицо пахаря расплылось в улыбке, и он заговорил на чистом русском языке:
– Рад видеть советских земляков. Я ведь тоже русский, только белый эмигрант, как вы называете. Буду рад, если заночуете у меня, хоть будет с кем душу отвести. Вон мой домик.
И он указал на домишки около рощи:
– Второй справа, видите? А в роще – усадьба хозяина. Вечером, как стемнеет, приходите ко мне, а сейчас перейдите вон в тот сарай.
Он махнул рукой в сторону сарая, стоявшего метрах в восьмистах от нашего.
– Сюда могут приехать за сеном и обнаружат вас.
Мы были рады встрече с земляком. Пообещали, что придем, и направились к другому сараю.
Тот переход мог обойтись нам очень дорого. Мы потеряли бдительность: привыкли, что немцев тут в сельской местности не бывает, поэтому не очень-то скрывались. В этом сарае сено было не прессованное. Яшка полез, я за ним. Не успел я убрать ногу, как внизу оказались немцы. Сначала я услышал голоса, а потом, поглядев вниз, увидел четырех немецких солдат на велосипедах, с автоматами за плечами. Они остановились около опоры, по которой я влез, и смотрели вдаль. Я отполз подальше от края, не упуская их из виду. Немцы постояли, покурили, оправились и уехали. Сердца наши стучали так сильно, что немцы, казалось, могли их услышать.
Нужно понять психологию военнопленного, прошедшего муки лагерей, карцеров, тюрем, допросов. Он, военнопленный, ненавидит немцев, готов порвать их на куски, но и боится их, опасается встреч с ними. Ведь он ничего не сможет им противопоставить. Кроме хитрости. А сила на их стороне. Он перед ними безоружен и гол… Поэтому мы всячески избегали встреч с ними, и в шутку называли себя зайцами.
Вот когда в наших руках появились автоматы, произошел перелом в нашем сознании. Но об этом позже.
…Когда стемнело, мы осторожно спустились с сеновала и пошли к тому дому. Мы надеялись, что встреча будет интересной, но не предполагали, что она станет необычной.
Нас встретил хозяин и провел в дом из одной комнаты, там был накрытый стол и две или три кровати. Кроме нас и хозяина, в комнате находилась его жена – молодая еще крестьянка, и трое детей. Мы поздоровались. Женщина с улыбкой ответила нам и пригласила к столу. Ребята сразу сгруппировались около родителей, двое постарше – около отца, младшая девочка – около матери.
Мы сели за стол и выпили, прежде всего, за встречу земляков. Потом тосты посыпались, как из рога изобилия. Мы выпили за гостей, за хозяйку, за хозяина, детей и главное – за победу нашей страны, за благополучие нашей Родины.
Хозяин рассказал, что он прибыл во Францию в составе корпуса, в котором служил и будущий советский маршал Родион Яковлевич Малиновский. После революции хотел вернуться на Родину, но корпус не был расформирован, и ему, согласно воинской дисциплине, пришлось остаться во Франции. Так он стал эмигрантом. Немалую роль в его решении сыграла пропаганда руководства русской эмиграции, предсказывавшая гибель всем, кто «попадет в лапы большевиков». Кстати, эта пропаганда была намного дальше от истины, чем пропаганда среди советских военнопленных и перемещенных лиц после Второй мировой войны. Вот мы действительно попали в лапы бериевских негодяев, собранных из человеческих отбросов. Однако, даже зная об их кровавых делах и предполагая, что будет с нами, более 9/10 военнопленных и перемещенных лиц вернулось на Родину. Не вернулись лишь предатели и военные преступники.
А встреченный во Франции земляк женился, обзавелся детьми, сколотил деньжат и построил домик, в котором мы в тот момент и находились. Помещик выделил ему клочок земли для огорода.
Он все еще скучал по Родине, но не видел возможности вернуться. Одному ехать нельзя, семью не потащишь – не хватит средств, да и жена не поедет, а дети родились здесь, по-русски не говорят и родина для них – Франция. Он много расспрашивал нас о России (я забыл, откуда он родом), плакал, и не фальшивыми, а настоящими слезами тоски по Родине. Просидели мы целую ночь и только ранним утром расстались – он пошел на работу, а мы отправились в город Компьен.
В беседе выяснилось, что он знает в Париже организацию, которая поможет нам добраться до Швейцарии. Сказал это не сразу, а только убедившись, что мы не провокаторы. Он рассказал, что на улице Нового Моста есть булочная (а может, мясная лавка – уже забыл), в которой по условному паролю (он нам его сообщил) нас примут и помогут добраться до Швейцарии. Чтобы быстрее оказаться в Париже, он посоветовал поезд, объяснив, что подход к Парижу по шоссе более опасен, чем въезд в центр города на поезде.
На дорогу дал нам денег, и мы, простившись с ним и его милым семейством, вышли из дома. Он проводил нас до дороги, которая вела через лес прямо в Компьен. Сколько километров было до города, я не знаю, но мы к нему шли по дорогам через знаменитый Компьенский лес. Мы спешили. По дороге в одном месте мы совсем недалеко слышали русские голоса и немецкую команду – скорее всего, там работали русские пленные…
Собравшись, я с рассеянным видом подошел к кассе маленькой станции и теперь уже без «до» попросил два билета в Париж. Поезд подошел быстро, и мы уселись почти в свободном купе. Опять не разговаривали, опять «дремали», приходил контролер и проверил билеты, но все обошлось. До Парижа напрямую поезд проследовать не мог – опять союзники разбомбили где-то дорогу, и поезд кружил, а время шло, и нервы наши напрягались все больше. Наконец, застучали стрелки и поезд вполз в ангар Северного вокзала.
Мы в Париже!!!
29
На перроне – толпа встречающих с цветами. Не нас, конечно. Маленькая привокзальная площадь, масса народу, велосипедистов, газогенераторных автобусов, машин. Суета и шум нас ошеломили, но мы быстро пришли в себя при виде немецких мундиров. Особенно неприятно было, когда навстречу шли фельджандармы с большими медными бляхами, висевшими на цепи на шее.
Как же пройти на улицу Нового Моста (Пон Нёф)? Надо кого-то спросить. Попалась почтальонша с большой сумкой писем и газет через плечо. Остановил я её и спрашиваю: «Рю Пон Нёф?» Она поглядела на меня и затараторила. Я понял только, что нужно ехать в метро с пересадками. Закончив свою речь, она чуть ли не бегом пошла дальше. Поняла, что мы за птицы…
– Пойдем в метро, Яшка?
– Страшно.
– Надо попробовать.
Зашли в метро, не зная, где касса, а вход в метро – без вестибюля, как в туалет.
Мы спустились в подземку и стали искать кассу. Бесконечная толпа, в которой то и дело мелькали немецкие военные мундиры, действовала на психику – становилось страшно. На ходу переговариваясь, решили обратиться к контролеру. Я подошел к сидевшему на стуле старому французу и, протянув ему десятифранковую купюру, сказал: «Два билета». Взглянув на меня, как на ненормального, он показал на коридор слева. Свернули в этот длинный коридор и сразу среди спешащих пассажиров увидели идущих нам навстречу фельджандармов.
Не сговариваясь, мы развернулись и пошли к выходу. Вышли на солнечную улицу и молча направились на юг. Это было интуитивное решение покинуть город, нам стало ясно, что до вечера мы не найдем эту чертову улицу (солнце уже шло к закату), а если и найдем, то отыщем ли лавку, и как нас там примут? Ведь никаких рекомендаций у нас нет. Мы поняли, что план наш был опрометчивым. Лучше было бы обойти Париж, оставив его справа.
– Что будем делать, Лёш?
– Курс: юго-восток, по дороге ищем русские рестораны. Я читал, что в Париже их много.
– Есть хочется.
– Придется терпеть. Здесь не украдешь.
И мы пошли на юго-восток, по дороге ставя для себя и решая возникшие проблемы. Задача № 1 для нас была – выбраться из города засветло. Задача № 2 – найти русский ресторан.
Я не помню весь путь до той заставы, где мы сели на газогенераторный автобус, но по тому маршруту русского ресторана мы не нашли. Может, они и попадались дорогой, но мы не могли отличить их от французских. Во всяком случае, остались голодными до Мёлена. Я не упрекаю себя за то, что, попав впервые в «столицу мира», ничего достопримечательного там не заметил. Не до этого было. Но предполагаю, что эта застава, эта конечная станция загородных автобусов находилась в то время в Альфорвилле. Так я думаю потому, что незадолго до «встречи» с автобусом мы переходили по мосту через небольшую речку в малонаселенном в то время районе. Вероятно, мы прошли через или рядом с Венсенским лесом, и я, омыв ноги в Марне, так как они у меня были стерты в кровь (ботинки были малы), оказался на другом ее берегу.
Весь поход через Париж запомнился очень плохо, осталось в памяти только незабываемое. Например, плакаты на стенах домов с портретами казненных партизан. Среди прочитанных нами фамилий одна была армянской, другая – русской.
Еще запомнилось: на тротуаре стоят двое и разговаривают, а спешащие пешеходы, оглядываясь, обходят их. У одного из собеседников на пиджаке нашита желтая шестиконечная звезда Давида – еврей. Больше ничего не осталось в памяти, ведь эти строки я пишу спустя столько лет после событий.
И так, за Марной, мы очутились на конечной станции автобусов, отправляющихся из Парижа на юг и юго-восток. Маршрут выбрали интуитивно. На щите были написаны все остановки автобуса, но нам нужна была последняя. Эту остановку надо было произнести правильно, и необходимо было заранее знать – хватит ли у нас денег на два билета. Останавливаю молодую симпатичную француженку, говорю ей, что мы поляки и прошу прочесть последнюю остановку, указывая на нее пальцем. Она поняла, прочитала, я повторил. «Плохо», – сказала прохожая по-французски. «Вот, Яшка, опять плохо… твою мать».
– Вы же русские, а не поляки, – на хорошем русском языке вдруг говорит француженка, – что же вы мне голову морочите?
Прозвучало это так неожиданно, что мы растерялись и все ей рассказали. Она сообщила, что добраться до Швейцарии будет трудно, и не проще ли в Париже дождаться лучших времен. Предложила на время свою квартиру. Из намеков мы поняли, что она связана с Сопротивлением. Но мы настроились выбраться из Парижа и отказались. Сели в омнибус, запомнив последнюю остановку как «Мелун». Денег у нас хватило, парижанка отсчитала точно.
Солнце уже садилось, когда мы прибыли в маленький городок Мёлен. Каким-то чудом мы сразу попали в русский ресторанчик. Хозяева – белые эмигранты, отец и сын – приняли нас как родных. Ночь напролет мы провели в воспоминаниях, спорах и утешениях плакавшего отца. Тосты произносили и за победу над фашизмом, и за русскую победу, и за великий русский народ, и за Красную Армию, и за Сталина.
Как они гордились победами нашей армии! С каким восторгом, разложив карту, показывали расположение фронтов! Но и спорили с нами, отстаивая правоту Белого движения. Наша дискуссия касалась вопросов революции, Гражданской войны, коллективизации. У нас были диаметрально противоположные точки зрения, а вот по проблеме текущей войны мы не спорили. Хозяева наши ненавидели немцев и восхищались успехами Красной Армии. Они обрадовались нашему приходу, накрыли богатый стол. Мы ели в «три горла» и этим доставляли удовольствие хозяевам. Блюда из мяса и рыбы сопровождались возлияниями соответствующих вин. Мы честно рассказали о нашей цели – попасть в Швейцарию. Признались, что не прочь устроиться в «маки́». К сожалению, наши хозяева могли помочь нам только деньгами, географическими картами и добрыми советами. К Сопротивлению они никакого отношения не имели.
Рано утром мы покинули гостеприимных русских друзей и отправились в путь, намеченный с ними по картам – Фонтенбло, Труа, Лангр, Бурбон, Дижон, Безансон. Наш путь был спрямлён, эти города оставались справа и слева от намеченных по картам «Мишлен» сельских дорог.
В голове шумело от выпитого вина, хотелось спать и мы, имея в сумке достаточно продуктов, решили соснуть в каком-нибудь отдельно стоящем сарае с сеном. Так и сделали. Проснулись к закату солнца, закусили и тронулись в путь. Идти пришлось недолго – стемнело и мы нашли сеновал. Сено лежало на тонких бревнах, а внизу – скотина. Сена было маловато и опять ноги все время проваливались между бревен. Спать не хотелось. Мы закурили и размечтались, переговариваясь шепотом о том дне, когда окажемся в Швейцарии. И тут впервые, как бы между прочим, Яшка спросил:
– А куда дальше – до Швейцарии или Испании?
– Испания далеко. Думаю, брат Гертруды с английским летчиком, если они шли пешком, затратили времени в два раза больше, чем мы.
Я не предполагал, что вопрос был задан неспроста и что с этого дня на меня начнется планомерная атака с целью изменения маршрута на Испанию. На другой день Яшка заговорил о том, что франко-швейцарскую границу немцы охраняют лучше, чем франко-испанскую, ведь генерал Франко единомышленник Гитлера. А дальше, день за днем, придумывая все новые и новые аргументы в пользу Испании, Яшка старался уговорить меня изменить курс. Видя, что я не поддаюсь, он вдруг предложил остановиться у богатого крестьянина и наняться за пропитание и спецодежду в батраки. Дескать, нам легче будет связаться с партизанами. Предложение было заманчивым, но я уже раскусил, что за ним скрывается страх перехода границы.
Я высказал ему это откровенно и думал, что он возмутится. Но ошибся – Яшка подтвердил мои слова:
– Да, я боюсь. Не хочу больше рисковать жизнью. Надо переждать некоторое время и постараться попасть в партизанский отряд.
– Но ведь в партизанах больше опасности, чем при переходе границы. Там каждый день, каждый час смертельно опасен, а переход это один час или день – и всё. Нас интернируют, посадят в лагерь, и ты будешь пережидать войну, наслаждаясь безопасностью.
Мои последние фразы благотворно подействовали на Яшку, и я понял, что его убедил, но, дразня Яшку, сказал:
– В партизанский отряд я всегда готов вступить, там хотя бы будем сражаться, а не пережидать, как ты хочешь. И если нам по пути представится такая возможность, я сразу воспользуюсь и тебе советую.
– Ты неправ, – Яшка перешел в атаку. – В Швейцарии должен быть наш посол, и нас сразу переправят в Советский Союз, и мы снова окажемся в армии. Но я тоже не прочь вступить в «маки́», но где их найдешь?
– Ты говоришь, что готов рискнуть, наняться к богатому пейзану в батраки и за это время разведать о партизанах. Но где гарантия, что завистливые соседи не выдадут тебя полиции, а там и до немцев недалеко. И ты окажешься теперь уже в концлагере или на каторге, а это одно и то же, – давил я на Яшку. – Вот если по пути мы наткнемся на «маки́», будет здорово. А сейчас предлагаю думать только о Швейцарии, она уже близко.
– Согласен, – проворчал Яшка.
Как близок я был к истине! Ведь через несколько дней для нас блеснет надежда вступить в партизаны. Правда, она быстро и погаснет, но в тот же день для нас загорится яркое солнце партизанской борьбы, опасности и романтики, борьбы, очищающей наши души от скверны фашистского плена, дающей вкусить сладость священной справедливой мести.
Мы и не предполагали, что решение нашей судьбы не за горами.
В один из солнечных дней мы обедали у фермера – поляка по происхождению. В разговоре пользовались четырьмя языками: Яшкиным (украинским), моим русским, хозяина – польским и языком страны, по которой мы шли к заветной цели, – французским.
Смешение языков и обеспечивало наше взаимопонимание.
Хозяин был рад нашему появлению, на радостях мы даже выпили с ним самодельной водки, захмелели и разоткровенничались. Хозяин признался, что ненавидит «бошей» и думает пойти в «маки́», как только они начнут действовать.
Мы сказали, что готовы хоть сейчас вступить в действующий отряд, и, если хозяин нам поможет, будет здорово.
Хозяин задумался, а потом махнул рукой и сказал:
– Была не была, вижу, что ребята вы свои. Есть такое местечко Фонтен-Франсез, оно вам по пути, там живет лесничий Луи Калё. Он организует «маки́» в нашем районе. Идите к нему. Он вам поможет.
И счастье нам улыбнулось! Выпив еще по стаканчику, нагрузившись продуктами, которые напихал нам в сумку щедрый поляк, мы покинули его дом. Несмотря на хмельные головы, нас не клонило ко сну до самого вечера, ибо хмель «блестящего будущего» был сильнее алкогольного. Мы шли проселочными дорогами, и темп был примерно как в Бельгии, когда мы вчетвером убегали от карателей. Шли по указателям. Не помню, где мы ночевали, но день встречи с Луи Калё я вспоминаю довольно отчетливо.
На подходе к Фонтен-Франсез мы дважды встречались с людьми, работавшими в лесу, и дважды спрашивали у них:
– Где живет Луи Калё?
Каждый раз слышали в ответ:
– Фонтен-Франсез, – и долгие провожающие нас взгляды. Люди переставали работать (пилить или рубить), смотрели на нас не слишком дружелюбно. Молчали. Разговоры возобновлялись только после нашего отдаления.
Наконец, часам к 4-м вечера, мы подошли к этому местечку и спросили первого встречного, где живет Луи Калё. Он показал на четвертый дом слева по нашему ходу. Вплотную к дому примыкал забор из необработанного камня. Забор был выше человеческого роста, за ним виднелись оголенные фруктовые деревья.
– Входите, пожалуйста.
Мы вошли на кухню. Камин, большой стол и с любопытством рассматривающая нас маленькая женщина.
– Где Луи Калё? – спросил я.
– На работе.
– Мы русские пленные, бежали из Германии, идём в Швейцарию. Нам нужен Луи Калё.
– Присядьте и подождите. Он скоро придет.
Мы уселись. Женщина, как и следовало ожидать, – жена Луи Калё, поставила на стол бутылку вина, два стакана и жаркое. Заметив, что отсутствием аппетита мы не страдаем, мадам Калё подложила нам еще мяса (кажется, кабаньего) и принесла еще бутылку красного вина.
Мы ждали хозяина часа четыре. Он пришел не один, а в сопровождении ещё двух мужчин. Сам Калё – плотный, коренастый брюнет с сильной проседью, которая была и в больших усах, смотрел на нас настороженно и в то же время добродушно. Ему было шестьдесят пять – шестьдесят семь лет, но во всей его фигуре и движениях чувствовалась сила и гибкость мужчины лет сорока. Его сопровождал хмурый, худощавый, лет тридцати – тридцати пяти брюнет с черными неспокойными глазами и нервными движениями. Третьим был рыхлого телосложения, выше среднего роста блондин с одутловатым лицом и голубыми глазами.
Мы представились. Третий спутник Калё оказался русским эмигрантом, и поэтому разговор наш шёл через переводчика, что облегчило взаимопонимание.
Несмотря на то что мы представились, после рукопожатия последовал вопрос:
– Кто вы такие, откуда идёте?
Мы ответили несколько подробнее, но, когда русский перевел, на лицах французов появилось недоверие, и худощавый сказал:
– Что-то не верится, что можно было пройти такой путь и не попасться.
Я ответил, что к сказанному можем добавить только детали, а сам факт не стоит оспаривать – ведь мы здесь.
– Мы можем проверить то, что вы рассказываете, – пригрозил эмигрант. – За короткое время с момента, как мы узнали о вас, мы уже сумели проследить ваш путь от Мёлена до Фонтен-Франсез.
И он начал сыпать наименованиями деревень и поселков, где мы были замечены местным населением.
Нас поразила хорошо организованная связь (очевидно, телефон сыграл немалую роль) у этих людей, и мы выразили им свое восхищение. Я добавил, что мы готовы подождать, пока они не выяснят весь проделанный нами путь, и что мы можем им помочь, называя некоторые пункты.
Они посовещались, и переводчик обратился к нам:
– Ну, предположим, что мы вам поверили, чего вы хотите от нас?
– Чтобы вы помогли нам вступить в «маки́». Мы хотим драться с немцами.
– А почему вы думаете, что мы имеем связь с «маки́»?
– Мы не думаем, а слышали об этом
– От кого?
Мне ничего не оставалось, как сообщить о поляке, который послал нас к Калё.
Наши собеседники переглянулись и стали переговариваться. Потом переводчик сказал:
– Хорошо. У нас есть связь с «маки́». Но просто так сразу мы вас не можем рекомендовать. Придется подождать.
– Мы согласны, но помогите нам где-то остановиться.
Они опять посовещались.
– Питаться и находиться днём вы будете у месье Калё, а ночевать в сарае у этого господина, – указал эмигрант на худощавого француза. – Теперь хозяин нас приглашает за стол.
Мы вошли в гостиную, в которой был накрыт стол. Все уселись, и хозяйка налила первое. Хозяин предложил тост за встречу. Выпили по большой глиняной кружке красного вина.
За едой нас расспрашивали, откуда мы родом, кем были в армии, где воевали и попали в плен, откуда бежали. Это был допрос, но скрывать что-то не имело смысла. Мы только прибавили себе армейские чины – я назвался капитаном, а Яшка – лейтенантом. В этих чинах мы оставались и в партизанском отряде.
После ужина, а по-французски обеда, и обильного возлияния мы направились на ночлег к худощавому французу, который жил на другой стороне улицы, наискосок налево. Было темно, моросил дождь, и нас никто не видел. По дороге русский назвал свое имя, отчество и фамилию, которые я уже забыл, и сказал, что он владеет оптической мастерской и снабжает всю округу очками.
Ночевали мы в сарае на сене. Рядом с нами стояли лошади, их присутствие было приятно.
Наутро мы опять пожаловали в дом Калё, где хозяйка нас слегка накормила и посоветовала посидеть в саду на солнышке. Мы прошли в сад и закурили. Настроение было хорошее – ведь до «маки́» рукой подать – и в благодарность хозяину мы решили вскопать всю землю в саду, поскольку заметили, что она используется под овощные культуры.
Наши жесты хозяйка сразу поняла и с улыбкой принесла нам лопаты. Часов в двенадцать, потные и довольные, мы сели за второй завтрак, который был плотнее первого. Копали мы огород до вечера, а когда появился хозяин, то, увидев результат наших трудов, обрадовался и поблагодарил нас.
После обеда пришел эмигрант и рассказал нам о перипетиях войны. О наших победах он почему-то рассказывал без восторга, в отличие от ранее встречавшихся нам эмигрантов. Мы тогда не обратили на это внимания – ликовали. И лишь через шестнадцать с небольшим лет мне стала понятна его сдержанность. Но об этом позже.
Следующий день прошел примерно так же, с той лишь разницей, что вечером эмигрант учил нас играть в «билет» (французская игра в карты).
На третий день мы закончили вскапывать землю под огород, а вечером возникла серьезная перепалка между нами и двумя пришедшими французами, которых нам представили как партизан – «макизаров».
Спор шел на политические темы. «Макизары» твердили, что большевистский строй для Франции не подходит. Мы не отрицали это, но говорили, что наши оппоненты не знают нашего строя, и что он не так плох, как его изображают буржуазная и гитлеровская пресса. «Макизары» критиковали советский строй, черпая аргументы из прессы. А мы, воспитанные при советской власти в любви к Родине, партии, Сталину, не могли молчать и с азартом молодости спорили с ними. Оппоненты тоже не отличались хладнокровием. Спокоен был только Луи Калё. Его глаза умудренного жизнью человека смеялись. Он молчал и потягивал вино. Переводчик тоже не волновался, но видно было, что интерес к дискуссии у него велик.
Разошлись мы далеко за полночь, оставшись каждый при своем мнении. На наш вопрос о «маки́» мы получили ответ – ждите.
Разгоряченные спором, мы долго не могли заснуть на сене, поэтому не проснулись в обычные семь-восемь часов. Примерно в десять нас разбудил переводчик и торжественно пригласил к себе. Шёл он с нами по улице, не таясь и не скрываясь. Его дом с мастерской, на витрине которой лежали всевозможные очки, находился почти в центре местечка. Мы шли мимо старых, в основном, двухэтажных, обвитых плющом домов.
Дверь открыла худенькая женщина лет пятидесяти и пропустила нас в столовую. Стол был накрыт, посередине красовалась бутылка «смирновской» водки (из довоенных запасов, как объяснил нам хозяин). Хорошая сервировка стола, водка, обильная закуска вселили в нас уверенность, что сейчас состоится наше посвящение в «макизары». Мы пили, ели и ждали. Но, когда закончился завтрак, хозяин встал и торжественно заявил примерно следующее:
– Я русский человек и рад видеть русских людей у себя в доме. Неважно, что вы советские, а я белый эмигрант. Я, как и все, радуюсь и горжусь победой русского оружия. Годы и здоровье не позволяют мне уйти в лес, а то бы я бил врагов моей Родины. Вы хотите стать партизанами, но, к сожалению, вас не берут в «маки́», вы слишком «красные», сказали нам вчера руководители «маки́». Поэтому мой вам совет – спешите в Швейцарию. Там вас интернируют, и вы в безопасности дождётесь конца войны. В дорогу примите наш скромный подарок, – и он протянул каждому по конверту.
Машинально мы взяли конверты, в которых лежало по 100 франков, машинально произнесли слова благодарности, молча расцеловались с хозяевами, с равнодушием приняли благословение хозяйки и пожелания счастливого пути.
Разочарование было так сильно, что мы молчали примерно час пути. Не заметили красот (если они были) Фонтен-Франсез и, как вышли из городка, даже не обращали внимания на встречных, а среди них могли быть и немцы – фельджандармы…
Погода стояла солнечная. Постепенно мы приходили в себя и начали ругать французов. Тогда я не мог вообразить, что через шестнадцать лет приеду в Фонтен-Франсез к Луи Калё вместе с друзьями-партизанами, и он расскажет мне о том, о чем в тот день я не мог и подумать. Узнаю правду, о которой не знал в то далекое и бурное время.
30
…В июле 1960 года меня с группой ветеранов пригласил во Францию Союз (или как он там назывался) бывших членов Консультативной ассамблеи. Это была Палата депутатов при временном правительстве генерала де Голля в 1944—45 годах. Члены ассамблеи не избирались, а частично назначались де Голлем и частично делегировались различными организациями Сопротивления и партиями.
После интересной поездки по Франции все члены делегации уехали на Родину, а мне, по просьбе моих друзей-партизан, советский посол Виноградов разрешил остаться на несколько дней. Я переселился к Иву Мишо, и на другой день мы небольшой компанией поехали на автомашинах в департамент Верхняя Сонна, в те места, где я партизанил.
Погода не благоприятствовала нам – все дни шёл сильный дождь, и мы не рассчитывали задержаться там надолго.
На обратном пути в ливень мы поехали через Фонтен-Франсез, и я на память попросил остановиться у того дома, в котором жил Луи Калё. И не ошибся – это был его дом.
Когда я постучался в дверь, из дома раздался мужской голос: «Войдите».
Мы вошли в знакомую кухню. За столом, уставленным бутылками и всевозможными блюдами, лицом к нам сидел Луи Калё, слева от него стояла жена с тарелкой в руке.
Я сразу узнал в этом постаревшем и располневшем человеке Луи Калё, жену не узнал и думал, что меня Калё тоже не узнает, но я ошибся.
– Почему ты ушел тогда, даже не простившись? – спросил он.
Какая же хорошая память у этого 80-летнего человека!
Я ожидал всего, но только не этих слов.
Немного даже растерялся, но что-то надо было отвечать.
– Давайте прежде поздороваемся, и я всё вам расскажу.
– Ну что ж, пусть будет по-твоему. Здравствуй, сынок.
Луи встал и заключил меня в свои медвежьи объятия. Оба мы прослезились. Затем я представил ему своих друзей. Мы сели за стол. Моих партизан несколько смущала простая деревенская обстановка, но я знал, что они быстро освоятся.
Пока Луи наполнял стаканы, а мы накладывали себе в тарелки еду, я рассказал ему историю нашего ухода из сил Сопротивления F.F.I. (Forces Fran aises de l’Int rieur – «Французские внутренние войска»). Переводила жена.
– Он (Луи назвал фамилию того русского эмигранта) обманул вас. Вы так ненавидели фашистов, и наши товарищи понимали, что, несмотря на ваши большевистские взгляды, вы будете хорошо воевать, что мы безоговорочно решили взять вас в «маки́». А вот ваш соотечественник предал нас: меня арестовали через четыре дня после вашего ухода, арестовали и моих друзей. До конца войны мы пробыли в Бухенвальде. Мы думали, что виноваты вы – уж очень быстро после вашего ухода нас взяли. Мы решили, что вас подослало гестапо. Но, когда мы вернулись домой и услышали, что наш сосед ушёл с немцами (позже мы узнали подробности о его связях с гестапо), нам стало ясно, что это он предал нас. Мы думали, что вас постигла такая же участь, что и нас. Но вот, сынок, я вижу тебя живым и здоровым. Расскажи, что произошло с тобой и твоим приятелем.
Я коротко поведал ему о наших приключениях.
– Да, я слышал о тех русских партизанах. Так это были вы, храбрецы, дравшиеся в Анжери?
– Да, это были мы, отец…
– Слава Богу, что я не ошибся в тебе!
Мы посидели еще часок, поговорили о политике де Голля по отношению к ФРГ (взгляды разошлись, как и 16 лет назад), навестили соседей, у которых в 1944 году мы ночевали, обменялись адресами и распрощались.
Мы долго переписывались с Луи Калё, но затем переписка прекратилась, по-видимому, он скончался.
Это отступление от повествования всколыхнуло массу других воспоминаний и показало мне, насколько бренна наша жизнь. Всё проходит, и в старости остаются только воспоминания. Когда-то был молодым, сильным, дрался с фашистами, любил, страдал, а сейчас мне пятьдесят восемь лет, здоровье сдает, очевидно, скоро конец и мне.
31
…Мы шагали с Яшкой на восток к не такой уже далёкой Швейцарии. По прямой до нее было не более сотни километров.
– Завтра-послезавтра мы окажемся в пограничной полосе. Хорошие карты издает фирма «Мишлен», обозначен каждый куст, за которым можно спрятаться, – сказал я.
– Думаю, сейчас торопиться уже не следует, нужна осторожность, наверное, вблизи границы охрана сильнее, – заметил Яшка.
Мы прошли деревню, прилегли в кустиках и стали на карте намечать путь до границы. Оставалось километров пятнадцать. По моему настоянию мы все же решили спешить и, закусив, пошли бодрым шагом. Во второй половине дня оказались на лесной дороге. Там и встретили двух немцев. Встреча произошла на повороте дороги и была столь неожиданна, что мы не успели даже растеряться или испугаться. Неожиданной была встреча и для немцев. Мы разошлись, даже не успев разглядеть друг друга. Краем левого глаза я, слегка повернувшись к Яшке, увидел, что немцы встали на повороте, и смотрят нам вслед. Чтобы казаться спокойнее, я начал что-то говорить Яшке (кажется, просил не оглядываться) и при этом жестикулировал.
Немцы не остановили нас, и вскоре мы были в небольшой деревне.
У нас появилась мысль, что именно где-то здесь должны быть русские, такие же бродяги, как и мы. Начали расспрашивать о них, и это стало нашей тактической ошибкой. После такого вопроса французы сразу замыкались и, дав еду, просили покинуть их.
Встречали нас везде хорошо, давали еду, вина (но не угощали сигаретами) и быстро спроваживали, говоря: спросите о русских в … (называли одну из деревень). Может, там знают.
Убедившись, что действуем неправильно, мы решили переночевать, а назавтра двигаться дальше. Заночевали в сарае около за́мка рядом с деревней Савиньи. Я хорошо запомнил тот тихий вечер, когда над узкой речкой стлался туман, а в покрытом свежей зеленью лесу смолкали постепенно голоса птиц. Тишина была необыкновенная, картина сказочная. Лес, речка, туман, в сумерках виден обнесенный высокой стеной замок. Щёлкал соловей. Старое, доброе мирное время! Здесь жили люди лишь со смутным представлением о войне. Они уже легли спать и им неведомо, что двое русских бродяг измученных невзгодами войны, тихо крадутся к сараю.
– Может, в замке немцы? – шепчет Яшка.
– Чёрт с ними, ведь не пойдут же они спать в сарай.
Подошли к сараю. Глубокие сумерки. Глаза привыкают к темноте, различают стену сарая. Я подсаживаю Яшку, передаю ему сумку с двумя бутылками вина и едой и, уцепившись за его протянутую руку, с обезьяньей ловкостью влезаю на сено.
– Ну теперь не грех на сон грядущий раскупорить бутылочку, – говорю ему, поудобнее устраиваясь на сеновале.
Яшка пальцем проткнул пробку внутрь бутылки, и мы быстро опорожнили ее. Не успел Яшка достать из сумки хлеб и мясо, как послышались шаги. Мы насторожились: неужели выследили? И тут же: надо бежать. Но дверь-то одна, а в неё уже входят. С нашей точки вход не был виден, да если бы и проглядывался, то всё равно мы не смогли бы рассмотреть, кто вошёл и сколько их, – темнота была такая густая, что, казалось, ее можно было чувствовать рукой. Мы затаились и стали прислушиваться. Судя по шёпоту снизу, вошли двое, вроде мужчина и женщина.
– Вот не везёт, эта парочка пришла надолго, даже зарыться в сено не успели, теперь будем мерзнуть до их ухода, – прошептал я Яшке.
Было обидно – время позднее, хочется спать, а холод такой, что не заснёшь, если не зароешься в сено. Но тишину нарушить нельзя, пришлось терпеть и ждать.
Шёпот становился громче, но слов разобрать было невозможно, даже нельзя определить, на каком языке говорят. Страх постепенно исчез и сменился злобой. Завтра предстоял рывок километров на 60, надо бы выспаться, а тут мешают.
Голоса внизу становились громче, и вдруг высокий голос, на полушепоте казавшийся женским, произнес:
– Эх… твою мать! Партизанить так партизанить. Александр обещал дать два автомата. Как получим, сразу начнем фашистов бить.
Русские! Мы с Яшкой невольно прижались друг к другу, сердца забились учащенно.
– Лёш, может спуститься, ведь наши, – шепчет Яшка.
– А если власовцы?
И мы замираем.
Густой баритон, почти бас, отвечает высокому голосу:
– Лишь бы скорее дал, а там найдём, что с ними делать. Мы бы давно могли их достать сами у немцев, если бы не Федор.
Дребезжащий голос отвечает:
– Ты, Валерий, все торопишься, на риск идешь. Если бы послушались тебя, давно бы нас перебили. А теперь автоматы сами в руки идут, без лишнего риска.
– Тебе бы, Федя, на печке спать всю войну, а ты в лесу оказался. И как ты бежать рискнул такой осторожный, – ответил баритон, принадлежавший Валерию.
– Да чего там спорить, полезем наверх, спать, – предложил четвертый голос.
– Давай сначала по последней затянемся, – сказал Валерий, и внизу сверкнул в чьих-то ладонях огонек зажигалки.
– Свои, спускаемся, – шепнул я Яшке и быстро скользнул вниз.
– Товарищи, здравствуйте, – взволнованно крикнул я, вставая с земляного пола сарая.
– Гусь свинье не товарищ, – полушепотом произнес Валерий, и я почувствовал, как ствол пистолета уперся мне в живот.
– Кто такие, откуда? – продолжал Валерий. – Эй, Федор, куда удрал, иди сюда, тут бродяжки какие-то, а ты бежишь с перепугу.
Федор, выскочивший из сарая, вернулся и тоже спросил:
– Кто такие?
– Мы пленные, бежали из Германии, идём в Швейцарию.
– Где вчера были?
– В Фонтен-Франсез.
– А почему здесь остановились?
– Сарай понравился.
– Сколько вас?
– Я да Яшка.
Пока Валерий допрашивал, двое других обыскивали нас и в темноте шуровали в сумке.
– А зачем нас искали?
– Да нам кто-то намекнул, что здесь русские есть.
– Кто сказал?
– А чёрт его знает.
– Ну и как же вы искали?
– Спрашивали по деревням, да никто не подтвердил, что вы тут.
– Что сегодня делать собирались?
– Идти дальше.
– По карте шли?
– Да.
– Карта здесь, Валерий, – вмешался высокий голос, – здесь еще бутылка вина и хлеб с мясом.
– Разопьем для встречи. Как вас зовут? – спросил Валерий.
– Алексей и Яков, – ответил я.
– По этому случаю выпьем по глотку вина.
Наша вторая бутылка пошла вкруговую. После этого быстро ликвидировали и нашу закуску.
Так закончился длившийся почти два месяца первый этап нашей жизни после побега из штрафной команды «387 Rur».
Невольно напрашивается короткая фраза «нам повезло». Правильно ли это будет? Везение это или закономерность? Наверно, закономерность. У меня слова «везение» или «счастливый случай» ассоциируются с бездействием. К примеру, так: работаем мы в штрафной команде, мечтаем попасть в Швейцарию, и вдруг является к нам человек, сажает нас в машину и известными только ему путями и методами переправляет нас туда. Это и есть везение. А у нас другой случай: сколько труда, нервов пришлось нам затратить, сколько опасностей преодолеть, чтобы встретиться с земляками. Значит, не к нам счастье шло, а мы его искали. Да ещё с большим риском. Это уже закономерность – «кто ищет, тот всегда найдет». Вот что подходит к этому периоду моей жизни после пленения.
Скептик ответит: но ведь вы могли не встретить земляков и двигаться в Швейцарию, а в пути при переходе границы вас многое могло ожидать. Верно. Но ведь мы встретили своих, а до этого дважды вступали в контакт с силами Сопротивления (Мария в Бельгии, Луи Калё во Франции). Западная Европа была нашпигована группами, отрядами, штабами движения Сопротивления и это была закономерность.
Значит, тяжелый переход после побега, широкий разворот сил Сопротивления и благожелательное отношение населения позволили нам добиться своего. Короче: активная борьба за идею в благоприятных политических условиях принесла плоды.
«Нельзя написать достоверную историю освобождения Франции от гитлеровских орд, не рассказав о советских людях, которые бок о бок с французами участвовали в этой борьбе… Французский народ исполнен вечной благодарности к собратьям по оружию – советским партизанам, сражавшимся на земле Франции».
Гастон Ларош
На этом можно закончить краткое отступление и продолжить повествование.
32
Прежде всего, подсчитаем, когда произошла эта встреча. Это нужно для установления истины. Валерий в своих воспоминаниях (см. сборник мемуаров участников Сопротивления «Против общего врага», выпущенный в 1972 году Институтом военной истории) относит встречу к началу марта. Этого не могло быть. По моим подсчетам, наш переход по Германии, Голландии, Бельгии и Франции длился 54 дня.
Значит, мы встретились с ребятами самое раннее в начале апреля. Возможно, даже позже, так как в официальных документах мы объединились с группой Габриэля 28.IV. 44 г. Это соответствует и дате первой операции – 6 мая, и состоянию природы – лес был уже в листве. В начале марта в Верхней Соне состояние природы соответствует середине нашего апреля. Никаких операций до 6 мая никто из группы Валерия, и он в том числе, даже в одиночку не проводил.
Черновик нашего рапорта подтверждает мои подсчеты: «23/IV т. Алиса передала группе, которая располагалась в районе г. Гре, 2 автомата с патронами и одну гранату и направляла эту группу на соединение с другой группой. Эти товарищи под руководством Валерия, проделав 80-километровый марш в две ночи, 28/IV вечером соединились с другой группой».
Валерий мне жаловался на Федора, обвиняя его в том, что он тормозит все его начинания по переходу к активным действиям против немцев.
Зря Валерий отступает от истины – ведь наш отряд после трагедии междоусобицы был чрезвычайно активен, особенно перед освобождением, и ни к чему приукрашивать нашу боевую деятельность. Она зафиксирована в официальных французских документах, которые составлены на основании нашего же отчёта. Черновик отчёта, который я составлял в 1944 году в Нанси, мне в 1968 году привезла Алиса. Отчет мы писали вместе с Валерием, так что добавлять к нему в 1968—69 годах что-либо, по меньшей мере, несерьезно. Французский перевод полностью соответствует тексту черновика.
Почему же Валерий отступает от истины? Может быть, память ему изменяет? Едва ли. Когда человек прибавляет – это уже не забывчивость, а сознательное искажение истины. Тем более что он добавляет операции не в период, зафиксированный в нашем отчете, а до этого, намеренно перенося организацию отряда на месяц раньше. Впрочем, Валерий всегда был склонен к гиперболизации наших действий.
В молодости это простительно, а в наши годы – глупо, тем более, повторяю, что наворочали мы немало, и Валерий всегда был на высоте – храбр в бою и активен в организации и проведении операций…
Итак, мы встретились в апреле, выпили литр вина и по приглашению ребят пошли к ним «домой», в лес.
Опять тишина, звездное небо, туман над рекой. Ночь. Мы идем гуськом. Впереди Валерий. Он ведет нас известными ему тропками и очень хорошо ориентируется в темноте леса. Мне даже кажется, что он видит сучки деревьев, – настолько вовремя отгибает их в сторону и предупреждает нас. Я ничего не вижу в темном лесу и, нагнув голову, иду вплотную за Валерием, а за мной Яков и другие.
Небольшая полянка, палатка с сеном. Забираемся все в неё. Тесно, но настроение хорошее. Проговорив ещё с час, засыпаем.
Утром, умывшись в ручейке, точнее, в протекавшей около леса речке Коломбин, мы рассмотрели друг друга.
Валерий – плотный, выше среднего роста, двадцатидвухлетний брюнет, мускулистые руки с крупными кистями, широкое лицо, слегка приплюснутый нос, редкие зубы и толстые губы. По профессии шофёр, из Тамбовской области, образование 7 классов, говорит быстро, торопится, много слов произносит неправильно («лисапет» – велосипед, «Касапея» – Кассиопея и т. д.). В армии старший сержант. Держится просто, говорит откровенно. Хочет скорее получить оружие и драться. Таково впечатление первого дня знакомства.
Фёдор Рубель – лет тридцати пяти – сорока, худой, удлиненное морщинистое лицо, сероватого цвета глаза, длинный нос, тонкие губы, редкие жирные волосы. На лице прыщи и угри. Говорит правильно, медленно, слова подбирает аккуратно, фразы строит грамматически верно, но какие-то они получаются у него витиеватые и зачастую двусмысленные, вроде чего-то недоговаривает – видно, что хитрит. Бывают такие люди. Не помню, какое у него образование, но чувствовалось, что грамотный.
Иван Недвига – напарник Валерия по побегу. Бежали из шахты еще в 1943 году, с тех пор скитаются вместе. Плотный блондин, моего роста, широкое лицо, серые глаза. Молчун. Внимательно слушает Федора. Хоть и напарник Валеры, но держится с ним отчужденно. Кто он, откуда – не помню. Возможно, он и не говорил о себе.
КостяКостиков – молодой, лет девятнадцати, огненно-рыжий, худощавый, рост 168–170 см, голубые глаза, прямой нос, яркие губы, резко очерченный рот. Говорит быстро и много. Земляк Валерия, глядит на него преданными глазами.
Я отметил про себя: русские и хохлы одной командой, хотя после блужданий по Украине у меня сложилось о местных жителях неблагоприятное впечатление из-за их заискивания перед немцами. Конечно, это относилось, в основном, к крестьянской массе, горожан я не встречал. В плену тоже наблюдал их желание выказать свою покорность немцам. Да и мой напарник Яков – конфедерат, одессит, как он говорил, был какой-то странный, хотя и слушался меня. Но я всегда чувствовал, что по главным вопросам – о переходе в Швейцарию, поисках «маки́» – он был со мной не согласен. Иногда говорил, что не прочь отсидеться в батраках у фермера или помещика. Только мое упорство останавливало его от этого шага.
А вот «батька» (Тимофей Кучуров) – пожилой, больной, ему трудно было идти, и он с удовольствием остался бы или у рыбаков на Днепре, или в деревне, где мы вязали рамы, благо заказов было много. Но «батька» стремился попасть к партизанам или перейти линию фронта, и лишь сердечный недуг заставил его остаться в Конотынском лагере. А Яшка был молод, здоров, силен, но какой-то безыдейный, бесхребетный. Ему бы пережить войну без борьбы. Из лагеря военнопленных он бежал в поисках «лучшей жизни». Таких и подобных было много среди беглецов. Я слышал в штрафном лагере и о беглых, которые отсиживались в германских лесах, питаясь бауэровскими запасами. Потом они, как правило, попадались при облавах.
Много разных людей было среди беглецов.
Я стал отвлекаться от повествования, но отступления ведь что-то разъясняют…
33
Позавтракать было нечем. Оказывается, снабжение у ребят не ахти. Они сидели и ждали некоего Роже́, который явился часов в двенадцать на велосипеде. На багажнике привез продукты.
Увидев нас, он засмеялся.
– Всё-таки нашли русских?
Я узнал его. Накануне он дал нам вино сказав, что никаких русских здесь нет.
– Нашли, а почему вы не сказали нам?
– Конспирация. Кто вас знает. Может, вы власовцы.
Оказывается, власовцев перебросили в эти края и заменили немецкие части во французских городах. Они оказались ненадежными на восточном фронте. И теперь вся Франция знала, кто они такие.
Во Франции были и национальные батальоны других предателей – армянский (Казарян), грузинский, калмыцкий и др.
Роже́ сообщил, что скоро придёт Алиса и тогда Александр даст оружие.
Алису никто не знал, а Александр служил почтмейстером в деревне Савиньи, коммунист.
Роже́ вскоре уехал, а мы, не разводя костра, позавтракали и закурили, греясь на солнце. Костёр ребята вообще никогда не разводили – боялись себя обнаружить. Как оказалось, мы располагались почти на опушке небольшого лесочка около замка, в полутора километрах от Савиньи, в пятнадцати километрах от города Гре, что в 48 километрах северо-восточнее Дижона и в 40 километрах северо-западнее Безансона.
Валерий пробурчал, что снабжение плохое, поэтому приходится выкручиваться самим. У фермеров в кладовых хорошие консервированные компоты, окорока. Он так смаковал вкус компотов, что видно было, какой он сластена и что кладовые пейзан ему хорошо знакомы. К вечеру мы проголодались и решили пойти в Сен-Бруэн пошукать компотов. Агитация Валерия подействовала. Двинулись все. Валерий быстро нашел подходящую кладовую и захватил с собой Ивана и Якова. Вышли они оттуда груженные бутылками с консервированными фруктами, хлебом и окороком. Все повеселели. Отошли к лесу, и на опушке Валерий предложил попробовать компот. Компот, точнее, консервированные фрукты, были хороши.
До прихода Алисы мы совершили еще один набег. Роже́ привез немного продуктов. Дней шесть прошли нормально. Мы продолжали знакомиться друг с другом.
Валерий задавал тон в их группе, Фёдор был в скрытой оппозиции к нему. Разговоры один на один с Валерием и Фёдором помогли мне сориентироваться.
Первыми в этих местах появились с месяц назад Валерий и Иван Недвига, потом они подобрали у какого-то фермера Фёдора, а Костя появился сам.
Лучше всех ориентировался Валерий. Чувствовалось, что он давно на свободе. Иван был его неразлучной тенью.
Фёдор осторожничал и с большой неохотой выходил из леса.
Костя слепо верил Валерию.
Ясно, что серьёзные разговоры могли быть только с Валерием и Фёдором. Я беседовал с ними в определенном направлении – прошлое, настоящее, будущее.
Разговоры с Валерием. О прошлом Валерия я уже сказал. Настоящее он воспринимал оптимистично. Молодость, сила, уверенность в себе сквозили в его словах, поведении, надеждах. Он мечтал об оружии и предстоящих боях. Жаловался на Фёдора, который сорвал намечавшуюся операцию. В их группе был один пистолет, кем-то им подаренный, и Валерий предложил под мостом дождаться какого-нибудь немца и убить его. В группе появится автомат, а на ее счету – один ликвидированный фашист. Фёдор соглашался, но за день до операции заявил о ее нецелесообразности, поскольку за убийством немца последует карательная экспедиция и им придётся худо. Иван поддержал Фёдора, а Кости тогда ещё не было. И сейчас Фёдор отговаривает его от операций и даже от добывания продуктов в кладовках у пейзан. Предлагает подождать до получения автоматов. Тогда, по его мнению, можно будет и карателям отпор дать.
Валерий не верил в искренность Фёдора, но отрицательной характеристики ему не давал. Обиделся на Ивана, что тот поддерживал Фёдора.
Я полностью соглашался с мнением Валерия о необходимости добыть оружие и начать борьбу с немцами. Он очень обрадовался моей поддержке и с непосредственностью молодости предложил мне дружбу. Я с удовольствием принял, и мы поклялись сражаться всегда вместе. Относительно его метода снабжения продуктами я высказал сомнение. Рассказал ему, что во время побега мы пользовались этим методом только в Германии. А в Голландии, Бельгии и Франции сочли его неудобным и просто просили нас накормить. Сейчас, когда о нашем присутствии многим известно, наши экспедиции не пойдут нам на пользу. Он отговаривался тем, что у пейзан всего много, а мы голодаем, и не придавал этой проблеме большого значения. В дальнейшем у нас возникли разногласия, даже ссоры, но и примирения. Я был непоследователен: меня обезоруживал голод, который мы частенько испытывали в период, когда нашим снабжением занимались французы, да и мое прошлое пребывание в плену и во время побега в этом отношении было небезупречно. Но тогда это оправдывалось обстоятельствами, а сейчас такое поведение не соответствовало ни нашему положению, ни тем задачам, которые вставали перед нами.
В первые дни этот вопрос не вызывал обострений, и мы с Валерием решили дружить.
Разговоры с Фёдором. С ним не было откровенных бесед. О своём прошлом он не рассказывал. Вёл разговор методом прощупывания и намеков. Говорил мне:
– Валерий хороший и храбрый парень, но по молодости зря рискует. Любит компоты и идёт на воровство. Для партизан это опасно, они могут сползти к бандитизму. Я пытаюсь его сдерживать, но не всегда мне удается. Он и Костю совращает.
Фёдор вроде говорил правильно, но что-то в нём внушало мне недоверие. Внутренне я соглашался с ним, внешне ничем это не проявляя. Предпочитал молчать.
– Или вот, – продолжал Фёдор, – вздумал Валерий провести операцию против немцев с одним пистолетом. С трудом я отговорил его от рискованного намерения. Дадут оружие, тогда и покрупнее операции можно проводить. Я ведь не против боевых действий против фашистов…
Всё правильно. Но не могу согласиться с Фёдором, ведь, по словам Валерия, об оружии Александр заговорил с ним за 2–3 дня до нашей встречи. Задаю вопрос:
– Речь об операции шла тогда, когда Александра вы ещё не знали и никакое оружие не упоминалось. Его можно захватить только в бою.
– Я предвидел, что оружие получим.
Странное предвидение. Откровенного разговора с Фёдором не получалось, чего-то самого главного он недоговаривал. Я рассказал Валерию о беседе с Фёдором, и мы решили обсудить с ним всё в открытую, при всех. В нашей небольшой группе никто ничего не должен скрывать.
Но поговорить не пришлось, да и от разговоров этих, судя по всему, не было бы никакого толка.
Произошла перегруппировка внутри нашего коллектива: Яшка стал чаще бывать с Фёдором, чем со мной, – что-то их объединяло. К ним прибился Иван. Другую сторону представляли я, Валерий и Костя.
В ту пору нам было невдомёк, что Фёдор не просто так прибирает ребят к рукам…
Утром приехал Роже́ с продуктами и сказал, что вечером к нам прибудет Алиса. Её предстоящее появление каждый из нас переживал по-своему. Мы с Валерием были искренне рады ее приезду. Для нас открывалась новая страница жизни – непосредственная борьба с фашистами. Радовался её приезду и Костя.
Фёдор, как всегда, имел кислый и недовольный вид. Он бормотал, что это хорошо, что Александр даст обещанное оружие, но иметь дело с женщиной плохо. Какой из неё партизан?
Я возражал, приводил в пример Зою Космодемьянскую.
Фёдор цедил сквозь зубы:
– Она же попалась, и мы с этой женщиной можем попасться.
– Но её не будет среди нас. Она из Парижа. Проведёт организационную работу и уедет.
– Какой из женщины организатор, она и языка-то нашего не знает…
Так он ворчал, придумывая все новые и новые доводы против Алисы.
Чего он добивался? Мы не знали, да и не задумывались над этим. Но пройдёт месяца полтора, как всё станет ясно. Вот только в какой обстановке наступит эта ясность! Какие драматические события развернутся в нашем будущем отряде! А в те дни Фёдор тайно, исподтишка, создавал обстановку, которая впоследствии и для него самого станет трагичной…
Наконец прибыла Алиса – невысокая, худенькая, стройная блондинка неопределённого возраста. Говорила, что ей тридцать пять лет, и никто в этом не сомневался, но если бы кто-то «добавил» ей десяток лет, споров это не вызвало бы. Трудности жизни не красят человека.
Вообще-то она была не блондинка, а рыжеватая, с веснушками на лице, шее и руках. Что-то в ней было еврейское. Удлинённое лицо, серо-голубые, слегка навыкате глаза, прямой, утолщённый книзу нос, тонкие губы, неопределённых очертаний рот. Такой тип женщин не вызывал у меня положительных эмоций, скорее наоборот.
Нас удивило и очень обрадовало, что Алиса хорошо говорила по-русски – очень чисто, с мягким, непонятным тогда для меня акцентом. Она пришла к нам вместе с Роже́ и Александром, высоким красавцем лет сорока. Благородная седина, обаятельная улыбка, белоснежные зубы… Улыбающееся лицо мгновенно располагало к нему.
Они появились внезапно – шорох листвы скрадывал шум шагов и шуршание шин велосипедов.
– Бонжур, камарады! – раздался баритон Александра. – Разрешите представить вам мадам Алису, посланницу центра и нашу связную.
Алиса поклонилась и улыбнулась, обнажив белоснежные ровные зубы. Негромко сказала:
– Здравствуйте, товарищи. Я очень рада вас видеть. Поздравляю с освобождением из плена и с тем, что скоро вы с оружием в руках сможете искупить свой грех перед вашей Родиной. Не сочтите мои слова обидными. Я хорошо знаю русских и знаю, что каждый из вас, при каких бы условиях он не попал в плен, считает это позором. Подтверждением моих слов является ваше присутствие здесь и ваше страстное желание воевать с фашистами. Руководство интернациональным Сопротивлением понимает и приветствует ваше стремление бороться, оно постарается обеспечить вашу группу оружием. Но, прежде чем дать вам его и поставить задачу, я хочу с каждым из вас познакомиться. Пусть каждый расскажет о себе.
Я поведал о себе всё, как было на самом деле, разве что добавил военное звание: представился капитаном. Ничего не хотел менять из того, что говорил ещё в штрафной команде, да и перед Яшкой было бы неудобно. Я продолжал считать его своим лучшим другом. Боялся, что, представившись младшим лейтенантом, сильно его разочарую. Что касается остальных, то не помню кто, когда и где попал в плен, кто откуда бежал, но хорошо запомнилось только одно: никто, за исключением Фёдора, раненым в плен не попал.
Алиса не интересовалась подробностями, для этого она раздала нам бумагу, самописки и просила каждого изложить анкетные данные и биографию. Это сделали все, за исключением Фёдора. Сначала он не отдал автобиографию, сказав, что не успел её в тот день написать, а передал ли позже – не помню.
Побеседовав с нами, Алиса сообщила, что завтра с утра приедет вместе с Роже́ – привезет оружие, географические карты, а послезавтра вечером мы должны будем двинуться на сто километров севернее на соединение с другой группой русских. И французы уехали.
34
На другой день утром в лес снова приехали Алиса и Роже́, они привезли два автомата фирмы «Стен», две лимонки и карабин. Автоматы и карабин мы быстро собрали и обтерли от масла. К каждому автомату прилагалось два магазина с патронами.
Алиса предложила всем выбрать псевдонимы. Я стал Алёша. Потом она разложила мишленовскую карту квадрата 66, которой пользуются автомобилисты и туристы, и показала пункт, куда мы должны были на следующий день отправиться. Это была деревня Венизи. Между нею и другой деревней, а вернее, чуть южнее их, был небольшой лесок, на северо-восточной опушке которого стоял сарай. Вот к этому сараю 28 апреля в 24.00 мы должны были подойти, насвистывая «Интернационал». Там нас должны были ждать ребята из группы Габриэля (псевдоним, русское имя – Гаврила). Нашу группу собирал и комплектовал Александр, а группа Габриэля около двух месяцев базировалась в районе Виши́ и комплектовалась местной учительницей Жаклин.
В предложенном Алисой маршруте неудобным было пересечение реки Соны. Чем рисковать и переходить где-нибудь через мост, лучше преодолеть её вплавь.
Стали тщательно готовиться к переходу. В два рюкзака сложили продовольствие, определили очередность их переноски. Занялись изучением привезённого нам оружия.
Стеновский автомат с левым, по ходу стрельбы, расположением магазина нам сразу не понравился, да и в бою он оказался потом не на высоте – часто отказывал. Карабин с десятью запасными патронами выглядел симпатичней.
Итак, два автомата, четыре пятнадцатипатронных (если память не изменяет) магазина, карабин, пистолет (ранее бывший в группе) и две гранаты – вот наша путёвка в новую неизведанную, но долгожданную жизнь.
В тот день – 26 апреля 1944 года – подводилась черта под прошлым. Теперь, с высоты моих лет, я должен признать, что почти два месяца после побега из лагеря «387 Rur» – это самые романтичные и чистые дни моей военной жизни. Вчетвером, а затем вдвоем, таясь от врагов и предателей, заботясь друг о друге, деля последнюю корку хлеба, мы шли к заветной цели – к свободе. Помыслы наши были чисты, а души – светлы. Покинув территорию Германии, мы отказались от тайной экспроприации продуктов. С доверием относясь к местным жителям в Голландии, Бельгии и Франции, мы искали у них помощь и в какой-то степени защиту. И находили. Наконец, вместе с предложением вступить в «маки́», мы получили оружие и возможность сражаться.
Новая жизнь. Что принесет она нам? Будущее мы представляли себе как лихие налеты, сражения, бои и перестрелки. Мы и не предполагали, что партизанщина – это, прежде всего, испытание характеров, идейной убежденности, порядочности и преданности святому делу освобождения народов от фашизма. Мы не думали, что в партизанах очень легко скатиться к анархии и к обычному бандитизму. Критически относясь к себе, я отмечал в то время не самые лучшие изменения в своем характере. Наступил период жизни, когда приходилось не раз идти против своих убеждений и совести.
…Вечером 26 апреля мы двинулись в путь. Он был не так уж далёк и тяжёл, например, для нас с Яковом, натренированных в преодолении огромных расстояний. У других тоже был опыт. Так что двух ночей нам было вполне достаточно.
Я оказался в хвосте цепочки – замыкающим, а впереди меня был Фёдор. Вышли мы ещё засветло. Через час отдохнули, переобулись и пошли лесами, полями вдоль дорог, но не по дороге. В тех местах каждый крестьянин выгораживал колючей проволокой не только весь свой надел, но и отдельные участки внутри него – пастбище, сады, огороды, посевы. Поэтому нам приходилось часто перелезать через колючую проволоку, проползать под ней и протискиваться между её рядами.
– И куда это торопится Валерий? Я уже весь взмок, – сказал мне Фёдор.
– Да вы тут засиделись в лесу, отвыкли ходить, а мы с Яшкой привычны к такому темпу, – ответил я.
– Торопиться-то некуда – успеем на тот свет, – брюзжал Фёдор.
Я промолчал, а он продолжал:
– Торопится, начальником хочет быть.
– Каким начальником?
– Командиром. Молод ещё, рискует много, ему нельзя быть командиром, не он должен руководить, а им нужно руководить.
– По-моему, Валерий может быть командиром партизанского отряда – силён, храбр, ума хватает, – подумав, возразил ему я.
– Вот последнего как раз и не хватает. Ему бы только драться, но надо думать и о безопасности. Если уж ему быть командиром, то комиссар при нем должен быть дальновидный и осторожный, – назидательно заметил Фёдор.
Ребенку было бы понятно, что он метит в комиссары и никогда не смирится с тем, что командиром отряда стал Валерий. Я ответил Фёдору, что не против, если командиром станет Валерий, а вот относительно комиссара – надо подумать.
Мы шли по-военному – пятьдесят минут ходьбы – десять минут отдыха. Часы были только у Валерия, и он отдавал команды на отдых или движение. Через пять часов вышли на берег Соны. Переплывать реку ночью, в темноте – дело не простое. Может, всё же лучше идти через мост? В одном домишке, у реки, загорелся огонек, и мы постучались. На вопрос «Кто здесь?» Валерий ответил:
– Резистанс франсез… («Французское сопротивление».)
Дверь приоткрылась, и мужчина средних лет пропустил нас на кухню. Мы спросили, есть ли на мосту охрана, но хозяин, не отвечая, с любопытством разглядывал нас.
Валерий, бойко лопотавший по-французски, повторил вопрос. Хозяин улыбнулся и сказал:
– А вы ведь не французы? Кто вы?
– Мы – русские.
– Русские?! – У хозяина от удивления широко раскрылись глаза. – Как вы сюда попали?
Валерий пожал плечами и вновь повторил вопрос.
– Может, и есть, а может, нет – неопределённо ответил хозяин и пригласил нас за стол.
Мы сели на стулья и на лавку, а хозяин вышел. Через несколько минут он появился и, поставив на стол большой кувшин, предложил:
– Я вижу, вы устали с дороги – выпейте моего сидра и подкрепитесь.
Тут же на столе появились стаканы и кабаний окорок.
Мы не заставили себя ждать и быстро опорожнили кувшин. Хозяин пошел за вторым, а мы разделались с окороком и караваем хлеба. Очевидно, от усталости в голову ударил хмель. Выпили ещё по стакану и начали обсуждать вопрос: переплывать реку или идти на мост. В итоге решили плыть.
Помню обжигающую прохладу воды. Сона не широкая – метров 60, и мы быстро её преодолели. Правда, нам с Валерием пришлось вернуться – Фёдор плохо плавал, и мы помогли ему, поддерживая справа и слева. На берегу растерлись, попрыгали, оделись и – в путь.
Остановившись в лесочке на берегу ручья, целый день спали на солнце.
На другую ночь мы без приключений добрались до лесочка на правом, высоком берегу Соны. Торопиться было некуда, впереди были день и еще половина ночи. Мы отдыхали, загорали на солнце.
И вот тут-то началось разделение нашего будущего отряда. В кустах лежали Валерий, я и Костя, а отдельно от нас – Фёдор, Иван Недвига и Яков Конфедерат. И то, что там был Яшка, меня злило больше всего. Я считал, что наш переход навсегда скрепил нашу дружбу, но оказалось – нет. Проповеди Федора об осторожности, а по существу, замаскированный отказ от активных действий против немцев, были Яшке больше по душе, чем мое стремление партизанить или идти в Швейцарию.
Я уже давно заметил отчуждение Якова и чувствовал его причину, но разговаривать с ним на эту тему не стал. Я был весь в мечтах о будущем и не заметил опасности, которая надвигалась.
Во второй половине дня мы с Валерием спустились на дорогу, идущую вдоль реки, и дошли до моста, который пересекает Сону южнее Монтюрё. Часовых на мосту не оказалось, и мы, пройдя по нему, вышли на дорогу, соединяющую Монтюрё с Боле. На перекрестке стоял дом, в котором позже нам пришлось побывать еще раз.
– Днём мост не охраняется, а ночью? – спросил я Валерия. Тот сразу понял меня:
– Давай перейдем его засветло. Возвращаемся.
С этим все согласились. Только замялся Фёдор, но потом, очевидно, вспомнил, что придется на плечах товарищей плыть в холодной воде, и тоже согласился.
Разобрали оружие, повесили автоматы и карабин на шею под пиджаки, магазины, патроны, гранаты рассовали по карманам и пошли попарно: Валерий и Костя, Иван и Фёдор, я и Яков. Следовали друг за другом. Минут через десять перешли мост, спокойно пересекли шоссе и железную дорогу и по лугу вошли в лес. Когда мы с Яковом подошли к опушке, Валерий с Костей встретили нас уже в полном вооружении – автоматы и карабины были собраны и заряжены: вдруг при переходе моста меня и Якова задержат.
Мы не стали торопиться к месту свидания и остановились на восточной опушке леса, с которой хорошо проглядывалась деревня. Было пять часов пополудни, и мы, развалившись на мягкой траве, поели, закурили и принялись гадать – кто и как нас встретит.
– Алиса говорила, что командиром отряда будет Габриэль, – сказал Валерий. – Кто он, русский или француз?
– Наверно, русский, – ответил Костя, – ведь отряд-то будет советский.
Никто не возразил, ибо все мы думали так же и считали, что «Габриэль»– это псевдоним.
– Не терпится Валерию, хочется быть командиром, – шепнул мне лежавший рядом Фёдор.
Я промолчал. Мысли мои были далеко. В тот вечер думал о доме, но в преддверии долгожданного будущего уже не тосковал о прошлом. Вся прошлая жизнь и семья отодвинулись на задний план. Мечта сбывалась.
Быстро стемнело, похолодало, и мы стали приплясывать. Была надежда, что новые товарищи встретят нас хорошим ужином. Наконец – 23.00. Мы медленно движемся к месту встречи, надо пройти примерно 3 км. Свернули на запад, где-то рядом сарай. Зажигаем, нагнувшись в кустах, спичку – Валерий смотрит на часы: 23.55. Вперед! Вот что-то темнеет. Сарай!
Мы с Валерием впереди и начинаем насвистывать «Интернационал».
В ответ слышим тот же мотив. Бросаемся вперед. Вот они, наши товарищи. Их трое. Хочется заключить их в объятия.
– Следуйте за нами, – звучат холодные слова.
Что это, конспирация?
Мы идем на север, пересекаем шоссе, преодолеваем луг и, наконец, входим в лес. Нас ведут тропинками. Овраг. Ручей. Небольшой костер. Группа молчаливо сидящих людей. Никто не встал нам навстречу.
Инициативу проявил Валерий:
– Товарищ Габриэль! Группа бежавших военнопленных по приказанию Алисы поступает в ваше распоряжение, – обратился он к плотному среднего роста человеку, которому один из проводников доложил о нашем приходе.
– Здравствуйте, товарищи! Сколько вас?
– Шесть человек, с двумя автоматами, карабином, двумя гранатами и пистолетом, – продолжал докладывать Валера.
– Хорошо. Давайте знакомиться.
Начались рукопожатия.
В группе Габриэля тоже было шесть человек. Сам Габриэль, настоящее имя Гавриил, представился летчиком, Костя из Ленинграда, Павел Чехобадзе из Кутаиси, Николай из Белоруссии, Ужгорин из Калужской области и Алексей Васильев из Калининской области.
Сели у костра и начались разговоры, кто есть кто, откуда бежал и т. д.
Габриэль сказал, что, по сведениям мадам Жако, послезавтра должна прибыть Алиса.
На наш вопрос, кто такая мадам Жако, последовал ответ – учительница из Венизи, которая опекает группу Габриэля.
Когда Валерий предложил выставить караул, Габриэль сказал:
– Не надо, и без караула поспим.
Я поддержал Валерия:
– Караул надо выставить обязательно. Мы не знаем обстановки, и незачем рисковать.
– Я хорошо знаю обстановку, – отрезал Габриэль, – и предлагаю всем спать у костра.
Мы посовещались с Валерием и караул все же решили выставить.
– Мы встанем в первую очередь, кто нас сменит? – громко спросил Валерий.
– Никто, – последовал ответ хозяев. – Если хотите, караульте сами всю ночь.
Мы собрались вшестером посоветоваться. Я сказал, что поведение Габриэля нельзя считать нормальным, и надо сразу устанавливать твердую дисциплину. Все со мной согласились. Но нас было шестеро, а требовалось минимум восемь человек.
Я обратился к группе Габриэля:
– Ребята, кто будет с нами нести караул?
Никто не ответил. Мы решили разделиться по три человека и установить посты в трех направлениях, но в это время к нам подошли Алексей Васильев и Николай Северин. Нас стало восемь, и мы решили установить посты в 40 метрах от костра. По двое пошли в разных направлениях, а потом один возвращался к костру.
Я дежурил во вторую очередь, но заснуть не мог. Рядом лежал Валерий. Он дернул меня за рукав и шепнул:
– Куда мы попали? Что за люди? Как им доверить оружие?
– Думаю, Габриэль просто выпендривается, хочет показать, кто здесь начальник, но он недостаточно умен, если действует против здравого смысла, – ответил я.
– Знаешь, я весь дрожал от злости, когда Габриэль отказался выставить караул, – проговорил Валерий.
– Нам нужно быть начеку. Посоветуемся с Алисой, – сказал я.
Мы долго шептались, оба не могли заснуть. Да и голод давал о себе знать. Никто нам даже не предложил перекусить.
Валерий и я сменили Костю и Ивана, у которых были автоматы. Алексей сменил Яшку, у которого был карабин, а Фёдора, отказавшегося взять даже пистолет, сменил Николай-белорус.
Утренний холод и урчание в желудке не давали покоя.
Когда начало светать, я вышел на опушку леса и осмотрел окрестности. Слева и справа виднелись силуэты деревенских домов, а прямо темнела полоса леса, на опушке которого нас встретили Костя, Николай и Алексей.
В шесть утра мы собрались у костра, и я спросил Габриэля:
– Когда кормить будете, хозяева?
– Если принесут от мадам Жако – накормим и сами поедим, а если не принесут – не взыщите, – последовал ответ.
– И вы всегда так голодаете?
– Почти всегда.
– На вас не похоже. Все лоснитесь от жиру… Особенно ты, – я ткнул пальцем Габриэлю в грудь и рассмеялся.
Габриэль действительно был весьма упитан. Широкое красное лицо с рыжеватой щетиной, толстая шея, рыжая шевелюра венчала голову.
Смех мой поддержали только наши товарищи.
Нас по упитанности тоже можно было разделить на две группы.
К группе Габриэля можно было бы присоединить пухлощекого Валерия и его напарника Ивана Недвигу. Видно, они давно покинули лагерные нары.
А я, Яшка, Костя и особенно Фёдор были измождены, у нас были обветренные лица, а лицо Фёдора было бледным, с синевой.
Габриэль сказал:
– Мы с Костей пойдем за едой, а вы сидите здесь.
Они ушли. Мы уныло сидели около костра и ждали. Иногда кто-нибудь начинал рассказывать о себе, его слушали рассеянно – мешал голод.
Габриэль и Костя вернулись часа через четыре с двумя мешками. Пришли бритые, прилично навеселе.
Один мешок Габриэль выделил нашей группе, другой оставил своим бойцам. В нашем мешке были хлеб, вареное мясо, сыр, масло, два литра вина, соль, сахар. Выпив по стакану сухого вина, мы с жадностью набросились на еду.
Группа Габриэля ела с не меньшей жадностью. Голодны были все. Только почему-то те ребята быстро захмелели, наверное, кроме вина хватанули спиртного покрепче.
Когда поели и поставили на костер ведро с водой, Габриэль сказал, что приехала Алиса и завтра в 11 часов будет у нас.
Мы посудачили еще немного и заснули.
Разбудили меня выкрики, было темновато, ярко горел костер, а у ручья кричал Григорий:
– Пришли сюда да еще командовать хотят, воевать захотели. Пусть убираются туда, откуда пришли…
Мы с Валерием переглянулись и подумали об одном – оружие группе Габриэля отдавать нельзя.
Подошли к пьяным габриэлевцам.
– В чём дело? – спросил я. – Кто кем хочет командовать? Командир уже назначен – это Габриэль, и мы готовы ему подчиняться. Так о чём ты кричишь, Григорий?
– Больно у вас планы наполеоновские, а у нас свои задачи…
– Так расскажи, чего вы их скрываете? – вмешался Валерий.
– Много будешь знать – скоро состаришься, – ответил Григорий, уставившись на Валерия пьяными глазами.
– Умолкни, Григорий! – крикнул Габриэль. – Давайте спать!
Мы легли спать по группам, но уже без караула. Заснуть не смогли и тихо переговаривались с Валерием о том, что же делать. Григорий опять забуянил, и успокаивать его пошел Фёдор. Уговаривал он его долго, пока тот не заснул.
На другой день в лес пришла Алиса. Поздоровалась, поздравила всех со встречей и объявила собрание открытым.
На повестке дня четыре вопроса:
1. Организация отряда
2. Выбор командования
3. Принятие присяги
4. Разное
Отряд назвали именем Парижской Коммуны. Командиром избрали Габриэля, членами штаба меня и Валерия. Потом было принятие присяги.
Алиса проинформировала нас, что в ближайшие дни отряд пополнится новыми людьми и что скоро приедет командующий нашим районом Мариус. Вместе с Мариусом приедет Алиса – привезет нам географические карты квадрата 66 фирмы «Мишлен», по которым мы сможем планировать операции и передвигаться.
Она рассказала, как организовано партизанское движение во Франции, о роли компартии, о руководителе партизан Луи. Русские входили как самостоятельное звено в секцию иностранных партизан во главе с Луи. А все партизанские силы, руководимые Луи, входят в ФТПФ («Стрелки и партизаны Франции»), которым руководит подпольный ЦК компартии Франции.
Мы ни слова не сказали Алисе о вчерашнем инциденте и холодной встрече. Неудобно было подрывать авторитет русских и жаловаться на только что избранного командира.
Алиса уехала.
Мы ожидали, что Габриэль сразу соберет штаб, чтобы обсудить все наши дела. Этого не последовало. На другой день мы с Валерием спросили Габриэля, когда он соберет штаб.
– А за каким хером? – последовал ответ.
– Распределить обязанности между нами, составить распорядок дня, наметить операции на ближайшее время, – сказал я.
– Два автомата – это не оружие для операций. Вот подождем пополнение, о котором говорила Алиса, правда, я ей особенно не верю, потребуем еще оружия, тогда и начнем бить немцев.
Мы заспорили с ним, но все было бесполезно. На ночь он ушел в Венизи (по слухам, он был близок с мадам Жако), а мы остались у костра.
Вскоре Алиса привела в отряд Гришу-сибиряка, Григория с Украины, Николая-коми, Николая из Ленинграда и чеха Франсуа, который выдавал себя за американского пилота. Настоящего его имени мы так и не узнали. Несколько позже в наш отряд пришли два молодых француза и один итальянец – ребята в возрасте 17–18 лет.
Нас стало девятнадцать душ.
35
Жили мы впроголодь, из леса не выходили и бездельничали. Габриэль часто посещал Венизи. Нас с мадам Жако он не знакомил. Фёдор целые дни проводил в беседах с калужанином Григорием, Габриэлем и Костей из Ленинграда. Его с удовольствием слушали Павел, Николай-1 (белорус) и Николай-2 из Ленинграда. Алексей Васильев примкнул к нам с Валерием.
Было ясно, что отряд разбивается на два лагеря, но я не видел в этом опасности и считал, что боевые дела сплотят всех, лишь бы скорее приступить к ним.
В начале мая прибыл Мариус, невысокого роста, черноволосый, усатый человек лет около пятидесяти. Он командовал районом Р-5. (Я встречался с Мариусом в 1964 году в Париже. Он был стар, ходил с палочкой и ратовал за встречу всех партизан отряда им. Парижской Коммуны.)
Он сказал, что командование ждет от нас боевых дел, выражал уверенность, что русские не осрамятся.
На вопрос Габриэля, будет ли еще оружие, последовал ответ, что мы, как и все, должны добывать его сами в боевых операциях.
Его спросили насчет улучшения кормежки, и Мариус ответил, что из центра будут поступать деньги – 35 франков на человека в день, и мы сами должны покупать себе продукты.
Он запретил всем членам отряда, за исключением Габриэля, общаться с населением. Все необходимое будет доставлять Алиса: мишленовские карты, трубки, ручки, карандаши, бумагу, записные книжки, иголки, нитки, пуговицы.
Когда они уехали, мы с Валерием опять поставили перед Габриэлем вопрос о совещании штаба. Тот снова отказался и начал кричать, что никаких боевых действий не может быть с двумя автоматами и 60 патронами.
Тогда мы с Валерием предложили отметить Первое мая боевой операцией.
Габриэль, Фёдор, Григорий-калужский возразили.
На другой день, когда прибыла Алиса, мы опять заговорили об этом. Она нас не только поддержала, но и сказала, что командование требует отметить этот день боевой акцией.
Мы с Валерием сразу добровольно согласились идти на операцию. Два француза изъявили желание пойти с нами.
После споров об оружии мы взяли с собой автомат с двумя магазинами, карабин, две гранаты и пистолет.
Это собрание состоялось 2 или 3 мая, а вечером Валерий (руководитель группы), я, Лоран и Марк выступили в поход в район города Гре.
Не успели мы уйти, как Фёдор в присутствии Алисы сказал:
– Зря дали оружие этим людям и отпустили их. Они ненадежны и думают только, как бы уйти. Они не вернутся.
Алиса дала ему отповедь и предложила догнать нас и войти в группу. Тот струсил и замолчал. Это рассказал нам Костик после нашего возвращения.
Мы шли на первую боевую операцию в неведении, где она может быть организована, когда, и в чем она будет состоять.
Посовещавшись, мы с Валерием решили начать с разведки в районе Гре. Такое относительно далекое расстояние места проведения операции от лагеря гарантировало ему безопасность.
Имевших официальные документы Марка и Лорана мы послали в деревню с заданием узнать, как часто немцы ездят по дороге Гре – Божё, на каком транспорте, есть ли поблизости немецкий гарнизон и где находятся французские жандармы и полицейские. Молодые французы должны были также принести продукты.
Ребята ушли, прихватив пистолет и гранату. Мы с Валерием остались на опушке леса дожидаться. Но вечером они не появились. Мы прождали весь следующий день и, не имея о них никаких сведений, отошли на другую опушку леса.
А ночью мы зашли к Александру и попросили узнать, куда же делись наши парни.
Александр, снабдив нас пищей, предложил дождаться его около «шато́» (за́мка).
Вечером он поведал нам трагическую историю молодых французов.
В Божё они сразу направились в кафе. Дело было вечером, и там было многолюдно. Ребята выпили вина и, вместо того чтобы слушать и иногда расспрашивать, как мы им советовали, начали хвастать тем, что они «макизары», да еще показали посетителям гранату и пистолет.
То ли кто донес, то ли по стечению обстоятельств, но через некоторое время в кафе зашли полицейские и начали проверять документы. Вместо того чтобы спокойно предъявить французскому ажану документы, ребята выхватили пистолет и гранату и стали ему угрожать, требуя пропустить их. Во время переговоров у Лорана взорвалась в руках граната, были ранены несколько посетителей, а самому Лорану располосовало живот. Марка схватили и отвезли в тюрьму жандармерии города Везуля.
Для нас с Валерием это был удар – мы ничего еще не сделали, а потеряли двух человек, да ещё молодых французов. Мы долго раздумывали, что же делать дальше.
В итоге решили караулить на ближайшем шоссе. Выбрали позицию на стыке дороги № 474, идущей из Гре на восток, с небольшою дорогой, отходящей в лесу Бель-Комб от дороги № 474 на деревушку Эшеван. Ночью зашли в крайний дом деревни, где нас накормили. Спали в лесу неподалеку и рано утром 6 мая залегли в кустах у дороги. Позицию мы выбрали так: я с карабином с левой стороны дороги, а Валерий в кустах на стыке дорог – с автоматом и гранатой.
Договорились, что я наблюдаю за идущими из Гре машинами, целюсь и, если машина гражданская, опускаю карабин, а Валерий, выходящий в это время из кустов, прячется обратно. Если же машина немецкая – я стреляю по шоферу, а Валерий открывает стрельбу из автомата. Если что-то пойдет неудачно – встреча в сарае около «шато́» ночью.
Проследовало несколько гражданских машин, напряжение спало, и вдруг, примерно в 13.00, я заметил легковушку. Пригляделся. Немцы! Валерий вышел из кустов и ждёт. Я целюсь в шофера, но мешает лист. Немного опускаю карабин, и Валерий, видя это, быстро прячется в кусты, а я через 2–3 секунды стреляю, но не в шофера, т. к. было неудобно, а в человека рядом. Машина движется дальше. Валера с опозданием бросает гранату, которая скользит по кузову машины и падает на дорогу. Он перебегает на мою сторону, и только после этого граната взрывается. Я продолжаю сверху стрелять по машине. Валерий присоединяется ко мне. Примерно в двухстах метрах от нас машина останавливается, из нее кто-то выскакивает и из кювета стреляет в нашем направлении. Из Гре приближаются грузовые машины с солдатами, и нас начинают обстреливать с двух сторон. Мы бегом отходим на север в сторону леса. Погони, кажется, нет.
Чёрт возьми! Первый удар – и впустую. Валерий упрекает меня за то, что я не вовремя опустил карабин, он подумал, что машина гражданская, начал прятаться в кусты.
– Если бы ты не опускал карабин, я скосил бы их всех из автомата, – сказал он.
– Лист мешал, – оправдывался я.
– Лист, лист, – ворчал он.
Мы были обескуражены. Не знали, что операция оказалась очень удачной. Первым же выстрелом я убил немецкого полковника, но об этом мы узнали после.
Мы шли хмурые: с чем явимся в отряд? Опозорились начисто. Решили не возвращаться без трофеев.
Переночевали в лесу около Савиньи. Утром седьмого мая двинулись на север. И тут нам повезло. Мы подошли к дороге и увидели, как справа от нас проехали на велосипедах два немца. Стрелять было уже поздно, и мы решили их подождать Может, вернутся. Валерий предположил, что это зенитчики, отправившиеся с ранцами за продуктами. Мы перешли на другую сторону дороги и сели в кустах за поленницей дров, откуда дорога хорошо проглядывалась в обе стороны.
Примерно через полчаса показались вооруженные карабинами велосипедисты.
Мы встали с противоположного от них края поленницы и приготовились. Валерий с автоматом на колене, я – стоя.
Помню, как билось сердце, – ведь я впервые буду убивать людей. В боях под Харьковом я не видел, кого именно поражали мои пули, а тут узнаю, кого я убил, да еще из-за угла и, по существу, беззащитных, ведь они не успеют взять в руки винтовки.
– Валерий, – шепчу я, – может, в плен возьмем и отведем в лагерь?
– Чтобы банда Габриэля издевалась над нами? Струсил?
– Какая может быть трусость, когда мы действуем наверняка.
Больше говорить не пришлось. Немцы – в десяти метрах. Мы нажали на курки и…. у обоих осечка! Металлический звук курков заставил немцев повернуть головы в нашу сторону. На их лицах был ужас, но сделать они ничего не смогли: пауза продолжалась доли секунды, когда заговорило наше оружие. Валерий дал короткую очередь по туловищам, я целился в головы.
И мы, перепрыгнув через кювет, собрали трофеи: 2 винтовки, 2 ножа, 2 солдатские книжки, бумажники с фотографиями и деньгами, часы, ремни с патронниками.
Посмотрели на убитых – одному лет тридцать, другому – около сорока. Оба худощавые, чернявые.
На дороге зашумел мотор, мы обернулись – на холм поднимался трактор, он был метрах в пятидесяти от нас. Тракторист, увидев страшную картину, быстро развернулся. А мы бросились за поленницу и – в лес. Бежали быстро и долго – надо было выйти из зоны возможного контакта с собаками. Через час были в районе деревни Веллексон, где Валерий при форсировании речушки потерял один магазин к стеновскому автомату и, сколько ни нырял, разгребая ил на дне неглубокой реки, – магазин не нашелся.
На опушке леса мы разглядывали свои трофеи. В бумажнике старшего немца были семейные фотографии, при виде которых сердце пронзила жалость. Жена, два младенца в коляске, двое лет по семь – у коляски, а один, годиков трех, в руках на груди у полной женщины. Всего лишь час назад от моей руки она стала вдовой… Я почувствовал себя преступником.
– Поговорю с Алисой и буду ходить только на железные дороги, а засады из-за угла не по мне. Я чувствую себя убийцей, палачом, – обратился я к Валерию.
– Неженка ты, как я посмотрю, давай лучше в «подкидного дурака» сыграем, – усмехнулся он.
В числе трофеев оказалась колода карт, и мы раза три сыграли. Больше я не мог. Лег на траву и, наблюдая за плывущими облаками, размышлял о случившемся.
Вечером мы зашли к знакомому по первому переходу пекарю, выпили хмельного сидра и пошли переправляться через Сону.
Хотели пройти через мост, но, к счастью, во время обнаружили патруль и переправились где-то выше моста.
Переплывать пришлось три раза (много трофеев). Плавали вместе, осторожно, на спине, и, приближаясь к берегу, не знали, что нас там ожидает. Но обошлось.
Рано утром 8 мая мы, хоронясь от постороннего глаза, подходили к лесу, в котором базировался отряд.
Доложили обо всем. Ребята у костра слушали внимательно, разглядывали наши трофеи. Очень беспокоился юноша-итальянец, который не понимал, о чём мы говорим, и всё время переспрашивал.
Первым изрёк свое мнение Фёдор:
– Убили двух немцев и своих двух потеряли – баланс неутешительный…
Сказать в своё оправдание нам было нечего. Вспыхнул спор: кто-то говорил, что на войне как на войне, и не разделял скептицизма и пессимизма Фёдора. А Габриэль, Григорий-калужский, Костя, Иван Недвига и Яков поддержали его.
Фёдор слушал и молчал.
Часов в десять пришла Алиса. Выслушав нас, поздравила отряд с началом боевых действий. Объяснила причину потери двух французов и нашу с Валерием ошибку:
– Вы не должны были отпускать их в деревню с оружием. Они молоды, горячи, не воевали, и в них ещё много романтики.
Фёдору, пытавшемуся говорить о бессмысленности потери, она ответила так:
– Мы взялись за оружие, чтобы воевать, а это значит, что потери неизбежны. Но их должно быть как можно меньше. Надо тщательно готовиться к любой операции, больше внимания уделять разведке и вообще продумывать каждую деталь своих боевых действий. Не надо паниковать. За товарищей мы должны отомстить.
Алиса забрала немецкие документы и ушла. На другой день вернулась и сообщила:
– Лоран тяжело ранен и лежит дома. Марк сидит во французской тюрьме в Везуле. После допросов его передадут в гестапо. Так что надо выручать Марка, ребята!
Мы ответили, что готовы, но как это сделать?
Алиса рассказала возможный план.
– Мадам Жако должна достать план тюрьмы, и мы постараемся организовать молниеносный налет на этот застенок. Освободим не только Марка, но и других узников. Возможен подкуп работников тюрьмы. Этим займутся родители Марка. Для проведения операции нужна группа из пятнадцати человек. Оружие попросим у французов из внутренних войск. Восемь – десять автоматов они нам дадут. Окончательно все будет известно послезавтра.
После ухода Алисы Фёдор начал агитацию против участия в освобождении Марка. Из-за какого-то французишки жертвовать русскими нельзя, говорил он нам. Сражаться нам предстоит ещё долго, и не надо попусту подставлять свои лбы под фашистские пули. Фёдора поддержали всё те же – Габриэль, Григорий-калужанин, Иван и Яшка («мой» Яшка!).
Наша группа возражала против такого националистического подхода к проблеме. Напомнили Фёдору, что не далее как вчера он вроде искренне жалел ребят и ругал нас за ротозейство и легкомыслие. Это напоминание привело Фёдора в ярость, и он выкрикнул:
– Пусть идут спасать этого Марка те, кто помог ему сесть в тюрьму! А я не пойду.
Это был вызов, и мы с Валерием приняли его, сказав, что готовы идти освобождать нашего товарища. Спросили, кто пойдет с нами. Руку подняли Алексей, Гриша, Григорий-украинец, Франсуа, Павел, Николай-белорус, Костя, Николай-ленинградец и Костя из Ленинграда.
– Вот завтра мы и объявим Алисе нашу команду. А вы, друзья, можете оставаться и наложить в штаны от страха, – обратился Валерий к Габриэлю и Фёдору.
Габриэль вскочил и закричал, что сейчас же пойдет к мадам Жако и докажет ей никчемность намеченной операции.
Фёдор проводил Габриэля метров на десять от лагеря и тут же вернулся (на опушку он выходить боялся).
А я решил переговорить с Яшкой. Очень мне было обидно, что человек, с которым нас столько связывало, поддерживает наших оппонентов. Но он отказался от разговора один на один, а затевать общий спор было бессмысленно.
Вскоре вернулся Габриэль. Он был мрачен и сильно во хмелю.
– Эти бабы ни хрена не понимают в боевых делах, – буркнул он и завалился спать. Больше мы от него ничего не узнали.
Несколько дней провели в напряжённом ожидании. Наконец Алиса принесла весть – за большую взятку Марка освободили. Гора свалилась у нас с плеч.
36
Вскоре совершилось то, что нередко бывает в партизанщине, – поступок против совести.
В армии подобного быть не может – там всё регламентировано, на всякий чих есть устав, и если кто нарушает его, того наказывают. В войну эти законы становятся жёстче и наказание суровее. Если в мирное время дезертирство, самострел или воровство у гражданских лиц влекут за собой тюрьму, то в войну за те же проступки наказание одно – расстрел перед строем. Но в лесу закон один – собственная совесть, а у кого её нет, законом становится сила или трусость.
На оккупированной территории нашей Родины партизанами командовал центр из Москвы, на них распространялись законы Советской армии, и всё равно было много случаев дезертирства, мародёрства и убийств. А что скажешь о жизни во французских лесах? Где там искать закон? Кругом неродной язык, чужие люди, их непонятная жизнь… Недолго и до коллективного преступления…
Затосковал итальянец и начал проситься у Алисы домой. Она пообещала выяснить такую возможность. И вот однажды утром меня разбудили и позвали к костру, где уже были Алиса, Габриэль с Валерием и что-то говорил Фёдор. Я подошел к ним и услышал:
– Речь идет о судьбе итальянца (я забыл, как его звали), – сказала Алиса. – Отпускать мы его не можем. Все знают, что он ушел в «маки́», и, если вернется, его обязательно схватят. Он не выдержит пыток и выдаст нас.
– Может, не схватят? – спросил я.
– Схватят обязательно. Об отряде знают очень многие, и есть основания думать, что в окрестных деревнях бродят шпики, – сказала Алиса.
– Так пусть остается в отряде, – встрял Валерий.
– Он сбежит домой, – стояла на своем наша руководительница.
– Я говорил, что не надо принимать в отряд французов, – яростно выкрикнул Габриэль. – Не послушали меня, а теперь за чужое решение я должен отвечать.
– Почему только ты, Габриэль, мы все заняты решением этого вопроса, – возразила Алиса.
– Ликвидировать его надо, и тогда все вопросы будут сняты, – встрял Фёдор.
Я запротестовал, но меня никто не поддержал. (Вероятно, все ждали слов Фёдора, но боялись высказаться первыми.) Тогда я предложил опросить всех членов отряда, и участники разговора согласились.
После опроса оказалось, что почти все высказались за предложение Фёдора. За исключением Франсуа, который не хотел в этом участвовать, считая, что это дело русских.
Узнав о таком результате, и я дал согласие.
Павел заколол итальянца ножом.
Тот мой малодушный поступок мучает меня до сих пор. Ведь дальнейшая деятельность отряда показала, что стоило нам перебазироваться километров за 50, и никакое предательство итальянца, если бы даже оно произошло, нам было бы не страшно.
Году в 1962-м на встрече у меня в московской квартире Алиса, Валерий и я обсуждали этот вопрос. Алиса согласилась, что мы поступили ошибочно. Она призналась, что в центре ее ругали за это. А Валерий считал, что все было сделано верно.
Вот так тяжело, с трудно решаемыми проблемами, начиналось становление нашего отряда. Впрочем, это были цветочки, а ягодки ждали впереди.
После этих событий в отряд пришел местный батрак – серб Пента, невысокого роста, лет пятидесяти, и еще нам прислали из Парижа «на исправление», как выразилась Алиса, одного ворюгу родом из Ленинграда. Он был пристроен где-то в системе парижского Сопротивления, но не раз его уличали в воровстве, и, во избежание неприятностей, руководство решило направить его к нам.
Что касается Пенты, то позже, когда отряд начал регулярные боевые операции, мы иногда брали его с собой, но его солдатские качества оставляли желать лучшего, и мы назначили его поваром. Он обрадовался и неплохо справлялся со своими обязанностями. А ворюга-ленинградец (имени его я не запомнил) сразу примкнул к группе Фёдора – Габриэля, они умели подбирать кадры.
По возвращении с нашей первой операции у меня состоялся разговор с Алисой. Я признался, как тяжело пережил убийство немца, у которого было пятеро детей, и попросил ее разрешить мне участие только в железнодорожных диверсиях и в открытых боях. Присутствовавший Валерий посмеивался и называл меня «гнилым интелентом». Именно «интелентом». Он не выговаривал тогда слово «интеллигент».
Алиса внимательно выслушала меня и сказала:
– Нас мало, их много. Значит, ни о каком бескровном бое речи быть не может – и в дальнейшем мы будем применять засады и диверсии. Ты жалеешь этого немца, а он бы тебя пожалел? У тебя тоже двое детей. Вспомни, что они делали на твоей родине с матерями и детьми. Как вспомнишь – вся твоя жалость испарится. Понимаю, что может быть именно тот солдат не был фашистом, но на войне это не играет роли – врага нужно уничтожать. Ты должен превозмочь себя.
Она была права, и вскоре я привык к партизанским методам борьбы.
Почти месяц мы бездействовали, но за это время Алиса организовала «маки́» из местной молодёжи. Отряд был назван «Франс д’абор» («Франция – прежде всего»). Вместе с его командиром мы позже провели две успешные операции, а для начала отдали им один трофейный карабин, они тоже были плохо вооружены. Против его передачи, как всегда, возражал Фёдор, который и в руки-то оружие взять боялся. Пытаясь оправдать свое нежелание воевать, он выдвинул два, как ему казалось, очень правильных тезиса.
Первый звучал так: советское правительство не давало мне указаний сражаться на территории Франции вместе с французами и под их руководством против немцев. Поэтому я лично стрелять в немецких солдат не стану.
Второй: всем известно, что за каждого убитого немца расстреливают от десяти до пятидесяти заложников. Значит, своими операциями мы будем ставить к стенке десятки и сотни французов. Они нас за это не поблагодарят.
На вопрос, что же он предлагает, Фёдор ответил:
– Надо найти пути и запросить советское правительство, что нам делать в ситуации, в которой мы оказались.
– Хорошенькое дело – сидеть сложа руки, а кто же кормить нас будет? – спросили мы.
– Будем подрабатывать у крестьян, – нашёлся он.
Фёдора поддержали Яков, Иван, Григорий-калужанин и ворюга. Габриэль колебался. Он понимал, что это самоликвидация отряда, и вину за это могут возложить на него как командира. Спору не давала разгореться Алиса. Она заявила, что вынуждена будет сообщить в центр, что в только что созданном отряде имени Парижской Коммуны завелись нездоровые настроения.
Фёдор прикусил язык.
В конце мая я узнал от Валерия, что он сошелся с Алисой. Я удивился его вкусу, но обрадовался тому, что теперь у нас будет крепкий контакт с начальством.
После отъезда Алисы мы заставили Габриэля собрать штаб.
На заседании распределили обязанности: Габриэль – общее руководство, Валерий – разведка, я – политработа и вооружение. Приняли решение провести две боевые операции: засаду на шоссе и добычу железнодорожного инструмента для диверсии. Необходимо было разведать для её проведения на железной дороге подходящее место.
Когда эти вопросы вынесли на собрание отряда, опять начался раздор.
Фёдор кричал: никаких операций – только разведка для будущих операций после получения разрешения от нашего правительства. Габриэль где-то принял на грудь для храбрости и в состоянии алкогольной бодрости поддержал Фёдора. На наше замечание, что Алиса дала указание немедленно начинать боевые действия, он заявил:
– А что мне Алиса! Если эта проститутка ещё раз появится в лесу, я пристрелю её, как собаку. Мы – русские и иностранцам подчиняться не должны. Я знаю, что такое война. Я летчик-штурмовик и сделал 1700 (?!) боевых вылетов. Не ей меня учить…
Тем не менее обсуждение продолжилось, и после всех споров мы всё же создали две группы: одну для засады, а другую для разведки и добывания инструмента.
В первую группу вошли я, Валерий, Григорий-украинец, Костя-ленинградец, Николай-коми (Николай-2) и Франсуа. Желающих было больше. Хотели пойти Костя-рыжий (тамбовский), Алексей-калининский, Николай-белорус (Николай-1), Павел и Гриша. Но их пришлось оставить, чтобы не натворил чего-нибудь Фёдор. С Гришей, Костей и Алексеем мы с Валерием поговорили серьезно и предупредили, чтобы они не давали Фёдору развернуться и дожидались нас.
Яшку я звал с нами, но он отказался. Я понял, что мы с ним разошлись окончательно.
Так во второй группе, кроме перечисленных, оказались ещё Габриэль, Фёдор, Григорий-калужанин, Яшка, Иван Недвига, ворюга-ленинградец, Пента и Николай-ленинградец (Николай-3).
Место операции нашей группы мы с Валерием решили засекретить, уж очень не доверяли мы Фёдору, поэтому сказали, что идем на дорогу № 474 из Гре, а выбрали совсем другое место.
Вторая группа должна была провести разведку железной дороги, достать торцевые ключи, ломы, кирки и простые гаечные ключи.
Мы уже знали, что рельсы крепятся к шпалам не костылями, а болтами. Шпалы были металлические.
Ждать нас должны были в лесу, выставив пост на опушке, у дороги из леса в деревушку Марбе.
Вооружение нашей группы – автомат с 15 патронами, карабин, пистолет и одна граната.
Той группе отдали автомат с двумя магазинами, гранату и карабин.
В ночь на третье июня мы разошлись. Мы были настроены по-боевому, а вот Фёдор с Габриэлем уходили как по принуждению.
До места операции было недалеко, и мы не торопились, рассчитывая 5 июня прийти туда, а после операции, 6 или 7 июня, встретиться с основной группой. Мы не пошли целиной, а свернули на дорогу, идущую от моста около Монтюрё вдоль реки Соны. Шли по обочинам, в две колонны по три человека. Впервые я спал на ходу. Спали Валерий и все ребята. Шли и спали, а мозг не дремал, нас сторожил. Мы ни разу не свалились в кювет, а наоборот, сталкивались с Валерием на середине шоссе.
По дороге запаслись едой из деревенских подвалов. Перекусив, двинулись берегом ручейка прямо на юг. На рассвете углубились в лес и через некоторое время пересекли дорогу около деревни. На дневку остановились в лесу. После 4-часового сна несколько человек отправили в разведку для выбора места засады на дороге № 19. Другую группу людей направили в деревни Шарже и Арпан для добычи съестного.
Я, Франсуа и Григорий пошли на дорогу, а Валерий, Костя и Николай-2 – по деревням.
К вечеру мы вернулись с задания. Обсудили увиденное. Лучшее место, по нашему мнению, было на «пупе» – в конце подъема дороги от Комбфонтен между дорогами, ведущими с дороги № 19 к деревне Невель-ле-Вуазе.
Выбранное место было удобным для нападения на идущую из Пор-сюр-Сон машину. На северной стороне дороги – кустарник, за ним поляна и лес, дальше подъём в гору, а на южной стороне – лес со склоном вниз, на юг.
Поздно вечером Валерий пошёл с ребятами в деревню, а мы плотно поужинали принесенными ими продуктами: окороком, вином и фруктовыми консервами.
Рано утром, тщательно осмотрев позиции и наметив пути отхода, мы залегли в кустах, решив ждать машину из Комбфонтена.
К полудню пошёл дождь. Мы насквозь промокли и, чтобы согреться, пустились здесь же в кустах в пляс. При звуках мотора мы ложились на землю и замирали.
Оружие распределили так: Григорий – винтовка, Франсуа – автомат, Валерий – пистолет, у меня – граната. Принцип распределения был таков: мы с Валерием уже стреляли, значит, надо дать пострелять и другим. Задача Григория – «снять» шофёра. Франсуа должен экономно израсходовать свои 15 патронов. На шоссе выбегать только после того, как все немцы будут убиты.
В ожидании нужного нам авто мы пропустили одну, другую, третью машину, потом еще несколько. Но всё это было не то. Они везли грузы. А нам нужна машина с солдатами. И она, наконец, появилась, прервав своим рёвом очередную нашу пляску в кустах. Грузовик медленно поднимался по дороге. Мы залегли и, напряжённо уставившись на него, стали изучать содержимое широкого тупорылого грузовика с двумя прицепами. В кузове и прицепах лежали катушки кабеля. Солдаты расположились в кабине шофёра и на катушках. На них были черные плащи, на шеях болтались автоматы. Был полдень.
Григорий выстрелил и сразу снял шофера, но машина ещё проехала мимо нас метров пятнадцать и только тогда, фыркнув, заглохла и остановилась. Пока она проезжала мимо, Григорий выстрелил ещё три раза, а Франсуа дал очередь из автомата. Немцы буквально свалились с катушек, и вот тут случилось непоправимое. В горячке боя мы забыли, что выбегать нельзя, а Франсуа был уже на шоссе и бежал к грузовику, за ним вскочили я и Григорий. Григорий с колена продолжал стрелять, Всё это произошло в считаные секунды. Но, не дав нам прийти в себя, заговорили немецкие автоматы. Я и Франсуа оказались в противоположном кювете. С той стороны что-то кричал Валерий, но мы не могли поднять голову – пули свистели над нами беспрерывно, ведь патронов у немцев было предостаточно. Франсуа дал маленькую очередь, и его оружие умолкло – кончились боеприпасы.
Ситуация драматичная. Стоит появиться ещё одной машине, и нам конец. Я вынул гранату и пополз к грузовику. Высокая трава в кювете скрывала меня. Казалось, я ползу вечность. Но не успел я приблизиться, как заработал мотор и грузовик, набирая скорость, начал уходить. Я и Франсуа выбежали на шоссе, с той стороны выбежал Валерий, а больше никого не было. Где остальные? Мы огляделись и увидели на обочине в естественной позе – на коленях – Григория. Он уткнулся головой в землю, винтовка валялась рядом. Мы подняли его голову. Пулевое отверстие в переносице, Григорий был мертв. Мы взвалили на плечи его тело и понесли к лесу. Кости и Николая-2 не было видно. Мы донесли тяжелое обмякшее тело друга до опушки и, замаскировав его в густом кустарнике, бегом бросились в лес к условленному месту встречи.
По дороге увидели дровосеков и приказали им молчать о том, что они видели нас. Минут через пятнадцать бега из-за кустов вынырнули Костя и Николай-2.
Валерий закричал на них: «Трусы, где вы были?»
Выяснили: они испугались первых же выстрелов немцев. Решив, что с нами покончено, они драпанули в лес.
– Вы ещё заплатите за это, – крикнул Валерий. – Григорий убит.
Мы продолжали бежать, но уже не на условленное место, а дальше на север. Надо было выйти из возможной зоны преследования и окружения.
Остановились в кустах на берегу ручья. До ближайшей деревни было не более полутора километров. Кусты и высокая трава хорошо скрывали нас, и мы искупались.
Настроение отвратительное: операция не удалась и опять потеря. Под влиянием этого настроения мы ругали Костю и Николая за трусость. Они оправдывались тем, что были без оружия. Валерий грозился поставить вопрос на собрании отряда, но я его унял, напомнив, что Фёдор тогда заберёт и этих ребят – они не очень тверды духом.
Ребята клялись и божились, что больше такого не случится и что они готовы пойти на самое опасное задание, но только с оружием.
Вскоре я поймал их на слове, но об этом в своё время.
Пока мы спорили и ругались, Франсуа сидел, понурив голову. И вдруг он заплакал навзрыд.
– Это я виноват в смерти Григория, я первый выбежал на шоссе. Вы должны меня расстрелять за это, – сквозь рыдания почти кричал он.
И тут мы стали восстанавливать картину короткого, но такого неудачного для нас боя. Да, верно, Гриша продолжал посылать пулю за пулей в широченную кабину, а Франсуа, дав короткую очередь по кабине и по сидевшему на первой катушке немцу, выбежал на шоссе. За ним бросились и мы. Получалось, что Франсуа виноват в смерти Григория. Но ведь он дрался, стрелял и первый рисковал, выбежав на шоссе.
Валерий сказал ему:
– Я старший группы. Ты, Франсуа, нарушил мой приказ, за это тебя следует наказать – но расстреливать тебя нельзя. Ты не струсил, ты сам рисковал, выскочив первым на шоссе, но ведь и мы все тоже выскочили. В горячке боя чего не бывает, так что ты не напрашивайся на расстрел. Костя с Николаем хуже поступили, в армии за это расстреляли бы, но мы это просто запомним.
Франсуа был в истерике. Виною были, очевидно, и смерть Гриши, и горячка боя, и страх перед возможным прибытием подкрепления. Мы заставили его искупаться, и он затих.
Было 5–6 часов пополудни. Хотелось есть. Но показываться на людях никак нельзя. Молча лежали мы в кустах и наблюдали за дорогой, проходящей через две расположенные рядом деревни. Ничего подозрительного.
Когда стемнело, решили уходить, но Валерий повёл не в условленное место, где с завтрашнего дня должны быть посты группы Габриэля, а в Венизи – он рвался к Алисе. Я не возражал, а ребятам было всё равно – каждый переживал свой поступок.
Рано утром 6 июня мы уже были на старой стоянке лагеря, и Валерий пошёл к мадам Жако за Алисой.
Он пришел с ней и принес еду. Лицо его сияло.
– Ребята, машина пришла в деревню полная трупов. В кабине прятались от дождя 8 человек – все убиты, последним умер тот, кто довёл машину. Застрелен солдат, сидевший на катушке…
– А ты откуда знаешь?..
– Ребятки, вы молодцы. Известия точные, их сообщили наши товарищи, – сказала Алиса.
Мы ликовали, только Костя с Николаем были мрачны.
Алиса отчитала их и Франсуа.
– А Григорий – герой, он выстрелил по кабине несколько раз, и каждая его пуля – один убитый немец, – сказала она. – Франсуа тоже молодец, его очередь довершила дело. Ладно, забудем всё плохое, операция удачная. Вы победители, а победителей не судят (через несколько дней Алиса привезла в отряд подпольную газету «Юманите». В ней было написано: «Наш отряд им. Парижской Коммуны на шоссе обстрелял немецкую машину. В завязавшейся перестрелке убито девять фашистов»).
Алиса на 3–4 дня уезжала в Париж, но она ничего не знала о второй группе. И мы решили той же ночью двинуться на условленные места, чтобы узнать, как дела у наших товарищей.
Валерий пошел проводить Алису, а мы, распив пару бутылок вина и плотно поев, заснули мертвым сном.
Вечером отправились в путь-дорогу. Деревни мы, конечно, огибали, хоть немцев там и не было, но лучше, если никто нас не увидит. Хождение вне дорог причиняло нам большие неприятности: крестьяне огораживают свои наделы колючей проволокой, внутри наделов пастбище отделяется от посевов тоже колючей проволокой. И нам постоянно приходилось то перелезать через проволоку, то подлезать под неё. Во время таких переходов мы нещадно рвали свою одежду и долгое время ходили как оборванцы. От Бужи мы пошли опушкой леса по росистой траве и часам к двум были у Марле. Поста не было. Мы прождали до утра – никого. Оставив Франсуа и Николая-2, втроём стали прочёсывать лес Шерлиен. Часам к двум дня обнаружили стоянку второй половины отряда. Они нас не заметили, и мы наблюдали за ними из-за кустов. Костю послали за Франсуа и Николаем-2. С час мы дожидались их и смотрели. Больше половины группы спало. Бодрствовали Костик, Гриша, Пента, Алексей, Николай Тимофеев (Николай-3). Кругом валялись бутылки из-под вина и спирта, стеклянные банки из-под мясных консервов, бумага, окурки. Группа стояла здесь уже несколько дней. Но железнодорожного инструмента нигде не было видно.
Когда подошли Франсуа, Николай и Костя, мы посоветовались и приняли решение: если группа ничего не сделала, а только пьянствовала, то заберём у них оружие, позовём того, кто захочет идти с нами, и уйдем.
Нам удалось отозвать тихонько Костика и Алексея. И вот что ребята поведали нам: как пришли они на это место, так никуда отсюда и не уходили. Но отличились: ограбили церковь и к тому же нагадили там. Ограбили дом – хозяев там не было. Связались с какими-то сомнительными женщинами. Пьют там, пьют здесь. Не участвуют в этих делах только четверо: Костик, Алексей, Гриша, Пента. Особую активность проявляют ворюга, Павел, Григорий-калужанин. Фёдор молчит, ни в каких грязных делах не участвует и не пьёт, всё время лежит в лесу, никуда не выходит, разговаривает только с Габриэлем, который тоже никуда не выходит, но круглые сутки пьян.
Картина прояснилась. После того как Костик и Алексей незаметно вернулись в группу, мы вышли из засады, и Валерий своим громким голосом поздоровался:
– Здорово, друзья!
Те с перепугу вскочили на ноги и уставились на нас сонными глазами.
– Что же вы пост не выставили? Мы вас целый день искали.
– А зачем пост, если вы и так нас нашли, – сказал, не поворачивая головы, Габриэль.
– Ну ладно, дайте пожрать, а потом поговорим.
Ворюга угодливо подал нам жареную индейку, хлеб и несколько бутылок вина. Пока мы ели, Габриэль, Фёдор и Григорий отошли в сторонку и стали совещаться. На наше счастье, у кустов оказался Алексей. Он слышал, как эта троица решила ночью прикончить меня и Валерия, поручив это дело Павлу.
Алексей шёпотом рассказал Валерию, тот мне. Я, взяв у Николая Северина (Николая-2) автомат, проверил его, передернув затвор, отругал за то, что оружие не вычищено. Вынув магазин с патронами, я отдал его на чистку Алексею. Григорий карабина не отдал, и я решил сесть с ним рядом, чтобы по сигналу Валерия отобрать у него оружие.
Габриэль сказал:
– Ну расскажи, Валерий, как потеряли Григория!
Кто-то уже рассказал Габриэлю об операции. Позже мы узнали, что это сделал Костя-ленинградец. Он всё время вёл двойную игру.
Валерий начал рассказывать подробно о проведённой операции, и, когда дошёл до итогов, Фёдор заскрипел:
– Откуда ты знаешь, что убито девять немцев, если машина ушла?
– Алиса вчера рассказала.
– Ну эта сука соврёт – не дорого возьмёт, – вклинился Григорий.
– А вы что сделали за это время? – переменил я тему. – Достали инструмент?
– А кому он нужен, – с кривой усмешкой ответил Габриэль. – Мы пытаемся связаться с нашим правительством и будем делать то, что оно нам прикажет.
– А пока грабите церкви и пустые дома, пьёте, гуляете с проститутками. А ну руки вверх! – Валерий щелкнул затвором. Передернул затвор и Алексей, которому я успел передать магазин.
Я бросился к Григорию, вырвал у него карабин и подошёл к Валерию.
– Кто хочет сражаться с фашистами, становись рядом с нами! – скомандовал Валерий.
Наступила пауза. Но она не была продолжительной. К Валерию подошли Костик, Гриша, Пента и Николай-2.
– А нас что, расстреляете? – трясущимися губами проговорил ворюга.
– Нет, но расскажем о ваших делах.
– Яшка, иди сюда, – крикнул я.
– Да иди ты к чёрту, – ответил мне Яков. На призыв Валерия не откликнулся и Иван Недвига.
– У кого граната? – спросил я.
– У меня, – проговорил Гриша.
– Прощайте, бандюги! – крикнул Валерий, и мы хотели уйти, но тут взорвался Габриэль:
– Это бунт, вы хотите нас убрать! Я сейчас же пойду к Алисе.
И он зачем-то стал переодевать рубашку.
– Иди куда хочешь. Убивать мы вас не собирались, – ответил я.
Вместе с Валерием и мной тогда ушли Алексей Васильев, Костя Костиков, Костя-ленинградский, Николай-коми, Николай-ленинградский, Гриша Щербаков, Франсуа и Пента. В другой команде оказались Фёдор Рубель, Габриэль, Григорий-калужанин, Иван Недвига, Яков Конфедерат, Павел Чехобадзе, Николай Северин и ворюга.
Отряд раскололся почти пополам. Но в качественном отношении это были неравноценные группы: в нашей – ребята, желающие драться с немцами, в группе Фёдора – Габриэля остались желающие отсидеться в тёплом местечке до конца войны или колеблющиеся, не решившиеся порвать со своими приятелями. Колеблющихся там было двое – Павел и Николай, позже присоединившиеся к нам.
37
Разгорячённые событиями, мы зашагали в район Венизи. Железную дорогу и шоссе пересекли, когда стемнело, и заночевали на чердаке сарая, около которого когда-то произошла первая встреча с группой Габриэля.
Зарывшись в сено, ребята быстро заснули, а мы с Валерием долго обсуждали содержание рапорта, который собирались написать Алисе. Проговорили до зари и, поскольку спать не хотелось, решили написать рапорт о делах и событиях, предшествовавших расколу. Конечно, мы излагали без рассуждений и выводов, приводили только голые факты и обвиняли во всем Фёдора и Габриэля. Не думали, что начальство может рассудить иначе – дескать, обе стороны виноваты. Такие рассуждения могли прийти нам в голову только в мирные дни, а во время войны суждения и выводы всегда более категоричны: кто бьет врага, тот прав, а кто уклоняется от борьбы… Тут наши позиции с Валерием были едины и крепки. За нами были уже две боевые операции, мы жаждали мести и крови врага, стремились уговорить всех сотоварищей не уклоняться от борьбы с фашистами. Кто прав (и в какой степени), кто виноват (и в какой мере) – так вопрос для нас тогда не стоял. Нам было абсолютно ясно – правы мы, виноваты – они (Фёдор и компания).
Рапорт занял не более двух исписанных мелким почерком листов из тетради, которые мы должны были передать Алисе. А её надо было ещё найти. И за это взялся Валерий. То ли он знал, когда и куда она должна приехать, то ли у них это было предварительно оговорено.
В 1964 году Алиса приезжала в Советский Союз и вместе с Валерием была у меня в гостях. Тогда же я услышал от Валерия несколько иное мнение, которое сводилось к тому, что, мол, конфликт можно было уладить без суда и последовавшей позже казни. Алиса возражала ему, и я понял, что этот разговор был продолжением их спора в те бурные военные дни. Обсуждали они тогда те события без меня. В свете разговора 1964 года и воспоминаний о событиях двадцатилетней давности я пришел к выводу, что в июне 1944 года Алиса и Валерий вели себя по отношению ко мне, как бы это сказать… с некоторой двусмысленностью. Но об этом позже.
…На следующий день после разделения нашего отряда Валерий, взяв пистолет и гранату, ушел искать Алису, пообещав принести нам еду. Пока он отсутствовал, мы привели в порядок оружие и, все еще разгоряченные, обсуждали случившееся. Нервное напряжение помогало нам бороться с голодом, вернее, голод не так остро чувствовался.
Часа в четыре пополудни пришли Валерий и Алиса. Валерий принес мешок с продуктами, и мы, поздоровавшись с Алисой, набросились на еду. Только когда наелись, Алиса начала разговор. Выслушав нас, она одобрила разделение отряда и то, что мы забрали всё оружие. Ведь оставшиеся могли бы заняться грабежом, а то и применить винтовки и автоматы против нас. Алиса так и сказала: Валерий и Алёша могли бы проститься с жизнью.
О положении в нашем отряде Алиса обещала доложить руководству в Париже. Нам она посоветовала не сидеть сложа руки, а действовать. Рассказала, что за время нашего отсутствия ей удалось сколотить группу местной молодежи в маленький отряд, который они назвали «Франс д’абор» («Франция – прежде всего»). Сегодня вечером она вместе со мной и Валерием должна быть на переговорах с руководством нового отряда. Беседа с Алисой затянулась дотемна и ещё больше сплотила нашу крошечную группу на боевые дела.
Мы решили перебазироваться из сарая в лесок юго-восточнее Венизи. Оттуда можно было наблюдать окружающую местность.
Когда мы собрались уйти на новую базу, рядом с сараем вдруг послышались шаги. Мы замерли. Одновременно с возгласом Валерия «Кто идет?» щелкнули затворы наших автоматов и винтовок. Все упали на землю. В ответ послышался голос Николая Северина:
– Это мы с Павлом. Не стреляйте.
Пока все приходили в себя, поднимались и отряхивались от пыли, Павел и Николай подошли и сказали, что, оставшись в той группе, они сильно ошиблись. Хотят драться с фашистами, а не заниматься грабежами, просят простить их и принять в свою группу.
Их появление обрадовало нас и вселило ещё бо́льшую уверенность в правоте наших действий.
Конечно, мы их простили и даже хотели накормить, поделившись своими небогатыми запасами, но они есть отказались и принесли из кустов мешок с продуктами, который прихватили с собой, покидая ту группу.
– Там полно жратвы, а вы, наверно, как всегда, голодаете, вот мы и решили… – сказал Николай.
– А что же другие не пришли с вами? Яков чего не пришел? – спросил я.
– Мы говорили только с Яковом и Иваном, да и то намеками, но они не разделяли нашего мнения. И мы не решились сказать им, что уходим. Да они и не пошли бы с нами. Как и Фёдор, они в руки винтовку взять боятся.
Все вместе мы перебрались в лесок. Из ближних копешек, стоявших на поляне, аккуратно, чтобы было не очень заметно, натаскали сена. Затем, выставив двух часовых, которые ходили вкруговую по опушке, все легли спать, а мы – Алиса, Валерий и я – пошли на встречу с руководителями французского отряда.
Накрапывал дождичек, перешедший вскоре в грозовой ливень. Было неприятно идти по мокрой траве, приходилось уклоняться от отяжелевших мокрых ветвей деревьев, надо было обходить быстро образовавшиеся лужи. Дождь напомнил нам о необходимости организации в лесу самого примитивного комфорта. Ведь до сих пор мы спали под открытым небом, подстелив сено либо сухие листья.
Прежде всего, мы решили раздобыть брезент для шатра. Придется попросить его сегодня у французов, а если не дадут, то надо будет стащить где-нибудь в деревне.
Я почему-то не помню подробностей совещания, не помню, кто представлял французов, не могу назвать ни имени, ни фамилии командира «Франс д’абор». Помню только, что французы пообещали нам принести торцевые ключи для отвинчивания болтов, крепящих рельсы к шпалам, и гаечные ключи для отвинчивания гаек с накладок, соединяющих рельсы между собой. Несколько французов пожелали идти с нами на операцию. Её мы запланировали на 11 июня. На французов была возложена задача: узнать точное время прохода воинского эшелона. (Не дай бог пустить под откос пассажирский поезд!)
Когда мы возвращались в лес, дождя уже не было. Где-то на краю деревни мы остановились, услышав тоненький кошачий писк. Я нагнулся и увидел маленького черно-белого котёнка, такого маленького, что он не мог перепрыгнуть лужицу в оставленном человеком следе. Я взял это существо за шиворот и сунул за пазуху. Он был мокрый, дрожал. А вскоре, согревшись, успокоился и тихо замурлыкал.
Не предполагал я, что через несколько месяцев этот котёнок сыграет роковую роль в моей жизни. Из-за него я чуть не попал под фашистскую пулю.
Валерий нес тяжелый брезент, подаренный нам французами, и зло высмеивал меня за «телячьи нежности». Алиса молчала.
Ребята обрадовались предстоящему делу, но котёнка все категорически не восприняли.
Той ночью, прижавшись друг к другу, все крепко спали. А у меня под мышкой нежно урчал котёнок Васька. Наутро он завоевал себе право на жизнь в нашем отряде. Проснувшись и сладко потягиваясь, он на глазах у всех сошёл с брезента и, сделав своё дело, потряхивая мокрыми от росы лапками, вернулся ко мне. Эта кошачья аккуратность и преданность растопили ребячьи сердца. Васька единогласно был принят в отряд «рядовым партизаном».
38
На другой день к вечеру французы принесли нам один торцевой ключ и два гаечных.
Мы, конечно, понимали, что работа с ключами – это, по сравнению с взрывчаткой, абсолютный примитив. Прежде всего, подготовка диверсии занимает гораздо больше времени, а случайный удар по рельсу, даже легкий, порождает далеко слышимый звук. По путям-то ходят часовые, которых можно не заметить, и любой звук, тем более металлический, вызовет у них настороженность. Но делать нечего: взрывчатки нет и не будет. Де Голль из Лондона посылал оружие своим единомышленникам, а не коммунистам. А уж нам, русским, тем более не пришлёт. Так что надо воевать тем, что под рукой.
Мы очень тщательно готовились к предстоящему выходу на железную дорогу. Ведь это была первая такая операция и третья на моём счету и счету с таким трудом создаваемого отряда. Предстояло решить некоторые технические вопросы. Прежде всего: устроить крушение на спуске или на подъеме (в начале подъема, где поезд имеет максимальную скорость, и его непременно завалит на соседний путь).
Все были за то, чтобы пускать под откос – весь, до единого вагончика, полетит к чертовой матери, говорил Валерий.
Большого труда мне стоило убедить в неэффективности такого крушения в военное время.
Спуск поезда под откос, говорил я, эффектное зрелище, но не эффективное. Слетит, конечно, весь поезд, а не 5—10 вагонов, но через 3–4 часа путь будет восстановлен, а соседний останется неповрежденным, и движение по дороге вскоре возобновится. Я настаивал, что важнее прервать движение на несколько суток, чтобы военные грузы поступали на фронт с задержкой, а может, и совсем не доходили, чем пустить под откос один состав, не нарушив движения.
Спорили долго, предлагали даже разобрать оба пути и унести рельсы, но это не могло задержать движения – ремонтники быстро подвезут запасные.
Почему спорили? Всем хотелось увидеть в жизни, а не в кино, как летит под откос поезд. Уж больно красивое зрелище. Но в итоге победил разум. Решили устроить диверсию в начале подъема, в овраге, и завалить эшелон на соседний путь. Попробуй, растащи-ка все вагоны быстро!
Дорога, таким образом, парализовывалась суток на восемь, и поезда вынуждены были бы искать обходные пути, ломая все графики, запаздывая и создавая хаос.
Я не слышал, чтобы какой-либо другой отряд применял подобный метод, – все просто пускали составы под откос. Но у нас согласились с другим вариантом.
Следующий вопрос. Отвинчивать ли всю часть рельса и уносить его или отвинтить с десяток шпал и развести рельсы? Приняли второй вариант как более экономичный по времени. Сколько шпал отвинтить, это надо решать на месте. Концы отвинченного и отсоединенного от другого рельса решено было отводить в сторону соседнего пути, а чтобы отведенный конец не вставал обратно, между концами отвинченного и не отвинченного рельса решили закладывать отвинченную соединительную прокладку.
Таким образом, локомотив, сойдя с рельс, должен был врезаться в соседний путь, разрушить его, а вагоны, налезая друг на друга, создавали бы завал, на расчистку которого потребуется специальная техника, много рабочей силы и времени. Подробно обсудив вопрос, мы принялись искать подходящее место. Французы подсказали нам, где есть такой участок. Днем мы с Валерием и командиром французского отряда посмотрели это место, стараясь не показываться на глаза. Место было хорошее, высота от железнодорожного полотна до верха составляла шесть-семь метров. Один только недостаток – операция проводилась бы рядом с расположением нашего отряда. Французский отряд пока существовал только на бумаге, и будущие «макизары» спали в постелях. Рассчитывать на удалённое от отряда место не приходилось – кто будет узнавать и сообщать нам время прохода воинского эшелона? А заводить новые связи – терять время.
К вечеру все начали волноваться. Мне это было знакомо по спортивным состязаниям. Не волновался, пожалуй, только Алексей Васильев из Калининской области – парень атлетического сложения, ростом под 180 сантиметров. Его голубые глаза были спокойны. Как обычно, он молчал (остальные стали говорить больше и громче, чем всегда), не острил (все старались пошутить), в общем, не беспокоился. В сумерки мы двинулись в путь и к месту назначения (недалеко от маленького поселения Миевиллер) пришли за два часа до подхода поезда. По данным французов, состав должен был пройти здесь около часа ночи. Так что операцию надо провести в ночь с 11 на 12 июня 1944 года.
Все собрались и залегли сверху справа по ходу поезда на Париж. Ждали велосипедиста, который должен был привезти со станции Монтюрё последнее сообщение о передвижении обречённого поезда. Примерно в 23.30 он появился и сказал, что воинский эшелон с танками и артиллерией должен пройти в Монтюрё в 00.45.
Заранее назначенные «саперы» во главе с Николаем Севериным – всего четверо – спустились к рельсам и начали откручивать болты и гайки. (Николай Северин служил в саперных частях, поэтому его назначили «главным диверсантом».) Одновременно с этой группой вниз спустились: справа я с автоматом, слева Валерий с автоматом. Мы отошли каждый метров на 100 от группы Николая и легли на пути, прислушиваясь. Это было боевое охранение. Наверху рассредоточивались с винтовками и гранатами остальные члены нашей группы и три француза. С Николаем были Алексей, Костик и Павел. Ночь прохладная, но у меня спина была мокрая от пота, и нервное напряжение усиливалось по мере нарастания звуков со стороны группы Северина – ребята тоже спешили и работали неосторожно. Сколько времени прошло? С полчаса, когда послышался легкий посвист Николая. Я и Валерий ответили и пошли с разных сторон к саперам «принимать работу».
– Восемь отвинченных шпал плюс переведенный и переложенный прокладкой рельс, – отрапортовал Николай.
Действительно, оба рельса на месте, оба переведены влево. Машинист не успеет заметить диверсии, а если вынуть рельс, то издалека под светом паровозного фонаря он увидит его отсутствие.
Осмотрев всё ещё раз, собрав болты и гайки и побросав их в кювет, мы поднялись наверх. Там нас ждали с нетерпением.
– Ну как?
– Во! – Валерий показал большой палец. Хотя ночь была темная, и пальца никто не видел, но все его ясно представили.
Шёл первый час ночи 12 июня. Мы залегли и стали ждать. Сердце учащённо билось: что-то будет?! Ведь такая операция для всех нас первая в жизни. Как она пройдет? 00.30… 00.40… Вдали мелькнули огни поезда. Ближе, ближе, видны летящие из трубы искры, а сердце стучит сильней и сильней, так сильно, что начинаешь задыхаться.
Вот он перед нами, мчащийся на большой скорости локомотив, вот он движется по месту развода и… проходит мимо! Что это, чудо? Нет. Просто сотые и десятые секунды отстали от галопирующего сознания.
Нет же!!! Он не прошел, этот локомотив.
Скрежет, резкое падение скорости – и локомотив заваливается на левую сторону, на соседний путь, и даже дальше – в кювет. Вагоны, словно сбесившись, лезут на локомотив и друг на друга. Треск, грохот, пламя локомотива, возникшие фигурки немецких солдат, далеко слева внизу свет ручных фонариков.
Мы пляшем наверху и орём, как сумасшедшие, минуты две, а потом, будто по команде, замолкаем и смотрим вниз. В темноте различаются силуэты танков и стволов орудий. Все это перевернуто и в большой куче. Уцелевшие немецкие солдаты и офицеры ищут раненых и убитых.
По команде Валерия мы открываем огонь по этим кучкам людей с фонариками и бросаем гранаты.
Несколько минут стрельбы – и мы быстро отходим на восток, к своему лесу. Там, простившись с французами и забрав ключи, уходим на базу к коту Ваське и Пенте, который остался готовить завтрак.
Так закончилась наша первая диверсия на железной дороге.
Она оказалась удачной. Мы не узнали, сколько танков и орудий разбили, сколько погибло при этом солдат и офицеров, но были уверены, что много. А движение было прервано на целых 5 дней.
39
Утром 12 июня пришла из Венизи Алиса и от своего имени и от имени мадам Жако поздравила нас с успехом.
– Разбито более десяти вагонов (при проверке оказалось четыре. – Прим. авт.). Все танки и орудия сорвались и лежат опрокинутые на путях. Танки и орудия первых вагонов разбиты. Среди сопровождающих много убитых и раненых. Я только что приехала из Парижа, где докладывала военному руководству о положении в вашем отряде. Со мной приехал ответственный за пятый район товарищ Мариус. Сегодня мы с Валерием должны встретиться с ним. Алёша останется в отряде, поскольку после акции на железной дороге возможны карательные экспедиции немцев.
Алиса подсказала пути отхода в случае внезапного нападения карателей. Я принял все указания за чистую монету и после ухода Алисы и Валерия расставил на ночь посты и регулярно сам проверял их.
Какой же я был наивный! Я и не догадывался, что Алиса знала о решении военного командования о том, что Мариус, заручившись мнением руководителя интернациональных партизан югославского генерала Илича (псевдоним – Луи, позже он станет послом Югославии во Франции. – Прим. авт.), начнет радикальную чистку отряда с физическим устранением людей, разлагающих его. Она знала, что потом этот вопрос будет обсуждаться в высших инстанциях, в том числе в советских учреждениях. И неизвестно, куда в будущем подует ветер. Поэтому она решила вывести из-под возможного будущего удара Валерия и себя. «Козлом отпущения» должен был стать я. А я верил каждому её слову и точно выполнял все указания.
Валерий и Алиса вернулись под утро. Отозвав меня в сторону, Алиса сказала, что Мариус приказал разыскать группу, с которой мы расстались, и всех задержать. Он сам прибудет вместе с командиром отряда «Франс д’абор» и представителями деревень, которые пострадали от грабежей. Это будут судьи. Суд состоится на месте.
– Поскольку Мариус поручил мне и Валерию сегодня связаться с местным руководством французских внутренних войск, – продолжала Алиса, – мы не сможем быть здесь, и руководство по розыску группы Фёдора – Габриэля возлагается на тебя. Думаю, ты с честью выполнишь это задание. На суде, если тебя спросят, рассказывай всё, что вы с Валерием изложили в рапорте.
Валерий молчал. Было ли ему стыдно или нет? Вероятно, нет, его крестьянская психология защищала его от стыда. Своя рубашка ближе к телу. А я, дурак, опять ничего не понял! Не догадался, что будет на суде и почему уходят Валерий и Алиса. Не смекнул и позже, когда Валерий мне сказал: «Если Фёдора расстреляют, возьми его часы для меня». Мне была неприятна жадность Валерия, но я считал казнь Фёдора нормальным исходом и потому не обратил внимания на это поручение. А надо было задать Валерию вопрос: откуда он знает, что Фёдора могут расстрелять? Я не понял, что ему уже известны имена будущих жертв казни; не понял, что он участвовал в обсуждении кандидатов на тот свет, а позже не понял, что это он выгородил своего напарника Ивана Недвигу. Почему я не понял хитрой уловки Алисы? Потому что, как и сегодня, был уверен в правильности решения о казни людей, которые предали и разложили отряд, а также потому, что я во всем верил Алисе, и, наконец, потому что мы с Валерием поклялись быть друзьями и держаться друг друга в боях.
Наивняк и фанатик!
Хотя их хитрость не имела последствий даже на допросах в КГБ, после встречи с Алисой и Валерием в 1963 году у меня открылись глаза на их подлость по отношению ко мне. Окончательно меня убедил в этом Мариус. Но к этому я вернусь позже.
…Я разбудил всех ребят, и Алиса рассказала, какая задача стоит перед нами. Решили проводить Алису и Валерия, шедших на свидание с руководством французских внутренних войск нашего района, а вечером двинуться на поиск.
Группу мы нашли в районе лесного ручья. Они разлеглись на брезенте, кругом валялись пустые бутылки из-под вина и спирта, объедки. Ни часовых, ни охраны. Бери голыми руками. Когда мы подошли, они проснулись. Мы поздоровались, и я тут же послал Гришу в Монтиньи, где у мэра нас дожидался Мариус.
Вся группа сидела нахохлившись, молча. У Габриэля, Григория-калужанина и ворюги лица были опухшие. Вид Фёдора ужасен – похудевшее лицо было синим, как у вурдалака, и его «украшал» чирей на щеке. Фёдор громко кашлял. Место, выбранное для стоянки, было сырое, болотистое, и Фёдор, не пивший спиртного, сильно простудился. Остальные лечились спиртом. Все были на месте: Фёдор, Габриэль, Григорий, Иван, Яков, ворюга – они молчали и мы тоже.
– Что будете делать? – прервал молчание Габриэль. Видно было, что он начал волноваться.
– Сейчас прибудет Мариус, он скажет, что делать, – ответил я.
Мариус в сопровождении мэров Монтиньи, Жюсе́ и командира отряда «Франс д’абор» действительно скоро появился.
Поздоровался и начал говорить о том, что командование многого ожидало от отряда имени Парижской Коммуны, но на деле получилось иначе. Одна группа действительно воюет с фашистами, а другая занялась грабежами и пьянством.
– Я привёл с собой, – продолжал он, – мэров деревень, в которых совершались грабежи, и командира французского отряда. Поскольку грабежи совершены на французской земле, то и суд будет французский. Сейчас война, мы солдаты, – сказал он, – официального суда не может быть в условиях оккупации, да он и не нужен в войну. Будет судить военный трибунал в составе меня как председателя, а также мэра Жюсе, мэра Монтиньи и командира французского партизанского отряда. Суд будет по законам военного времени.
Вопрос ко всем русским. Кто ушёл с группой Валерия из этого леса, взяв всё оружие?
Подняли руки все пришедшие.
– Отойдите влево, – скомандовал Мариус.
– Кто принимал участие в грабежах – отойдите вправо.
Отошли все из той группы, за исключением Фёдора и Габриэля. Павел и Николай смотрели на меня.
– Вы грабили? – спросил я.
– Да, участвовали…
– Идите туда.
Мариус спросил, почему Павел и Николай перешли в группу грабителей. Я объяснил, что и почему. Он кивнул головой.
Обвинение было сформулировано примерно так: за отказ сражаться против германских фашистов, за развал отряда имени Парижской Коммуны, за бандитизм и связь с уголовным элементом предаются суду военного трибунала Габриэль, Фёдор, Григорий, Иван, Яков, Павел, Николай и ворюга.
Суд сразу же вынес оправдательный приговор Павлу и Николаю как раскаявшимся и участникам боевой операции на железной дороге. Они перешли в нашу группу.
Следующим был Габриэль.
Мариус хорошо понимал русский язык и немного говорил на нем.
Габриэль сказал, что в грабежах не принимал участия, грабить как командир запрещал и что хочет сражаться против фашистов, но сначала хотел бы переговорить с Алисой и мадам Жако.
Все члены его группы подтвердили, что он в грабежах не участвовал. Но Фёдор возразил на слова Габриэля, что тот хочет воевать с фашистами. Он сказал:
– Врёшь, Габриэль! Как и я, ты не хотел партизанить до указаний от советского правительства.
Тут они стали поливать друг друга грязью. Мариус внимательно слушал, не вступая в спор.
Потом были допрошены остальные. Я не удержался и шепнул Яшке:
– Когда я скажу, что звал тебя, ты ответь, что не расслышал.
– Я всё слышал и скрывать не буду, – ответил Яшка, мрачно исподлобья взглянув на меня.
Мариус услышал наш шёпот и резко одернул меня:
– Молчать!
Все, за исключением Фёдора, признались в участии в грабежах (Фёдор, конечно, не грабил – он жрал награбленное). Говорили, что не отказывались воевать, но только ждали распоряжения советского правительства.
Когда закончился допрос, Мариус вынул из кармана маленькую подпольную газетку «Юманите», и из сводки партизанских боев зачитал о нашей очередной операции на шоссе Комбфонтен-Пор-сюр-Сон, где погиб Григорий.
– Вот из этой газеты, которая направляется и в Москву, Сталин знает, что русские сражаются во Франции. Знает и одобряет. Где бы ни были советские люди, они должны всеми доступными им средствами бороться против гитлеровского фашизма. Отказ от борьбы – это измена Родине, партии, Сталину.
Мариус продолжал говорить, что он вначале сомневался в правдивости рапорта Валерия и Алёши, но, когда узнал, как сражаются под их руководством остальные ребята, понял, кто тут прав, а кто виноват. Слова всех обвиняемых подтвердили это.
– Можно было бы простить грабежи, но измену Родине простить нельзя.
К моему изумлению, после совещания судей был оправдан Габриэль. За Габриэлем шел Фёдор. Сначала по-русски, а затем по-французски Мариус обрисовал его как предателя, труса и инициатора разложения отряда.
Судьи посовещались и вынесли приговор:
– Смерть через удавление. На предателя по законам подполья пуля не расходуется, – сказал Мариус и, вынув из кармана припасенную удавку, протянул ее Габриэлю и Павлу. Они накинули ее на шею Фёдору и начали тянуть.
Последними словами Фёдора были:
– Я уверен, что прав. Умираю большевиком!
Что это, ложь до конца или шизофрения? Я так и не понял.
Габриэль и Павел тянули удавку, как вдруг Габриэль побледнел, задрожал и упал.
Мариус выругался и приказал взять конец мне. Я колебался.
– Ты большевик и командир, не имеешь права трусить!
Я взял верёвку и потянул. Фёдор уже потерял сознание. В это время очнулся Габриэль и почти вырвал у меня конец удавки из рук.
Мы все, как загипнотизированные, смотрели на эту средневековую казнь. Не менее шокированы были и судьи.
Потом командир французского отряда спросил меня:
– В России применяется такая казнь?
– Нет, – ответил я.
Смертный приговор был вынесен и Григорию, тот попытался бежать, но был подстрелен, и Гриша добил его.
Ворюга, услышав свой смертный приговор, заорал, как сумасшедший, и я впервые в жизни увидел, как у человека встали дыбом волосы.
По моей команде его расстреляли. Иван Недвига был оправдан. Я думал, что оправдают и Якова, начал уже радоваться. Мне всё-таки было жаль его. Но Мариус огласил смертный приговор и ему. Я сказал, что звал его с нами, он, вероятно, не услышал из-за шума, но я уверен, что если бы он услышал, то пошел бы со мной: мы вместе преодолели такой путь.
Мариус зло посмотрел на меня своими чёрными, похожими на переспелую вишню глазами и спросил дрожавшего Якова. Видно было, что Яшка не понимает смысла всего разговора, и я обратился к нему, положив руку на плечо:
– Яша, вспомни тот день…
Мариус не дал мне продолжать:
– Расстрелять…
Яшка понял и уставился на меня безумными глазами. Мариус подтолкнул его туда, где лежали тела Григория и ворюги.
Я дал команду стрелять.
Нас всех била дрожь. Все были в каком-то трансе, и, когда вдали раздался выстрел, мы бросились бежать.
– Стой, – раздался окрик Мариуса. – Закопать!
Я выделил четырех человек: Павла, Николая-белоруса, Николая-коми и Ивана Недвигу. Этой группе под командой Гриши приказал быстро закопать трупы (лопаты принесли с собой мэры), а с остальными пошёл до опушки проводить судей.
Там мы расстались и сели поджидать Гришу. Группа вернулась минут через 40, но без Ивана. Он сбежал…
Перед судом мы обыскали подсудимых и все личные вещи положили на брезент. Когда по моему приказанию Костя-ленинградец стал собирать вещи казненных в мешок, Мариус взял часы Фёдора, на которые претендовал Валерий. Мне показалось, что он хочет положить их в карман, и я зло посмотрел ему в глаза. Он улыбнулся, положил часы и сказал:
– Я вчера слышал об этих часах, и они действительно интересные. Я старый часовщик и понимаю толк.
Все вещи казнённых я передал Алисе. Она раздала их ребятам. Я и Костя рыжий ничего не взяли. Земляк Валерия был недоволен, что его кумир взял себе часы Фёдора, а Костя протестовал против раздачи вещей.
Мы вернулись в лагерь около одиннадцати вечера. Нас уже поджидали Алиса и Валерий.
Я при всех доложил Алисе о случившемся и передал мешок с вещами казненных. Во время моего доклада Валерий стоял лицом к костру, и я видел его хмурое лицо. Оно оживилось, когда я передал Алисе мешок с вещами.
– А где часы? – шёпотом спросил меня Валерий.
– В мешке.
На этом наш разговор закончился. Я не понял, почему хмурился Валерий и тогда, когда он мне одному сказал, что можно было бы казнить только Фёдора, а то и без этого обойтись. Наивный я был – раз он знал заранее, кого должны были казнить, то его хмурый вид был игрой. А вдруг наверху осудят казнь? Он не присутствовал на суде, а мне выразил своё отрицательное мнение по поводу приговора. При Алисе он молчал. И я делаю вывод, что при обсуждении этого вопроса он предварительно согласился с будущим приговором. Допускаю, что он сначала мог возражать, а потом согласился.
Алиса, выслушав меня, громко, чтобы все слышали, заявила:
– Суд вынес правильный приговор.
Она предложила всем сесть и сказала, что, хотя была уже ночь, нам надо провести собрание отряда.
Молодец! Она прекрасно разбиралась в психологии, понимала, что все мы травмированы событиями закончившегося дня, и нужна была разрядка. Ею и стало собрание.
Алиса начала с характеристик казнённых. Она обрисовала Фёдора, Григория и ворюгу как случайных людей в отряде, анархистов и бандитов по натуре. Фёдор, по ее мнению, был просто предатель, может быть, даже засланный специально, чтобы развалить создаваемый отряд. Она поведала обо всех высказываниях и делах Фёдора, о возмущении окрестных жителей грабежами в Монтиньи и Жюсе, об осквернении церкви в Монтиньи (или в Жюсе), где было что-то украдено, поломаны стулья и нагажено на амвоне, с которого пастор выступает с проповедью. Рассказала, что бандюги установили связь с уголовными элементами из Жюсе для сбыта награбленного.
Она неубедительно охарактеризовала преступную деятельность Якова (очевидно, аргументов было мало). Говорила о его окольном участии в грабежах, которые устраивались по указке местных уголовников. И особенно подчеркнула, что Яшка отказался пойти с нашей группой, хотя я и звал его. Сожалела, что не казнили Ивана Недвигу, который удрал, и нет гарантии, что он не перебежит к немцам.
Потом она спросила Габриэля, что он скажет в своё оправдание всем партизанам и как он расценивает приговор суда?
Опытный демагог, Габриэль начал с того, что, как командир отряда, он тоже достоин участи казнённых. Повинился, что позволил Фёдору увлечь себя гнилыми идеями. Он винил себя также в том, что не пресёк грабежи, инициаторами которых были ворюга, Григорий и Яков. Утверждал, что хотел встретиться с Алисой и переговорить обо всем. Намеревался предложить Алисе изгнать из отряда Фёдора, Григория, ворюгу, и тогда отряд стал бы боеспособным. Но такая встреча не состоялась. Сейчас, конечно, он не может быть командиром, им должен стать Валерий. Меня он предлагал сделать его заместителем.
Приговор суда он считал абсолютно правильным. Речь его, вначале связная, логичная (сдаётся мне – продуманная), постепенно стала прерывистой, в голосе появилась дрожь, а на глазах слезы. В заключение он упал на колени и сквозь слезы стал просить у всех прощение. Зрелище было неприятное, и Алиса скомандовала ему встать. Он долго плакал.
Павел и Николай признались, что им сразу не по душе была демагогия Фёдора, а грабежи им претили, поэтому они вернулись в отряд, и будут честно драться с фашистами. Приговор они считают не только правильным, но и запоздалым. Они, кажется, были правы. Алиса не заметила вовремя опасность, хотя наши с Валерием сигналы были поданы своевременно.
Гриша, Костя-рыжий, Костя-ленинградец, оба Николая и Алексей – все считали приговор справедливым и повторили, что он запоздал. Франсуа и Пента сказали, что это дело наше – русских, но бандитов и изменников надо карать всегда, а тем более в военное время. Ни меня, ни Валерия Алиса не спросила, что мы думаем по этому вопросу.
Заканчивая обсуждение, Алиса признала, что она, возможно, упустила момент, когда можно было решить вопрос малой кровью, а может, и без крови, однако лучше поздно, чем никогда.
– Но, – сказала она, – казнью изменников и бандитов вопрос не исчерпывается, на отряде большое пятно. Местные жители не доверяют теперь русским и боятся вас. Необходимо смыть позор кровью врагов. Вы должны активизировать свою боевую активность и доказать всем местным жителям, что вы настоящие советские люди, а не бандиты. А сейчас необходимо избрать штаб из трех человек и командира.
В штаб избрали Валерия, меня и Гришу. Валерий – командир, а я его заместитель.
Алиса сообщила, что вчера она и Валерий встретились с местным командованием французских внутренних войск и договорились получить оружие. Валерий с двумя ребятами должен будет принять несколько автоматов и патроны к ним.
Я посоветовал сегодня же выслать на разведку шоссе Гре-Бурбон двух человек. А я пойду захоронить Григория.
Предложение приняли, и мы легли спать.
Свободное обсуждение тяжелого вопроса сняло у ребят напряженность. Все быстро заснули.
Алиса, Валерий и я обошли по опушке лес. Молча легли спать. Васька своим мурлыканьем быстро усыпил меня…
40
Теперь хочу высказать свое мнение по поводу трагических событий, происходивших в отряде им. Парижской Коммуны.
Прежде всего, мой взгляд на печальные результаты последствия разделения отряда не изменился. Хотя в 28 лет эмоции, да еще в условиях партизанщины, могли превалировать над рассудком. Теперь я окидываю взглядом прошлое без переживаний и волнений.
Пишу, конечно, не литературным языком и тороплюсь, не полностью и недостаточно глубоко излагаю свои мысли, но я спешу – мало ли что может со мной случиться, а мне хочется, чтобы хотя бы мои дети прочитали эти записки и извлекли пользу.
Первый факт – отряд распался по причине нежелания одной группы отряда сражаться с гитлеровцами. Инициатором развала отряда был Фёдор. Он выдвинул «аргументы», которые обосновывали отказ от боевой деятельности. Те, кто бежали из плена, не рассчитывая попасть в партизанский отряд и не желая воевать, но случайно оказавшиеся здесь, пошли именно за ним.
Второйфакт – группа, не желавшая сражаться с врагом, занялась грабежом местного населения под лозунгом борьбы с теми, кто сотрудничает с немцами. Она даже ограбила и осквернила церковь. Нужно признать, что, борьба с коллаборационистами велась во Франции повсеместно. У них конфисковывали имущество, их уничтожали физически. Поэтому бандитам прикрываться лозунгом борьбы с предателями было легко.
Эти два факта определяют в военное время состав преступления, участники которого подлежат смертной казни. Поэтому казнь Фёдора, Григория и ворюги законна. Законна она и в отношении Якова, но к нему можно было применить другую меру: его можно было поставить на одну доску с Иваном Недвигой.
Мне кажется, что Яков не мог быть инициатором грабежей, а только их участником, возможно более активным, чем Иван, но – участником.
Мне долго было непонятно оправдание Габриэля. И только встреча с Мариусом в 1964 году в Париже открыла глаза на многое.
На мой вопрос, почему оправдали Габриэля, Мариус сказал, что на совещании накануне суда на этом настаивала мадам Жако. Ее поддержали Алиса и Валерий. Из дальнейших разговоров выяснилось, что Валерий защищал Ивана Недвигу.
Конечно, Мариус не называл имя и фамилию Ивана, он говорил, что Валерий защищал своего напарника. А им мог быть только Иван.
Через 20 лет многое прояснилось.
Валерий скрыл от меня результаты совещания, и только жадность заставила его упомянуть часы Фёдора и тем самым отчасти разоблачить себя. А я по наивности этого не заметил.
Алиса, очевидно поднаторевшая в таких интригах, понимала, что рассмотрение в верхах итогов кровавого конфликта в нашем отряде может отбросить тень и на неё, поэтому сочла за благо не присутствовать на суде. Предполагая, что многие подробности жизни русских партизан во Франции станут после войны известны у нас в Союзе, она решила вывести из-под удара и своего любовника – Валерия, и тем самым подставить под будущий удар меня.
Она объяснила Валерию суть дела, и тот, без особых угрызений совести, согласился с ней, предав меня. Отрицание им целесообразности казни отступников – явное лицемерие.
Под благовидным предлогом якобы каких-то переговоров о получении оружия Алиса и Валерий не присутствовали на суде. Но никакого оружия мы так и не получили. Переговоры были выдумкой.
Не помню уже, когда у нас с Валерием началось духовное отчуждение, но причиной было его вероломство.
Вот такие выводы делаю сегодня из прошлого.
Да, ещё я вспомнил один факт, который служит подтверждением недружеского отношения Валерия ко мне.
Кажется, в 1948 году, придравшись к Валерию за автобусную аварию, в которой он был невиновен (он работал тогда водителем автобуса), его посадили в подвал здания на Лубянке, где непрерывно допрашивали, но, конечно, не об аварии, а о военном прошлом. Отсидел он там год, и его, чтобы он не встретился со мной, отвезли в Орёл (очевидно, по его просьбе, так как в том городе жила Нина, связь с которой у него началась в 1945 году в Париже). В 1949 году он приехал в Москву и рассказал мне, как с ним обращались на Лубянке, и как он защищал меня, когда меня обвиняли в шпионаже и прочих грехах. По его словам, когда следователь назвал меня шпионом, то он (Валерий) запустил в него чернильницей…
41
После трагедии в отряде наша боевая деятельность активизировалась.
Уже в другой день, 14 июня, Гриша с Костей пошли в разведку на дорогу № 460, что южнее г. Бурбона. Она проходит между деревнями Гионвель и Моншевро.
Мне почему-то хорошо запомнился день этой операции. Возможно, потому что я не был психологически готов к ней – элементарно боялся. Боялся и не мог преодолеть свой страх, хотя командовал операцией, и никто не видел, что я трушу. Сложно объяснить, почему иногда страшно в бою, а иногда нет. Еще труднее – почему иногда удается перебороть страх, но не всегда. Проблема в состоянии психики на данный момент, но в этих тонкостях под силу было разобраться разве что Толстому или Достоевскому. Здесь нужен глубокий анализ, а не фотографии событий.
Мой страх был вызван только что пережитой трагедией, слабой разведкой Гриши и Костика, и близостью большого населенного пункта Бурбон, где было много немцев.
День 16 июня был солнечный, жаркий, мы шли лесом вдоль ручья и по дороге ели черешню, которой так много в лесах Бургундии. Гриша и Костя вели нас на изгиб дороги № 460, расположенный недалеко от тройной вилки перед деревней Моншевро. Ночью прошел дождь, и в полдень в лесу парило, было душно.
Позиция, которую выбрали Гриша и Костик, была не совсем удачна – нас прикрывал полуметровый вал, образованный при рытье кювета, а дальше за нами лес хорошо простреливался со стороны шоссе. Значит, в случае серьезной перестрелки отступать надо было ползком, по-пластунски.
Мы залегли и закурили. Ждём. Будет ли машина с немцами? По данным Гриши и Костика, машины с немцами здесь проходили. Эта дорога связывает Бурбон с Лангром, Гре, Пор-сюр-Соном, Дижоном, Долем и другими городами. Лежим все с одной стороны шоссе. Я в середине, слева от меня, метрах в пятидесяти – шестидесяти, – Гриша, он должен начать стрельбу, если поедут немцы. Тут же Костик и Алекс (Алексей Васильев-калининский), метрах в тридцати справа лежат друзья – Павел и Николай-1 (белорус). Их задача: забросать выбранную машину гранатами.
Ждать пришлось недолго. Пропустив с десяток штатских машин, Гриша открыл огонь по несшейся по дороге, несмотря на повороты, легковой машине. Мы еле успели обстрелять её, а брошенная Павлом граната отскочила от борта и взорвалась на дороге. Я услышал свист пуль, летевших над нами, и подумал, что немцы отстреливаются, а это рикошетили наши пули от бронированных бортов. Выстрелы, свист пуль, взрыв гранаты… Мне стало ещё страшнее, я не мог перебороть страх, он сковывал меня по рукам и ногам, не позволяя не то что командовать, но даже просто здраво мыслить. Азарт боя меня не захватил. Стреляя вслед уходящей машине, я спрятал голову за бугром.
Отъехав метров на двести, немцы открыли ответный огонь из ручного пулемёта, но нас никого даже не задело.
Автомобиль умчался. Были какие-либо результаты нашего нападения или операция оказалась бесплодной – это для нас оставалось какое-то время загадкой.
Только через несколько дней наше руководство сообщило, что мы обстреляли бронированную машину, убили двух немецких офицеров, а всего в автомобиле было пять человек вместе с шофёром.
Настроение паршивое – машина ушла, и мы думали, что никого не убили. Решили организовать диверсию на железной дороге между Витри и Сюссе. Отходя от места операции на восток, вышли на железнодорожную ветку (кажется, одноколейную), отходящую от основной магистрали (идущей от Везуля на Лангр) к Бурбону. В районе деревни Нёвель-ле-Вуази мы ночью вскрыли ящик с ремонтным инструментом и взяли торцевые и плоские ключи. Ночью с 17 на 18 июня железнодорожники на одной из меленьких станций сказали нам, что ожидается воинский эшелон и что для гражданских поездов путь закрыт. Значит, для нас он был открыт.
Недалеко от мостика через ручей мы быстро разобрали путь и стали ждать. Прождали до утра, но поезд так и не появился. Мы отошли на холмы южнее железной дороги и наблюдали, как ремонтные рабочие чинили разобранный нами путь. Решили выспаться. Помню, когда проснулись, по дороге шли немецкие танки. Я зачем-то вышел на дорогу. Танкисты глядели на меня, не подозревая, что у меня под пиджаком разобранный автомат. Не помню, почему вышел, ведь сосчитать танки можно было и с холма, где мы затаились.
К вечеру двинулись к себе в лагерь, несолоно хлебавши, как гласит русская поговорка. В районе деревни Монтюрё «наши» французы, к которым мы зашли, чтобы разведать обстановку, сообщили, что Валерий с остальной группой ушел в лес. Они рассказали, что вечером 17 июня партизаны из отряда «Франс д’абор» сообщили Валерию, что ночью пройдёт воинский эшелон, и Валерий, захватив Николая-2, Костю, Пенту и Франсуа, вместе с французами ринулся на железную дорогу. По совету французов диверсию решили организовать в деревне между двумя путепроводами, соединяющими дорогами Боле с Амансом и Бюфинекуром. От лагеря до Боле километра четыре и, как рассказывал после Валерий, все бежали по траве через кустарник и лес.
К Боле прибежали мокрые от росы и пота. С ходу сняли часового и спешно разобрали рельсы. Едва закончили работу, как послышался стук колёс подходящего на большой скорости эшелона. С бьющимся сердцем и нервной дрожью ожидали партизаны, что произойдёт. И вот состав вошёл в первый путепровод. Секунда. Он выскочил, и тут раздался страшный треск и грохот. Локомотив завалился под второй путепровод, послышался лязг буферов, вагоны полезли друг на друга, разрушая путепроводы и закупоривая оба пути.
Движение остановилось на восемь суток. И все это время немцы вывозили убитых и раненых. По данным командования, были убиты 150 и ранены 85 солдат и офицеров, разбиты 10 вагонов, уничтожен локомотив, повреждены 5 вагонов.
Вот почему мы не дождались этого эшелона и наш труд по разборке пути пропал даром – Валерий опередил нас.
Видимо, информацию мы получили одновременно, и реакция наша была одинаковой – разобрать путь. Может, и пути разбирали одновременно, но Валерий с французами был ближе к эшелону километров на 30, и ему повезло.
Когда мы встретились, я сказал, что по-хорошему завидую ему, а он ответил: «Вы тоже хорошо подготовились, и если бы мы прозевали, то эшелон дальше вас не ушёл бы». Это верно. В то время мы все жили одной мыслью – бить, бить и бить проклятых фашистов.
Валерий сообщил мне, что он должен идти в район Везуля за оружием. Оно было обещано Алисе и Валерию в день суда и ликвидации группы Фёдора. Он взял с собой Костика, Николая-1, Николая-2 и часов в десять двинулся в сторону Везуля. Оружия Валерий там не получил. А на обратном пути при переходе железной дороги в районе деревни Вевр группа была обстреляна немецким патрулем. От неожиданности ребята разбежались в разные стороны. В лагерь они пришли поодиночке. Валерий говорил, что в пути он застрелил немецкого часового, но подтверждений мы не имели…
Теперь коротко о важном моменте – снабжении отряда продуктами, табаком, спиртом, одеждой, оружием, боеприпасами, транспортом и бензином.
От того, как оно поставлено, зависит очень многое, а по существу всё. Нет оружия – нет боевой деятельности, плохо организованное снабжение продуктами отражается на моральном и физическом состоянии бойцов и может привести к серьезным нарушениям дисциплины, ослабить контакт с населением. Что мы и испытали на себе, когда группа Фёдора – Габриэля занялась грабежами. Французы, узнав, что грабят русские, в корне изменили к нам отношение: холодность, отчуждение, тревога в глазах при вынужденных встречах, во время переговоров. Вместо прежнего радушного приёма с накрытым без наших просьб столом, нам в каждом доме стали давать еду только после неоднократных напоминаний о голоде и предложения расплатиться по рыночным ценам. Контакт восстановился, когда по деревням прошёл слух, что русские сами расправились со своими бандитами. Не исключено, что если бы мы и наше руководство не приняли быстрых мер по пресечению мародёров, то крестьяне, защищая свою собственность (а она для них священна), могли бы обратиться к «законным» петэновским властям, а те позвали бы на помощь немцев. И тогда нам, в окружении враждебного населения, пришлось бы совсем худо.
В период формирования отряда снабжение продуктами, одеждой, оружием находилось в руках наших местных организаторов, а его было явно недостаточно. Нечего греха таить – мы прибегали тогда и к «индивидуальной реквизиции», т. е. ночью с ведома командования два-три человека заходили во дворы пейзан и брали барана, кур, муку, крупу и так далее. Крестьяне спят как убитые и ничего не слышат. Делалось это в деревнях, расположенных километрах в десяти – пятнадцати от лагеря, а не в ближайших. Провиант брался не у хозяина, имеющего одну овцу и двух куриц, а у людей состоятельных, которым и считать недосуг свою живность. Так мы отводили от себя подозрения. Но сделать этот метод системой было бы большой ошибкой: нас бы разоблачили, а там – скандал. Я, не стесняясь, пишу о нашем вынужденном воровстве потому, что через эту стадию проходили все партизаны, особенно интернациональных отрядов. Французским было легче – они действовали у себя дома.
Вскоре мы получили указание от Алисы, как нам организовать снабжение продуктами. Было приказано – всё только покупать, причём только по рыночным ценам. Центр обещал снабдить нас деньгами из расчета 35 франков на человека в день, но обещание так и осталось невыполненным. Мы не получили от руководства ни одного франка. Деньги у нас были в основном трофейные или реквизированные у коллаборационистов.
Мы довольно часто перемещались, ибо нас все время преследовали каратели. Леса, в которых мы укрывались, были явно не сибирские, самый большой – протяженностью километров восемнадцать, да еще изрезанный просеками. Долго на одном месте незамеченной большой группе людей пребывать никак невозможно. Вот и бегали мы по всем окрестностям.
Перед сменой места мы с Валерием садились в машину, объезжали окрестные деревни и, встречаясь с мэрами, договаривались, какое количество и каких продуктов, когда, куда и за какую цену они будут нам доставлять. Предупреждали, что за информирование властей – расстрел. Осечки ни разу не было, все доставлялось вовремя, а мы всегда расплачивались по рыночным ценам. За этим следили наши доверенные французы.
Труднее было с табаком и хлебом, и это следует упомянуть особо.
Снабжение населения (и городского, и сельского) хлебом во время оккупации происходило по карточкам – «тикетам». Булочник получал муку в обмен на «тикеты», передаваемые ему той частью жителей, которых он обслуживал. И если бы мы забирали хлеб в булочной без «тикетов», то часть жителей оставалась бы без хлеба. Поэтому прямая покупка хлеба отпадала. Французы предложили нам экспроприацию «тикетов» – то есть «ограбление» почтальона с этими бумажками. При таком варианте экспроприации население могло получить эти талончики полностью, ибо после «ограбления» почтальона, которого сопровождали два жандарма, составлялся соответствующий акт, и почтальон дополучал новые документики.
«Ограбление» производилось так. Французы сообщали нам день и час, когда почтальон возвращался из Гре, и по какой дороге он поедет. Двое наших ребят шли туда и дожидались его в кустах. При появлении почтальона на велосипеде в сопровождении двух полицейских, тоже на велосипедах, ребята выходили из укрытия и, не снимая с плеча автоматов, командовали «Руки вверх!» и забирали нужное количество талончиков. Сопровождающие почтальона полицейские покорно поднимали руки и просили не отнимать у них пистолеты. Я сам один раз ходил на подобную «операцию».
С табаком было сложнее, поскольку он был более дефицитен, чем хлеб, – табачные «тикеты» не возобновлялись, и мы не знали, как быть. Долго сидели на подачках, но потом нас выручили французские партизаны: они стали забирать табак из лавочек, даже без оплаты. Тогда и мы начали «грабить» табачников на дороге, как почтальонов с «тикетами».
Один такой «грабеж» проводил я с калининским тёзкой. Мы узнали, что табачница в сопровождении одного из жителей деревни Венизи выехала на велосипеде в Гре за товаром, и мы с тёзкой, захватив деньги, пошли к той дороге. Долго ждали табачников, а когда их велосипеды были метрах в десяти от наших кустов, мы вышли и потребовали остановиться. Мужчина здорово испугался, а миловидная табачница расплылась в улыбке. Я тоже улыбнулся и попросил продать нам столько-то сигарет, сигар и трубочного табака. Продолжая улыбаться, шутить и строить глазки, женщина отсчитала требуемое и назвала сумму к оплате. Денег у меня было больше, но я не устоял перед чарами молодой красавицы и сказал, что не хватает 2000 франков, но я сегодня ей их привезу.
Она обрадовалась и ответила, что ждет меня часов в девять вечера.
Я приехал на мотоцикле часов в восемь. Встретила она меня радушно. Бросила деньги в ящик и позвала на кухню отобедать. Жила она одна, и я вернулся в лагерь под утро, полдороги толкая перед собой мотоцикл, чтобы не разбудить деревню (это была ее просьба). Больше я с ней не встречался.
Зависть ребят была безграничной.
Так мы снабжались табачком и в других местах, куда нас загоняли каратели. Были, конечно, и срывы, когда французы опережали нас. Тогда мы пользовались трофейным табаком убитых или плененных немцев.
В начале нашей партизанской деятельности нам было тяжело с одеждой и обувью. Ходили мы тогда только пешком. Не по дорогам, а как птицы летают, по полям, садам и огородам и постоянно рвали одежду о проволоку. Рвали беспощадно, так что мы с Валерием, передвигаясь больше всех остальных, ходили в лохмотьях. Но постепенно все наладилось. Алиса купила нам в Гре выходные костюмы, белье верхнее и нижнее, спецовки. Костюмы, рубашки и галстуки висели у нас в лагере. А ходили мы в них только на свидания. Наша рабочая одежда – спецовки – рвалась меньше: мы осмелели и уже ходили дорогами, но только по ночам. Мылись в многочисленных ручейках и речушках, а вот, кто у нас был парикмахером, стриг нас, я уже не припомню.
Получив первоначальный фонд вооружения, о котором я уже упоминал, в дальнейшем мы вооружались самостоятельно – великолепным немецким трофейным стрелковым оружием и гранатами.
42
Редко когда мы бывали все вместе. Обычно кто-нибудь отсутствовал, был на боевой операции или в разведке. Но случались дни, когда все были в сборе.
Спали одетые, без обуви, оружие под головами, ночью – двое часовых.
Раньше всех вставал повар Пента, который пришел в отряд из батраков. Было ему лет пятьдесят, роста невысокого. Для боевой деятельности не годился – боялся и терялся. За работу повара взялся с энтузиазмом и кухарил хорошо. С утра готовил мясо, резал лук, варил картошку. Потом будил меня и на ломаном русском предлагал: «Господин начальник, всё готово, можете пробовать» (слово «товарищ» он не употреблял). Я вставал, умывался, пробовал. Не попробовать было нельзя – Пента обижался. Если было масло и сыр, то их доставали из родника и клали на «столовый» брезент.
После пробы я объявлял побудку, все умывались и каждый со стаканом или кружкой подходил к пеньку, на котором стояла бутыль со спиртом. Я был «царём водки». Выпив граммов 200 спирта, закусывали, затем пили «чай» – кипяток с чем-нибудь сладким.
Три раза в день мы прикладывались к бутыли, но пьяных никогда не было. Разрешалось пить сколько влезет после боевой операции, чтобы снять нервную нагрузку. Случай нарушения спиртовой дисциплины был всего один. В тот день, когда это произошло, мы с Валерием отсутствовали в лагере по каким-то делам. Это было во второй половине июля, после высадки союзников. У нас уже трудился второй повар – престарелый эмигрант Владимир, из дворян. В повара он был определен по тем же признакам, что и Пента, но, в отличие от последнего, который не пил, Владимир любил выпить. Вот этот украинский граф Владимир и соблазнил ребят на выпивку. Когда мы с Валерием пришли, почти все были во хмелю. Валерий, который тогда почти не выпивал, поступил очень «жестоко» – опрокинул бутыль и вылил всю водку. А в бутыли ее было литров 30.
Пока булькал спирт из бутыли, выпивохи, как завороженные, глядели на уходящую в землю «огненную жидкость». Я стоял позади Валерия, жалел водку и мысленно материл его – зачем озлоблять людей? На всякий случай я держал автомат в руке – вдруг кто-нибудь спьяну сорвётся и мало ли что может произойти. Противоречить Валерию или уговаривать его не выливать спирт я не мог – авторитет командира надо было держать на высоте. В те дни Валерий был на высоте – воспоминания о казни бандитов были свежи и трансформировались в страх перед командиром. К тому же Валерий был храбр – а в партизанщине это ценится и создаёт командиру заслуженный авторитет.
После такой жестокой экзекуции над водкой Валерий, пообещав судить и расстреливать зачинщиков, приказал всем разойтись. Во время расправы над водкой граф Владимир спал в палатке безмятежным сном праведника.
Больше таких коллективных выпивок не было, только Владимир втихую прикладывался к бутылке и всегда был под хмельком.
Другое дело – снять стресс после боя. К месту здесь рассказать о Николае-2, родом из Коми, по национальности он был зырянин. От роду 22–25 лет, низкого роста, худощавый. Он вместе с Костей-ленинградцем струсил во время обстрела машины на дороге Комбфонтен-Пор-сюр-Сон. В дальнейшем такого с ним не случалось.
Так вот, Николай-2 напивался до чёртиков после каждой операции – любил «огненную воду». При этом скандалил, да ещё как! Впервые наглотавшись спирта, он молча встал, отошёл от костра в лес (а дело было вечером), подобрал дубину (к счастью, подгнившую), подкрался к Косте-ленинградцу и изо всех сил ударил по голове. Дубина сломалась, а Костя завалился на бок и лежал минут двадцать без памяти. Мы были ошарашены и, прервав жаркую беседу о прошедшей операции, бросились на Николая. Тот, размахивая обломком дубинки, орал, что перебьёт всех фашистов. Даже связанный, он продолжал кричать. Пришлось его искупать в холодном ручье. На другой день просил прощения, особенно у тех, кого покусал и кому наставил головой синяков. Обещал больше не допускать переборов. Но слова не сдержал, и после каждой операции напивался до одури. И нам пришлось набрасывать на него по две-три петли, связывать, а чтобы не орал, раз двадцать окунали головой в холодную воду. После таких «ванн» он сразу засыпал. А вообще-то был скромен, молчалив и во всех дальнейших акциях побеждал свой страх.
Впрочем, все мы постепенно сжились с опасностью. Если поначалу «наш» лес казался нам чужим, мрачным и скрывающим приближающегося врага, то через некоторое время стал для нас родным домом. В открытом поле, а особенно – в населённом пункте – мы ощущали напряжённость, которую в какой-то мере ослабляло наличие разобранного автомата под пиджаком. Но стоило пересечь опушку леса, и нервного напряжения как не бывало. Правда, глаза всё время были начеку и старались охватить весь лес – не таится ли где враг? Помню яркий солнечный день, когда я оказался на большой лесной поляне, по опушке которой росло много черешни. Я набрал крупных ягод, разделся и, лениво жуя аппетитную ягодную мякоть, лёг загорать. Какое это было блаженство! Закрыв глаза, я вспоминал такую далёкую мирную жизнь…
О транспорте. У нас были легковые и грузовые машины, были и велосипеды – трофейные и реквизированные.
Реквизиция автомашин и бензина производилась по законам военного времени либо по специальным талонам или в наказание за сотрудничество с немцами. Сразу оговорюсь: лишь одна небольшая машина типа «пикап» была нами отнята у коллаборациониста Стегмана, остальные реквизированы с выдачей «бона». Этот документ заполнялся Алисой после того, как мы намечали, у кого именно произвести реквизицию. В «боне» говорилось, на основе какого закона, для чего и кем реквизируется автомашина, велосипед, бензин. В «боне» было типографским способом напечатано, что оплата за реквизированную вещь будет произведена после войны. Бланки этих документов печатались в Лондоне. У нас их было десять штук. Стоимость реквизируемой машины, велосипеда, бензина мы определяли вместе с хозяином. Машины отдавали без особой печали, но бензин жалели. А велосипеды так очень жалели, поэтому двухколесную технику мы забирали у тех, у кого её было по нескольку экземпляров.
Французские крестьяне доверяли «бонам», а значит, верили в победу.
Всё-таки я должен признаться, что мы с Валерием украли два велосипеда после акции на шоссе Комбфонтен-Пор-сюр-Сон. Ночью зашли в сарай и взяли их. Они понадобились, чтобы поскорее найти группу Габриэля, ушедшую добывать гаечные ключи для диверсий на железной дороге. Из-за этой кражи мы лишились доверия деревенского булочника, который поил нас крепким сидром. Да и быть по-другому не могло: вечером он радостно встретил нас, накормил, напоил, а ночью мы украли его велосипеды.
И ещё вспоминается, как хозяйка «шато́» (так во Франции называют за́мки и дворцы) около Венизи предложила нам бензин. Это было после высадки союзников, то есть после 6 июля. К нам пришла Алиса и сообщила, что хозяйка хочет поговорить с руководителями русского отряда. Вместе с Алисой и Валерием я пошел в «шато́». Кстати, того самого, около которого стоял сарай с сеном – место нашей с Яшкой встречи с группой Валерия.
Мы вошли в центральные ворота, оставив машину за пределами крепостных стен, и мощёным двором подошли к парадному входу в здание. Двери открыл слуга в ливрее и спросил, как доложить хозяйке. Но докладывать не пришлось. Хозяйка сама вышла в вестибюль. Похоже, она не хотела, чтобы слуга услышал, кто мы такие.
На лице хозяйки, тонкой статной женщины лет 35–40, была обворожительная улыбка. Она уже знала, что только Алиса говорит по-французски, поэтому обратилась к ней, приглашая войти. Мы в ответ раскланялись и пошли за ней. В большой зале она предложила нам мягкие кресла и спросила, что мы будем пить. Алиса, зная, что мы не очень-то доверяем хозяйке, отказалась за всех нас и попросила её перейти к сути вопроса.
Хозяйка, заверив нас в своем патриотизме и ненависти к фашизму, сказала, что восхищена храбростью русских, сражающихся за Францию, и хочет нам помочь. Она предложила денег, провиант и бензин.
Поблагодарив хозяйку и заверив её в наших дружеских чувствах, Алиса, посоветовавшись с нами, отказалась от денег (у нас их было достаточно) и продовольствия (в нем мы не нуждались), а вот предложение насчёт бензина приняла.
И мы получили двухсотлитровую бочку горючего!
Машины, мотоциклы и велосипеды содержались у нас без соответствующего ухода. Их не мыли, не чистили, не ремонтировали. Механиков у нас не было, а шофёры ничего не понимали в механике. Ухаживать за техникой не имело смысла – лесные дороги грязные, тяжёлые. Да и машины тоже ещё те. Бывало, в плохую погоду, чтобы завёлся мотор, весь отряд толкает проклятую развалюху часа полтора-два. Такой технике мы старались найти замену получше.
А вот оружие у нас содержалось в образцовом порядке: мы ежедневно его чистили и тщательно предохраняли от дождя. Я внимательно следил за этим.
Ну а карандашами, ручками, бумагой, записными книжками, географическими картами «Мишлен», трубками для курения и зажигалками нас снабжала Алиса. Перед отъездом в Париж она записывала наши пожелания и возвращалась всегда с полными сумками. У каждого из нас была своя карта района наших действий, и если во время трудных операций кто-нибудь отставал от основной группы, то легко ориентировался по этим картам.
Забавный случай произошёл однажды с Алисой при её возвращении из Парижа. На вокзале в Гре она нарвалась на облаву, которую проводили, к счастью, не немцы, а местные жандармы.
Проверив её документы, в которых она фигурировала как местная учительница из какой-то деревни, жандармы попросили открыть сумки, в которых лежали наши заказы. Когда она их открыла, они обратили внимание на множество экземпляров карт «Мишлен». Спросили – почему так много. Ответ Алисы, что это для учеников, не удовлетворил, и они приказали ей пройти с ними. Сопровождали её двое жандармов, они и несли обе сумки. Арест для Алисы был не слишком страшен: капитан жандармерии был участником Сопротивления и время от времени снабжал Алису ценными сведениями. Но появляться там Алисе не следовало, ведь её освобождение капитаном могло доставить ему неприятности. Поэтому она сама решила избавиться от жандармской опеки. Нагнувшись якобы подтянуть чулок, она выхватила из-под юбки пистолет калибра 6,35 и крикнула:
– Я мадам Алис, руки вверх!
Оторопевшие жандармы бросили сумки и подняли руки.
– Надеюсь, вы обо мне слышали?
– Да-да, мадам Алис, – пролепетали они.
– Тогда берите сумки в правую руку и идите впереди меня, я вам буду говорить куда. Чуть что – стреляю!
Улица была тихая, а двое-трое прохожих, видевших эту сцену, тут же постарались исчезнуть.
На просьбу жандармов не отбирать у них пистолеты Алиса сказала, что всё будет зависеть от их поведения.
Гре невелик, и вскоре троица оказалась за городом. Около ближайшего леска Алиса приказала жандармам остановиться, поставить сумки, поднять руки вверх и идти назад.
– Имейте в виду, что за этими кустами меня встречают русские партизаны, и если вы вздумаете выкинуть фортель, прощайтесь с жизнью, – напутствовала их Алиса.
К нам она добралась поздно, усталая, ведь пришлось идти не дорогой, а по лесу – жандармы могли поднять тревогу. Но настроение у неё было весёлое, и она со смехом рассказала нам о случившемся.
Обещала поведать и капитану жандармов.
Привезла нам много всякой мелочи, которую мы обычно теряли. Помню такой случай: ночью движемся небольшой группой. Остановились отдохнуть. Я закурил трубку и прилёг с зажигалкой в руке, а когда партизан решает в спокойной обстановке прилечь, он сразу же засыпает. Через десять – пятнадцать минут мы пошли, а зажигалка осталась в траве. За то, что я больше и чаще всех терял мелочи: расчёски, зажигалки, трубки, ручки, зеркала, меня прозвали «президентом клуба растерях». К этому прозвищу добавлялось еще два: «царь водки» и «председатель колхоза „Эй, выпьем!“».
Еще о мелочах. У всех были часы, конечно трофейные, и они ломались быстрее, чем даже наш транспорт. Дождь, роса, реки, которые мы преодолевали вплавь, мигом укорачивали их век. У меня часы, как правило, бежали, а у Валерия слегка отставали, и мы иногда обменивались часами, чтобы отрегулировать правильность их хода.
Однажды мне попались часы с боем. И ночью, когда тишину леса нарушали лишь шорохи, партизаны просили:
– А ну, Алёша, включай!
Я нажимал кнопку, и за этим следовал мелодичный бой.
– А ну, ещё разок!
Я снова включал, и опять все молча слушали тихий мелодичный бой и улыбались.
Долго берёг я эти часы, но, конечно, не уберёг. Они остановились, и пришлось их выбросить.
Да, часы были трофейные, снимали мы их с убитых немцев. Мы забирали их документы (отчётный материал), деньги, письма, записные книжки, оружие, ножи, портсигары, табачные изделия. Сапоги мы не снимали, хотя иногда приходилось подметки своих ботинок подвязывать веревкой, и начальство приказывало нам обуваться за счет трофеев, но мы брезговали.
43
Теперь вернусь к хронологической канве повествования.
После железнодорожных диверсий в районе Маньи и Боле немцы значительно усилили охрану. Не помню, надолго ли, ведь живой силы требовалось для этого много, а у «бошей» к концу войны её уже не хватало. И вскоре дорогу опять перестали охранять, лишь небольшое количество солдат осталось в деревне Монтюрё. Офицер, который командовал ими, как-то зайдя в деревенское кафе, громко сказал французам:
– Передайте русским мою просьбу не совершать диверсий на моём участке. А я, в свою очередь, с сегодняшнего дня гарантирую безопасность передвижения партизан.
Узнав об этом, мы хотели встретиться с офицером и предложить ему уйти в лес одному или с его инвалидной командой (охрана состояла из великовозрастных больных и имеющих ранение солдат). Но не успели. Нагрянули каратели. Случилось это внезапно, когда мы под вечер с Алисой и Валерием шли в лесок близ Венизи, где расположился наш лагерь.
Неожиданно недалеко от нас раздалось урчание автомобильных моторов, и мы заметили на дороге Монтюрё-Венизи машины с солдатами в кузовах. Мы поспешили в Венизи и увидели, как колонна немецких машин остановилась на площади.
Алиса предложила нам пойти в лагерь, а сама отправилась в деревню на разведку. Но мы не стали возвращаться, а залегли в ближайших к Венизи кустах, от которых до деревни было метров сто пятьдесят – двести. Минут через двадцать Алиса вернулась.
– Ребята, в деревне каратели. Мадам Жако арестована (потом она была выслана в Равенсбург). Надо уходить!
Мы вернулись в лагерь, расположенный не более чем в километре от Венизи, и сообщили новость ребятам. Никто не волновался. У нас впереди целая ночь, ведь каратели не сунутся в лес в потёмках.
Обсудили, как будем действовать.
Решили так: часа в 2 ночи все снимаемся и перебазируемся ближе к коллаборационисту Стегману. С утра проведём у него реквизицию, сделав ему серьёзное предупреждение за связи с немцами. Валерий с группой товарищей на машине направится в лес около Савиньи, а я с другой группой, соединившись с французским отрядом, подготовлю диверсию на железной дороге северо-западней Монтиньи. Об этой операции просили «макизары» отряда «Франс д’абор». Они хотели научиться развинчивать рельсы и попросили нас поделиться опытом. После заявления в кафе командира охраны мы оттягивали проведение совместной акции. Но прибытие карателей спутало наши планы. Почему-то мы решили, что они явились по информации начальника охраны, да и арест мадам Жако мы тоже поставили ему в вину. Значит – отомстим немцу: под носом у карателей совершим диверсию на железной дороге. Благо, Алиса узнала, что завтра ночью предполагается проход воинского эшелона.
Была полночь, когда мы с Валерием почти бегом двинулись к командиру французского отряда. Тот уже знал о прибытии карателей в Венизи и аресте мадам Жако. Собрав своих ребят, он предложил им затаиться до ухода карателей. Услышав наше предложение пустить поезд под откос почти на глазах у немцев, он сразу же согласился. Мы договорились о времени встречи и поспешили в лагерь.
Добрались мы до него часа в 4 утра, когда уже было светло. Нас ждали. Быстро собравшись, мы двинулись к Стегману.
В моем рапорте, датированном 1944 годом, который мне привезла Алиса спустя двадцать лет, написано: «… 29 июня утром нами было реквизировано у коллаборациониста и шпиона фермера Стегмана (около Аманса) 35 тысяч франков, продукты питания и одежда. Тут же после операции группа в составе Валерия, Николая-1, Николая-3 и Костика направилась на автомашине на новое место. Другая группа в составе Алёши, Гриши, Алекса, Павла, Кости, Николая, Франца и Пенты направилась туда же пешком. По пути в ночь с 29 на 30 июня этой группой был пущен под откос поезд с немецкими солдатами на дороге Париж – Бельфор около деревни Монтюрё. В результате крушения разбиты три вагона, локомотив сошёл с рельс. Количество убитых и раненых неизвестно. На какое время был остановлен проезд тоже неизвестно, так как группа находилась на марше». (Почему мы не написали, что диверсию на железной дороге проводили совместно с французами, не помню).
Теперь подробности операций, которые остались в памяти.
К ферме Стегмана мы подошли часов в 6 утра, и через все ворота, калитки и щели проникли во двор и окружили дом. Четырех человек оставили во дворе, чтобы не дать никому убежать до окончания операции, а остальные вошли в дом.
Прислуга и работники уже были на ногах. Хозяев – Стегмана и его дочь – мы разбудили. Всех собрали в столовой и предъявили Стегману обвинение в том, что он активно сотрудничает с оккупантами. Стегман – человек ниже среднего роста, бледный, с трясущимися руками – стал всё отрицать. Будучи немцем, он заговорил с нами по-немецки, и первой фразой его было: «У вас неточная информация».
Мы не стали с ним спорить и сказали, что на этот раз мы в наказание реквизируем грузовик, продовольствие, бочку бензина и 50 000 франков. Если он продолжит сотрудничество с фашистами в любой форме, то мы его расстреляем, а усадьбу сожжём.
После этих слов Валерий дал команду всем разойтись по комнатам (дом был двухэтажный), собрать всю одежду и обувь, которую мы можем носить, а Стегману сказал, чтобы он выдал деньги и отвёл нас в кладовую.
Валерий пошёл со Стегманом за деньгами, а я пытался успокоить хозяйскую дочь. Она была беременной и сильно испугалась. Я заверил её, что мы никого не тронем, пусть не волнуется, а отец должен прекратить сотрудничество с немцами, ибо на него сильно обижается местное население. Я объяснил ей, что мы вынуждены реквизировать кое-что у них для наших нужд и в наказание её отца. При этом я шепнул, что мы размещаемся в лесу около Венизи, рассчитывая её дезориентировать.
У Стегмана оказалось наличными только 35 тысяч франков. Валерий в кабинете Стегмана оборвал телефонный провод и забрал шикарные наручные часы.
– Поищу что-нибудь из одежды, – сказал я.
– А я попробую завести машину и загружу её продовольствием и бензином, – ответил он.
Порывшись в одном из ящиков, я нашёл подходящие ботинки. В шкафу отыскал чистое белье, переоделся, прихватил с собой новую спецовку и кожаную куртку. Во всех комнатах был полный разгром. Ребята не церемонились, выбрасывая из шкафов и сундука разную рухлядь.
Через полчаса все были на месте. Валерий, успевший переодеться, возился у машины, а ребята грузили в кузов бочку с бензином и продукты: колбасы, сыр, мясные и фруктовые консервы, муку, картошку и одежду.
Операция была закончена минут за сорок пять. Мы собрали во дворе всех живущих на ферме и объявили, что Стегман наказан за сотрудничество с фашистами. Если он продолжит в том же духе, то будет расстрелян, а усадьба сожжена. Предупредили, что, если кто-то побежит докладывать немцам о случившемся, он также будет расстрелян.
Забравшись в кузов, в кабину, и лежа на крыльях, мы выехали с фермы в сторону Аманса – для дезориентации. За ближайшим поворотом Валерий вывел машину на дорогу в Бали, там моя группа сошла и мы расстались.
Алиса принимала участие в реквизиции у Стегмана. Увидев меня в кожаной куртке, она жёлчно сказала:
– Зачем ты надел куртку, надо было принести её в машину.
– Но ведь все переоделись, кто во что мог, – удивился я замечанию.
– Если бы ты не надел куртку, то и Франсуа не надел бы такую же, и мы отдали бы её Валерию. Только командир и заместитель ходили бы в куртках.
– Но у Валерия хорошая брезентовая куртка. Я могу с ним обменяться.
– Твоя ему будет мала.
Вот это да, подумал я, какая-то мелочная опёка любовника.
Я повернулся к Валерию. Он стоял почти рядом и слышал наш разговор. Я рассчитывал, что он не поддержит Алису, но оказалось наоборот, он посмотрел на мою куртку завистливым взглядом и, надувшись, молчал.
– Валерий, давай меняться, – сказал я, расстегивая молнию.
– Иди ты… – последовало в ответ. Валерий отвернулся и пошёл к машине.
Если бы у меня был такой же кулацкий характер, то это могло привести к разрыву, но я не придал этому эпизоду значения. И только гораздо позже, в 1945 году в Париже, я заметил, что Валерий живёт не по средствам. Тогда-то и понял, что три реквизиции, проведённые нами у коллаборационистов, послужили и личному обогащению Валерия – у него явно было золотишко…
Реквизиция у Стегмана произвела на меня удручающее впечатление. Нам, конечно, нужны были деньги, одежда, продовольствие, машина, бензин. Нужно было наказать Стегмана – в этом у меня тоже сомнений не было. Но наши действия были похожи на грабёж. Мы поступили как махновцы, только что не жгли и не убивали. Да ещё напугали беременную.
Такие операции не повышали моральный уровень партизан, а наоборот – развращали их. Если командир сумел присвоить золотишко, то что спросить с бойца?
Как «воспитывают» эти реквизиции, показал один случай. Я с группой в пять человек находился на марше – то ли на операцию шли, то ли с операции, скорее последнее, потому что пили вино.
У речушки вдали от деревни стоял домик. Проверив его наблюдением в течение примерно часа, мы осторожно подошли – хотели поесть, но в доме – никого. По обстановке видно, что пустует он давно – в доме нет скотины, в подвале много паутины. Свежих продуктов нет, только консервы да вино. Расположившись в большой комнате, приступили к еде. Вдруг Павел, выпив за один приём бутылку вина, с размаху бросил её в большие напольные часы. Стекло и циферблат старинных часов разлетелись вдребезги. Павел смеётся, а другие хватаются за бутылки, чтобы повторить «подвиг» коллеги. Я заорал на Павла матом. Все оторопели.
– Отставить! Вы кто? Бандиты или советские партизаны?
Меня поддержал только Костик-рыжий, остальные мрачно молчали.
Этот случай произошел после первой реквизиции, которая еще была у меня в памяти.
Я поставил вопрос о вреде реквизиций на заседании штаба. Аргументировал свое предложение тремя фактами: реквизиции вызывают падение морального и идейного уровня бойцов, реквизиция в чужой стране может восстановить против нас население и – мы не можем быть уверены в том, что проводим реквизицию действительно у коллаборационистов, ибо нет гарантии, что нас не используют для личной мести.
Алиса и Валерий выступили против меня, Гриша робко меня поддержал, но противники наши были агрессивней, и мне не удалось убедить их. Зная, сколь велики были наши возможности в области реквизиций, я льщу себя надеждой, что мое выступление позволило ограничить их тремя случаями.
Во второй реквизиции у очередного коллаборациониста я не участвовал и не помню, что рассказывали ребята о том, как она проходила.
В третьей я тоже отказался участвовать. Валерий обиделся, а Алиса начала меня уговаривать, мотивируя это тем, что мое нежелание восстанавливает против меня ребят и обижает моего лучшего друга Валерия.
Она долго меня уговаривала, заявляя, что будем наказывать настоящего коллаборациониста – он единственный в деревне сдал немцам медь. В результате навлек на остальных жителей гнев оккупантов, и они обыскивают все дома и отбирают утварь из меди.
Похоже, Алиса училась у иезуитов – уговорила.
Мы въехали в деревню и остановились у нужного дома. Хозяина не было. Были дочь и приехавшая парижанка. Началось то же, что у Стегмана.
Я не взял ничего. А ребята хватали стеклянные «драгоценности» и распихивали по карманам. От вида блестящих разноцветных стекляшек у Валерия расширились глаза, и он потребовал, чтобы все выложили добычу на стол, а потом сгреб её в мешок.
Ничего не трогал Яник – поляк, о котором речь впереди. Мы разговаривали с парижанкой, отрекомендовались англичанами (я присвоил себе имя – Гарри) и обещали выдать расписку – «бон-реквизион». Договорились о встрече.
В лесу, в присутствии Алисы, я поднял на смех горе-знатоков драгоценностей. Изобразил, как кто себя вёл, сказав, что я не бандит и больше не желаю участвовать в подобных мероприятиях. Ребятам было стыдно – все молчали, молчал и Валерий. Алиса произнесла несколько осуждающих слов и умолкла. На этом наши реквизиции закончились.
Мы с Яником стащили у Алисы один «бон-реквизион», заполнили его на 10 000 франков и на другой день вдвоём на машине выехали на место встречи, захватив вина, фруктов, сыра.
Как и договаривались, парижанка с подругой приехали на велосипедах. Мы сначала отдали «бон», а затем предложили выпить за англо-французскую дружбу. Говорили на смеси из трех языков: французского, немецкого и английского (Яник хорошо владел немецким). К утру мы отвезли дам поближе к деревне и вернулись в лагерь.
Говоря о реквизициях, стоит вспомнить случай у Жоржа в отряде «Сталинград». Там надо было не реквизицией заниматься, а расстрелять предателя.
Двое партизан-сталинградцев зашли к французу перекусить. Крестьянин был богатый, встретил их радушно, накрыл стол, а пока они ели, вызвал по телефону немцев. Ребята еле ноги унесли, один был ранен в бедро.
Жорж подал рапорт. Из Парижа приказ – предателя расстрелять, ферму сжечь, окрестным жителям всё рассказать.
Жорж явился к предателю с отрядом, но тот ползал на коленях со всей семьёй, разжалобил Жоржа, и тот вместо расстрела удовлетворился контрибуцией в 200 000 франков. Деньги он отослал в центр, а оттуда получил нагоняй.
44
…Итак, мы расстались с Валерием на дороге в Боле и быстро углубились в мелколесье, продвигаясь вначале на север, а затем на запад. Дойдя до железной дороги, мы осмотрелись и, выждав удобный момент, броском пересекли железную дорогу и шоссе. Засели в кустах на берегу Соны. Я ещё раз осмотрел железнодорожный путь и шоссе – ни души. Посовещались, когда пересекать Сону – сейчас или вечером. Решили, что лучше сейчас, ведь нет гарантии, что немцы не идут за нами по следу.
Было часов 8 утра. Мы разделись, свернули белье и поплыли. По обе стороны реки – автодороги, но автомобили редки, а велосипедистов и вовсе не видно, к тому же нас отгораживали кусты и деревья. Переплыв Сону, мы голыми бросились через шоссе в лес на холмы, и там залегли под солнцем. Отдышались, закусили, кто чем мог, и решили выспаться – ведь не спали более суток. Проспали часов шесть, и за это время переезда немцев с той стороны Соны наши часовые не наблюдали. Не дожидаясь вечера, продвинулись к шоссе Жевини-Монтюрё, скрытно пересекли его и за кустарником, преодолевая вброд ручьи, вышли на опушку леса на берегу Соны. Слева возвышался замок, а на той стороне реки виднелось шоссе и за ним железная дорога. Примерно с час мы наблюдали за замком и шоссе на той стороне и, когда нависшие тучи разразились дождем, а видимость резко ухудшилась, мы форсировали Сону. Очень хотелось есть, поэтому мы решили засветло добраться до Миевиллера и, если там не будет немцев – как следует закусить. Время шло к вечеру, дождь перестал, но тучи закрывали небо, и одежда не сохла.
Ещё засветло мы подошли к «железке» севернее Монтюрё. Пересекли её и направились к месту встречи. Когда мы подошли к опушке леса, было ещё светло, и мы, воспользовавшись этим, с полчаса наблюдали за домами. Немцев там не было. В сумерки мы вышли из леса и направились к домам. Французские партизаны пришли через полчаса, когда мы сидели за столом и ели яичницу с ветчиной. Командир отряда рассказал, что каратели прочесывали лес, спрашивали, бывают ли здесь русские. Получив известие о нашей акции у Стегмана, они двинулись туда.
А мы в это время были недалеко от карателей и готовились к новой акции. Место операции было выбрано в трёх-четырех километрах от Венизи – под боком у немцев. Опасность подзадоривала нас, мы были уверены в успехе, рассчитывая, что охрана будет менее бдительна, думая, что каратели прогнали партизан.
Направились к выбранному французами месту. Они захватили с собой весь инструмент. Место, на которое привели нас французы, не отвечало требованиям технических условий операции. Дорога проходила по ровной местности, и полотно было ниже луга, на котором мы находились. Французов было шестеро вместе с командиром. Мы залегли и стали ждать, когда появится охрана. И вот два солдата с автоматами не спеша, громко переговариваясь, шагают по ближнему к нам пути, по которому должен пройти военный эшелон. Значит, обратно они пойдут по другому пути и могут не заметить отвинченных рельсов в кромешной тьме.
Командир французов прошептал мне: «Алёша, давай застрелим их, ведь у них два автомата». Я ответил: «Поезд лучше двух автоматов». Я понимал его, ведь они были почти без оружия, и ему хотелось заиметь хорошие немецкие автоматы.
Ребята начали работать, и стук ключей о рельсы беспокоил меня. Как бы не услышала охрана. Я прошептал французу: «Если охрана обнаружит диверсию – застрелим». – «Хорошо, хорошо» – ответил он.
5, 10, 15 минут… Я не выдержал и, пригнувшись, побежал к ребятам. Они заканчивали работу по принятой нами схеме.
Не успел я вернуться, как справа задергали нитку: часовые возвращаются!
И тут же я почувствовал, как кто-то поднимает у меня на спине рубашку от поясницы к шее. От неожиданности я так испугался, что не смог даже шевельнуться. Но испуг быстро прошёл – мощный выдох и струя теплого воздуха просигнализировали, что сзади – корова! Она лизала мою солёную от пота рубашку. Спина стала мокрой от обильной коровьей слюны, но я не мог прогнать животное – немцы были рядом.
Вот они идут мимо нас по дальнему пути. Остановились закурить. Обратили внимание на шум, издаваемый коровой:
– Was ist das? («Что такое?»)
Бросили прикуривать, слушают, щёлкнули затворы автоматов.
Француз шепчет: «Давай стрелять, сейчас они обнаружат раздвинутые рельсы». Я молча прижал его автомат к земле.
– Schaise Ku («Дерьмовая корова»).
Они заметили силуэты коров. Я облегчённо вздохнул, когда немцы пошли дальше.
Минут через пять подползли Алексей и француз.
– Заметили?
– Нет.
– Слава Богу!
Поезда всё не было, и я решил попрощаться. Ведь затемно надо было отойти километров на двадцать, а то и на тридцать, причем бегом, чтобы оторваться от возможных преследователей.
Командир французов благодарил нас за учёбу и, пожелав счастливого пути, сказал, что дождётся состава.
Мы ушли, а поезд с пехотой появился через час. Это мы узнали позже.
В рапорте об этой операции сказано: «По пути, в ночь с 29 на 30 июня, этой группой был пущен под откос поезд с немецкими солдатами по дороге Париж – Бельфор около деревни Монтюрё. В результате крушения разбито 3 вагона, сошёл с рельсов локомотив. Количество убитых и раненых неизвестно. На какое время был остановлен поезд, также неизвестно, так как группа находилась на марше».
Французы отошли от дороги метров на двести и спрятались в кустах. Когда произошло крушение поезда, они быстро отошли в Мани. И это правильно: начни они обстрел – их засекли бы и солдаты-пассажиры, и каратели…
Теперь снова о Габриэле. Как заметил читатель этой рукописи, его имя не фигурирует ни в группе Валерия, ни в моей. Он исчез.
В тот день, а вернее ночь, когда мы после казни встретились с Алисой и Валерием, забрав всех оставшихся ребят, в том числе Габриэля, я направился к месту, где погиб Григорий. Надо было найти его тело в кустах и захоронить пока в лесу.
Всю дорогу до места боя на шоссе Комбфонтен-Пор-сюр-Сон Габриэль, не привыкший к большим переходам, семенил, тяжело дыша, и лепетал слова раскаяния, обещая быть верным, готовым погибнуть за своих командиров. Я перебивал его и просил замолчать, но он снова и снова что-то бормотал. Стемнело, когда мы вышли на опушку леса над дорогой в том месте, где был бой. Что-то удержало меня, и мы не пошли к шоссе, а остановились за кустами и начали прислушиваться. Было тихо, слышались только голоса ночных птиц. Но когда мы подошли к кустам, где лежало тело Григория, на шоссе раздались голоса, и мы увидели огоньки сигарет. Там, на месте боя, были люди. Они не двигались, а сидели в кустах и на деревьях, огоньки сигарет были видны через кроны деревьев.
Засада! Немцы решили, что мы должны вернуться или пройти этой дорогой и обязательно ночью. Караулили, очевидно, все дни и ночи, начиная со дня боя. Со временем их бдительность ослабла, и это нас спасло.
Что делать? Нет ли засады в кустах, где лежит тело Григория? Я приказал всем лечь, а сам пополз к тому месту, где должен быть труп нашего товарища. Понимал, что присутствие немцев ночью на месте боя нагоняет на ребят страх. Действительно, за любым кустом мог лежать автоматчик или пулеметчик, и эта неизвестность страшила. Поэтому я решил сам разведать обстановку. Попросил ребят не стрелять, если меня обнаружат, а уходить. У меня был автомат, и я надеялся уйти, отстреливаясь. На этот раз страх у меня отсутствовал. Я полз медленно, тихо, бесчисленные шорохи в траве меня маскировали. Вот, кажется, и то место, где мы положили Григория – около дерева в кустах. Я дополз до дерева и затих, прислушиваясь – рядом все тихо, только по прежнему слышны голоса на шоссе (немцы боялись темноты и подбадривали себя возгласами). Я встал, прислонился к дереву, держа автомат наготове. Шагнул вперед, раздвинул кусты и тут же наткнулся на тело Григория. Я провел рукой по его лицу, оно было холодное и твердое. Я встал во весь рост и пошел к ребятам.
– Давайте заберем Григория.
– А вдруг он заминирован? – сказал кто-то.
– Ну и что, будем ждать дня? Григорий погиб, когда-нибудь и мы погибнем, пошли.
Тело Григория задеревенело и было очень тяжелым. Мы подняли его на плечи и понесли в лес, стараясь не шуметь.
– Габриэль и Франсуа будут копать могилу, а я пойду на опушку, – сказал я, когда мы пришли в лесную чащу.
Но лопаты не пошли в ход. Под небольшим слоем земли оказался камень. Хорошо, что он расслаивался на тонкие плиты, и мы ножами их вынимали. Копали часа два, но вырыли яму глубиной не больше 70–80 см. Захоронив Григория, решили вернуться сюда или попросить местных крестьян перенести его на кладбище.
Габриэль заболел, и мы оставили его в домике на развилке дорог южнее Монтюрё. А через два дня он исчез, и куда ушел, хозяева не знали.
После войны, когда Алиса была у меня в Москве, она и Валерий говорили, что считают налёт карателей наводкой Габриэля. Он предал свою мадам Жако, которая спасла его от казни. Так ли это на самом деле? Не знаю…
Мы отходили лесами и полями на юго-запад и должны были пересечь дорогу Комбфонтен-Пор-сюр-Сон недалеко от Комбфонтена, левее того места, где погиб Григорий. По дороге мы зашли к мэру какой-то деревни и приказали ему захоронить Григория у них на кладбище, показав на карте, где его временная могила. Мэр согласился, но весь дрожал от страха. День мы решили провести в лесу, а вечером, перед походом, зайти к нему поужинать – так с ним договорились раньше. Нам нельзя было показываться людям: здесь могли быть каратели. Отлично выспавшись, мы в кромешной тьме подошли к дому мэра из сада и стали вдоль стены забора подкрадываться к центральному входу. Впереди Франсуа, за ним я. Ребята остались на всякий случай в саду, и когда мы уже хотели выйти на улицу, я услышал топот сапог. Франсуа, будучи глуховатым, не услышал и наполовину высунулся из-за угла – и его спасла только темень: часовой оказался в двух шагах от нас. Я нажал на плечо Франсуа, закрыл ему рот рукой и заставил присесть вместе со мной. Через несколько секунд немец дошел до угла и повернул обратно. Мы бесшумно отошли к ребятам, и я рассказал о ситуации. Кто-то предложил швырнуть в дом пару гранат, обстрелять его и даже поджечь. Мы не сомневались, что деревенский голова предал нас. Я отклонил это предложение: такая акция навела бы карателей на наш след, ведь не было точно известно, что у мэра находились именно они, и мы на пустой желудок двинулись в путь.
Несколько слов о Франсуа. Среднего роста и телосложения, на вид лет тридцати, с мелкими чертами лица и постоянной улыбкой. Он выдавал себя за американского пилота. Хотя и слабовато, но всё-таки говорил и по-русски. Утверждал, что умеет водить машину, но как-то ночью мы с ним должны были тайно забрать легковую машину и пригнать в отряд. Однако Франсуа не смог её даже завести.
Рано утром, когда мы, форсировав Сону, шли на встречу с Валерием, я попросил его спеть «Янки-Дудль», но он отшучивался. Окончательно разоблачил себя, когда в лес приехал Марсель. Он начал говорить с Франсуа по-английски, но тот ничего не понял и сказал, что за время войны и плена забыл родной язык. Всем стало ясно, что он не американец, а Пента сказал ему в лицо, что он чех.
Да, Франсуа был чехом. В Париже он ушёл от нас в чешскую армию лондонского правительства Бенеша.
А нам было наплевать, кто он. Для нас он был хороший товарищ и храбрый солдат. Мы даже никогда не попрекали его этой наивной ложью.
Что касается мэра той деревни, то по просьбе жителей мы его наказали – он сотрудничал с немцами.
Валерий нас не ожидал так рано, а мы, вступив в лес Бель-Вевр, быстро нашли следы шин его грузовичка, и пошли по ним. По пути нам встретился дом лесничего с высокой черешней, у которой стояли лестницы: кто-то собирал ягоды. Но сейчас у деревьев никого не было. Двое наших полезли собирать черешню, остальные сели на опушке леса сторожить. Я тоже оказался на дереве. И какая же это была черешня! Ягода – с яблоко среднего размера, диаметром 6–7 см, бело-розовая. Вкуснющая! Когда я спускался, вышел хозяин и, увидев кто мы, заулыбался, а узнав, что мы идём в сторону Везуля (так мы ему сказали), предложил закусить. Мы не отказались, ведь почти сутки у нас во рту не было маковой росинки.
Поев и поблагодарив крестьянина, мы снова пошли по следу машины. И вскоре встретились. Обменявшись с Валерием информацией о событиях последних двух дней, я убедился, что он не дремал, успел связаться с Александром и договорился с местными сопротивленцами о диверсии на железной дороге. Наш друг, француз Александр, рассказал Валерию интересные новости. 6 мая мы с Валерием совершили две акции – обстреляли легковую машину в лесу, недалеко от Гре, и убили двух немецких велосипедистов. Александр сообщил Валерию, что мой выстрел по машине был очень удачным – я убил немецкого полковника! Две диверсии в один день под самым Гре всполошили фашистов, и они стали прочесывать леса. Привлекли к этому предателей-казаков. И вот в Савиньи въезжает на лошадях казачий отряд и останавливается у почты.
– Кто здесь главный партизан? – спрашивает, не слезая с коня, казачий офицер вышедшего Александра и других подошедших жителей Савиньи.
– Я – главный партизан, – отвечает Александр, смеясь.
– Ну тогда угощай вином, – приказывает офицер и спешивается.
Александр так накачал офицера-предателя спиртом, что того потом еле усадили на лошадь. Александр рассказал офицеру, что в окрестностях никаких партизан нет, и что обе диверсии совершила проходившая группа «макизар».
– Я с тобой согласен, – с трудом ворочая языком, ответил офицер.
Мы продолжили своё дело. В ночь с 3 на 4 июля поднялись к деревне Велексон, где нас ожидали два местных жителя с инструментами. Со мной были Костик, Алекс, Николай-1 и Николай-2.
Помню, как мы быстро развинтили рельсы и, поеживаясь от ночной прохлады, дожидались поезда.
По данным французов, охраны на этом участке не было и пассажирских поездов до утра не ожидалось (они ходили только днём). Мы стояли на лугу, прижавшись спинами друг к другу – грелись. Время текло, а поезда всё не было. Наконец загудел паровоз, и мы залегли на краю обрыва. Сверху не видно места, где развинчены рельсы. Поезд приближается, рельсы «поют», а сердце бьется как у спринтера после «сотки». И вот долгожданный миг – зарываясь колёсами в щебень, локомотив валится на соседний путь, вагоны лезут друг на друга. Но что в них? Товарные полувагоны гружёны углём. Да, невелика добыча, но главное – будут долго расчищать путь.
В рапорте сказано: «В ночь с 3 на 4 июля был пущен под откос поезд с углем недалеко от деревни Велексон. Локомотив сошел с рельсов, разбито 5 вагонов. Остановлено движение на 35 часов….» Это данные местных французов.
Мы не сидели сложа руки, и ночью 5 июля вышли на дорогу Гре-Безансон. В рапорте сказано: «5 июля в 10.30 группа в составе Валерия, Алексея, Гриши, Алекса, Костика, Франсуа, Николаев (1-го и 3-го) устроили засаду на дороге Гре-Безансон. Операция против машин сорвалась вследствие того, что проезжающие два немецких велосипедиста заметили нас. Пришлось их застрелить и уйти в лагерь. Трофеи – автомат, пистолет и граната».
На этой операции следует остановиться подробнее, ведь она стала косвенной причиной гибели Александра.
Он изъявил желание принять участие в операции, и на велосипеде выехал к условленному месту встречи. Мы пришли в полночь, а вскоре туда прибыл и Александр, пережидавший время у приятеля в деревне Ансьер. Все лежали на траве и болтали. Холодало. Александр к холоду не привык, сильно замерзнув, решил вернуться к приятелю в Ансьер и там дожидаться результата операции.
Рано утром мы заняли позицию на высокой стороне дороги и замаскировались в кустах. Лес от нас был метрах в десяти. Я расположился с левого фланга, Валерий с правого, ближе к Гре. Расстояние между нами было метров сто. Солнце пригревало, клонило ко сну, хотелось есть, а машин всё не было. Мы рассчитывали встретить автоколонну с бензином. Александр говорил, что они проходят иногда по этой дороге (№ 67). Ни человека кругом, тишину нарушает только птичий гомон и стрекот кузнечиков, но под эту «музыку» спать легко, и я всё больше клевал носом. Из сонного состояния меня вывела стрельба. Валерий обстрелял двух велосипедистов. Один упал сразу, а другой пытался бежать в лес, но был подстрелен. Ребята спустились, забрали трофеи, и мы быстро отошли к лагерю.
Я спросил Валерия, зачем он стрелял, ведь мы должны были ждать автоколонну. Он ответил, что нам нужны автоматы и велосипеды. В рапорте мы писали, что нас заметили, иначе бы мы обесценили эту операцию. Ведь просто смешно: восьмером против двух велосипедистов…
Я всю дорогу злился и ворчал на Валерия за срыв хорошей операции.
Вечером Валерий пошел к Александру и вернулся с ужасной вестью – он убит. Это нас поразило. Что же произошло?
Александр сидел у своего приятеля и ждал новостей. Часов в 12 новости пришли, и он, обрадованный и воодушевлённый, сильно навеселе, поехал домой. Недалеко от Ансьера его остановил вышедший из-под моста немецкий патруль. Наставив на Александра автомат, солдаты потребовали документы. Вместо того чтобы предъявить их, он выхватил пистолет калибра 6,35, но выстрелить не успел – был срезан автоматной очередью.
Очевидно, сказались алкоголь и воодушевление нашим «успехом». Трагическая смерть Александра потрясла нас, и мы решили за него отомстить. Хоронить собирались 8 июля вечером, и в тот же день провести операцию, а потом успеть на похороны.
Засаду решили провести на лесной дороге Ини-Божё, в том месте, где 6 мая убили двух немецких велосипедистов.
Я в той операции участия не принимал, поэтому ограничусь только данными рапортов.
Вот один из них: «8 июля в 13 часов группа в составе: Валерия, Гриши, Кости, Николаев (1-го и 2-го) и Пенты устроила засаду на лесной дороге Ини-Божё. Убито два немецких велосипедиста. Трофеи – автомат. Эта операция была задумана и проведена как месть за гибель хорошего французского товарища, который работал вместе с нами. Операция совпала с похоронами Александра Соней».
После операции группа Валерия зашла в Савиньи и приняла участие в захоронении Александра. Валерий произнес речь, был дан трехкратный залп.
На другой день мэра Венизи вызвали в Гре и учинили допрос о «русских бандитах». На вопрос, почему мэр разрешил русским принять участие в похоронах Соней бандита, мэр ответил, что русские пришли с оружием, и он побоялся попросить их уйти. С того момента, как русские пришли в деревню, они стали хозяевами положения. О нашем лагере и о жителях, сотрудничающих с русскими, он ничего не сказал, хотя кое-что знал.
В этот же день, 8 июля, к нам прибыл новый руководитель, сменивший Мариуса, – Марсель. По-национальности – румын, участник испанской кампании, коммунист.
Выслушав рапорт о боевых делах отряда, одобрил нашу деятельность. Главное, что он сообщил – это о высадке 6 июля союзников в Нормандии. Мы были вне себя от радости. Он сказал, что генерал Мари-Пьер Кёниг, командир французских внутренних войск, приказал начать железнодорожную войну и запретил французам ездить поездами.
Марсель остался ночевать с нами в лесу и рассказал много интересного. От него мы услышали о Нике (Николай Иванович Смаричевский, ныне персональный пенсионер, после войны проживающий в г. Кишиневе), участнике испанской войны, бывшем бойце дивизии имени Котовского, а теперь организаторе интернациональных групп Сопротивления во Франции. Марсель обещал привести Ника к нам, и мы его уже полюбили.
Марсель всё время твердил нам о бдительности, поведал несколько трагических эпизодов из жизни французских «маки́». В один французский отряд был заслан предатель. Он пробыл там месяц, принимал участие в операциях и все считали его своим парнем. Однажды, во время операции, французам пришлось отступать, и когда они собрались в лагере, нового бойца не оказалось. «Макизары» не обратили на это внимания, остались на старом месте. Как обычно, выставили двух часовых, которые предпочли сидеть у костра, а не караулить, как положено, метрах в 50–70 от лагеря. Они не обратили внимания на хрюканье кабанов, зная, что их за войну в лесах развелось очень много. А это хрюкали каратели-власовцы, успевшие окружить лагерь. Их привёл предатель, и весь отряд был уничтожен.
Другой случай. Один отряд всё время попадал в засады и спасался только командир. Он вновь набирал в отряд молодых людей, а потом, будучи провокатором, подставлял «макизаров» под пули немцев. В конце концов, его разоблачили и уничтожили, но сколько людей из-за него погибло…
Марсель рассказывал нам о Луи (генерал Илич), о положении на фронтах. Говорил он по-французски, переводила Алиса, хотя он хорошо понимал по-русски.
На наш вопрос, где Мариус, он сказал, что тот переведён в другой район. Но прямого ответа на вопрос «почему»? Марсель не дал.
На другой день утром, во время завтрака (без спирта, конечно), Марсель преподнёс нам сюрприз – достал подпольную «Юманите» и прочитал маленькую заметку о том, что «Отряд им. Парижской Коммуны 5 июня атаковал на шоссе Комбфонтен-Пор-сюр-Сон машину с немцами. В завязавшемся бою были убиты 9 немцев, в том числе один фельдфебель и один унтер-офицер». Эту газету в своё время читал нам и Мариус.
Марсель сказал, что о действиях нашего отряда информируется ЦК Французской компартии. Сообщение в «Юманите» наполнило нас гордостью; у меня на глазах навернулись слезы и я подумал – а может, и сам Сталин знает о существовании нашего отряда?
После полудня мы проводили Марселя до опушки, тепло простились с ним и попросили, чтобы он обязательно привёз к нам Ника. Я смотрел в его добрые чёрные глаза, на его гордое лицо с орлиным носом и думал: какая интересная жизнь у этого человека! Позже в Москве Алиса скупо расскажет, что Марсель стал послом Румынии в Аргентине. Румынский лидер Георгиу-Деж не терпел возле себя людей, симпатизирующих русским, и отправил его в Южную Америку.
Алиса пошла проводить Марселя дальше. Она вернулась к вечеру и сообщила, что коммунисты просят нас принять вместе с ними грузовые парашюты из Лондона, и 11 июля нам нужно быть южнее Гре в окрестностях деревни Монсеньи. У нас будет проводник.
45
Мы тут же выделили для похода группу в 6 человек. В неё вошли я, Костик, Франсуа, Николай-2, Павел и Алекс. Мы не стали дожидаться проводника и вечером двинулись в путь, а 11-го утром были на месте. Вскоре Франсуа и Костик, наблюдавшие за местностью, заметили двух французов, ожидавших сброса груза на парашютах.
Они рассказали, что по их просьбе Лондон дал согласие на доставку оружия, не сегодня-завтра ждут сообщение о дате его сброса.
Мы были удивлены согласием лондонских деятелей снабдить оружием коммунистов. До сих пор ничего подобного не случалось. Каждую ночь английские самолёты сбрасывали оружие на территорию Франции, но только не коммунистам – им всегда отказывали, и они добывали его в боях, как и мы. Наибольшая часть оружия из Великобритании консервировалась до пресловутого дня «Х» – до особой команды из Лондона. Оно так и пролежало без действия до прихода союзников или французских войск.
Французы признались, что и сами удивлены положительным ответом, а причины здесь могут быть две: или открытие второго фронта, когда войскам союзников потребуется активная помощь в тылу у немцев, или то, что, запрашивая Лондон, их группа скрыла свою принадлежность к компартии.
Груз должны были сбросить на открытой местности севернее Монсеньи по сигналу кострами. На этом мы распрощались.
Погода стояла жаркая, и мы решили искупаться. Берега Соны в месте нашей маскировки были неудобны, и мы лесочком спустились вниз по реке, где в 100 метрах от моста оказался хороший пляж.
Каково же было наше изумление, когда мы увидели на пляже четверых купающихся немцев. Каратели? Но почему они беспечно оставили на берегу одежду и оружие? Получасовое наблюдение позволило установить, что это солдаты из охраны моста. Немцы загорали, купались, играли в карты, пили вино и перекликались с часовым, ходившим по мосту.
Можно было пойти назад и искупаться там – вне поля зрения часового, но какой-то чёртик дернул меня предложить сделать это вместе с немцами, оставив двух человек со всем оружием в лесу на случай стычки с охранниками. И ребята, забыв, так же, как и я, о важности порученного нам дела, и о том, что в случае вооружённой схватки приём важного груза может быть сорван, – согласились со мной. Всем хотелось немедленно окунуться.
В рослом кустарнике остались лежать метрах в 50–60 от немцев Франсуа и Костик. Остальные вместе со мной отошли немного назад и пошли вниз по реке к пляжу, предварительно договорившись с Франсуа и Костиком, что в критический для нас момент мы падаем на землю, а они тут же открывают огонь по немцам, а затем по мосту.
Мы подошли к пляжу и, не обращая внимания на немцев, стали раздеваться. Те с подозрением глядели на нас, но, увидев, что мы полезли в воду, успокоились и продолжали играть в карты. После купания мы пошли вверх по реке на место стоянки, где к нам присоединились Костик и Франсуа.
Часа в четыре пополудни к кустам подошли четверо штатских. Один их них был у нас вчера, троих мы не знали.
Я вышел к ним. Старший группы отозвал меня в сторону и объяснил, что они привели белого эмигранта (высокий лысоватый брюнет с рюкзаком). Звали его Вальдемар (фамилию я забыл). Он служил в легионе по борьбе с большевизмом, который организовал предатель Лаваль (премьер-министр при немцах) для отправки на Восточный фронт против русских. Француз сообщил, что Вальдемар сотрудничал с немцами в Париже и, приехав сюда, просил у немецкого начальника должность на железной дороге. Он, мол, настаивает на хорошем к себе отношении благодаря особым заслугам перед немцами. Француз сказал, что они могли и сами расстрелять предателя, но поскольку он русский, предлагают это сделать нам. И передал мне документы Вальдемара, а также его письмо немецкому начальнику с просьбой о назначении на должность на железной дороге.
Французы распрощались и ушли, а Вальдемар остался с нами.
Я не хотел брать на себя ответственность за его жизнь и решил не посвящать ребят в информацию француза до возвращения Валерия с остальной частью отряда.
Я спросил Вальдемара-Владимира – кто он такой и почему его привели к нам?
Он поведал свою историю. Украинец, из дворян (чуть ли не графского звания), прибыл во Францию после разгрома Врангеля в Крыму. По образованию – юрист, но юридической практикой не занимался, помешала Гражданская война, а во Франции вход в корпорацию юристов для него, как русского эмигранта, закрыт.
На мой вопрос, что он делал во время войны, ответил:
– Я унтер-офицер французской армии (он принял французское гражданство) и был призван из резерва в действующую армию в сентябре 1939 года. На фронт не попал. После перемирия был демобилизован. В 1941 году тяжёлые материальные условия заставили вступить в легион по борьбе с большевизмом, где я был старшиной роты. Когда встал вопрос об отправке легиона на восточный фронт, мне пришлось «заболеть». Я так искусно симулировал, что врачебная комиссия меня демобилизовала. В 1942 году я женился и уехал из Парижа к родственникам жены. На работу устроиться не удалось, и мы с женой перебивались случайными заработками. Недавно родилась дочь. Я услышал по радио приказ генерала Кёнига: всем офицерам и унтер-офицерам французской армии явиться в ближайшие «маки́». Я собрал вещички и пошел в кафе, где, по моим наблюдениям, могли быть «макизары», и начал расспрашивать молодежь, как мне попасть в «маки́». Один предложил меня проводить, к нему присоединились ещё двое, и повели в лес. По дороге они меня обыскали и забрали документы, которые передали вам. Таким образом, по приказу генерала Кёнига я должен вступить в ваши «маки́»…
Я не стал расспрашивать его о службе в легионе по борьбе с большевизмом, письме с просьбой о должности, и сказал, что завтра прибудет командир, мы и решим этот вопрос.
Всю ночь я проговорил с Вальдемаром. Давно не встречал такого интересного собеседника. Он много где побывал – в Северной Африке, Юго-Восточной Азии, у нас на Дальнем Востоке (с контрабандистами или хунхузами – не помню). Рассказывал об этих странах и землях, о службе в Иностранном легионе, о римском праве, о кодексе Наполеона, который при составлении кодекса многое позаимствовал из римского права.
Сменялись часовые, а мы всё беседовали. Разговор и настороженность к этому человеку помогали мне бороться со сном. Часов в шесть утра мы заснули, а в одиннадцать прибыли ребята и Алиса.
Я доложил Валерию и Алисе о Вальдемаре, передал его документы и письмо.
Что с ним делать? Расстрелять? Решили как следует допросить, а там видно будет.
Собрали всех, рассказали, что к нам прибыл по приказу генерала Кёнига унтер-офицер запаса французской армии Вальдемар, но он служил в лавалевском легионе по борьбе с большевизмом. Алиса спросила – как поступим? Раздались возгласы – допросить, расстрелять, пусть уходит… Решили допросить.
И он, не волнуясь, рассказал свою биографию, которую мы не могли проверить. Объяснил, что в легион пошёл служить из-за голода. Наконец, Алиса задаёт вопрос:
– А за какие такие заслуги вы, господин Вальдемар, просили у немецкого начальства должность на железной дороге?
– Я же пишу в письме, что служил в легионе по борьбе с большевизмом, но когда он узнал, что я по болезни не поехал на восточный фронт, то отказал мне в должности.
После спора, в котором часто звучало слово «расстрелять», всё-таки решили оставить Вальдемара в отряде.
В первой же боевой операции выяснилось, что он трусоват, и мы определили его в хозяйственную часть, в помощь Пенте. Был он выпивохой, да и человеческие качества не на высоте: ленив, задирист, жаден. Примерно через месяц он объявил, что мы должны ему платить, как платят во французской армии. Мы подняли его на смех, но он, не смущаясь, предложил нам проверить, как обстоят дела в отрядах французских внутренних войск.
Там Алисе разъяснили, что Вальдемар прав, и даже сказали, сколько мы должны ему платить ежемесячно.
На общем собрании решили заплатить, но когда он сказал, что должен отвезти деньги жене – она и дочь голодают, мы задумались.
И тут Гриша предложил:
– Ребята, давайте я поеду с ним.
Как ни страшно нам было отпускать Гришу, но солнечным утром из леса под Анжери отправились два велосипедиста. Деньги вёз Гриша.
Мы приказали, чтобы они вернулись сегодня же, и с нетерпением ждали. Часов в девятнадцать они вернулись, и Гриша рассказал, что жена встретила мужа не слишком дружелюбно, ругала, называла пьяницей и лодырем, и что дочь слабенькая и худенькая. По мнению Гриши, было бы хорошо послать им деньги за месяц вперед. Он умолчал тогда, что передал 2000 франков лишних – жалко стало девчонку.
После освобождения Франции мы передали Вальдемара французским властям.
46
Решив вопрос с соотечественником, Валерий сказал, что районное командование французских внутренних войск просит нас помочь какому-то «маки́», попавшему в окружение в лесах южнее Риоза. Это населённый пункт на дороге Аранд-Везуль-Безансон, и после приёма груза мы двинемся туда.
Но положение к вечеру изменилось. Явились французы и сообщили, что в Лондоне передумали и отказали в пересылке оружия. Ясно: голлисты узнали, что оно предназначалось коммунистам.
Алиса ушла с французами, а мы ночью тронулись «домой» в Савиньи. На другой день приехала Алиса и сказала, что поход на выручку французов отпадает, они вышли из окружения, но нас зовут французы из-под Венизи на совместную операцию. Они добыли фауст-патрон и по решению районного командования должны провести совместную с нами операцию на шоссе Везуль – Безансон. Причём поездка к месту операции должна быть открытой, чтобы продемонстрировать местному населению наличие внутренних сил Сопротивления.
Мы сели на свои два грузовика, оставив в лесу Пенту и Вальдемара, и по маршруту, предложенному районным командованием, двинулись к месту операции.
Впереди шла машина французов с огромным трехцветным знаменем, за ней наша со знаменем отряда. Это знамя прислали нам русские эмигранты из Парижа, члены организации «Русский патриот». Посередине темно-красного бархата был вышит герб Советского Союза, сверху и снизу герб огибали надписи золотыми буквами по-русски и по-французски – «Отряд Парижская Коммуна». Размер знамени – 1500 мм на 1200 мм. Третья автомашина шла под большим красным флагом. Жители Савиньи, Анжери, Сите и других деревень, заранее предупрежденные, уже поджидали нас, кое-где с французскими знаменами, и приветливо махали нам платками и шляпами. Думаю, наша демонстрация подогрела патриотические чувства французов. После неё появились новые «маки́». Но нам эта поездка стоила много нервов. Километров тридцать – сорок мы ехали, не спуская пальцев с курков и приготовив гранаты. Французы были более беспечны – они ведь дома.
В деревне Ле-Фонтен-Риоз мы заняли позицию вдоль дороги между деревнями Ие и Малашер. Предполагалось, что начнём стрелять из фауст-патрона по автомашине, поэтому поместили его в середине группы: если пройдёт колонна, то удар по средней машине в центре группы даст возможность обстрелять всю колонну, ибо от центра в каждую сторону мы растянулись метров на 100. Я лежал крайним справа.
Машин всё не было, но вдруг со стороны Везуля показались немецкие велосипедисты. По три или по четыре в ряд они образовали цепочку, конца которой я не увидел, хотя лежал выше всех. И вот, когда передние велосипедисты миновали центр, выстрелил фауст-патрон. Ракета взорвалась в гуще велосипедистов, ударившись о шоссе. И тотчас «заговорили» автоматы. Мне пришлось стрелять издалека по убегающим немцам, бросившим велосипеды. Они бежали к лесу на той стороне шоссе.
Мы выбежали на шоссе, залегли в кювете на другой стороне и стреляли, стреляли, стреляли. А когда встали и пошли собирать трофеи, увидели, что на земле валялись не немцы, а власовцы. На рукаве была их эмблема РОА – «Русская освободительная армия». Предатели-«освободители». В это время началась редкая ответная стрельба с севера. Очевидно, предатели пришли в себя. Нам надо быстро отходить. И тут я и один француз заметили, что двое «убитых» приподнимают головы и перемигиваются.
– Встать!!! – заорал я на них.
Они вскочили и вытянулись по стойке смирно, удивленно глядя на меня. Подействовал русский язык. Француз вскинул автомат, но я остановил его.
– Бегом на ту сторону! – скомандовал я им. И они побежали во всю прыть, а мы за ними. Пули свистели всё чаще, но никто, кажется, не был ранен, во всяком случае, у русских.
Мы очутились в Ле-Фонтен-Риоз. Валерий вытаращил глаза, увидев двух власовцев.
– Эти-то зачем? Не мог там прикончить?
– Сначала давай допросим, а там видно будет.
Власовцев посадили в машину, и все три машины тронулись в путь. Мы с гордостью мнили себя победителями. Пленные сидели, понурив головы. Обратно водители гнали быстрее. В населенных пунктах по нашим улыбкам жители могли понять, что мы возвращаемся с победой.
Эта операция была проведена 18 июля 1944 года.
В официальном рапорте Илича сказано: «В 16.00 часов на шоссе Везуль-Безансон при поддержке французских партизан была атакована колонна власовцев (РОА). Убито семь предателей, число раненых осталось неизвестным».
На допросе власовцев выяснилось, что их батальон в количестве 450 человек перебрасывали на юг для проведения карательных операций. Своим нападением мы сорвали переброску или задержали. Ведь противнику пришлось доставить в госпиталь всех раненых, а их было не меньше двух десятков.
Мы выяснили у пленных фамилии офицеров, известных им солдат, место, где батальон формировался, и почему пленные стали на путь предательства (ответ был: «заставили насильно»). Протокол допроса Алиса передала в центр.
Но что делать с власовцами?
Алиса напомнила нам приказ центра – немцев брать в плен, а власовцам давать возможность оправдаться перед Родиной. Мы оставили их в отряде, объяснив, что это их последний шанс, ведь с фашистами скоро будет покончено. Они обрадовались, что им сохранили жизнь и обещали в боях искупить предательство. Мы, конечно, наблюдали за ними, но по всему было видно, что они рады избавлению от немцев.
Фашистов мы ещё недели две не брали в плен, до тех пор пока центр не пригрозил Валерию и мне военным трибуналом. В начале августа, когда мы перебазировались в Пети-буа-де-Жи восточнее Анжери, в лесу организовали лагерь военнопленных. Его охраняли французы из Анжери, Ини и Савиньи.
20 июля «макизары» предложили нам провести совместную диверсию на железной дороге – они добыли взрывчатку (пластик) и поделились с нами. Операцию наметили в том же месте, где 3 июля мы организовали крушение поезда с углём.
В черновике рапорта записано: «В ночь с 22 на 23 июля был пущен под откос поезд при помощи взрывчатых веществ, локомотив сошёл с рельсов. Остановка движения на 24 часа. В операции участвовали: Алёша, Павел и три француза. Операция проводилась между Великсон и Саво».
Опять мы с дрожью в сердце прислушивались к шуму приближающегося поезда, и снова нам казалось, что локомотив прошёл мимо, но взрыв прогремел, и локомотив слетел с рельсов. Но он не завалился набок: скорость была мала. Мы обстреляли мечущихся около разбитых вагонов немцев и ушли.
25 июля на шоссе Безансон – Дампьер мы устроили засаду. В моём черновике записано: «25 июля в 2 часа дня были обстреляны 2 автомашины с немцами, один немец убит, двое ранены. Операция прошла не совсем удачно потому, что из 6 автоматов 4 отказали сразу, а два других после нескольких коротких очередей отказали так же, как американская винтовка и пулемет. В операции участвовали – Валерий, Алёша, Алекс, Франсуа, Павел, Костя, Янек, Николай-1. Николай-3, Пента и три француза из группы МЕМЕ».
В лагерь мы вернулись часа через три, а вечером пришла из Гре взволнованная Алиса и сообщила, что капитан (шеф французской жандармерии города Гре) предупредил, что завтра с утра в наш лес нагрянут каратели – немцы и власовцы, человек двести, поэтому нам сегодня же надо выбраться оттуда.
Сообщение Алисы нас не испугало: привыкли к опасности, но мы тут же стали собираться и приводить в порядок машины. К тому времени у нас было 4 автомобиля – 2 грузовика и 2 легковушки, плюс 2 мотоцикла и штук пять велосипедов.
Отходить мы решили в новые места: на юг, в департамент Юра, в лес Сер, который по размерам был таким же, как наш Бель-Вевр. Можно было отойти на север в район Венизи, но мы слишком сильно там набедокурили, и каратели могли уже перекрыть для нас пути отхода.
По карте наметили маршрут по маленьким дорожкам в лес, откуда мы намеревались разведать лес Сер, чтобы там затаиться и отдохнуть с недельку.
Мы не предполагали, что события этого не позволят.
47
Часа в два ночи мы осторожно выехали из леса. Наши разведчики были в Савиньи и Вильфранше, и встречали нас перед этими деревнями. Впереди, метрах в 60-ти, на мотоцикле ехал Павел. Машины двигались без света и на малой скорости.
Всё шло хорошо до деревни Южье, где мы остановились на развилке дорог, чтобы сориентироваться. Пока мы совещались, со стороны деревни Шанси послышался шум двигателей. Не успели мы завести свои машины, как далеко позади услышали гудение моторов. Ясно, что это каратели. Но как они нащупали нас? Ещё не рассвело, а через стекло водителей дорога уже проглядывалась, поэтому машины на максимальной скорости помчались на юг в деревню Сорно. Оттуда мы свернули вправо, а после пересечения железной дороги – на целину и поехали в темневший невдалеке лес. Сходу форсировали ручей и вылезли из машин.
Валерий скомандовал: в случае нападения забрать оружие и организованно отходить в лес Сер.
Вскоре мы услышали шум машин в деревне Монтанье. Потом шум стих. Мы напряженно прислушивались. Я приказал приготовиться к бою.
И в это время в предутренней тишине послышался шум моторов на севере. Мы определили, что машины идут и в Монтанье, и в Сорно. Стало ясно, что нас вычислили, и у нас остается только один выход – обратно на машинах на северо-восток, чтобы вырваться из окружения.
– Может, сразу попробовать пробиться в лес Сер, – предложил я Валерию.
– Нет, давай ждать, тут что-то не то. Не может быть, чтобы они знали наш маршрут. Мы ведь обсуждали его только вчетвером, и никто не уходил из леса. Может, это не каратели?
И вдруг в Монтанье началась стрельба, а минут через пять из Сорно на большой скорости в направлении Монтанье проследовали четыре грузовика с немцами. Было уже светло, и мы увидели, как, не доехав до Монтанье, они выгрузились и начали быстро окружать деревню. Стрельба учащалась, появилось пламя пожара. В Монтанье шёл настоящий бой. Но кто воюет? А вдруг каратели окружили бунтующую деревню и уничтожают её?
– Кажется, это погоня не за нами, – выдохнул Валерий.
– Давайте вмешаемся! – предложил Гриша.
– Этого делать нельзя, – сказала Алиса, – обстановка не ясна, и мы должны выждать.
Стрельба длилась часа четыре, потом всё смолкло, и только большие языки пламени, видимые даже в лучах солнца, полыхали над Монтанье.
Мы не выходили из леса. Наши «кукушки» наблюдали за деревней и часа в четыре пополудни сообщили, что немцы уезжают на север. Шум моторов, сначала сильный, начал затихать.
Что же там произошло? Об этом мы узнали вечером, когда Алиса вернулась из разведки.
Дело было вот в чём.
Когда мы выезжали из леса под Анжери, немцы были уже на пути в Сен-Бруэн. То ли они услышали шум наших машин, то ли получили сведения от своих агентов или разведчиков из Савиньи, но через час они последовали за нами. Мы ехали, медленно обследуя на мотоцикле деревни, а они гнали вовсю и начали нас настигать.
Но в ту ночь деревню Шанси оккупировала банда троцкистов, анархистов и бандитов на службе у немцев. Они, маскируясь под партизан, грабили, насиловали жителей, дискредитируя в их глазах движение Сопротивления, убивали выходящих к ним, как к «макизарам», доверчивых людей. А после попойки эта кровавая банда снялась и к утру решила занять Монтанье.
Они выехали из Шанси, когда мы стояли в Южье. Шум их моторов мы услышали справа от себя и приняли их за немцев, но они не заезжали в Южье, а с включёнными фарами направились в Монтанье. Немцы обнаружили их и, приняв за нас, начали окружать.
Не успели бандиты приступить к грабежу, как в Монтанье с севера ворвались каратели и начали обстреливать их. Бандиты, отвечая на огонь, пытались отойти к нашему лесу, но здесь их ждала цепь карателей, прибывших через Сорно. В общем, хотя эта банда упорно сопротивлялась, вскоре её остатки сдались. Немцы повезли пленников в Гре. И как же они были удивлены и озадачены, когда на допросах выяснилось, что захвачены свои же провокаторы!
Капитан жандармерии рассказал, что немцы долго гадали, куда могли скрыться неуловимые русские. Потом решили, что мы просочились через их заграждения севернее леса Бель-Вевр и ушли в район Венизи. Послали туда разведчиков, но те нас не обнаружили. И немцы не только успокоились, но и были рады, что мы исчезли из их района.
Нам здорово повезло. Если бы не эта банда, то неизвестно, как сложилась бы судьба отряда.
Мы спустились в лес Сер, предварительно разведав к нему пути, и затаились. Через несколько дней в восточной части департамента Кот-д’Ор другие немцы почувствовали на себе огонь наших товарищей. И местная прогитлеровская пресса завопила о бандитах во главе с женщиной.
48
Когда наша разведка направилась в лес Сер, Алиса отозвала в сторонку Валерия, меня и Гришу и сообщила, что должна нас покинуть: ещё позавчера в Гре получила приказ срочно явиться к Луи (он же Илич).
– Как же ты поедешь, Алиса?
– Придётся поездом, я и так задержалась на два дня. Если бы не экспедиция карателей против вас, я бы из Гре уехала в Париж.
– Но ведь сейчас по приказу генерала Кёнига идет железнодорожная война. Немцы не пропускают пассажирские поезда, они прицепляют вагоны для гражданских к воинским эшелонам. Поездом ехать нельзя! – отговаривал я её.
– Поеду на велосипеде, может, кто-нибудь подвезёт по дороге на машине, но я должна быть в Париже.
– Посадим тебя в «ситроен» и повезём, – предложил я.
– Не могу подвергать опасности жизнь других.
– Вся наша жизнь – опасность, – возразил я.
И предложил:
– Завтра вернутся разведчики, обсудим это на общем собрании отряда.
Ночью вернулись разведчики, а утром прошло собрание. Единогласно решили: отправить Алису в Париж на нашем чёрном «Ситроене». Собрался штаб, чтобы определиться, кто должен ехать. Алиса заявила, что она может ехать только с Валерием. Во-первых, он лучше всех водит машину, а во-вторых (и это было самое главное), она имеет на него больше прав, чем на кого-то другого.
Возразить было нечего. Решили дать им ещё двух человек. После обсуждения остановились на Николае-1 и Костике. Как же радовался Костик, когда я объявил решение штаба! Он не знал, что через два дня закончится его девятнадцатилетний путь на земле…
На другой день мы перебрались в лес Сер, устроились там недалеко от ручья, где бил ключ, и стали готовиться к отъезду. Валерий проверил машину, ребята – оружие. Алиса волновалась, а я думал о планах будущих операций. Потом мы, расстелив карты, наметили путь до Парижа глухими дорогами. И вот 31 июля часов в одиннадцать утра из леса через деревню Бранс выехал наш «Ситроен» последней модели. В машине находились Алиса, за рулём Валерий, на заднем сидении Костик и Николай-1, вооружённые самыми лучшими автоматами с шестью магазинами к каждому, и двумя гранатами. Валерий взял у меня трофейный длинноствольный «парабеллум», а у Алисы был свой калибра 6,35.
Не ожидали мы, что они так быстро вернутся, и не все; 2 августа возвратились в лес Валерий с перевязанной головой и Николай.
Что случилось? Рассказываю со слов Валерия.
До Парижа не так далеко, примерно 400 км, но препятствий много – кругом немцы. Уже несколько часов мчалась машина, петляя по просёлочным дорогам заранее намеченного маршрута. Приходилось останавливаться в лесу, разведывать дорогу, возвращаться назад, лишь бы не напороться на немцев или жандармов. Последние не страшны – страшен телефон. Но вот исчезла напряжённость от необычности операции. Дремала Алиса, спали Костя и Николай.
Позади густонаселённые районы департамента Верхняя Сона и шоссе Дижон – Лангр, впереди леса Шатийон. Но, как поведал Валерий, почему-то их смутила дорога, ведущая через Шатийонский лес, – была обозначена как тропинка. На перекрестке дорог между деревнями Эссаруа и Больё Алиса спросила у работавшего крестьянина: можно ли проехать через лес той дорогой? Он ответил:
– Проехать-то можно, но лучше через Эссаруа по шоссе.
Алиса переспросила его, и он повторил то же самое. Ясно, что проехать можно, а если дорога плохая, так это к лучшему – меньше риска встретить немцев.
Спокойное урчание мотора и темень густого леса клонили к дремоте. Валерий гнал машину на скорости 80 км в час – дорога, хоть и заросшая, была вполне сносной. И вдруг «Ситроен», минуя открытый шлагбаум, выскочил на широкую солнечную поляну, а на ней водитель увидел казармы, зенитные пушки, звукоулавливатели, блиндажи и полураздетых солдат, делающих зарядку.
Дальше пересказываю услышанное от ребят и Алисы по их возвращении в лес.
От неожиданности у Валерия задрожала нога на акселераторе, он не смог вымолвить ни слова, только толкнул дремавшую Алису. Ребята продолжали спать.
Алиса сразу оценила обстановку и тут же скомандовала: «Валерий, жми! Ребята, подъём!»
Чёрный «Ситроен» пронёсся через лагерь среди застывших от изумления немцев.
Уже виден выезд, сейчас минует смертельная опасность, Валерий прибавил газа. Вот и спасительный поворот на выезд из лагеря.
Но шлагбаум закрыт!
Заскрежетали тормоза, зад машины занесло в сторону.
Алиса высунулась из окна, и, улыбаясь часовому, попросила по-французски открыть шлагбаум.
Часовой, отвечая улыбкой, поспешил к шлагбауму. И вдруг раздался свисток. Часовой опустил шлагбаум и подошёл к Валерию:
– Аусвайс («пропуск»), с’иль-ву-пле.
В это время машину окружили запыхавшиеся немцы.
Валерий, вскинув «парабеллум», первым же выстрелом уложил ещё улыбающегося часового, вторым – подоспевшего со свистком в руках офицера, и дал команду ребятам открыть огонь.
Костя и Николай через стёкла и кузов машины стреляли из автоматов по столпившимся немцам. Крики, вопли, немцы разбегаются и открывают ответный огонь.
Но Алиса уже у шлагбаума, он медленно поднимается. Валерий рывком подводит к ней машину и распахивает дверцу, но раненная в ногу Алиса медленно оседает и кричит:
– Прочь, я вас прикрою!
Валерий, раненный в щёку, не удержался от крепких русских слов, и втащил Алису в машину за воротник куртки.
Падая на сиденье, Алиса рукой задела безжизненную, пробитую пулей, огненно-рыжую голову Костика.
Валерий дал полный газ, и «Ситроен» рванул вперёд, набирая максимальную скорость. Наш любимый чёрный «Ситроен», изуродованный, без стёкол, с изрешечённым пулями кузовом сделал свой последний рывок.
По дороге навстречу бежали полуголые немцы, Николай дал по ним несколько очередей. Дорога, как стрела, и вдруг – поворот на 90 градусов. С ревущим мотором, перевернувшись несколько раз, автомобиль упал за поворотом в овраг. Гитлеровцы этого уже не видели.
Чудом уцелевшие трое партизан, выбравшись из машины, быстро простились с Костей и, превозмогая боль (Николай при падении повредил ключицу), побежали по оврагу. Они не пошли в ближайший лес, а мелким кустарником пересекли шоссе и стали подниматься наверх.
Беглецы видели, как подъехали машины с немцами, а затем по команде офицера поднялись на ту сторону оврага и начали прочёсывать лес. Ребята в это время находились метрах в 150 от места аварии.
Убиравшие неподалеку урожай французы отвели их к себе в дом, перевязали и дали на дорогу питание. Трое неудачников осторожно пересекли два шоссе и железную дорогу, заночевали в лесном сарае с сеном, а потом решили искать автомашину.
Утром они шли по обочине шоссе: Алиса метрах в 100 впереди, остальные двое – сзади. Они условились: если машина гражданская, Алиса проходит мимо, а ребята автомобиль останавливают и реквизируют, если же машина немецкая – Алиса нагибается и поправляет бинт на ноге, а ребята скрываются в лесу.
И вот идёт впереди, прихрамывая, Алиса, за ней с перевязанной головой Валерий, а по другую сторону шоссе, тоже по обочине, Николай. Автоматы разобраны и висят на шее под пиджаками.
На обочине увидели машину. Алиса заговорила с сидевшим на краю кювета человеком, который ребятам не был виден. Алиса пошла дальше. Значит, машина штатская. Валерий перебежал на обочину Николая, и они убыстрили шаг. Николай спешно собрал автомат. Каково же было удивление ребят, когда они, обойдя машину, увидели немецкого обер-ефрейтора, но раздумывать некогда. Скомандовали по-немецки: «Стой, руки вверх» и обезоружили. Валерий сел за руль, но машина фирмы «Симка» ему не была знакома, а Николай узнал у обер-ефрейтора, что тот привёз своего офицера поохотиться. И тут с дробовиком в руках появился офицер и выстрелил (к счастью, издалека и мелкой дробью) по стеклу машины. Стекло даже не треснуло. Николай упал в кювет и дал очередь по офицеру, тот показал пятки. Смотался и обер-ефрейтор.
Машина заведена и опробована. Но где Алиса? Метров 200 тихого хода, а потом на полный газ. Они были уверены, что Алиса выкрутится. К вечеру ребята прибыли к нам в лес.
Мы издалека услышали шум мотора и, определив, что едет легковушка, особо не волновались. Каково же было удивление, когда из малютки «Симки» показалась огромная перебинтованная голова, а затем знакомая фигура Валерия.
Алису позже мы обнаружили в госпитале города Гре. Как она туда добралась – осталось загадкой.
Потом она пришла в отряд и принесла газету, в которой было написано: «31 июля группа бандитов во главе с женщиной на машине ворвалась в расположение воинской части Германии и открыла стрельбу по немецким солдатам. В завязавшейся перестрелке бандиты были уничтожены. Немцы потеряли 7 человек».
Так неудачно закончился рискованный вояж в Париж. Костик, рыжий порывистый Костик, ушёл в мир иной.
Этот эпизод, подходящий для кинобоевиков, показал, насколько мы закалились в партизанских боях. Попав в такой переплет, из которого в 9 случаях из 10 выход только один – гибель, Алиса, Валерий, Николай и Костик, проявив храбрость, находчивость и поразительную ловкость, нашли этот единственный выход, который привёл к спасению.
Вечная слава храбрецу Костику!
Сообщил ли Валерий родным Костика о его трагической и героической гибели? Он знал его адрес.
За время отсутствия Валерия мы привели в боевое состояние всё оружие, произвели глубокую разведку местности и обнаружили, что в деревнях южнее леса расположена итальянская военная часть, командир которой, по данным опрошенных жителей, не против перейти к партизанам. Мы с Гришей посовещались и решили назначить ему встречу, но приезд Валерия через два дня изменил наши планы.
49
На другой день после отъезда ребят у нас сошёл с ума недавно переданный нам французами русский «бродяжка» (так мы называли всех бежавших из плена). Он схватил пулемёт, направил на нас и, крича, что мы фашистские гады, спустил курок. Пулемёт был без магазина, поэтому обошлось без трагедии. Парня мы связали, и в таком виде он дожидался командира.
Валерий, обеспокоенный отсутствием Алисы, приказал быстро собраться и ночью передислоцироваться на старое место, ближе к Савиньи, где он надеялся разыскать её с помощью местных сопротивленцев. Его надежда оправдалась. Мы узнали, что Алиса находится в Гре.
Ночью мы благополучно перебрались в лес Жи и расположились почти на опушке посредине между Ожире и Сите. Сумасшедшего оставили по дороге в какой-то деревне.
Пятого августа мы уже пускали под откос поезд около Велексона. Я не помню подробностей, поэтому привожу данные рапортов.
Черновик: «5 августа группа в составе Валерия, Гриши, Алекса, Янека, Пенты взорвала поезд с военными грузами между Великсоном и Севё. Локомотив сошёл с рельсов. Разбиты 2 вагона. Остановка движения – 12 часов».
Рапорт Илича: «5 августа 1944 года. – 19 ч. 20 мин. Пущен под откос немецкий эшелон с войсками на железной дороге Великсон-Фрес-Сен-Маме. Разбито 3 вагона, движение поездов на этом участке было прервано на 12 часов».
Не могу объяснить несовпадение в двух документах. Возможно, у Илича были данные от местных жителей-сопротивленцев. Но почему место диверсии перенесено восточнее подлинного, я не понял.
В августе после пятого числа у меня были три неудачных операции, о которых стоит рассказать подробнее, поскольку их проведение сопровождалось большим риском.
6 августа я с группой бывших власовцев и Яником организовал засаду у Риоза на шоссе Везуль – Безансон (власовцев к этому времени было человек 8—10, они дезертировали из РОА, и местные жители направляли их в наш отряд). Место около Риоза мы выбрали, чтобы проверить в двух деревнях результаты разгрома батальона власовских велосипедистов. В Фонтене нам сообщили, что через несколько часов после нашего отхода нагрянула колонна автомашин с немцами и власовцами. Сначала они обшарили деревню Маляшер, а затем приехали в Фонтене. Мэры этих деревень им сказали, что партизаны приехали к ним внезапно, откуда-то с запада, и что в отряде одни русские – человек 100 (а нас вместе с французами было чел. 40) и сразу же устроили засаду на шоссе, телефонную связь перерезали (это правда), из деревень никого не выпускали. Закончив бой, партизаны отбыли в сторону Гре.
То ли немцы поверили, что местные жители ни при чём, то ли потому, что мы поколотили власовцев, которых все немцы в душе презирали (это участь всех предателей), но никаких репрессий против жителей они не применили.
Мы решили выйти на шоссе ночью в то же место, где была организована засада прошлый раз.
Вечером 7 августа зашли в кафе деревни Трезилле перекусить как следует перед операцией, и застали там французских «макизаров». Двое из них были мне знакомы и пригласили к своему столу.
– Куда вы идёте, Алёша?
– На засаду в лесок между Малашер и Южье.
– О, и мы туда идём, пошли вместе. Фрицы сейчас ездят ночами, вот мы им и всыплем!
– С удовольствием, только перекусим слегка.
Руководитель группы не ответил – он стал рассматривать наших ребят.
– Алёша, я что-то никого не знаю из ваших, кроме тебя и Жана (Яника). Это новички?
– Да, новые. Власовцы. Сдались в плен, а нам приказали дать им возможность оправдаться перед Родиной.
– И ты не боишься идти с ними на операцию? Ведь они же предатели. Мы своих петеновских молодчиков расстреливаем. Почему вы не расстреляли?
– Я же сказал, что руководство запретило нам расстреливать и власовцев, и немцев.
– Я знаю, что вы имеете такой приказ, но я бы не стерпел.
– Нас с Валерием обещали отдать под суд, если мы не будем брать в плен.
Командир французской группы задумался, потом, глядя мне прямо в глаза, сказал:
– Мы с вами не пойдём. Я не хочу воевать вместе с предателями. Прощай.
Он козырнул, вставая. Потом все французы вышли вместе с ним.
Мы закончили ужин и в сумерках пошли полем прямо на Южье. Вскоре я дал задание двум власовцам произвести разведку шоссе в районе выхода на него просеки.
Было уже темно. Они пошли лесом слева от просеки и вернулись минут через сорок:
– На шоссе никого нет.
– Вы посмотрели с обеих сторон?
– Нет. Мы забрались на насыпь, просмотрели кюветы и всю насыпь. Никого.
– Вперёд!
Мы пошли левой стороной просеки к шоссе. Метров через двести с просеки нельзя уже было пройти в лес. Кустарник и деревья обвивали колючие растения. Две стены – справа и слева. Ширина просеки метров пять, не более. Я шёл впереди. За мной Яник, дальше власовцы. Шёл я медленно, осторожно ступая, держа в руках автомат.
Я не доверял разведке власовцев, предчувствуя неладное. Так и оказалось. Метров тридцать оставалось до шоссе, когда справа со стороны Малашера послышался треск мотоцикла. Мы замерли. Мотоцикл всё ближе и вдруг останавливается как раз на выходе просеки на шоссе. Темень такая густая, что нам не было видно ни мотоциклиста, ни того, с кем он заговорил. Мы легли. Яник подполз ко мне и шёпотом переводил.
– Все спокойно? – спросил приехавший.
– Да, господин обер-лейтенант.
– Колонна может двигаться?
– Может, господин обер-лейтенант.
И вдруг в нашем направлении засветился ручной фонарик. Слабый свет не мог нас осветить, но от неожиданности мы пригнули головы к земле. Я услышал позади шорох, который быстро затих.
Когда застрекотал мотоцикл, мы с Яником встали. Позади никого не было. Власовцы удрали.
Мы медленно пятились назад, потом пошли быстрее.
В груди кипел гнев. «Предатели, трусы. Рвались на операцию, а как услышали немецкую речь, сразу наложили в штаны. Собака боится прежнего хозяина. Не выдержали испытания. Что с ними делать? Может, они удрали от нас совсем?»
В конце просеки нас ждали беглецы. Они принялись оправдываться. Я не стал их ругать и приказал всем идти в лагерь. За ночь мы молча отшагали по азимуту до лагеря, где я доложил Валерию печальные результаты похода. Валерий ругался, на чём свет стоит. Власовцы стояли, понурив голову. Я рассказал, как в кафе французы отказались пойти с нами на операцию из-за недоверия к власовцам.
– Они были правы, – закончил я, – с вами ходить на операцию страшно: предадите.
– Как будем жить дальше? – спросил их Валерий.
Власовцы молчали. Потом заговорил Иван-шофёр.
– Испугались, Валерий. Мы привыкли их слушаться, а теперь бить надо. Но это первый и последний раз!
Мы закончили разговор, но решили больше испытаний власовцам не устраивать, а брать их с собой на операции.
В черновике рапорта записано: «8 августа на дороге Везуль – Безансон сорвалась засада, т. к. немцы устроили в этом месте свою засаду предварительно на машины резистанса. Только благодаря тщательной разведке наша группа не нарвалась на немцев».
«Дипломаты» мы были ещё те! Не хотелось докладывать начальству о своих просчётах. Но всё же честно сообщили, что операция сорвалась. А могли бы написать, что-де обстреляли ночью колонну отступающих немцев, машины, мол, ушли, и результаты операции неизвестны. Но тогда мы были более честные, чем в 1968 году. Я говорю о книге «Против общего врага», где Валерий лишнего добавил, да вероятно и многие добавляли выдумок в этом сочинении. Беляев, например («1-е Объединение красных партизан») отсиживался, бездействуя (у М. А. Фортус есть по этому поводу данные), а в статье – «храбро сражался».
Теперь о второй неудачной операции, и в то же время, самой страшной из всех, в которых мне приходилось участвовать.
11 августа мы опять пришли на железную дорогу Великсон – Сове. И что же увидели? В том месте, где мы уже дважды пускали под откос поезда, лес вырублен метров на 60 от спуска на полотно, а на той стороне железной дороги – два бетонных дота метрах в трехстах друг от друга; их амбразуры направлены на лес. Что делать? Нас шестеро: Николай-1 (сапёр), Николай-2, Костя (ленинградец), Павел, я и кто-то ещё, не могу вспомнить. Совещаемся на опушке леса. Меня что-то храбрость разобрала, и я предложил взорвать полотно как раз посередине между дотами. Ребята колебались, но я поднажал и все согласились. План операции таков: все ползут до спуска на полотно. Первыми Николай-2 и Костя (как штрафники за бегство с операции на шоссе Комбфонтен-Пор-сюр-Сон, когда погиб Григорий); они проводят разведку. Если охрана внизу или на той стороне есть, то они должны вернуться. Наблюдение ведут в течение получаса. Затем, если Николай-2 и Костя не возвращаются, ползём мы – я с Николаем-1 и за нами Павел с напарником. Как только мы доползаем до Кости и Николая-2, они ползут влево в течение 15 мин., а Павел с напарником вправо.
Через пятнадцать минут я и Николай-1 должны спуститься на полотно – Николай-1 заложит взрывчатку, а я с автоматом буду его охранять. Ребята справа и слева наблюдают за полотном с той стороны оврага. Если появится охрана – стрелять в неё, а мы с Николаем-1 бежим вверх и ползём к лесу. Ползут все. Встречаемся в овражке на шоссе за железной дорогой.
Николай-2 и Костя уползли. Стоя в тени леса на опушке, мы видели их извивающиеся между пеньками тела. На небе половина луны или что-то вроде, и ни тучки, ни облачка. Проходят томительные полчаса, ребята не возвращаются, наша очередь ползти. Ползём, спина быстро взмокает, несмотря на прохладу ночи. А вот и ребята.
– Ну как?
– Охраны не видно.
– По местам.
Поползла наша охрана вправо и влево. Мы с Николаем засекли время и рассматриваем спуск. Полотно довольно низко, если стоять на опушке леса, то трубы локомотива не увидишь.
– Надо быть очень осторожным на щебне, – шепчет Николай-1.
– У тебя всё в порядке? – не в первый раз спрашиваю я.
– В порядке.
У нас есть пластик, толовые шашки, шнур-детонатор, карандаш-взрыватель, капсюль, но нет шайбочки с пружинными зацепками, в которую должен вставляться карандаш. Когда планировалась эта операция, мы всем отрядом решили, что можно обойтись без шайбочки – колесо надавит на карандаш, и он взорвётся, ни у кого сомнений не было. Шайбочка, думали мы, нужна, чтобы карандаш не свалился, когда рельс начнёт шевелиться и деформироваться от давления и динамики колёс локомотива. И вот это незнание техники стоило нам колоссальной затраты нервной энергии. А могло стоить и жизни.
Пришло время нам с Николаем-1 спускаться на полотно. Тихо перевернувшись ногами вниз, начинаем спуск почти на спине. Спуск крутоват, приходится держаться за траву. Николай-1 придерживает правой рукой сумку со взрывчаткой. Вот и кювет. Осмотрелись. Вроде всё спокойно. Теперь нужно очень осторожно выбраться на полотно, самое главное, чтобы щебень не зашумел.
Как ни осторожничали, но шум был, ребята его не слышали, а нам он казался сильнее мотоциклетного треска.
Николай-1 засопел и начал работать над внутренними рельсами. Я стоял рядом на одном колене и, держа палец на курке автомата, поворачивал голову вправо-влево, оглядывая противоположный склон – там таилась смерть. В голове одна мысль – где охрана? От страха появляется дрожь, а лицо заливает пот, он щиплет глаза и его соль ощущается во рту. Спина мокрая-премокрая. Время тянется, секунды становятся резиновыми. Скорее бы Николай-1 закончил своё дело.
Бедный, он тоже обливается потом, торопится, сопит, что-то тихо шепчет – наверно, ругательства. Наконец, слышу:
– Готово, пошли.
Хочется броситься бегом, но нельзя, будет шум. Стараясь держать себя в руках, мы медленно сползаем в канаву, ну а по склону можно и быстрее.
И вот мы ползём к лесу. Проклятая луна! Она прямо над головой. На опушке легли на спину отдышаться. Тревоги не было, значит, все придут к нам. Скоро появляются ребята. Первыми явились Павел с напарником.
– Ну как? – спрашивает Павел Николая-1.
– Хреново: до сих пор дрожь не могу унять.
– И нас дрожь пробирала, глядя на вас.
Появляются Николай-2 и Костя. Они слышали разговор. Костя говорит, что и им за нас было страшно.
Хочется сказать, чтобы другая пара пошла в следующий раз, но когда и где будет следующий раз? У нас нет календарного плана операций. Да и Николай-1 – единственный сапёр. Ему всё равно придётся идти. Выпить бы крепкого спирта, на худой конец вина, но у нас ничего нет. Закон железный – до операции и во время проведения – ни-ни. А после, в лагере, сколько влезет.
Скорее бы пришел поезд – и в лагерь.
Наконец, кто-то уловил знакомый шумок. Всё ближе и ближе. Начинается иное волнение, уже знакомое и не раз испытанное. Пульс учащается. Вот поезд, вот из оврага поднимаются искры. Сейчас, сейчас, вот, вот… Но что это? Поезд проходит, искры далеко справа. Все поворачиваются к Николаю-1.
– А чёрт его знает, в чём дело, – зло отвечает он на общий немой вопрос.
Надо что-то решать, думать долго нельзя.
– Ползём обратно, посмотрим…
Минутное замешательство я перебиваю командой:
– Костя и Николай (2), вперёд!
Страха как будто нет. Чувство командира, ответственности за дело подавляет ощущение страха.
Слушаются. Поползли.
– Не будем дожидаться, ползём сразу за ними, – командую я, чтобы не дать расслабиться никому, в том числе и себе.
Всё повторяется, только мы с Николаем-2 спускаемся немного быстрее. Но по щебню передвигаемся на четвереньках тихо-тихо. Опять первым Николай-1, за ним я. Смотрим, что произошло. Пластик отвалился от рельса, лежит на шпале. А карандаш где? Его не видно. Неужели охрана сняла? Опять страх, да такой, что волосы на затылке зашевелились. Всё это длится секунды, и мы находим карандаш – он смят колесом заподлицо с поверхностью головки рельса, и цветом под луной почти не отличается от стального блеска рельса.
– Что будем делать? – спрашивает Николай-1.
– Быстро ставь новый карандаш, – командую я, и, поборов страх, встаю на колено, оглядываю противоположные склоны. Время тянется медленно, и так же трясутся руки с автоматом, и так же пот ест глаза и солеными струйками стекает в рот.
На этот раз у Николая меньше работы: обрезать конец шнура, сменить карандаш и прилепить пластик. Он, вероятно, затрачивает и меньше времени, чем в первый раз, но я этого не замечаю. Кажется, что всё тянется слишком долго, словно мы не уходили отсюда. Наконец, долгожданное:
– Готово!
И опять подъём ползком до леса. Собрались все и нервно молчим, каждый снова и снова переживает пережитое. Вероятно, мы с Николаем-1 волновались сильнее всех, ведь на этот раз у нас с ним самый опасный, а главное, самый нервотрёпный участок. Опять ждём поезда. Долго его нет, и мы начинаем мерзнуть. Встаём спинами друг к другу, как тогда с французами.
И вот – поезд. Опять кто-то первым услышал. Опять ближе, ближе… И опять мимо!
Глаза устремлены теперь на меня. В них немой вопрос: что же делать? Я не хочу видеть этих глаз и лихорадочно ищу выход из тупика. Ясно, что виновата не охрана, что у нас что-то не так технически. Но что? Сейчас надо ответить на немой вопрос, решить его для себя. Идти ли опять вниз и дрожать, обливаясь потом, или, не выяснив, что там произошло, уходить в лагерь? Нет, так возвращаться нельзя, и я даю команду:
– Ползём все сразу!
В ответ молчание.
– Пошли, – и я опускаюсь на землю, рядом тяжело вздыхает Николай-1. Мы с ним ползём первыми. Трава уже мокрая от росы, а наши спины от пота. Торопимся, поскорее бы.
Вот и спуск. Не оглядываясь, махнул налево и направо. Наша охрана поняла сигнал. Ждём с Николаем десять минут и спускаемся вниз, стараясь не спешить.
Опять та же картина – карандаш раздавлен, пластик отвалился.
Я жду, что Николай спросит: что же делать?
Жду, уже стоя на колене, и наблюдаю за тем склоном, но он, вытирая пот с лица, говорит хриплым шепотом:
– Давай закончим на этом. Я больше не могу – руки и ноги трясутся. Ребята тоже все трясутся, да ты и сам, наверное, дошёл до точки.
Правду говорит Николай-1. Все перенервничали, а особенно мы с ним – ведь третий раз опустились навстречу смерти.
– Складывай всё в мешок.
Сложить в мешок – секундное дело, и мы уже лезем вверх по склону, ползём к лесу по мокрой траве и, расслабившись, ждём ребят. Вот и они.
– Что, опять раздавило карандаш? – спрашивает кто-то.
– Да, – отвечает Николай-1.
– В чём же дело?
– Не знаю.
– Наверно, дело в шайбе. Пошли, – говорю я, и мы идем в лагерь.
Днями позже, когда приехали Марсель с Ником, они подтвердили, что без шайбы заряд не взрывается.
Наша техническая неграмотность могла стоить нам жизни. Жизни целы, а нервы потрёпаны порядком.
Почему не было немецкой охраны? Может, железобетонные доты с амбразурами для стрельбы – бутафория? Мы этого не знали и не узнаем. Возможно, часовые спали или боялись выходить из дотов.
В лагере мы напились до потери сознания. Николая-2 опять пришлось вязать – он буянил, а я проспал ровно сутки.
В черновике записано: «11/VIII неудача на железной дороге Великсон – Совей. Отказали капсюли. Три раза капсюли менялись и все три раза не взрывались. Три военных эшелона прошли благополучно».
И третья неудачная операция проведена была 17 августа. Её подробности я не помню, даже не могу сказать, кто в ней, кроме меня, участвовал.
В черновике записано: «17/VIII не удалась операция против немцев на дороге Грее – Лангр около дер. Орьер (10,5 км сев. Гре). В день прихода нашей группы в те леса французы застрелили на дороге двух немцев. Чтобы не нарваться на засады и патрули, которые выставили немцы на дорогах Грее – Лангр и Грее – Комбфонтен, группа отошла назад».
Из этого похода вспоминаю эпизод. Днем мы вышли на опушку леса дороги № 67 южнее деревни Уарьер. Лес был ниже уровня дороги и заболоченный. Засада нецелесообразна – отход опасен, лес редкий и хорошо простреливался с дороги. Мы отошли к деревеньке восточнее дороги № 67. На опушке леса, с которой проглядывалась вся деревенька, закусили и только вздремнули, как нас разбудил шум: по дороге в деревню двигались несколько автомашин с немцами. Мы бросились к лесочку у дороги № 70 Грее – Комбфонтен, южнее деревни Монтюрё. На дороге мы увидели француза-велосипедиста, который принял нас за партизан, убивших двух немцев утром, и рассказал, что из Гре по дорогам Грее – Лангр и Грее – Комбфонтен выехали немцы – очевидно, каратели, и посоветовал нам скорее смотаться отсюда. Дело шло к вечеру, и мы решили не рисковать, а отсидеться в лесочке у дороги № 70. Когда стемнело и мы собирались сделать рывок через дорогу № 70, железную дорогу, шоссе Грее – Божо, а затем, переплыв Сону, выйти в лес Бель-Вевр, кто-то из наших заметил несколько человек, шедших по лесной тропинке. Мы спрятались в кустах и, приготовив автоматы, стали ждать.
– Если немцы – стрелять, – дал я команду.
Но говорили проходившие по-французски, и мы, пропустив их, направились по своему маршруту.
Эта операция прошла без нервной перегрузки, потрясшей нас 11 августа на железной дороге. Опасный треугольник дорог № 67, № 70 и города Гре в вершине треугольника, начиненного карателями, не испугал нас. Наши разведчики видели, как немцы направились на север. К тому же мы знали, что чем ближе к немцам, тем безопаснее, лишь бы они не заметили нас.
50
Кажется, 13 августа к нам в лес приехал Марсель, а с ним Ник, о котором мы наслышались от Алисы и Марселя. Они привезли текст присяги, и мы приняли её 14 августа.
Накануне их приезда мы убрали и замаскировали бутыль со спиртом. Утром за завтраком не пили положенной порции, почистили оружие, убрали всё вокруг лагеря; в общем, навели марафет.
Наше внимание было приковано к Нику: Алиса говорила нам, что он – советский дипломат, оставшийся во Франции на нелегальном положении и работавший в рядах Сопротивления под руководством компартии. Он был одет в тёмно-синий костюм и белую сорочку с галстуком, на голове – темно-синий берет.
Ник рассказал о положении на фронтах, успехах Сопротивления во Франции, о партизанском движении в странах Восточной Европы. Говорил о взаимоотношениях между компартией и французскими внутренними войсками, о политике генерала де Голля и его отношении к коммунистам. Беседа продолжилась и у костра во время ужина. На нашу просьбу рассказать о себе, Ник не ответил, как будто не услышал. Мы поняли, что это конспирация. Спать Ник, Марсель и Алиса легли в отдельной палатке, специально для них подготовленной (Алиса обычно спала с Валерием в легковой машине). А мы почти всю ночь бодрствовали: обширная информация Ника сильно нас взволновала.
Утром после завтрака организовали принятие присяги. Её принимал у нас Ник. Вообще-то мы уже приняли присягу в период организации отряда, но после его раскола, казни изменников и прихода в отряд власовцев была необходима повторная церемония. К тому же в то время мы принимали присягу французских партизан, а теперь текст присяги был разработан ЦК для русских бывших военнопленных.
Я привожу здесь полный текст присяги, переписав его из книги «Против общего врага» (издательство «Наука», Москва, 1972 г. Академия наук СССР. Институт военной истории МО СССР. Под редакцией кандидата военных наук генерал-майора И. В. Паротькина, стр. 359).
Итак, присяга советского партизана во Франции:
«Я, патриот Советского Союза, вступая в ряды партизан, становлюсь бойцом антигитлеровского фронта. Это имя я буду носить с честью, так, как подобает подлинному гражданину СССР.
Ненавистные немецкие захватчики совершили зверское преступление в отношении моего народа. Я клянусь сражаться против врага до полного его разгрома, до окончательной победы моей Советской Родины над гитлеровской Германией.
Вступая в ряды партизан, я обязуюсь остаться верным, достойным, исполнительным и мужественным и беспрекословно выполнять все задачи, которые будут на меня возложены моими руководителями. Я готов отдать свою жизнь за наше справедливое дело и за моих братьев по оружию.
Я вполне отдаю себе отчёт во всех лишениях, которые меня ожидают, и я знаю, что борьба в тылу врага очень тяжелая. Но эти трудности меня не страшат. Я мужественно их преодолею. Никакие трудности, ни угроза смерти не остановят меня на пути борьбы против наиболее опасного врага человечества – жестокого фашизма.
Выполняя свой долг перед моей Советской Родиной, я обязуюсь также остаться честным и верным французскому народу, на территории которого я защищаю интересы моей Родины.
Всеми силами я буду поддерживать моих французских братьев в их борьбе против нашего общего врага – немецких оккупантов.
Быть может, я погибну, но я хочу, чтобы знали, что я остался верным сыном моего народа и что я умер, борясь за справедливое дело моей славной Советской Родины».
Присяга принималась торжественно. Надо было встать около знамени отряда на правое колено и, держа в левой руке своё оружие, зачитать текст, передать его Нику, стоявшему рядом со знаменем, поцеловать угол знамени, затем встать и отойти в сторону.
К присяге подходили по очереди в порядке даты вступления в отряд. Франсуа, Яник, Пента и Владимир, не будучи советскими гражданами, принимали присягу французских партизан.
Приняли присягу и бывшие власовцы.
Среди нас Валерий принимал присягу первым, вторым я, затем Гриша, а потом все остальные.
Происходящее нисколько не походило на принятие присяги в период организации отряда. Тогда эта церемония была упрощена до предела, а некоторые (Фёдор, Григорий-калужанин) зачитывали текст с насмешливой оговоркой, что-де присяга для нас не обязательна, ведь она обязательна только для французов. Не было тогда и знамени. Зачитывали текст скороговоркой, скорее бы закончить. Было видно, что это тяготило многих.
Но теперь каждый зачитывал текст присяги медленно, четко выговаривая каждое слово. От знамени отходили взволнованными.
Каждый из нас уже был опытным партизаном, участвовал не в одной боевой операции, подвергая свою жизнь опасности, и каждый воспринимал присягу как клятву Родине, а свои действия в отряде как подтверждение этой клятвы.
Потом был торжественный обед, но без спиртного. Мы стеснялись Ника: наивные были, и только после узнали, что Ник с удовольствием выпил бы с нами чарку.
В тот памятный день он поставил перед нами задачу, которая была воспринята без энтузиазма. Ник рассказал, что в Париже создан Центральный комитет советских пленных под эгидой ЦК Французской компартии. Перед ним стояла задача организовать сопротивление в лагерях советских военнопленных, побеги и формирование советских партизанских отрядов на территории Франции. Ник сказал, что ЦК готовит массовое освобождение советских военнопленных из лагерей севернее города Нанси, а для этого потребуется концентрация боевых сил Сопротивления в этом районе. Поэтому ЦК советских пленных считает необходимой передислокацию некоторых отрядов, включая наш. Мы должны подготовиться к переходу, и по команде двинуться в указанный район путями, которые мы должны заранее предусмотреть.
Не понравилось нам это предложение по двум причинам: во-первых, передвижение займёт много времени и, судя по цели, должно проводиться скрытно, без стрельбы в пути. Значит, недели на две надо прервать активную боевую деятельность. Во-вторых, мы впервые узнали о существовании ЦК советских пленных, и нам придётся подчиняться его приказам. Нас организовывали в отряд Алиса и покойный Александр. Их, а также тех, кто их возглавлял, мы признавали за своих руководителей. Никакой ЦК советских пленных нас не знал и с нами не общался. Подчинение его приказам казалось странным.
На общем обсуждении этот вопрос никто не поднял, но после, когда мы провожали Ника и Марселя из леса, мы с Валерием изложили своё мнение и попросили оградить от поползновений ЦКСП нами руководить. Алиса нас поддержала, Марсель слабо возражал, а Ник отмолчался.
К нашей радости, уже через неделю Алиса сообщила, что операция по освобождению лагерей отменена.
Кстати, Алиса пришла к нам в лес числа 10 августа из госпиталя города Гре, где пролежала с неделю. Рана оказалась пустяковой, и она о ней не вспоминала. Алиса вместе с Ником и Марселем уехала в Париж, а через неделю вернулась со своим сыном Яном. Мальчику было четыре года, она оставила его у кого-то в Савиньи.
После войны Ян окончил Московский государственный университет, женился на студентке-армянке. В партию вступать не захотел. Был заносчив и, по-видимому, настроен антисоветски. Алиса от него в этом отношении ушла недалеко.
Мы не знали тогда, что Ник был членом ЦКСП и ему неприятно было слышать наше нелестное мнение о ЦК, а мы в выражениях не стеснялись.
51
…В черновике нашего рапорта записано: «22 августа (зачеркнуто 26 августа) в 14 ч. на дороге Грее – Везуль около дер. Фретини в 11 ч. дня были остановлены две автомашины с немцами. Количество убитых и раненых неизвестно. Машины ушли. В этой операции принимали участие Валерий, Алёша, Алекс, Пента, Николай-3, Гриша и три француза из группы Меме».
Теперь – о «спасительных случайностях». После возвращения в лес под Савиньи 2 июля нам сообщили, что Валерий и я завтра в 15 часов должны быть у деревни Веллорей-ле-Шуа в лесочке на совещании командиров французских внутренних войск. На велосипедах мы выехали из лагеря по сильно заросшей узкоколейке. Не успели покинуть лес, как у меня прокололось переднее колесо. Я попробовал ехать, но оно лопнуло. Решили добираться на одном велосипеде. Но и он почти сразу же получил прокол. До места встречи километров девять, пешком к 15.00 не успеем, оставалось минут 20, опаздывать нельзя, но и встречаться с командованием французов, к которому мы испытывали неприязнь, поскольку они не были коммунистами, без Алисы не особенно хотелось. И мы решили вернуться в лагерь – пусть Алиса с ними ведёт переговоры. Велосипеды мы бросили.
Не прошло и двух часов, как к нам в лагерь явился Роже из Венизи и с ходу спросил первого попавшегося из наших ребят:
– Валерий с Алёшей уехали на встречу?
– Нет, они здесь.
– Слава богу! На них была организована засада.
Это одна спасительная случайность, а вот другая. Произошла в период стоянки около Венизи. Отряд возвращался откуда-то с юга в свой маленький лесок. На шоссе, не доходя метров 200 до Монтюрё, мы остановились, чтобы решить: как идти – дорогой через деревню или пересечь железную дорогу и двигаться краем леса. Мне второй вариант не понравился, уж очень сильная роса была, и темень непроглядная. Я предложил пойти через деревню Монтюрё. Валерий не захотел и сказал мне:
– Иди, как хочешь, а я пойду лесом.
Ребята поддержали Валерия, и я вынужден был согласиться с ними.
Позже мы узнали, что на южной окраине деревни была засада. Вот бы мы нарвались, если бы было принято мое предложение!..
А сейчас опять отступление. Жена вчера (30 XI.73 г.) прочитала воспоминания Валерия в книге «Против общего врага» и страшно расстроилась. Как она мне объяснила, причин оказалось несколько:
во-первых, Валерий сильно умаляет, как она
выразилась, мою роль в отряде;
во-вторых, Валерий возвеличивает себя и все
время «якает»;
в-третьих, по описанию Валерия, Гриша был
виновником бойни в Анжери, из-за которой по-
погибло много жителей деревни и сам он погиб
из-за своей глупости;
в-четвертых, воспоминания Валерия написаны
хуже, чем Старикова и Джабраилова и концен-
трируют внимание только на бойне – убийства,
ства, убийства, убийства.
Она так расстроилась, что даже не дочитала книгу.
Понять её можно: и за мужа обидно, и на Валерия зло за его «якание», и Гриша, по Валерию, не такой, каким она представляла его по моим рассказам. Не герой, а дурак и виновник гибели деревни.
Я объяснил: то, что она принимает за бойню, было настоящей партизанской войной. Нас было мало: от двенадцати до двадцати пяти человек, а врагов много, очень много. Но, несмотря на это, мы не сидели сложа руки, а активно действовали – иногда удачно, а иногда и не очень. Даже историк Нечаев, критикуя книгу «Против общего врага», пишет, что «Парижская Коммуна» была вторым после «Сталинграда» отрядом по своей боевой активности и по масштабу урона, нанесенного немцам. А ведь Нечаев собрал много материалов об участии советских людей в движении Сопротивления во Франции. Надо понимать три стороны вопроса.
Первое. В мирное время слова «убил», «ранил», «обстрелял» не имеют того положительного значения, присущего им в войну. Тем более, что в нашей пропаганде за мир эти слова звучат негативно, когда мы обвиняем американцев, израильтян, португальцев и чилийских фашистов в убийствах и истязаниях мирных жителей. Но разве мы не радуемся, когда вьетнамские, арабские, гвинейские партизаны наносят урон в живой силе своим поработителям? И опять слова «убито столько-то оккупантов» звучат для нас музыкой. Только мелкобуржуазный пацифист, не понимающий сути классовой борьбы, к убийству фашиста, истязающего жителей оккупированной страны и партизан этой страны, может отнестись с возмущением.
А ведь мы были в малом числе и не могли принимать открытых боев.
Второе. Мы партизанили, и нас было очень мало (это не армия Ковпака). У нас была возможность применять только партизанские методы борьбы – засады, диверсии. Выше я рассказал, какую нотацию прочитала мне Алиса, когда я после нашей с Валерием операции, удрученный тем, что мне приходится стрелять из-за укрытия в ничего не подозревающих врагов, говорил ей, что буду ходить только на подрыв поездов. Она была права. Если бы мы хоть раз бросились в открытую на врагов, то нас бы давно уже не было, а те оккупанты, которых мы ликвидировали, глядишь, и сейчас гуляли бы на свободе.
Третье. А что было бы с нами (со мной), если бы мы (я) попали в лапы к немцам? Нас (меня) ожидала бы мучительная смерть в пытках и истязаниях. Не просто расстрел, а сначала ужасные пытки, а потом расстрел или петля. Имели ли мы право рисковать собой, идя на врага в открытую? Ни один партизанский отряд не рисковал собой. Открытый бой для партизан – «вынужденное решение», как говорят проектировщики. У нас тоже был открытый бой за Анжери. Партизанская тактика боевых действий наносит чувствительный урон врагу и сохраняет живую силу партизан.
Я не стал хвалить себя жене, но сказал, что Валерий был необъективен как к себе, так и к другим. Свои успехи он всегда гиперболизировал, а успехи других преуменьшал. Однако я отдавал должное его храбрости и инициативе.
Роль Гриши в «деле Анжери» совсем не такая, как представил её Валерий, и весь ход боя описан им неправильно (он меня даже исключил из боя). Гриша не проявлял той глупой инициативы, которую ему приписывал Валерий. Он не стрелял в полковника (а не подполковника, как пишет Валерий) из положения, когда мог спокойно скрыться. Он стрелял в него из безнадежного положения, но об этом позже.
Касаясь неважного литературного качества воспоминаний Валерия, я сказал жене, что Стариков, например, взял воспоминания из своей книги, которую выпустил совместно с каким-то литератором, Джабраилов тоже не мог написать сам, ему кто-то помог, а Валерий сделал это самостоятельно, поэтому его воспоминания не слишком интересны…
52
Числа 24 августа к нам в лагерь прибыла связная из Парижа. Это была молодая женщина из русских эмигрантов по имени Мария. В Гре она попала в лапы французских жандармов, и они при допросе выбили ей передние зубы. Только вмешательство Алисы, случайно узнавшей о её аресте, спасло эту женщину от выдачи немцам. Вмешался капитан жандармерии и освободил Марию. Ещё до её освобождения Алиса была у неё в тюрьме и узнала, что операция по освобождению советских военнопленных в районе города Нанси отменяется.
Мария – худенькая, высокая, лет двадцати пяти, жила в Париже и имела двоих детей. В ноябре 1944 года я случайно встретил её в Париже в здании организации «Русский патриот» на вечере, посвящённом годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Побывал у неё. Она жила очень бедно, в комнате без окон; два прелестных малыша – мальчик и девочка были единственной усладой её жизни. Она была большой патриоткой: рискуя жизнью, вела опасную работу в этой организации и у Луи (Илича) в качестве связной.
Мария пробыла в отряде с неделю. Очень стеснялась выбитых зубов, при разговоре старалась не улыбаться и прикрывала рот рукой. А когда оправилась от пережитых волнений, уехала в Париж.
Удачная операция была нами проведена 28 августа. В черновике нашего рапорта записано: «28 августа группа в составе Алёши, Франсуа, Яника, Николая-2 и Кости сделала засаду на дороге Везуль – Безансон в том месте, где сорвалась операция 8/VIII. В 8 часов утра были атакованы 3 машины с немцами в количестве примерно 50 человек. Немцы выскочили из машин и открыли по нам ответную стрельбу. Выгодность нашей позиции обеспечивала безопасный отход и товарищи, учитывая явное преимущество немцев в силе, спокойно отошли, не приняв боя. В результате операции убито 22 и ранено 9 немцев.
На обратном пути группа прошла через пять деревень, где французы молотили урожай. Товарищи вызывали мэров и приказывали им прекратить молотьбу, так как немцы могут произвести реквизицию. Молотьба тут же прекратилась».
Расскажу подробнее об этой операции – я хорошо её запомнил. Ранним вечером 27 августа мы впятером двинулись на место проведения операции. Шли не торопясь, часто останавливались на перекур. У Франсуа был ручной пулемет, у остальных автоматы, гранаты, пистолеты. На утренней заре мы уже были на дороге № 57, что между деревнями Южье и Малашер. Выбрали удобную позицию на западной стороне дороги и стали ждать. Машину услышали издалека, но в поле зрения она нам попала после поворота, метрах в 50–60 от нас. Этого расстояния было вполне достаточно, чтобы определить, какая идёт машина – гражданская или военная.
На правом фланге залегал Франсуа. В его задачу входило снять из пулемёта шофёра. Машина продолжит путь, пока не свалится в кювет, а мы должны обстреливать её и забрасывать гранатами. Договаривались, что обстреливаем только автомобиль с солдатами, чтобы поразить больше живой силы.
Легковые машины и отдельных велосипедистов не трогаем. Большое количество велосипедистов – обстреливаем. Если пойдёт колонна грузовиков, то легковую машину с офицером, которая обычно идёт впереди, пропускаем и обстрел начинаем с первой грузовой машины.
Лежим и ждём. Послышался звук машины и какой-то металлический перезвон. Я махнул рукой – приготовиться. Судя по рокоту мотора, машина грузовая – значит, немцы. А вот металлический перезвон непонятен.
Наконец, из-за поворота появляется огромный грузовик с… пустыми молочными бидонами. Опять ложимся. Проходит легковая машина, ещё одна и вот, наконец, знакомое урчание грузовика. Махнул – приготовились. Из-за поворота выезжает коричневая легковушка, на солнце блеснули офицерские погоны. Машина не прошла и метров 30-ти, как из-за поворота показался грузовик. На кабине торчал ручной пулемёт, пулемётчик осматривал бугор, в кустах которого лежали мы. Ещё одна машина и ещё. Три грузовика с интервалом метров 15–20, с пулемётами на кабинах и солдатами на скамьях по краям кузова.
Почти одновременно «заговорили» наш пулемёт и мой автомат, тут же застучали другие автоматы. Передняя машина доехала почти до Франсуа и остановилась. Остальные остановились вслед за ней, и немцы начали выпрыгивать из кузовов. Послышались команды. Солдаты прятались в кюветы и за бревна, лежавшие с той стороны дороги. А мы с бугра, с высоты 5–6 метров, поливали фашистов огнём и бросали гранаты. Я стрелял стоя, сменяя уже второй магазин.
Немцы опомнились и начали отвечать, рядом с нами засвистели пули. На этот раз не было никакого страха, я продолжал стоя стрелять короткими очередями, но вдруг мой автомат замолк. Что такое? Гляжу – магазин на земле, значит, основанием большого пальца левой руки я нажал на кнопку, освобождающую его, и он упал. Быстро поднимаю и вставляю магазин. И в этот момент вижу, что Яник лежит, не стреляет и смотрит на меня.
– Ты чего, сукин сын, не стреляешь?
– Смотрю, как ведет бой советский офицер.
– Стреляй… твою мать!
И Яник начал стрелять короткими очередями. Бой длился минут десять и начал приобретать для нас неблагоприятный оборот. Огонь немцев становился все плотнее. Они хорошо укрылись, к тому же могли подойти другие машины.
Я дал команду отходить, и последний раз взглянул на грузовики. На них было много тел убитых и раненых фашистов, стекла разбиты, пробитые пулями шины спущены. Ползком, отстреливаясь, все начали отходить по заранее намеченным нами путям к месту сбора за бугром. Последним прибыл Франсуа.
– Кто ранен?
Ответа не последовало. Все на месте и никто не ранен! Огонь фашистов перед нашим отходом был очень интенсивный, но ни одного ранения. Здорово!
Бегом мы двинулись через лесок, миновали поле, потом опять лес. Отбежав километров пять, пошли пешком, по дороге перезаряжая и приводя в порядок оружие – мало ли что впереди.
И тут я вспомнил, что у нас есть приказ – останавливать молотьбу, чтобы лишить отступающих немцев возможности забирать зерно. Осторожно, с разведкой впереди, мы пошли по деревням. Везде шла молотьба. Пришлось вызывать мэров и объяснять им, почему надо прекратить работу. Они слушались. Шум молотилок стихал. На какой-то проселочной дороге нас догнал мальчишка-велосипедист.
– Вы русские?
– Нет.
– А кто вы?
– Никто. А ты кто?
– Я местный из … (он назвал деревню), а вы русские, я знаю. Вы никогда ничего о себе не говорите. Ответьте мне: на гранд-рут около Йе это вы обстреляли немцев?
Отпираться не имело смысла: парень что-то знал, и его распирало желание поделиться важной новостью.
– Может, и мы. А что?
– Двадцать два фашиста убиты, а раненых не счесть!
Он сел на велосипед.
– Стой, ты куда?
Он назвал деревню, лежавшую в стороне от нашего пути.
Прикончили 22 фашиста! Вот это да! Сворачивая в лес, мы запели марш танкистов. Погода была солнечная, под стать нашему настроению. До нашего леса оставалось километров десять. Осторожно переходя шоссе, группа быстро приближалась к «дому».
Проверка показала, что убито двадцать три солдата и унтер-офицера и, как ни странно, раненых было только девять. Мы просили проверить ещё раз. Проверили – 9 человек. Обычно раненых бывает больше, чем убитых.
Когда мы пришли в лагерь, Валерий даже не поверил, когда мы доложили о результатах боя. Но на другой день приехала Алиса и поздравила нас уже по результатам проверки. Только тогда поверил и Валерий в нашу удачу.
– Нам просто повезло, – успокоил я его тщеславие, а он и вправду в те времена был честолюбив и тщеславен. Это событие пришлось как раз на тот период, когда мы с ним были не в ладах из-за его пристрастия к походам на коллаборационистов.
Очень обрадовалась вести о наших боевых успехах Мария, ей было что привезти в Париж. Назавтра она уезжала туда на велосипеде. Всю ночь мы с ней гуляли в лесу, а на утро ребята, ехидно улыбаясь, помогали мне привязывать к багажнику пакет с мукой, окороком и сыром. Это был и камуфляж, и питание для детей Марии. С разрешения Алисы, мы выделили ей еще и 1000 франков. Для неё это было целое богатство. Ребята тепло проводили Марию.
Да простит меня читатель за непоследовательность, но я ведь не профессиональный писатель. Рассказываю об одном, а тут вдруг память настоятельно требует именно сейчас, в этом месте, поведать о другом и не менее, как мне кажется, важном. Вот и сейчас: только что говорил о Марии, а теперь хочу немного рассказать о Янике.
53
…Яник или Янек (не знаю, как правильно) – поляк из-под Кракова. Был мобилизован в немецкую армию и бежал из неё где-то под Марселем. Идя на север, он подрабатывал по пути у крестьян. Те кормили его, давали одежду, обувь. Винтовку он где-то бросил, переоделся в гражданскую одежду и через несколько месяцев пути оказался в районе Венизи, где местные жители передали его нам. Участие в операциях принимал охотно, был в меру храбр. Потом, оказавшись в Париже в конце войны, он ушёл в польскую армию лондонского правительства.
Парень был интересный, любил пофлиртовать, и частенько мы с ним ходили на свидания к девушкам. Были и приключения. Вот какой случай произошел однажды, кажется, 30 или 31 августа. Мы поехали к швейцарскому немцу за маслом и сыром. Я немного водил машину и сел за руль «Ссимки», взяв с собой Яника. Переезжаем перекрёсток в Анжери и вдруг около кафе видим двух велосипедисток в брючных костюмах городского типа.
Проехав перекрёсток, я остановил машину в переулке, ведущем на дорогу в Ини.
– Взгляни, что за женщины. Если стоящие – договаривайся о свидании, – предложил я.
Яник вышел из машины – высокий, стройный, интересный блондин с «бросаром» на левом рукаве («бросар» – повязка с тремя национальными цветами). Наличие такого знака говорило о романтике партизанской жизни. Какая женщина откажет в свидании такому красавцу?
Он вернулся минут через пятнадцать с улыбкой мартовского кота на лице.
– Всё в порядке, Алёша. Через час встречаемся у кафе. Как раз начнёт темнеть, – сказал он на ломаном русском.
– А женщины-то интересные или страшнее не бывает?
– Не красавицы, но интересны.
– На каком языке ты с ними говорил?
– На немецком. Они отлично говорят по-немецки.
– С немцами, наверно, компанию водили.
– А чёрт их знает…
У сыровара мы взяли масло, сыр и, расплатившись, хотели уже уходить. Но тут я заметил клумбу с цветами, и попросил хозяина разрешить сорвать несколько цветов.
– Пожалуйста. Для мадемуазель, наверно? – улыбнувшись, спросил он.
– Конечно!
Я сорвал с десяток цветов и, разделив их на два букетика, положил на сидение.
В сумерки мы подъехали к кафе. Деревня готовилась ко сну. Девушки уже ожидали нас, переодевшись в платья. Яник представил меня, и я предложил всем пройти в сад, где мы, не видимые с улицы, иногда пили вино за столиком.
Пока они шли в сад, я поднялся по ступенькам, вошёл в зал и попросил у хозяйки четыре бутылки хорошего вина. Меня удивила её молчаливость, ведь обычно она была веселой и любила поболтать. А тут с сердитым видом достала из подвала вино и молча взяла деньги.
Я прошёл в сад. Яник болтал с девушками, они ели сорванные с деревьев яблоки.
Разлив вино по стаканам, я представился.
– Английский «макизар» Гарри. Надеюсь, Джон уже представился.
Так мы с Яником конспирировались на амурных свиданиях.
– Арлет, – назвалась пухленькая брюнетка.
– Поллет, – проговорила худенькая шатенка.
Мы выяснили, что они из Френ-Сен-Маме и приехали к тётке Арлет. Остановились в кафе, чтобы её не стеснять.
Мы хорошо провели время и договорились встретиться в лесочке около замка, где мы брали бензин, в следующий полдень.
Простившись, мы уехали в лес. Часа в четыре утра поставили машину, опустили сливочное масло в ручей и легли спать. Кот Васька, промышлявший всю ночь мышами, забрался ко мне под мышку и, убаюкивая, мурлыкал. Часов в девять меня растолкала Алиса. Она отвела меня в сторону и спросила:
– Вы где были?
– На свидании.
– А вы знали своих красавиц раньше?
– Нет, встретили вчера впервые, они приехали к тётке из Френ-Сен-Маме…
– Не из Френ-Сен-Маме, а из гестапо города Гре.
У меня, очевидно, был такой вид, что Алиса даже улыбнулась. Расспросив подробнее, она сказала:
– Быстро привезите их сюда.
Когда я разбудил Яника, он был изумлён не меньше меня, и сначала не хотел ехать, но когда пришла Алиса и сказала свою любимую поговорку «Любишь кататься, люби и саночки возить», он вскочил, мы умылись и, не побрившись, поехали.
У кафе толпился народ, и когда я вышел из машины, на лицах собравшихся появились улыбочки. Я поздоровался и пошёл на второй этаж, где помещались наши знакомые. Навстречу мне спускалась Поллет. Я сказал, что в машине её ждет Яник, а сам пошёл к Арлет. Она только что оделась, но, увидев меня, протянула руки и спросила, почему так рано.
Я сказал, чтобы она быстро заканчивала туалет, и что они арестованы. Арлет заволновалась. Спросила почему, за что? Но я молчал. Когда она была готова, я захватил их маленькие чемоданчики, и мы спустились вниз.
Деревенские жители встретили нас хохотом. Они всё уже знали и сообщили Алисе.
В лесу Алиса их долго допрашивала, но ничего не добилась. Она и Валерий отвезли их во французский отряд, стоявший в лесу Бель-Вевр.
По возвращении Алиса сообщила, что девушек расстреляли, но позже «макизары» из этого отряда рассказали нам, что их допросили и отпустили восвояси.
Кем эти девушки были в действительности, установить мне не удалось, но если бы они были связаны с гестапо, едва ли бы их отпустили.
Ребята над нами подтрунивали несколько дней, а Валерий, напустив на себя важный вид, – дулся.
– Могли подвести весь отряд, – ворчал он.
Но он-то устроился хорошо – спал себе с Алисой в машине. А остальным каково? Все ребята молодые, здоровые, женщины им улыбаются, зазывают глазами, и не только глазами. Как быть?
На эту тему у меня с Валерием состоялся серьёзный спор.
Ребята были недовольны категорическим запретом Валерия на встречи с женщинами и, не стесняясь, беседовали на эту тему, отмечая, что сытый голодного не разумеет.
Они выражали явное недовольство, но было ещё и скрытое. Втихую ребята поговаривали о зазнайстве Валерия, о том, что он присваивает себе драгоценности из трофеев, реквизированных у коллаборационистов. А узнал я об этом так.
Когда я выступил на собрании с резкой критикой наших действий и образно показал, кто и как ведёт себя во время реквизиций, в том числе Валерий, мы с ним не разговаривали несколько дней. Ко мне подошел Вальдемар и заговорил о том, что Валерий слишком увлекается реквизициями. Я перебил его, сказав, что об этом надо не шептать, а отрыто сказать на собрании и что не ему, Вальдемару, об этом судить, ибо он сам запихивал в карманы разные безделушки при последней реквизиции.
Оставив без ответа мою резкую отповедь, он вдруг сказал, что заговорил со мной не по собственной инициативе, а по поручению членов нашего отряда, которые недовольны Валерием за его зазнайство, грубость, присвоение трофейных ценностей, сожительство с Алисой и тому подобное.
– Ребята хотят организовать собрание и выбрать тебя командиром.
Потом он начал критиковать Валерия за его малограмотность и серость (заговорила дворянская кровь).
Я насторожился. Стало понятно, что кто-то опять затевает смуту и подсовывает мне этого вечно полупьяного, хоть и офицера-дворянина, но не очень умного человека. Если я этот разговор сделаю достоянием гласности, пострадает только Вальдемар. Пока он долго и нудно говорил о недостатках Валерия и преувеличивал мои положительные качества, я лихорадочно искал выход из положения.
Дело принимало серьезный оборот. Если допустить развитие смуты, то наш боеспособный отряд может или превратиться в шайку бандитов, или опять будет суд и кровь. Что предпринять? Можно сразу пристрелить Вальдемара – потом любое оправдание ребята примут на веру, но инцидент не был бы исчерпан: заговорщики затаятся и во время смуты прикончат меня. Можно согласиться с Вальдемаром, а потом разоблачить всю шайку, но это может вызвать у ребят и у Алисы с Валерием недоверие ко мне. Можно сказать об этом Валерию и Алисе, и с ними сообща решить, как действовать дальше, но при этом придётся говорить обо всех недостатках Валерия, а значит, восстановить против себя Алису и сделать смертельным врагом Валерия (его необъективность я уже не раз чувствовал на себе). И я решил поговорить с Алисой и Валерием об изменении режима в отряде, о том, что Валерию надо больше бывать среди ребят, а не уединяться в глубокомысленном молчании и не уходить из лагеря под благовидными предлогами неизвестно куда. Надо, подумал я, ещё раз поговорить и о реквизициях, похожих на грабежи.
Мне казалось, что этого достаточно, чтобы пресечь смуту.
А Вальдемару я ответил, что у Валерия действительно есть недостатки. Но не больше, чем у всех остальных, зато он храбр и хороший организатор. Наша задача – исправить его поведение. Что касается вас, Вальдемар, то вам надо меньше пить. И вообще, не идите на поводу у дураков. Я не спрашиваю, продолжал я, кто эти дураки, но не хочу скандалов, от которых пострадает весь наш отряд.
Разговор с Валерием и Алисой в тот день у меня не состоялся. Я ушёл на диверсию и только после случая с этими девушками мы поговорили.
По возвращении из французского отряда Алиса решила провести с ребятами беседу о бдительности, но предварительно затеяла разговор со мной и Валерием. Гриша, третий член штаба, лежал в это время в госпитале города Гре после операции аппендицита. Я пожалел, что его не было. Он полностью разделял мое мнение о реквизициях и о необходимости ослабления режима в отряде. А Алиса как раз заговорила об усилении дисциплины, обвиняя меня в нарушениях. Я вскипел и сказал, что рыба гниёт с головы, и начал критиковать их за открытое сожительство в отряде, на виду у тех, кому запрещают встречаться с женщинами. Уподобил Валерия Стеньке Разину, упрекая за то, что он отдаляется от ребят. Я говорил много и излишне горячо. В итоге предложил:
а – разрешить ребятам ходить на свидания по
2—3 человека, известив отряд, куда и к кому идут;
б – срочно сдать в центр трофейные и реквизи-
рованные деньги и драгоценности, предваритель-
но спросив у ребят, не осталось ли у кого что-
нибудь (намек на Валерия);
в – Валерию не уходить каждый день из лагеря,
а оставаться и беседовать с ребятами;
г – чаще ходить на операции всем отрядом, а не
отдельными группами, не отсиживаться в лесу,
когда есть возможность громить врага.
Я намекал на один неприятно поразивший меня эпизод нашей жизни. Это было 25 или 26 августа, когда рано утром прибежал из Сите мальчишка и сообщил, что рядом по шоссе двигалась колонна немцев. Я тут же подошёл к машине, в которой спали Алиса и Валерий, и предложил провести операцию с участием всего отряда. Валерий отрезал – не пойдём. И отвернулся, закрыв глаза. Алиса мягко пояснила:
– Алёша, немцы отступают, скоро придут союзники. Стоит ли рисковать?.. Можно погибнуть.
Меня как громом поразило. Я думал, что Валерий вскочит и как раньше скомандует: «Все за мной!» А тут вот оно как…
Теперь вот мое выступление… Валерий было вскипел, но Алиса его успокоила, резонно сказав:
– Алёша прав. Мы с тобой находимся в привилегированном положении, и ребята завидуют тебе, это надо учитывать. А дисциплину надо начинать с себя. Я так и скажу на собрании. Но твоё, Алёша, предложение разрешить ходить на свидания по два-три человека, тоже таит опасность – не напьются ли, не надебоширят ли ребята?.. Я всё-таки попробую оставить запрет в силе. А трофейные ценности надо отправить в Париж немедленно.
И вот что произошло на собрании.
Алиса, как всегда, очень умно и толково стала излагать тему бдительности, приводя в пример наш с Яником промах в отношениях с девицами. Тут же она сказала, что «пусть не указывают пальцем на нас с Валерием, у нас сложились отношения, как у мужа и жены».
И вдруг раздался голос Кости:
– Всё время говоришь ты, а пусть скажет командир, которого мы выбирали, ведь он у нас как сыр в масле катается.
– Пусть скажет Валерий, – поддержали Костю товарищи.
Валерий не стал молчать.
– Я вот что скажу, ребята. Не судите меня и Алису, она вполне понятно сказала почему… А вам, я думаю, действительно надо разрешить ходить в окрестные деревни. Только не по одному, а по два-три человека, предварительно сообщив в отряде, куда идёте. В деревне вы должны вести себя как положено советскому партизану: не пить, не хамить и все время быть начеку. Возвращаться строго в обговоренное время, без опозданий.
Молодец, Валерий, вовремя почувствовал обстановку. Ребята бурно приветствовали его предложение. Алиса, пожав плечами, тоже согласилась.
Так один из важнейших вопросов был решен.
А мне стало ясно, что одним из заговорщиков был Костя. Он исчез той же ночью. Мы объявили розыск по деревням, но нигде его не нашли. Увидели его после освобождения в городе Гре…. в тюрьме! Там он сидел за поджог фермы и грабёж, которые он совершил вместе с французом, тем самым, который указывал Валерию и Алисе на коллаборационистов. На коленях Костя умолял Алису вызволить его из тюрьмы. Плакал, слёзы текли по опухшему от побоев лицу. Даже при нас его ударил работник полиции в штатском.
Алиса помочь ему отказалась.
Ну, а после того собрания воспользоваться разрешением на свидания и выходы из леса нам уже не пришлось. Накал боев нарастал, и в некоторые дни отряд проводил по две-три операции.
54
В сводке Илича говорится: «4 сентября в 18 ч. 30 мин. партизаны атаковали колонну немецких велосипедистов, убито 23 солдата, 3 взяты в плен, захвачено 2 ручных пулемета, 18 винтовок и 2 пистолета».
Я не помню этой операции. Кажется, Алиса организовала ее с французским отрядом «Меме», сама принимала в ней участие, а потом рекомендовала записать нам в актив. Мы особо не протестовали – раз Алиса участвовала и говорит, что нас не успела известить, то мы и записали её в свой рапорт, а Илич проверил её проведение и успокоился. Примерно с 1 сентября мы сводок в центр не посылали – некогда было, да и не с кем. Вот как мы «работали» после 4 сентября:
«5 сентября утром мэр деревни Сите, расположенной в двух километрах от лагеря, сообщил нам, что в деревню прибыла группа немцев с целью реквизиции лошадей. Группа в составе Валерия, Алёши, Павла, Николая-1, Алекса, Яника и Николая-2 села на машины и направилась в деревню. Там завязался бой, который длился примерно один час. В результате 5 немцев убито и 1 взят в плен» (черновик рапорта).
Чуть не упустил из черновика: «…Реквизиция лошадей была предотвращена, население горячо благодарило нас и тут же погнало весь скот в наш лес. Захвачено оружие – автомат, 4 винтовки, пистолет».
Я помню эту потасовку. Мы высадились из легковых машин на восточном краю деревни и внезапно атаковали немцев, стоявших в центре деревни с лошадьми. Немцы растерялись, отпустили лошадей, и те разбежались, а немцы вместе с ними, оставив убитых и раненых, которых мы потом добили. Убежавшие фашисты почти не отстреливались, сели в машину и уехали. Отстреливаться начали немцы, искавшие скот по дворам, но они тоже быстро отступили к другой машине. Помню, как бежал бритоголовый офицер, потерявший фуражку. Он сделал две длинные перебежки до машины, но подстрелить его нам не удалось. Оставшиеся «боши» тоже уехали и только один, рыжий, не успел сесть в машину. Бросив винтовку, он поднял руки вверх.
Во второй половине дня, когда мы только что пообедали, нам срочно сообщили, что в Савиньи приехали на велосипедах шесть немцев. Вот что по этому поводу написано в черновике рапорта: «В тот же день после обеда жители Савиньи сообщили нам, что у них остановилась группа немцев в количестве 6 человек. Валерий, Алёша, Гриша, Алекс, трое Николаев и Пента быстро сели на машины и отправилась в деревню. После короткой перестрелки все немцы были взяты в плен. Гриша после операции вышел из госпиталя, и, пока затягивалась рана, отдыхал в деревне Анжери у местного кузнеца. Он сел с нами в машину и принял участие в этом коротком бою».
К этому времени нами был сформирован отряд из бежавших власовцев, который начал боевые действия под нашим руководством. В ночь с 5 на 6 сентября группа из нового отряда провела первую операцию. Была обстреляна колонна автомашин на дороге Грее – Везуль. Количество убитых и раненых неизвестно. В операции участвовали: Василий, Иван, Николай, Саша.
В сводке Илича говорится: «В ночь с 5 на 6 сентября на шоссе Грее – Везуль около Сан-Бройн совершено нападение на колонну немцев. Перестрелка длилась до утра. Количество убитых и раненых солдат противника не удалось установить».
Окрестные жители нашу активную боевую деятельность иногда приукрашивали. Если, например, мы убили двух немцев, они сразу приставляли к цифре 2 «ноль». Слухи, а если говорить не стесняясь, слава распространялась далеко. В окрестных деревнях и в Гре Анжери стали называть «русской деревней». Количество русских партизан, по слухам, в ней исчислялось сотнями.
О «русской деревне» Анжери знали немцы и власовцы, поэтому некоторые из них приезжали туда сдаваться. Был такой случай: Валерий возился с машиной в центре деревни, около кафе, и вдруг видит: со стороны Сан-Бройна на велосипедах въезжают немцы. Заметил, когда они были уже на перекрёстке. Валерий бросился к машине за автоматом, но услышал крик немцев: «Камрад, не стреляй. Мы приехали сдаваться». Трое немцев стояли с поднятыми руками, винтовки и автомат висели у них на шее. Валерий отобрал у улыбающихся немцев оружие, поздравил их с окончанием для них войны и передал пленных французам, которые отвели их в лесной лагерь, охраняемый местными жителями.
В черновике рапорта записано: «6 сентября утром мэр деревни Сан-Бройн (в 7 км от нашего лагеря) сообщил нам, что в деревню приехали 5 немцев и расположились в его доме бриться. Группа в составе Валерия, Алёши, Алекса, Григория, трёх Николаев Павла и Франсуа на машинах выехали в деревню. Мы окружили дом и предложили немцам сдаться. Четверо сдались сразу же. Один попытался бежать, но был пойман. Мы отобрали у них оружие, а самих сдали французам. Захватили 1 пулемет, 2 винтовки, пистолет, гранаты».
Я хорошо помню все подробности операции и что за ней последовало.
Немцы были на велосипедах, мы их обезоружили, забрали документы, но деньги, кольца и часы не трогали и заставили вести велосипеды в руках. Сами разделились на 2 группы: я и Алекс повели немцев, а с остальными ребятами Валерий сел в машину и поехал в Анжери.
Да, вспомнил одну деталь. Мэра Сан-Бройна к нам в лагерь привёл «наш» француз, и когда мы его спросили, почему он приехал к нам за семь километров, хотя у них под боком в лесу французский отряд и ушедшие только вчера в лес из Гре жандармы, мэр ответил:
– Пока наши «макизары» соберутся, немцы уже уедут, а жандармов с места не стронешь, они пуще огня немцев боятся. Вы, русские, быстры на подъём, и вам всё под силу.
Действительно, через 10 минут мы были в Сан-Бройне, а осилить пятерых немцев нам ничего не стоило. Они могли быть хорошими солдатами, но партизаны внушали страх, тем более русские, о которых они столько слышали.
И вот ведём мы немцев, а они непрерывно спрашивают:
– Что с нами будет? Вы нас не расстреляете?
Успокаиваю, говорю, что для них война закончилась, и сейчас мы сдадим их в лагерь.
– А кто охраняет лагерь?
– Местные французы.
– Не отдавайте нас французам, оставьте нас в своём русском отряде.
– Откуда знаете, что мы русские?
– Командир послал нас разведать дорогу через Анжери. Сказал, что она блокирована русскими партизанами. Мы боялись ехать в деревню и совещались у мэра Сан-Бройна – не сдаться ли нам русским. А тут вы и появились…
– А почему тот ваш солдат не сдался, а попытался бежать? – показал я на него пальцем.
– Он испугался.
– Зачем командир послал вас в разведку?
– Узнать, много ли вас, чтобы попытаться пробиться через Анжери по боковой дороге. По главным дорогам на восток отходит много войск и союзники здорово их бомбят.
Я понял, что в ближайшие дни следует ожидать крупного вторжения в нашу деревню. Фронт был близок, и немцам надо было отходить быстрее по всем путям и дорогам.
Мы подошли к Анжери, где нас встретили молодые французы, которые охраняли лагерь военнопленных немцев в лесу. Я передал им своих фрицев, и мы с Алексеем пошли в кафе.
На площади у кафе я увидел такую картину: немецкий мотоцикл с красным флажком, а возле, вытянувшись по стойке «смирно», в одну шеренгу стояли власовцы. Вдоль шеренги ходил Валерий и что-то у них выспрашивал.
– В чём дело, Валерий, помощь нужна?
– Да вот штаб власовской дивизии приехал сдаваться!
Я с любопытством разглядывал предателей. А в это время французы вели только что переданных им мною немцев. Интересно, с какими мыслями смотрели друг на друга власовцы и немцы?
– Полюбуйтесь на своих бывших хозяев, – обратился я к власовцам, показывая на пленных немцев.
На лицах власовцев – страх. Когда я подошел к правофланговому, подполковнику (они все были офицеры), лицо его показалось мне знакомым.
– Фамилия?
– Валентин Артемьев.
– Откуда?
– Из Ленинграда.
– Кто по специальности?
– Инженер-металлург, кандидат технических наук.
– Я тоже инженер-металлург. Где я мог вас видеть?
– Вы спортом не занимались? – спросил меня Артемьев.
– Я мастер спорта по бегу на 800 метров.
– А я мастер спорта по бегу на 400 метров.
– Значит, мы могли встречаться на первенстве СССР и на матче Москва – Ленинград по легкой атлетике.
– Так точно, – отчеканил Артемьев.
И вот где мы с ним встретились… Уже не соперниками, а врагами.
Лицо Артемьева, с тонкими чертами, морщинами и синяками под глазами, нервно передернулось.
– Так что же, Валерий, в какой лагерь отправим их? – спросил я у командира.
– Возьмем в свой.
На нас с любопытством глядели французы.
Конечно, этот власовский подполковник назвал не свою фамилию. Фамилию Артемьев он присвоил, так как после возвращения на родину я долго был в спорте (до 1957 г.) и интересовался у многих ленинградских видных спортсменов, выступавших до войны, знают ли они Артемьева. Ни один не ответил положительно.
Хотя то, что этот власовец был в большом спорте, я не сомневаюсь. Ведь он тоже меня узнал, недаром же он первый спросил: занимался ли я спортом.
Валерий пошёл с ребятами и власовцами в наш лагерь, а Алиса и я вместе с пленными немцами и французами-конвоирами направились в лагерь военнопленных, который был в лесу, правее дороги Анжери – Ини. Это была небольшая поляна, огороженная колючей проволокой, за которой находилось человек 30–40 немцев. Охраняли их два вооружённых автоматом француза из Анжери.
Жалкое зрелище представляли собой эти пленные. Примерно такое же, что и наши пленные в лагерях начала войны. Французы их раздели, отняли часы, кольца, деньги. Полураздетые, разутые немцы спали под открытым небом на соломе.
Мы с Алисой вошли на территорию лагеря. Алиса спросила:
– Какие имеются жалобы?
Вперёд выступил рыжий немец:
– Мадам Алиса (они были наслышаны о ней), нас разули, спим под открытым небом на соломе, кормят плохо и один раз в день. Мы ведь подохнем до прихода союзников.
– А что вы делали с русскими? Они были раздеты, разуты зимой и умирали с голода. Чего же вы хотите от французов, которых вы грабите, убиваете, ссылаете в лагеря? У палки два конца: вы ударили одним, а вам досталось другим.
Рыжий немец заплакал и начал умолять Алису разрешить ему жить среди партизан. Он клялся, что не убежит, и если нужно, то готов сражаться против фашизма. Назвался сыном социал-демократа.
Алиса отказала ему во всём. Но французу, командиру охраны, приказала: выдать немцам пару бритв, мыло, расчёски, зеркала, кормить их три раза в день, картошки не жалеть, принести две лопаты, чтобы они вырыли отхожую яму, доставить воз соломы и обуть каждого в старые башмаки.
– Вы же их ограбили, – говорила она французам, – так неужели жалко для них старья? Соберите по деревням. А также побольше старых носков и полотенец.
Всё, что Алиса приказала, было выполнено.
После возвращения в лагерь Валерия с власовцами состоялось общее собрание всех советских граждан. Решили, в соответствии с указанием Центра, дать возможность бывшим власовцам оправдать себя перед Родиной и народом. Власовцы сформируют свой отряд, который будет подчиняться нашему штабу.
Они провели собрание, назвали свой отряд «Родина» и избрали командиром того самого офицера Артемьева. Попросили у нас оружие, чтобы ночью пойти на боевую операцию. Мы выдали им пистолеты, автоматы, винтовки и рекомендовали место для засады. Они ушли. Вот что записано в нашем рапорте: «В ночь с 6 на 7 сентября группа из нового отряда в составе Валентина, Василия, Семена, Глеба, Григория… (пропуск в черновике) вышла на обстрел немецких колонн на дороге Гре-Везуль. Была атакована колонна автомашин с применением гранат. Население дер. Сан-Бройн на другой день сообщило нам, что ночью были убиты 7 немцев и 12 ранены. Одна автомашина выбыла из строя».
В свое время, когда у нас появились первые пленные власовцы, мы договорились, что никаких оскорблений и намёков на прошлое мы им не делаем. Это соблюдалось всеми всё время. Мы, конечно, присматривали за ними: первое время опасались измены, но потом, когда началось массовое отступление немцев, стало понятно, что их участие в нашей борьбе с фашистами для них – спасение.
На меня легла обязанность по вооружению власовцев, но это было чистой формальностью. Оружия у нас уже было в избытке, и мы тщательно следили за ним, даже мелкий ремонт делали – находились мастера.
В черновике рапорта записано: «В ночь с 7 на 8 группа в составе Валерия, Алёши, Гриши, Алексея, Павла, трёх Николаев Пенты и Франсуа атаковала немецкую колонну на дороге Грее – Везуль около деревни Фретиньи. Были применены гранаты. Выведены из строя 3 автомашины. Количество убитых и раненых неизвестно. При возвращении в лагерь утром 8 сентября взяли в плен четырех немцев, которые шли по небольшой дороге отдельно от колонны. Пленные были обезоружены и переданы французам. Захвачены – пулемет и 2 винтовки».
То же самое записано в рапорте Илича.
55
И вот наступило 10 сентября, воскресенье. Мы решили отдохнуть и не выходить на боевые операции. Собирались пойти в соседние деревни к девушкам или просто к знакомым. Но отдохнуть не удалось, хотя мы очень устали. Мы брились, мылись, чистили и штопали одежду, прихорашивались и смазывали оружие, которое брали с собой и на свидание, но в разобранном виде.
В 9.30 утра французы сообщили, что Гриша передал им трёх пленных немцев. Оружие французы оставили себе, мы не возражали.
Ярко светило солнце, предвещая тёплую осеннюю погоду. Пента накормил нас воскресным завтраком. У него было правило – в воскресенье готовил что-нибудь особенное и, надо сказать, делал это великолепно. А я выделил по 300 граммов спирта, и вскоре все были навеселе.
Вроде ничто не предвещало бурного событиями дня и трагедии, постигшей Анжери. Мы не знали, далеко ли проходит фронт, но предполагали, что близко: ночами можно было различить слабые звуки артиллерийской стрельбы. Мы даже не думали, что немцы о нас помнят. А я выпустил из виду, что четыре дня назад пленные разведчики, взятые в Сан-Бройне, сообщили о предполагаемом продвижении отступающих немецких частей через Анжери.
И вот утром с ясного сентябрьского неба разразился гром. В черновике нашего рапорта сказано: «10 сентября в 10 ч. 30 м. Николай-1, бывший в дер. Анжери на разведке, прибежал в лагерь и сообщил, что туда въехали две легковые автомашины и мотоцикл с немцами. Тут же оба отряда (наш «Парижская Коммуна» и власовский «Родина») выступили в деревню. Когда мы вошли, там была уже целая колонна машин с немцами в количестве 200 человек. Жители нам сообщили, что убит Гриша. Тут же, заняв позиции в домах, мы открыли по немцам огонь. Завязался бой. Продержавшись около часа и не дождавшись подкрепления от французов (недалеко от нас располагался лагерь французского отряда в количестве 300 человек), мы были вынуждены отойти к лесу». В этом бою нами были убиты: немецкий полковник, обер-лейтенант, фельдфебель и 12 солдат. Мы, кроме Гриши, которого немцы убили до боя, имели только одного раненого.
Отойдя к лесу, мы увидели, что французы готовят оборону на опушке (молодые ребята из Анжери, вооруженные нами для охраны лагеря пленных немцев).
Мы заняли позицию с правого фланга французов с целью задержать продвижение немцев по дороге (имелась в виду дорога Анжери – Вельмо). Вероятно, потому, что немцы о нас как о противнике ничего не знали, они на всякий случай вышли из деревни и с дороги открыли по ней артиллерийский и миномётный огонь. Только после этой стрельбы они заняли горевшую деревню. Затем перенесли артиллерийский и миномётный огонь по лесу. Нам он никакого вреда не нанес. Тем не менее немцы в 16 часов 15 минут пошли в наступление на наши позиции. Их атаку мы отбили. После второй атаки, которая также была отбита, немцы снова открыли по нашим позициям артиллерийский и минометный огонь. Мы вынуждены были сменить позиции, отошли метров на 300 вправо. Французы отступили беспорядочно и неорганизованно, и немцы ворвались в их лагерь. В 20 часов мы отошли в организованном порядке в направлении деревни Ини».
В сводке Илича сказано: «10 сентября 1944 г. – В 10 час. в Анжери вошла колонна немцев (более 200 чел.) с карательной целью против русских партизан. Впереди колонны двигались два грузовика и легковая автомашина. Голова колонны остановилась около кузницы, в доме владельца которой находился на излечении советский партизан Щербаков Гриша. Заметив повсюду немцев, Щербаков, которому отходить было некуда, выстрелом в упор убил немецкого подполковника и ранил его адъютанта.
Немцы убили Щербакова и подожгли дом кузнеца, в котором находился труп Щербакова.
Начался ожесточенный бой. Подоспевший отряд партизан выбил немцев из деревни, где они оставили убитыми 14 гитлеровцев, в том числе одного офицера. Укрепившись на окраине деревни, немцы подвергли длительному артиллерийскому обстрелу деревню Анжери, где засели партизаны. После артподготовки немцы снова перешли в атаку, которую партизаны успешно отбили. Потеряв убитыми еще 11 своих солдат, немцы атаки прекратили и подвергли деревню непрерывному артиллерийскому обстрелу, в результате которого она почти вся сгорела. После того, как все жители ушли из деревни, партизаны с наступлением темноты покинули ее.
Бой длился здесь с 11 до 19 час 30 минут. Немцы потеряли при этом 37 убитыми и 62 ранеными. Наши потери: один убитый (Гриша) и один раненый».
Рапорт заканчивался следующими словами:
«Содержащиеся в настоящем докладе данные о боевой деятельности отряда имени Парижской Коммуны получали отражение в докладах ФТПФ и частично публиковались в подпольной печати.
Подписали: «Илич» (майор Бенетто), майор Бодуэн».
Этот рапорт Илича хранится в министерстве по делам бывших фронтовиков Франции, а копия его есть у Марии Александровны Фортус (передана ей Гастоном Лярошем). Фотокопию с копии М. А. Фортус я передал т. Цырульникову. Хранится она в архиве военно-исторического института АН СССР Минобороны.
Единственный отряд, действовавший во Франции, который на сегодня имеет такое официальное подтверждение своих дел – это наш отряд им. Парижской Коммуны. Поэтому любому читателю легко отличить в воспоминаниях участников событий субъективный налет от объективной реальности далеких дней.
К сожалению, по другим отрядам таких официальных документов нет, и там свобода для фантазий безгранична.
Теперь я поделюсь своими воспоминаниями о сражении в Анжери 10 сентября 1944 года.
…Утром 10 сентября мы намеревались прогуляться в деревню. Но тут в лагерь вместе с мэром Анжери прибежал Николай-1 и сообщил, что в Анжери немцы убили Гришу. Мэр хотел рассказать подробности, но мы были так поражены этой вестью, что плохо его слушали.
В «нашей» деревне немцы! Гриша убит!!! У нас, видевших-перевидевших всё на свете, это не укладывалось в голове. Мы привыкли считать Анжери своей и никогда не думали, что немцы могут её занять.
Это обычное для войны событие вдруг выбило нас из колеи. Не сговариваясь, мы, захватив оружие, в «парадных» костюмах поспешили в Анжери. Когда мы вышли на опушку леса, увидели, как из Анжери в сторону Савиньи отходила моторизованная артиллерия. На центральной площади деревни стояли грузовые машины, а маленькие фигурки солдат шныряли по домам.
– Немцы отходят, – указывая на переезжавшую мост через реку Коломбин артиллерию, сказал я Алисе.
– Скорее всего, они выводят артиллерию на позиции для обстрела, – ответила она.
– Будем атаковать? – спросил Валерий.
– Разобьёмся на три группы. Те, кто под руководством Алёши, пусть атакуют со стороны церкви. Центр атакует моя группа, справа группа Валерия. Нападём скрытно, без крика «ура». Стрельбу открывает моя группа, а группы Валерия и Алёши тут же нас поддерживают. Николай отправляется во французский отряд и вместе с ними атакует со стороны Ини.
Бегом, маскируясь в кустарнике и среди деревьев, мы спустились в деревню и тут же вступили в бой, даже не разведав предварительно количество вражеских солдат.
Немцы, рыскавшие по домам, не ожидали нападения и тем более такого массированного огня. Перепуганные, они бежали к машинам и просто из деревни в сторону Савиньи. Падали убитые и раненые, несколько машин горели, подбитые нашими гранатами.
Перепрыгивая через убитых и раненых, мы бросились за убегавшими солдатами, но были остановлены сильным пулемётным огнём засевших в крайних домах фашистов.
Началась длительная перестрелка, не наносившая, впрочем, нам урона. Примерно в первом часу пополудни немцы начали миномётный, а затем артиллерийский обстрел Анжери.
Алиса дала команду отходить к лесу и сконцентрироваться на опушке между дорогами на Ини и Вельмо.
Отходили не через деревню, а кустарником в направлении деревни Сите. Затем пересекли дорогу Анжери-Сите и уже опушкой леса двинулись к назначенному пункту сбора. Когда подходили к дороге Анжери-Вельмо, заметили, что молодежь из Анжери окопалась на опушке леса, не доходя до дороги. У молодых французов были пулемёты, автоматы, винтовки. Их было человек 40–50. Алиса предложила и нам, по примеру французов, окопаться на опушке по другую сторону дороги и, таким образом, с двух сторон держать её под обстрелом. Я напомнил, что в уставе для пехоты не рекомендуется занимать позиции на опушке. Противник тем самым получает хороший ориентир для артиллерии. Лучше и правильнее засесть в крайних с нашей стороны домах деревни. Моё предложение было принято. Алиса посоветовала французам поступить так же, но те отказались.
Немцы продолжали миномётный и артиллерийский обстрел, концентрируя огонь на центре и южной части деревни, откуда только что ушла моя группа. Теперь мы могли беспрепятственно занять крайние дома. Но в них мы не задержались. Не успели немцы приготовиться к атаке после прекращения артподготовки, как мы по команде Алисы быстро заняли разрушенные дома в центре деревни.
Здесь было жарко, как в аду. Неподалёку от меня горел дом кузнеца, где жил Гриша. Где сейчас его тело? Никто его не видел. Уклоняясь от сплошной огненной стены, мы инстинктивно продвинулись восточнее центра, где встретили поднявшихся в атаку немцев сильнейшим огнем из автоматов и винтовок. Не ожидавшие нашего отпора в этом месте немцы попытались обойти наш правый фланг и ударить с тыла, но мы разгадали их манёвр и интенсивной стрельбой из всех стволов заставили их сначала залечь, а потом и отойти на старые позиции.
Снова заработала затихшая ненадолго немецкая артиллерия, и теперь мы уже отходили на старые позиции по направлению к Сите. Через Анжери пройти было нельзя: её центр был в огне. А по только что оставленным нами там позициям беспрерывно наносился артиллерийский удар. Немецкие батареи переносили огонь всё ближе и ближе к лесу.
Вырвавшись из деревни, мы видели, как шквал артиллерийского огня обрушился на позиции французов, понадеявшихся на свои окопы. К сожалению, они их не спасли, и «макизары», как потом выяснилось, потеряли человек пять убитыми.
Мы опять бросились в деревню и заняли крайние разрушенные дома.
Это был страшный бой. Немцы атаковали – мы оборонялись.
Я помню некоторые детали того сражения. Я, Валентин и Николай-1, вернувшийся ни с чем от французских «маки́», которые тоже были на какой-то операции, стоим в саду за стенкой. Со стороны улицы её высота метра три. Мы стоим как раз напротив горящего центра, заходящее солнце бьёт нам в глаза. В трехстах – четырехстах метрах от нас через дорогу перебегают немцы. Я стреляю короткими очередями – безрезультатно, для автомата слишком далеко, а Валентин бьёт из винтовки почти без промаха. Лежат уже три или четыре трупа.
– Не жалко? – улыбаюсь я.
– Кого там жалеть! – шепчет Валентин, продолжая стрелять.
– Молодец, – говорю я, и даю очередь.
А в это время артиллерия, оставив французов, перенесла огонь на лес.
– Бьют по нашему лагерю, черти! – говорит Николай-1.
– Откуда они знают, что там наш лагерь, просто так бьют, – отвечаю я.
И вдруг на гребне стены, прямо перед моим и Валентина носами, появляется немецкая, с длинной деревянной ручкой, граната. Она долго, очень долго, как нам кажется, вращается, а затем падает на уличную сторону и там взрывается. Только после этого мы с Валентином приходим в себя и бросаем по гранате на улицу вправо – лишь оттуда мог кинуть её подкравшийся немец. Надо же, мы так растерялись от неожиданности, что даже не догадались столкнуть гранату на улицу. А если бы она упала в сад? Нас бы разнесло на куски…
Николай-1 выглядывает через стенку на улицу. Его обнаруживают и открывают по нему огонь. Но и он увидел подкрадывающегося к нам с гранатой немца. Николай тут же швыряет в его сторону одну за другой две гранаты. Два взрыва – крик, стон. Мы спрятались за стенку – слишком часто свистят пули. Пригнувшись, меняем позицию, сдвигаемся вдоль стенки вправо, ближе к немцам – это безопасней. На старом месте рвутся гранаты. Мы не стреляем. Немцы осмелели, и мы слышим за стеной их разговор. Николай-1, маскируясь веткой, спускавшейся с дерева, глядит на улицу.
– Прямо под стенкой, слева от нас, человек пять, справа никого, – докладывает он.
Там, где мы сидим, стенка высотой нам по пояс. Встаем и почти в упор расстреливаем немцев.
Артиллерия бьет уже по лесу. Прибежал Яник.
– Алиса приказала собраться на опушке у дороги.
Перебежками двинулись туда. Пулемётный и автоматный огонь противника так силён, что невозможно оторваться от земли.
– Я побегу к Алисе и доложу обстановку, – говорит Валентин.
– Беги и оставайся там, не возвращайся.
Через пятнадцать – двадцать минут к нам подползает Иван-шофёр (из власовцев):
– Алиса приказала вам отходить на Ини. Я с вами.
Огонь ослаб. Короткими перебежками мы добираемся до леса, бежим вдоль опушки.
Солнце уже село, но от огромного пожара светло, как в полдень.
– Ребята, – обращаюсь я к Янику и Ивану. – Вы в чьей группе были?
– Вначале у Валерия, – говорит Иван.
– А я был с тобой, – ответил Яник, – потом всё перемешалось.
– Мы были у Алисы, – говорит Николай-1 за себя и Николая-коми. Молодец наша Алиса, со своим пистолетиком она была в самых опасных местах. Нами командовала и вас с Валерием не теряла из вида. Настоящий боевой командир!
Я подумал: не будь Алисы, едва ли мы с Валерием решились бы вступить в такой бой. Ограничились бы первым налетом, а в атаку и контратаку вряд ли ходили бы. Её присутствие воодушевляло.
– Ребята, жертвы есть?
– Нет. Только легко ранен… (кто, не помню).
Мы поплелись к Ини. Становится темнее и отсветы пламени пожара в Анжери видны нам на опушке леса слева. А я всё думал об Алисе.
Ещё недавно, лежа с Валерием в машине, она говорила мне, что войне скоро конец и не стоит идти на операцию, не надо рисковать. А сегодня командовала самой крупной из наших операций. Была бесстрашна, не гнулась под пулями. Интересно, как чувствовал себя Валерий? Я не слышал его баса. Правильно поступила Алиса, взяв командование на себя. Но почему мы дрались? Не проще ли было отойти? И деревня, возможно, уцелела бы. Ведь это чудо, что ни одного из нас не убило! И почему мы так долго держались? Ведь немцы – профессиональные военные, они запросто могли вытеснить нас за каких-то полчаса. Сколько их было? Человек четыреста, не меньше – вон, сколько пушек и минометов у них, отвечал я себе. Все-таки они не прошли за целый день ни километра, и им нужно спешно ретироваться.
Так я размышлял, а мысли текли всё медленнее: усталость брала своё – меня даже пошатывало.
Молчали и ребята. Переживания были у всех одинаковы.
Но зачем всё-таки Алиса ввязалась в такой бой?
Сгоряча пошли мстить за Гришу, но мы – партизаны, и большой бой нам ни к чему. Сходу мы уложили человек 20, ну и хватит. Зачем больше? Может, ей было известно что-то ещё? Или ей приказали задержать продвижение отступающих немцев – во что бы то ни стало? Или она захотела показать французам, на что способны русские? А может, ожидала, что подойдут большие силы «макизар», к которым она послала Николая-1. Ответа не было, но я радовался, что мы выдержали такой бой, гордился собой – ни разу не испугался, был хладнокровен (только раз перед немецкой гранатой растерялся). Но я не мог понять цели такого боя. Стоп! А что если мы должны войти во французскую армию? И этот бой был для нас вступительным экзаменом? Нет. Ведь Ник говорил нам, что наше правительство против того, чтобы советские люди вступали в чужие армии.
Так, молча размышляя, мы доплелись до Ини и тут увидели, что все деревья там до самых макушек заняты людьми. Они целый день следили за боем. Нам захотелось жить. И тут подошел «фромаже́» (сыровар, торговец сыром) и позвал к себе. По дороге к его дому мы рассказывали окружившим нас жителям Ини о произошедшем в Анжери.
– А мы думали, это американцы подошли и дерутся с немцами, – сказал кто-то.
– Нет, это русские дрались с немцами, – ответил Яник.
У сыровара был сервирован стол на 12 персон. Это нас удивило.
– Кого вы ждали? – спросил я, когда утолил жажду сидром.
– Победителей. Вас.
– А если бы победили немцы?
– Не считайте меня глупцом. Мы ждали американцев, но раз дрались вы – я даю обед в честь русских.
Нас было пятеро, семь других мест заняли местные жители.
К концу обеда мы здорово захмелели. И вдруг я вспомнил, что в лагере остался Васька, тот маленький котёнок, которого мы в мае подобрали около Венизи. К этому времени он стал поджарым, мускулистым котом – грозой лесных мышей. Жил в нашем лагере и никуда не уходил. Спал у кого-нибудь под мышкой, но ласк человеческих рук не любил. Извиваясь тонким телом, он, как змея, выскальзывал из рук. И ещё он очень боялся звука автомобильного мотора. Как только заводили машину, кот с непостижимой быстротой взбирался на ближайшее дерево.
И я предложил ребятам пойти за ним. Яник начал отговаривать нас и с нами не пошёл. А мы, взбодрённые алкоголем, двинулись к Анжери. Было часов десять вечера, и если бы не зарево пожара, то было бы абсолютно темно, тоненький серп луны давал очень мало света.
Мы шли опушкой леса около Анжери, когда увидели, что от дороги Анжери – Вельмо прямо на нас движется группа человек в двадцать. Пламени пожара было недостаточно, чтобы разглядеть, кто они такие. Во избежание неприятностей мы перелезли через колючую проволоку и скрылись в кустах. Незнакомцы подошли и остановились метрах в двадцати от нас.
– Кто здесь? – спросил кто-то из них по-французски.
– Кто вы такие? – в свою очередь спросил Николай-1.
– Резистанс франсез (французское Сопротивление).
Я велел Николаю посмотреть, кто пришёл. Николай перелез через проволоку и вскоре крикнул:
– Свои, выходи, ребята!
Мы перелезли через проволоку и увидели, что Николай разговаривает с французом, у которого на груди почему-то был прикреплен белый носовой платок. Метрах в десяти от Николая и француза стояла группа без головных уборов. Повесив автоматы на плечо, мы подошли к Николаю и, узнав француза из отряда, куда бегал Николай-1, поздоровались с ним. А в это время группа, стоявшая в отдалении, бросилась на нас. Немцы! Мгновенно нас окружили, обезоружили и скрутили крепкие молодые «боши».
Хмель моментально выветрился, но испуга не было ни у меня, ни у ребят. Их глаза были обращены ко мне – что делать?
– Кто из вас главный? – на ломаном французском языке обратился к нам офицер.
– Я возглавляю эту группу, – ответил я по-немецки, желая отвлечь немцев от французского языка, чтобы они не поняли, кто мы такие.
– Хорошо. Много ваших людей в лесу?
– Много.
– Зовите всех. Никого не тронем. Всем гарантирую жизнь.
– Иван, – обратился я к бывшему власовцу, – иди к Валерию и расскажи, что с нами случилось.
– А как же вы?
– При первом случае сбежим. Ясно?
Ребята молча кивнули. Офицер сообразил, что я приказал Ивану идти за нашими людьми, и сказал, чтобы его отпустили. Иван медленно перелез через проволоку и пошёл в лес.
Мы прождали несколько минут. Никто не появлялся. Офицер приказал взять нас за руки, чтобы мы не убежали.
– Где немецкий штаб? – спросил он меня.
Я пожал плечами. Вперед выступил француз:
– Я знаю.
– Ведите туда, – сказал офицер, – там мы вас отпустим.
Сволочь, подумал я о французе. Предатель.
– Ребята, он поведёт в Савиньи, там нам смерть. У реки бежим, – быстро проговорил я.
Француз действительно повёл в сторону Савиньи. Нас, каждого русского, за руки держали по одному немцу. Меня вёл, перегнув руку в локте, молодой парень.
56
Не доходя до реки, француз свернул направо и повёл через высокий густой кустарник в сторону Ини. Когда мы вышли из кустарника, Николая-2 уже не было, но немцы не обратили на это внимания.
Мы дошли до лесной дороги в сторону лагеря французского отряда, где числился наш провожатый. Француз предложил офицеру двинуться этой дорогой, но тот отказался.
Вскоре мы пересекли речку и вышли к шоссе. Ини осталась справа. Мы вышли на дорогу Ини – Божё, ведущую через лес Бель-Вевр. Это на ней мы с Валерием в начале мая убили двух велосипедистов.
Когда мы вышли на шоссе, я вырвал руку у своего конвоира и, засунув обе руки в карманы, громко сказал по-немецки:
– Дальше я с вами не пойду!
Немцы столпились вокруг меня. Офицер приказал меня обыскать, но ничего не нашли.
– Не пойдешь?
– На этой дороге мы устраиваем засады и много ваших убили. Я не хочу погибать вместе с вами.
Немцы начали переговариваться, а Николай-1, оставшись без присмотра, скользнул в кювет, дальше в кусты и был таков.
Я это видел, и мне стало легче. Теперь я один и отвечаю только за себя. Надо бежать.
После непродолжительного разговора немцы построились в две шеренги и двинулись по обочинам шоссе. Точно так, как ходили мы, чтобы меньше шуметь. Впереди правой шеренги шёл француз, за ним офицер и семь или восемь солдат. Меня вёл всё тот же парень. Мы шли третьими после командира. Немец начал шёпотом рассказывать о себе. Ему 19 лет, все они летчики и переходят линию фронта. Я слушал его и ждал места, где шоссе пересекает лесная грунтовая дорога, там я решил бежать. Но мне не повезло – около перекрёстка были навалены мешки с углём, и немцы, замедлив шаг, стали обходить их со стороны опушки леса. Когда мы спустились в кювет, у меня подвернулась нога, и я выругался. Парень тут же повторил мой мат и позвал офицера. Офицер спросил, кто я. Я ответил, что американец-парашютист.
– Много здесь американцев?
– Тысячи две.
– Где они?
– Везде, – ответил я, сделав круговой жест левой свободной рукой.
– Пошли.
Мы опять двинулись в сторону Божё. Деревня была уже недалеко. Но туда мне нельзя, там могут быть немцы. Метров через двести ещё одна лесная дорога пересекает шоссе. Это мой последний шанс, а в Божё может ждать смерть. Я начал разговор с парнем, чтобы отвлечь его. Тот рассказал, что он из Гамбурга, из рабочих, и очень хочет домой. Он ослабил свою хватку, и я почувствовал, что могу выдернуть руку. Только бы не выдать себя, не вздрогнуть. Вот и перекрёсток. Молниеносно я выдергиваю руку, левой бью его в челюсть, вкладывая в удар всю силу корпуса, парень валится в кювет, я перепрыгиваю через него и бегу в лес по знакомой тропинке.
Будут стрелять? Падать и ползти или бежать? Мозг работает лихорадочно. Не будут стрелять – они сами напуганы. И я бегу, бегу. Наконец, я вне опасности. Погони нет, и я без сил падаю на землю. Потом встал и, пошатываясь, пошёл параллельно шоссе, по которому только что меня вели немцы. Усталость от пережитых волнений была так сильна, что я брёл, как пьяный, ничего не соображая и плохо ориентируясь в ночном лесу. Два раза ложился отдыхать, потом снова шёл, уже в каком-то полузабытье.
И тут услышал голос часового, крикнувшего по-французски:
– Кто это?
– Алёша, рюсс, – ответил я и упал почти без памяти, тут же заснув. Очнулся, когда было светло, и первой увидел Алису.
– Где ребята? – спросил я о Николаях и Иване.
Алиса ответила:
– Их ещё нет. Где ты с ними расстался?
Алиса и Валерий не знали о нашей эпопее.
Я рассказал, что произошло. Валерий сразу надулся.
– Ты чего дуешься?
– Опять к немцам попал.
– Так ведь не предал, а убежал, и все убежали.
– А кто вас знает…
– Дурак ты, Валерий! – сказала Алиса.
– А почему только Лёшка вернулся, а остальных нет?
Сильную обиду я испытал от этого непонятного наскока. Валерий не извинился, даже когда пришли все ребята.
Сейчас я думаю, что он по-своему переживал бой за Анжери. Ведь будучи командиром отряда, он не командовал сражением. Командовала Алиса, а он оказался в тени. Самолюбие его было уязвлено, и он старался на ком-нибудь сорвать злость. А тут как раз я и подвернулся – без ребят и без оружия.
Французы заинтересовались своим коллегой, который вёл эту группу немцев. Я охарактеризовал его поведение как предательство.
Среди французов была жена злосчастного бойца. Она только что привезла в отряд сыр (они держали сыроварню). Мой рассказ переводила Алиса и почти после каждой переведённой фразы французы выражали возмущение. В конце рассказа его жена обратилась к Алисе:
– Мне трудно поверить сказанному. Мой муж не может быть предателем, но если окажется, что Алёша прав, я собственными руками его расстреляю.
Только я закончил рассказ, ещё спорили разгоряченные «макизары», как явился «герой» этой истории. Пришёл он тоже без оружия, но его всё равно обыскали и поставили в круг. Глядели на него враждебно, а командир сформулировал ему обвинение в предательстве русских.
Но парень не растерялся, не изменился в лице, а спокойно начал объяснять своё поведение:
– В ночь на воскресенье почти весь наш отряд ушёл на акцию. Остались мы двое (он назвал имя второго «макизара»). И вдруг утром, часов в десять, прибежал запыхавшийся русский и сообщил, что в Анжери немцы, и русские вступили с ними в бой. Немцев много, русские просят нас помочь. Я объяснил вот этому русскому (он указал на Николая), что весь отряд ушёл далеко на операцию, а нас осталось только двое. Он выругался по-немецки и убежал. Я подумал-подумал и решил идти в Анжери, откуда уже слышалась артиллерийская канонада, и вместе с русскими принять участие в сражении. Счёл, что будет безопаснее, если я сделаю небольшой крюк и подойду к Анжери со стороны лагеря русских. Думал, что они должны сражаться на опушке своего леса, неподалеку от лагеря. И вот уже в их лесу из кустов на меня накинулись немцы. Они спросили:
– Что это за бой идёт рядом, и где располагаются немецкие войска?
Я ответил, что где немцы не знаю, но бой с немцами ведут союзники и партизаны. Тогда немцы связали меня ремнями. Из их разговоров я понял, что они пробираются через линию фронта к своим, на восток.
Я пролежал с ними до темноты.
Целый день гремела артиллерия и слышалась стрельба из пулемётов и автоматов. В бой часто вступала артиллерия, я и сам начал верить, что бой ведут не русские партизаны, а регулярные части.
Когда стемнело, немцы начали осторожно выходить из леса. Посовещавшись, решили идти опушкой, оставив Анжери слева. Я не знал, что мне делать. Они развязали меня, прикололи на грудь большой белый платок и приказали идти впереди на пять шагов. К лесу близко не приближаться. Я решил при первой возможности бежать в кусты, в лес.
Пересекая дорогу Анжери – Вельмо, мы увидели в зареве пожара группу людей, идущих нам навстречу. У меня сжалось сердце. Кто это? Немцы? Русские? Всё равно смерть. Когда русские увидели нас и перебрались через проволоку в лес, офицер приказал мне подойти ближе к лесу и узнать, кто там скрывается.
Я вышел вперед и спросил: «Кто здесь?»
В ответ услышал: «А ты кто такой?..»
Я ответил: «французский партизан». Ко мне вышел вот этот русский (кивок на Николая-1) и, узнав меня, крикнул что-то своим товарищам. Поняв, что это русские, я подумал, что, увидев немцев, они откроют стрельбу и мне конец. Я стал молиться, но, к своему удивлению, увидел, что русские перелезают через проволоку, а не стреляют. Я оглянулся и понял, что русские не видят, что недалеко от меня стоят немцы, а не наши «макизары». Я хотел предупредить русских, говорю тихо им «альма», «альма», а они смеются, здороваются со мной. Не поняли меня, а в это время немцы их схватили и обезоружили. Я не сказал немцам, что это русские.
Когда офицер спросил: «Где немцы?» – я, боясь, что русские могут показать, где находятся немецкие войска, опередил их, сказав, что знаю деревню, где расположен штаб немецкой части. Я рассчитывал завести их в лес, в расположение нашего отряда, и подставить под пули «макизар». Поэтому предложил им идти дорогой через лес. Но они отказались.
– Так? – спросил он меня.
– Так, – ответил я.
По дороге русские сумели бежать. В Боже, когда стали расспрашивать в первом доме, есть ли немцы – сбежал и я. Зарылся в первый же сеновал и через некоторое время заснул как убитый. Всё ли я рассказал так, как было?
– Да, – ответил я.
– А теперь судите меня.
Французы уставились на меня, ожидая моего слова.
А что мне было сказать? Француз был прав. Ситуация, которую я не успел даже осмыслить, толкнула меня на несправедливое обвинение. Мне стало стыдно. Я подошёл к французу и протянул ему руку:
– Прости меня, я не знал.
Искреннее проявление дружелюбия и раскаяние по отношению к человеку, которого я только что обвинил в предательстве, сразу разрядило обстановку и вызвало улыбки на лицах французов. Особенно довольна была, конечно, его жена. Она подошла ко мне и, обняв за плечи, срывающимся голосом произнесла слова дружбы, поцеловала меня. И тут же, рыдая, бросилась на грудь мужа. Оба в слезах отошли к своей машине.
Много нервов стоили нам эти два дня. Наши ребята и Алиса обрадовались такому финалу, только Валерий оставался хмурым, и на призыв Алисы порадоваться со всеми и выпить по стакану за дружбу (французы уже разливали вино) он бурчал о потере четырёх автоматов, которые отняли у нас немцы.
57
Но оружия у нас теперь было много, и никто не обратил внимания на эту потерю. Все были веселы и под хмельком, стаканы звенели под тосты о победе и военной дружбе. Как вдруг, мелькая между деревьями, на поляну выехал мотоциклист. Он заорал:
– Победа! В Гре французы де Латра!
Сразу наступила тишина. Мотоциклист продолжал что-то кричать, но его прервали крики «ура».
Мы принялись стрелять вверх из автоматов и пистолетов.
Командир французского отряда позвал Алису в машину, и они уехали в Гре.
Мы попрощались с французами и хотели уже идти к себе, когда услышали со стороны Ини гул танковых моторов. После сообщения мотоциклиста у нас не было сомнения: это танкисты генерала де Латра де Тассиньи, и все бросились к опушке. Бежали не щадя сил, и на опушке оказались вовремя: танки из Савиньи шли к шоссе Ини-Божё и были в полукилометре от нас.
Французские танки с лотарингским крестом: войска де Голля!
– Ура! Ура!
Мы мчались к танкам, подбрасывая вверх свои береты.
Танкисты остановили машины, сошли на землю, и мы стали обниматься. Они улыбались, а мы плакали. Вот она – свобода! Та, которую я потерял два с лишним года назад. Появилось вино, его принесли французские партизаны, но и танкисты вытащили из танков бутылки с заманчивыми этикетками – виски, джин, ром. Пили за победу, за генерала де Голля, за маршала Сталина, за генерала де Латра де Тассиньи, за Францию, за Россию, за танкистов, за партизан, за русский народ, за французов. Пили поспешно: танкистам надо было двигаться дальше, но тосты произносили от души. Танкисты меняли трофейные пулемёты и автоматы на пистолеты французских партизан. А мы от обмена воздерживались – понимали, что автоматы скоро придётся куда-то сдавать, а пистолеты надо оставить, мало ли что будет дальше.
Наконец, танки тронулись в путь. Французские макизары вскочили на них и уехали, а мы остались.
Двух мнений, куда идти – в лагерь или в Анжери, – не было: пошли к Грише, в Анжери.
То, что мы увидели, было останками деревни. Вместо домов – груды камней, из которых вился дымок, догорали деревянные перекрытия, среди развалин бродили женщины и дети. Мужчины собрались на площади, изрытой воронками от разорвавшихся снарядов, и что-то обсуждали. Не было кафе, в саду которого мы с Яником ласкали Арлет и Поллет, не было дома кузнеца, в котором жил Гриша. Уцелели только церковь да пара домов возле нее.
Мы направились к дому кузнеца и стали разбирать развалины, чтобы найти останки Гриши. Работали долго, пока не нашли то, что осталось от огня. Когда мы занимались раскопками, к нам подошли мужчины и сказали, что в деревне погибли 9 человек, включая мэра, которого немцы расстреляли. Они предложили устроить на следующий день общие похороны, а пока смастерят десять гробов. Мы завернули в брезент останки Гриши, отнесли их на то место, где лежали тела погибших жителей деревни.
Часов в 5 вечера приехала Алиса, расспросила нас обо всем, осмотрела останки Гриши и предложила пойти в лагерь. Там Пента начал готовить еду – все были голодны как волки. Алиса рассказывала нам о своей поездке в Гре, о встрече с мэром и командованием французских войск, вступивших в наш департамент, о приглашении нас на торжественный митинг, который должен состояться завтра, о высокой оценке наших действий под Анжери командованием французских войск. Оно заявило, что длительный бой русских в Анжери дезорганизовал арьергарды отступающих фашистских войск. Полагая, что они уже в окружении, немецкие воинские части в беспорядке отступали, даже не закрепившись на левом берегу Соны, обходя громыхающее Анжери справа и слева. Немцы отошли прямо к Безансону и Везулю, неожиданно освободив для французского командования большую территорию. Алиса сказала, что власти департамента отдают в наше распоряжение за́мок одного коллаборациониста, удравшего с немцами. Там мы будем жить до приказа своего командования. Начались расспросы, которые прервал Пента, доложивший, что мясо готово. Я подошёл к бутыли и как «царь водки» раздал спирта кто сколько хотел.
Первый тост был за нашу победу, второй – в память Гриши (мы не знали тогда, что именно ему мы обязаны своей победой). Все изрядно выпили и быстро заснули. У меня под боком мурлыкал довольный, что мы вернулись, нажравшийся мяса кот Васька.
Скоро мы навсегда покинули лагерь и лес, переселившись в очень большой брошенный замок. Спать стали на чистом накрахмаленном белье, есть из дорогого сервиза, пить из серебряных кубков.
Пожили так с неделю. В это время по просьбе местных властей мы ловили в лесу убегавших из своих подразделений немцев.
Вот данные из нашего рапорта:
«11. IX в 11.00 в лесу убиты 3 немца, захвачено два автомата и пистолет. В операции участвовал весь отряд».
Эта операция была проведена по пути в Анжери после расставания с танкистами.
«13. IX в 15.00 во время чистки леса от немцев в районе дер. Ини взяты в плен 2 немца, захвачено две винтовки, в операции участвовал весь отряд».
Эта операция была проведена или в день переселения в шато́, или накануне, потому что свой день рождения, 15 октября, я отмечал уже в замке.
Интересна судьба немецких пленных, которых мы сдавали французам. Когда двое французов с автоматами повели лесом пленных в другое известное партизанам место, по дороге удрал только тот противный рыжий немец, который жаловался Алисе на плохое питание, а остальные дошли до места назначения, хотя в лесу сбежать было легко. Вероятно, мысль о неминуемом поражении вермахта обезволила их, и они не смогли или не захотели бежать. Да и куда? Пробираться в Германию по враждебной территории рискованно и почти безнадёжно, а в случае удачи – опять фронт. Чем драться за фюрера, лучше отсидеться до конца войны в плену. Больше я этих пленных не видел; Алиса сказала, что их передали кадровым французским частям в Гре.
Перед отъездом в замок возник вопрос, что делать с Вальдемаром. Думали-гадали и решили передать французам. Перед этим, по его просьбе, с ним рассчитались. Заплатили не только за время его службы у нас в отряде, но и за месяц вперед. Но расставание с ним было прохладным.
12 сентября состоялись похороны. Когда мы пришли в Анжери, у церкви увидели толпу – ждали нас. Пригласили в храм. Как быть? Ведь с оружием в церковь не войдешь. Решили проститься с Гришей по очереди.
После панихиды хоронили убитых на местном кладбище. Прощальный залп, горстки земли и десять человек – навеки в земле. Потом мы зачищали лес, и в это время мысль о Грише не оставляла меня ни на день. Я вспоминал наш совместный путь. Этот высокий плечистый блондин родом из Сибири, скромный и храбрый, прекрасный товарищ, был мне гораздо ближе Валерия. Мне как-то посчастливилось захватить американский револьвер калибра 12 мм. Патронов к нему было немного – штук пятьдесят, да и тратить их было не на что, однако расстаться с такой «пушкой» я не мог. Но, когда Гриша прибыл из госпиталя в Анжери, я с радостью отозвался на его просьбу и подарил ему этот револьвер. Из него Гриша и убил немецкого полковника.
Честный, храбрый, добрый – он разделил моё мнение о вреде реквизиций у коллаборационистов – мы же не знали масштаба их сотрудничества с немцами, а те, кто нам об этом говорил, могли быть предвзятыми.
После похорон приехали в предоставленный нам местными властями замок с большим парком. Впервые после нескольких лет войны, плена, партизанщины, когда нам приходилось жить в суровейших, а подчас и вовсе скотских условиях, мы вдруг попали в сказочную обстановку.
Множество комнат с высокими потолками, огромный стол в зале, где висели многочисленные картины в золоченых рамах, а на всяких подставках и полочках – статуэтки из мрамора и бронзы… Вышколенная прислуга.
Правда, роскошные условия жизни не соответствовали казарменному положению, в которое определила нас Алиса. Мы почистили оружие, организовали занятия по изучению всех имеющихся у нас его видов и транспорта, слушали информацию Алисы о политической и военной обстановке.
Питались из многочисленных запасов бывшего хозяина, а хлеб и табак получали по карточкам. Готовила местная прислуга под руководством Пенты. В помещениях убирались сами, а «шлифовкой» нашей уборочной деятельности занимались служанки. Отлучка разрешалась Валерием и мной, но только не по одному, а группами. Инцидентов не было. Кот Васька сразу вошёл в кошачью семью дворца и напрочь забыл о нас.
58
Из жизни того времени мне запомнились два эпизода.
Поездка в город Гре – Алиса, Валерий и я. Там посетили тюрьму, в которой содержались предатели и уголовники. В отдельной камере сидел наш Костя, сбежавший из отряда незадолго до освобождения и вместе с информатором Валерия и Алисы ограбивший и сжёгший какую-то ферму. Вместе с полицейским в штатском мы вошли в камеру Кости.
– Здравствуй. Вот до чего ты докатился! – сразу же налетела на него Алиса.
Костя упал на колени и стал просить Алису вызволить его из тюрьмы. Обливаясь слезами и размазывая их по грязному небритому лицу, Костя поведал, как тяжела его жизнь, как его бьют на допросах и как он голодает.
– Ты сам виноват, Костя, ты заслужил это, – сухо сказала Алиса.
– Но ведь меня подбил… – и он назвал имя человека, который водил нас на реквизиции у коллаборационистов.
Алиса не ответила, но эта фраза ей явно не понравилась. Никаких мер для освобождения Кости она не предприняла. Когда мы уходили, он с душераздирающим криком бросился за нами, но встретил серию сильных ударов по лицу от полицейского. Потекла кровь. Нам с Валерием хотелось врезать полицейскому, мы схватились за автоматы, но Алиса спокойно сказала:
– Тихо, ребята, власть не наша. А вы, – она обратилась к полицейскому по-французски, – зря пускаете в ход кулаки. Он, – указала она пальцем на Костю, – не враг и не фашист, а просто вор и достоин жалости.
Полицейский недружелюбно ответил в том духе, что частная собственность священна, неприкосновенна, и что мы, русские, не понимаем этого…
Судьба Кости мне неизвестна. Но теперь я предполагаю, что инцидент с Костей, связь Алисы и Валерия с французом-ворюгой, который толкнул на преступление Костю, да и весь наш отряд водил на незаконную реквизицию ценностей, заставил Алису быстрее покинуть Гре и вместе с отрядом перебазироваться в город Нанси. Опять же, Алиса и Валерий почему-то не пошли на митинг, который был главной целью нашей поездки в Гре, и отправились в отряд, оставив меня представительствовать на митинге.
Около мэрии на деревянной, наспех сколоченной трибуне я стоял с автоматом на груди среди представителей французских внутренних войск, военных и «отцов города». Речь перед многочисленными собравшимися горожанами держал мэр Гре. Я плохо его слушал, размышляя о том, почему Алиса и Валерий не пришли на митинг (теперь-то мне понятно – она боялась возможных слухов о нашей «антиколлаборационистской» деятельности). И вдруг сосед подтолкнул меня к барьеру и кивнул на мэра. Я прислушался. Мэр говорил о нашем отряде, указывая на меня пальцем. Из всего сказанного я понял, что «…благодаря сражению, которое вели русские в Анжери, Гре был освобожден на несколько дней раньше, так как державшие фронт немецкие подразделения, услышав артиллерийскую канонаду в тылу, испугались окружения и начали отходить. Спасибо русским!» И мэр протянул мне руку. Кровь прилила у меня к лицу, когда я с благодарностью жал руку мэра. А в это время стоявший рядом военный снял со своей груди орден Почетного легиона и повесил его мне. Собравшиеся бурно аплодировали.
После митинга я пил с представителями других отрядов за победу, за дружбу, за Сталина, де Голля. Один из руководителей французских внутренних войск сказал мне, что Алиса должна вместе с ним оформить на всех русских партизан документы. Позже, когда я передал это Алисе, она отказалась что-либо делать, заявив, что мы получим документы в Нанси. В результате наградные документы получили я – по ним в 1962 году мне вручили орден «Боевой крест» и партизанскую медаль – и Валерий. Он свои наградные бумаги послать в Париж побоялся. Хотя мне сказал, что послал, но они, очевидно, затерялись на почте. В 1972 году я увидел фотографию его наградного документа в книге «Против общего врага». Так он и остался без орденов.
Теперь о главном эпизоде, который потряс всех нас и остался у меня в памяти навсегда.
К нам приехал пастор из Анжери и сообщил, что он описывает историю боя за Анжери, а поскольку наш отряд – главное действующее лицо, то он хотел бы поговорить со всеми нами и с каждым в отдельности. Он провёл у нас целый день, расспрашивал всех по очереди, записывал, обедал с нами и только поздно вечером мы проводили его в Анжери.
Он нам и поведал героическую историю нашего Гриши:
– В воскресный день 10 сентября должна была состояться служба в церкви, на которую обычно приходят жители Анжери, Савиньи, Ини, Сите, но по известным вам причинам она не состоялась, вернее, была прервана приходом немцев. Я находился в церкви, когда вошли два немецких солдата и вежливо попросили меня проследовать за ними. Я не стал спрашивать, куда они меня ведут.
А они привели меня в дом кузнеца, где находились офицеры. На лавке лежал полковник с покрытой белой салфеткой головой, и я подумал, что мне придется служить молебен по покойнику. Но старший из офицеров – майор – обратился ко мне со словами:
– Пастор, пройдите, пожалуйста, в другую комнату.
Я последовал за ним и увидел такую картину, что содрогнулся. На полу лежал человек с нарукавной повязкой. Вся его одежда была в крови, лицо нельзя было узнать – так он был избит, на полу была кровь, стены тоже забрызганы кровью. Я догадался, что это русский партизан, живший у кузнеца.
Я не раз видел его в деревне и узнал по одежде и светлым волосам. Поняв, что наступает его смерть, я ещё до слов майора начал молиться за спасение души вашего Гриши.
– Пастор, этот бандит убил нашего командира, через несколько минут мы его повесим, но я верующий человек, и если этот русский хочет исповедоваться перед смертью, то прошу вас…
Офицер говорил по-немецки, но я хорошо знаю этот язык, и ответил ему, что если русский партизан согласен исповедоваться, то я готов.
– Не партизан, а бандит, пастор, действуйте…
Я встал на колени с левой стороны Гриши и сказал:
– Сын мой, если желаешь исповедоваться, то я готов принять твою исповедь.
Глаза его были закрыты, хриплое дыхание вырывалось из груди. Он молчал.
Я повторил свой вопрос. Глаза Гриши медленно открылись, и он, вначале тихо, а затем громче, на немецком языке сказал:
– Не надо исповеди отец, я неверующий, а исповедь им нужна, как продолжение допроса.
Упираясь руками в пол, он начал приподниматься, я помог ему сесть. Он тяжело дышал и не мог говорить. Я сказал:
– Сын мой, ты скоро закончишь свой жизненный путь, и как бы тебе ни безразлична была вера в Бога, я молюсь за спасение твоей души.
– Спасибо, отец, я скоро умру, я слышал, что меня должны повесить, но помните, подлецы, – обратился он к майору, – что за мою смерть вам отомстят восемьсот русских партизан.
Закончив говорить, он плюнул кровью в сторону майора и упал на пол.
Два палача-солдата стали бить Гришу ногами, я пытался их остановить, но майор вывел меня за локоть в другую комнату. Лицо его было бледно. Он проговорил сквозь зубы:
– Восемьсот русских бандитов! И ваша деревня их кормила и поила, вы за это еще заплатите. Идите!
Я направился к двери, поняв, что цифра «восемьсот» испугала офицера. Я знал, что вас гораздо меньше: Гриша перед смертью решил помочь вам… Не успел я взяться за ручку двери, как автоматные очереди известили, что вы вступили в бой.
Офицеры оттолкнули меня от двери и выбежали из дома.
Я хотел вернуться к Грише, но солдат преградил мне путь и указал на дверь. Благословив Гришу через стену, я вышел из дома, но не на улицу, где шёл бой, а в огород и направился в церковь, где молился до конца боя за спасение души героя Гриши и за вашу победу.
После боя за мной опять пришли солдаты и повели меня исповедовать девять наших жителей во главе с мэром (пастор перечислил фамилии), которых расстреляли у реки.
Пастор рассказывал подробнее, чем я сейчас излагаю, а мы все, не стесняясь, плакали.
Мы поняли, какую поддержку оказал нам перед смертью Гриша. Цифра 800 сдерживала немцев, и это позволило нам вести бой в течение 8 часов. Если бы немцы знали, что нас всего около полусотни, они выбили бы нас из Анжери в первую же свою атаку.
Затем пастор поведал о своём разговоре с дочерью кузнеца, которая рассказала ему о действиях Гриши при появлении немцев в деревне.
Семья кузнеца сидела за завтраком, когда на улице затарахтели машины. Дочь бросилась к окну и, увидев немцев, крикнула:
– Немцы!
Гриша, который тоже сидел за столом, не посмотрев в окно, кинулся на улицу, наверно думая, что немцы приехали сдаваться. Выбежав за калитку, он столкнулся с немецкими офицерами, вышедшими из легковой машины. Гриша рванул было обратно, но, поняв, что убежать невозможно – немецкие солдаты в ближайшей грузовой машине защелкали затворами автоматов, – он выхватил револьвер и разрядил его почти в упор в немецкого полковника. Выстрелив в другого офицера, Гриша побежал к дому, но был остановлен автоматной очередью. Падая, он еще несколько раз выстрелил в бежавших к нему немцев.
Что было дальше, дочь кузнеца не знала – вместе с отцом бросилась во двор, а потом к церкви за матерью.
Мы попытались узнать у пастора, убили ли немцы Гришу перед уходом из деревни при нашей первой атаке или он сгорел, будучи тяжело раненным и избитым?
Пастор этого не знал.
– Ваш товарищ принял мученическую смерть. Он отдал жизнь за свободу Франции в общей борьбе с нацизмом.
Рассказ священника нас взволновал. Мы поняли, что Гриша и мёртвым сражался вместе с нами этими «восемью сотнями» русских партизан. Мы не спали всю ночь, обмениваясь впечатлениями о бое в Анжери, о смерти Гриши, и задумывались вслух над тем, что же делать дальше.
Немцы ещё не ушли из Франции, и мы горели желанием драться с ними до полной победы, но Марсель и Ник сказали, что советское правительство не советует своим гражданам вступать в иностранные армии. Этим была определена наша дальнейшая судьба, и мы, привыкшие действовать по собственной инициативе, чувствовали себя не в своей тарелке.
59
У Алисы был приказ о доставке отряда на сбор советских партизан востока Франции в город Нанси. Она зачитала его после отъезда пастора. Слушая, мы с Валерием почувствовали, что этим приказом освобождались от ответственности за дальнейшую судьбу наших товарищей. И хотя приказ исходил из штаба советских партизан (или от «Комитета бывших военнопленных», не помню точно), который мы до сих пор не признавали, теперь положение изменилось. В Париже был советский посол Богомолов, поэтому, думали мы, штаб советских партизан им узаконен, и теперь надо подчиняться, никуда не денешься.
На другое утро после визита пастора мы начали собираться в Нанси. Было солнечно и прохладно. Сборы оказались недолги, только с машинами пришлось повозиться, но мы к этому привыкли. Когда все было уложено, кто-то вспомнил о коте Ваське. Начали его искать, но безрезультатно – он исчез, видно, ему помогли спрятаться четвероногие друзья.
Прощайте, Анжери, Савиньи, Венизи, прощай, Верхняя Сона. Прощайте навсегда! Не помню, сколько времени мы добирались до Нанси, помню только, что водители экономили бензин, глуша моторы на спусках. Валерий ехал в первой машине, я – в последней. Всего было пять машин, одна из них грузовая.
Перед Нанси мы остановились, водрузили знамя отряда на головную машину и въехали в город.
Жители провожали нашу колонну аплодисментами – партизаны были тогда в почёте.
Алиса знала адрес, и мы вскоре подъехали к большому серому зданию, обнесённому высокой стеной. Раскрылись массивные металлические ворота, и мы въехали во двор армейской казармы. Ворота закрылись. Начиналась казарменная жизнь, неприятная для штатского человека и ненавистная партизану. Двухэтажные деревянные нары без матрацев и подушек, армейская кухня и… отсутствие начальника.
Алиса быстро уловила этот существенный пробел в организации сбора и объявила себя главной.
Мы явились на сбор почти первыми, до нас прибыли лишь отдельные группки советских людей без оружия, назвавшиеся партизанами. Наш отряд оказался единственным вооруженным. Даже прославленный отряд «Сталинград» прибыл без оружия. Жорка Пономарев, командир отряда, почему-то не выполнил приказа и сдал оружие американцам.
Охрану казармы несли французы – участники Сопротивления, но Алиса быстро вмешалась, и у ворот встали двое: француз и советский партизан.
В Нанси было полно американских солдат и офицеров. Фронт был всего в 11 км от города, и власть фактически находилась в руках американских военных, хотя мэр города был уже назначен Парижем. На второй день нашего пребывания в казарме к нам явился американский офицер русского происхождения и принялся агитировать за вступление в армию США. Но только один недотёпа из какой-то группки дал согласие и ушёл вместе с офицером, а через несколько дней исчез и Валентин Артемьев. Видно, он лучше всех своих коллег-власовцев понимал, что значит для него возвращение на Родину. Мы заметили, как он мучился – плохо спал. Что поделаешь – такова участь предателей.
Валентин хорошо знал английский и немецкий языки, поэтому вряд ли пропал на чужбине, если не считать такого «пустяка», как пропажа для Родины и вторичное её предательство. Мне почему-то кажется, что он нашёл работу в пропагандистском антисоветском аппарате.
В первый же день нашего пребывания в Нанси Алиса связалась с местными партийными организациями и узнала, что в городе находятся Марсель и Лоран (полковник из «Французских франтирёров и партизан» (ФТПФ) – командующий отрядами ФТПФ на северо-востоке Франции). После освобождения Нанси они выехали на машине из этого города в Париж, но по дороге в них врезался американский грузовик. У Лорана был поврежден череп, а у Марселя глаз и сломана нога. Они лежали, прикованные к постели, в семье одного социалиста.
Оба одобрили распоряжения Алисы по поводу порядка в казарме и рекомендовали сдать машины местным партийным органам (коммунистам, конечно) и тайно передать оружие верным людям.
Мы сдали четыре машины, Валерий взял расписки с получателей. Позже эти документы он передал советским властям.
На другой день после нашего прибытия Алису вызвал мэр Нанси. Мы с Валерием сопровождали её.
Огромный кабинет с высокими лепными потолками. Стены расписаны мифологическими сюжетами. Мэр встал из-за широкого стола и вышел нам навстречу (мы были приняты вне очереди).
Пожав руку Алисе и нам, он разразился тирадой:
– Капитан Алис, я очень рад вас видеть в стенах мэрии. Вы прибыли с доблестными советскими партизанами из «маки» «Парижская Коммуна». Все жители Нанси приветствуют ваше прибытие в наш город и т. д…но отряд «Парижская Коммуна» прибыл вооружённым до зубов, а сейчас, когда его боевая деятельность завершена, я бы просил вас сдать оружие американскому военному командованию. Оно настаивает на этом, опасаясь случайных инцидентов. Американские войска держат фронт в одиннадцати километрах от Нанси, в городе много вооружённых солдат, и мало ли что может произойти. Я надеюсь на вашу добрую волю.
– Господин мэр, благодарю вас за тёплое приветствие. Мы тоже довольны, что наше командование избрало ваш город для сбора советских партизан востока Франции, и заверяю вас, что советские люди будут вести себя дисциплинированно, как положено воинским частям, находящимся на казарменном положении. Я согласна с вами, что во избежание недоразумений нужно сдать оружие, но я не могу распорядиться, ибо через пару дней в Нанси прибудет начальник штаба советских партизан, действовавших во Франции, и я прошу вас переговорить по этому вопросу с ним. До его приезда покидающие казармы партизаны не будут иметь оружия.
Глава города деликатно попытался навязать и свой контроль над хранящимся в казарме оружием.
Однако Алиса заявила, что это оскорбит самолюбие советских партизан, добывавших оружие в боях, и поэтому она просит мэра не настаивать на контроле.
Он согласился. Покинув мэрию, мы пошли к Лорану и Марселю. Там договорились, что сдадим несколько автоматов, испорченные трофейные винтовки, пистолеты и немного гранат, а остальное оружие перевезём на пустующую квартиру по полученному нами адресу.
Поехали осматривать квартиру. Хозяев не было. Квартира располагалась на первом этаже. Когда мы вошли, Валерий повёл себя не очень хорошо: начал взламывать замки шкафов и ящиков, выкидывать и примерять носильные вещи. Я еле его утихомирил и с трудом убрал всё барахло, оставив ему ботинки. Он кричал, что французы живут как буржуи, а мы за них воевали, и от потери нескольких тряпок они не обеднеют.
Я сказал, что мне противно на него смотреть. Валерий обиделся.
Следующей ночью Валерий, Алексей-калининский и я тайно погрузили в машину отобранное оружие. Потом, оттеснив дежуривших у ворот французов, на высокой скорости вырвались на безлюдные улицы Нанси. Нужный дом был недалеко, и мы, благополучно избежав встречи с американскими патрулями, быстро перенесли оружие в квартиру. Доложили о выполненном приказе Лорану (Альбер Жуэн) и Марселю.
Комната в большой квартире, где они лежали, принадлежала семье то ли работника интеллектуальной профессии, то ли мелкого буржуа. Семья состояла из четырёх человек: родителей лет под пятьдесят и двух дочек лет двадцати – двадцати пяти. Черты лица девушек несколько грубоваты, что свойственно южанкам, да и фигуры не были по-французски изящными. Мы бывали у Лорана и Марселя ежедневно, иногда по несколько раз в день, а то и обедали за общим столом (больные ели в постели). Естественно, встречали и хозяйских дочек.
На четвёртый день пребывания в Нанси у меня поднялась температура – врач определил простуду и рекомендовал переселиться из казармы.
Разместился в квартире, куда предыдущей ночью мы завезли остаток оружия. Еду мне туда доставляла старшая дочь. Когда она принесла мне обед, я, скорее в знак благодарности, обнял и поцеловал её. Она не противилась, а на дальнейшем я не настаивал – она была не в моём вкусе.
На другой день мы были у больных, и я заметил некоторую отчуждённость хозяев, бурное музицирование старшей дочки на пианино в соседней комнате и неловкость в разговоре с нами Лорана и Марселя.
Наконец Марсель сказал, что старшая дочь, придя от меня с посудой, объявила родителям, что она меня любит и уедет со мной в Россию. Родители были обескуражены. Отругали дочь и запретили со мной видеться. Марсель попросил меня рассказать, что же у нас произошло.
Пришлось доложить.
– Я передам твой рассказ родителям, но подумай – удобно ли тебе здесь появляться?
Намёк я понял.
В тот день наши руководители писали нам тексты демобилизационных карточек и наградные грамоты, дающие право на получение орденов.
Когда старшая дочь под диктовку Алисы печатала тексты документов в соседней комнате, Марсель позвал хозяйку и при мне пересказал, что говорил ему я. Хозяйка обрадовалась, что у нас ничего не было, кроме моего поцелуя благодарности. Она поцеловала меня в щёку и попросила объяснить моё поведение дочери, чтобы та перестала заблуждаться. Я вынужден был остаться обедать, а после в другой комнате объяснился с девицей. Когда сказал, что у меня нет к ней любви, а только товарищеская симпатия, из её больших чёрных глаз полились слёзы, и она села за пианино. Я поцеловал её в безукоризненный пробор на голове и вышел. Мать проводила меня до двери и ещё раз поцеловала. Больше я в этом доме не появлялся.
Подробно останавливаюсь на этом незначительном эпизоде, чтобы отметить то ли романтизм, то ли сентиментальность француженок. Ведь та интересная парижанка, которая ласкала меня в лесу, потом плакала и твердила, что она недостойна меня, потому что я русский, сражаюсь за её Родину, а она шлюха, спала с немецким полковником…
А вот – о своеобразной сентиментальности профессиональных проституток. На вторые сутки нашего пребывания в Нанси стали на ночь глядя куда-то пропадать наши ребята. А утром, как ни в чём не бывало, появлялись в казарме. Мы с Валерием решили проверить, куда же они ходят. Оказалось, что в Нанси целый квартал борделей. Там мы и застукали своих голубчиков. Дым, чад, полно белых и чёрных американцев, драки и даже стрельба.
Среди власовцев был интересный парень по фамилии Калач. Он сидел с пышной брюнеткой, которая, затянувшись сигаретой, говорила мне, что любит его. Я, приняв серьезный вид, сказал, что сейчас уведу его в соседний бордель. Глаза брюнетки засверкали, она побагровела и сказала:
– Русский, я люблю Ивана, и, если ты поведёшь его в другой бордель, мне моей жизни не жалко, я убью тебя!
Я разговорился с одной сильно потрёпанной девицей. На мои вопросы почему, чего и как, она ответила, что пошла сюда добровольно, ради заработка. Сейчас у неё скопился капитал и хороший гардероб. По контракту ей осталось отработать два года, но она хочет прервать все договорённости, а для этого нужно забеременеть и отказаться от аборта. Не помогу ли я ей забеременеть? Я отказался. Ну что ж, продолжала она без всяких эмоций: придётся найти кого-то другого. А потом она уедет отсюда, купит домик, выйдет замуж, заведёт детей и станет хорошей женой и матерью.
Для нас, советских, эта сторона жизни большого города была экзотикой и вызывала несомненный интерес.
И вот в Нанси приехал представитель штаба советских партизан Владимир Постников. Он появился с отрядом «Сталинград», который прибыл безоружным, зато почти на всех пальцах его командира Жорки сверкали перстни.
Валерий сразу обратил на это моё внимание:
– Видишь, как обеспечили себя люди, а мы… И всё из-за твоего слюнтяйства!
Я усмехнулся. Вряд ли Валерий не имел «ломаного гроша».
Постников сдал американцам остаток нашего оружия, завязал с ними компанию и частенько возвращался в казарму поздно и здорово выпившим. Но главное, что он сказал нам: мы должны вступить в американскую армию и продолжать бить немцев. Однако мы напомнили ему слова Марселя, что советское правительство не одобряет такой шаг.
– А Марсель мне не указ. Я представитель штаба советских партизан во Франции, и вы должны слушаться меня!
Мы не стали возражать, сели в машину (Алиса, Валерий, я) и поехали к Марселю и Лорану. Я остался в машине, а Алиса и Валерий поднялись наверх. Вскоре сильно возбуждённый Валерий спустился и сказал:
– Едем за Алексеем-калининским, потом захватим Алису и – в Париж, к нашему послу Богомолову. Пусть он примет меры, чтобы обуздать Постникова.
Быстро собрались, сели в машину, поехали.
И тут случилось непредвиденное. При въезде на небольшую площадь на нас непонятным образом налетел велосипедист. Он ударил передним колесом в дверцу машины Валерия, упал и заорал благим матом. Валерий не успел остановить машину, как её окружили полицейские и дюжие молодцы в штатском. Трое подсели к нам и приказали ехать в полицию. О велосипедисте забыли, его с собой не взяли.
В полиции молодой лейтенант очень вежливо попросил наши документы. Мы предъявили сертификаты о демобилизации.
Прочитав их, он спросил, кто их подписал. Мы ответили, что это наши руководители.
И вдруг разговор пошёл не о велосипедисте.
– Вы сдали не всё оружие, – заявил лейтенант.
– Больше у нас ничего нет, – ответил Валерий
– Так ли?
– Проверьте.
Лейтенант, улыбаясь, подал сигнал, и в кабинет вошёл рослый широкоплечий мужчина в штатском, лет сорока.
– Расскажите, что вы знаете об оружии русских.
– Две ночи подряд на машине, которую вы задержали, трое русских, один из них в чёрном пальто (это был я), возили в дом №… по улице… оружие и складировали его в пустующей квартире.
– Если вы всё видели, то почему не забрали это оружие? – спросил я.
– Его там не оказалось.
– Это провокация, – заорал Валерий. – Дайте мне позвонить своим руководителям.
Лейтенант не возражал. Валерий набрал номер квартиры, где лежали Марсель и Лоран, и сообщил Алисе о провокации.
Алиса сказала, чтобы мы не нервничали, сейчас она будет в полиции.
Очень быстро она приехала вместе с руководителями компартии города Нанси, и лейтенант нас тут же освободил.
Неуклюжая провокация не удалась, но для меня осталось загадкой, как французы сумели так быстро после нас забрать оружие из-под носа у полицейских шпиков.
Мы вчетвером помчались в Париж.
60
После нашей жалобы на Постникова в Нанси был направлен другой представитель – Таскин, а Постников отозван.
Мы вчетвером остановились у приятельницы Алисы с русским псевдонимом Катя. Это была рыхлая женщина лет тридцати пяти, очень нервная. У нее был сожитель, который выдавал себя за русского партизана. Твердил, что работает в советской военной миссии, но на поверку оказался русским эмигрантом. Несколько дней мы впроголодь жили у Кати, выслушивали её нервные тирады, а потом ушли в казарму. Туда собрали всех: пленных, партизан, власовцев. Паёк был солдатский. Старшим – капитан Ганочка.
Валерий и Алексей на некоторое время остались в казарме, а вот у меня судьба сложилась иначе.
Узнав, что есть организация, где помогают русским партизанам деньгами и одеждой, мы решили туда пойти: вдруг помогут?
Нас очень приветливо встретили молодые девушки и женщины. На основании наших документов выдали немного денег и подобрали вполне приличные костюмы и обувь.
Заполняя мою анкету, одна из работниц организации по имени Витя (Виктория) сказала:
– Я – русская, и мои родители русские, они хотели бы встретиться с советским интеллигентом. Можете прийти к нам?
Её подруга, пышная блондинка Ася (тоже русская), очень мне приглянулась, и я договорился с ней о встрече. Все дамы в этой организации носили элегантную полувоенную форму с пилоткой, были чрезвычайно привлекательны и жили на «казарменном положении» в шикарном отеле.
На третью встречу Ася тоже пригласила меня, но к своей тётке.
Особняк на бульваре Сен-Жермен, на крыльце – лакей в ливрее. Ася оставила меня в большой гостиной, а сама пошла на половину тётки вслед за молодой горничной.
Я понял, что попал в богатый дом, так как на бульваре Сен-Жермен беднякам делать нечего. Но я не стушевался, ходил по гостиной и разглядывал мебель и прочую обстановку.
Ася вошла с женщиной среднего роста, худенькой, лет пятидесяти, одетой без претензий.
Я был представлен как советский партизан, инженер, москвич.
Не помню всего разговора в столовой в присутствии мужа Асиной тётки, но говорил больше я – меня подробно расспрашивали. Я обратил внимание на богатую сервировку и обилие блюд. Хозяин подливал мне водку, но сам пил мало, сказав, что после обеда возвращается на работу. Я выпил достаточно, но не пьянел – привык в отряде к спирту. Во время общения я не заметил у хозяев тоски по Родине, которая была характерна для эмигрантов, с которыми встречался во Франции раньше.
Когда мы уходили, уже темнело. Хозяйка тепло попрощалась со мной, сказав, что очень довольна моим визитом, и пригласила заходить. Мы вышли на тихую улицу (автотранспорта тогда было мало – выдача бензина строго нормирована), Ася быстро перевела меня на другую сторону и расхохоталась. Её смех заразил и меня.
– Ты-то чего смеешься? – спросила Ася.
– За компанию, а ты чего?
– Поцелуй, тогда скажу.
Я не заставил себя ждать и под влиянием алкоголя позволил себе больше, чем поцелуй. Сумерки и густая тень каштана придавали смелости. Ася вырвалась и опять засмеялась.
– Не терплю нахальства, но тебя прощаю. За то, что ты русский, партизан и начинаешь мне нравиться. Так знаешь, что меня так рассмешило?
– ?!
– Моя тетка – княгиня (она назвала известную русскую аристократическую фамилию), была шокирована моим знакомством с тобой. Она упрекала, что этим я унижаю наш род и что в знакомствах я неразборчива. Понятно, что во время оккупации знакомства оправдывались моим участием в Сопротивлении, но теперь с этим надо покончить и вернуться в достойную меня среду. Она обвинила во всём свою покойную сестру, мою мать. Та придерживалась иных взглядов и воспитывала меня в либеральном духе. Мама не дружила с тёткой, а мой отец не был ни аристократом, ни богатым. В ответ я сказала тёте, что пригласила тебя на сегодня к ней, хотя тогда я ещё тебя не приглашала. С тёткой стало плохо, она позвонила в колокольчик и отвалилась на спинку кресла. Вбежавшей горничной я велела принести сердечных капель. Как ни сопротивлялась тётка, я её всё же уговорила. Я ведь у неё единственная родственница, и любит она меня безумно, поэтому многое прощает. Она испугалась твоего появления, но, когда в разговоре с её мужем (он моложе её, богат, преуспевающий адвокат) ты стал рассказывать о России, о своей жизни, она шептала мне: «А он совсем не страшный, неглуп, умеет развлечь…»
Но вот когда она пригласила тебя заходить к ней, я была поражена. Тебя, страшного-престрашного большевика, которыми тётку пугали французские газеты! Вот почему я так смеялась.
Она закончила фразой:
– Но не зазнавайся. Это, прежде всего, моя победа, хотя ты вёл себя прекрасно, за что и можешь ещё раз меня поцеловать. Только без шалостей!
Но без шалостей опять не обошлось, и мне попало по рукам.
– Почему ты не предупредила меня, кто твоя тётка?
– А потому, дорогой мой большевик, что тогда ты повёл бы себя иначе и не понравился бы ей!
Я проводил Асю до отеля и пошел в казарму. Концы пути были большие, но я шёл в приподнятом настроении – Ася начинала мне нравиться.
Не ожидал я, что так хорошо начинавшийся роман уже завтра закончится. На следующий день меня увлечёт впервые увиденная темпераментная брюнетка, да так, что я забуду милую Асю, хотя и повстречаю её еще не раз.
Через день мы с Витей пошли к её родителям. Они жили в Альфорвиле, на улице Вайяна Кутюрье, в доме 55. Отдельный двухэтажный домик во дворе, в саду мать Вити – Наталья Александровна Помряскинская и её муж, отчим Вити – Николай Иванович Кобозев. Наталья Александровна – женщина лет шестидесяти, муж её, пожалуй, немного моложе – профессор Пастеровского института. Мы пришли к обеду, часов в семь вечера, и за столом начались разговоры о войне, Родине, Сталине…
Наталья Александровна и Николай Иванович – эмигранты времён Гражданской войны, у них были родственники в России, но стремления вернуться на Родину я тогда не заметил (в 1979 году Николай Иванович приезжал в СССР).
Во время жарких дебатов на политическую тему раздался звонок. Вошла курчавая брюнетка лет двадцати пяти, поздоровалась кивком головы со всеми и, не раздеваясь, села к столу, но от еды отказалась. Мы с Николаем Ивановичем продолжали спор, а брюнетка, затягиваясь сигаретой, молчала и явно разглядывала меня. Я не обращал на неё внимания. Минут через десять она прямо-таки врезалась в наш разговор:
– Так вы советский! А я-то гляжу, что-то разговор странный.
Она говорила по-русски хорошо, разве что слегка грассируя.
Неловкость момента попыталась сгладить Витя.
– Алёша, это моя сестра Женя, – обратилась она ко мне. – Пусть вас не смущает её поведение, она у нас большая оригиналка.
А меня Витя почему-то не представила своей сестре.
– «Алёша, ты помнишь дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди», – продекламировала вдруг Женя. – Хорошие стихи. Вы знакомы с ними?
– Нет.
– Так это же ваш советский поэт Симонов написал. Не знаете таких хороших стихов?
– К нам в лес литература из Москвы не поступала.
– Так вы не из посольства и не из консульства, а из леса, из «маки́». Вот оно что! Где же Витя вас подобрала? Помощь, наверно, оказывала? – сказала Женя с иронией.
– Перестань, Женя, паясничать, – вмешалась Наталья Александровна, – Алёша наш гость, и мы с Колей очень довольны, что Витя привела к нам советского инженера.
– Ах, вы ещё и инженер, – продолжала ёрничать Женя, не обращая внимания на мать.
– Да, Евгения Николаевна, я из леса вышел и в лес попал…
– Евгения Игнатьевна я, – перебила меня Женя, – а Коля мне отчим. Но называйте меня по имени. У нас так принято. А теперь не обращайте на меня внимания и продолжайте ваш интересный разговор.
Она встала и вышла в коридор.
Я продолжал что-то рассказывать, и, когда Женя уже без пальто входила в столовую, я приводил какое-то сравнение с древними греками (до войны увлекался греками и еще студентом просиживал вечера в Ленинской библиотеке, читая Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана). Услышав о греках, Женя улыбнулась и опять съехидничала:
– О, советские и греков знают, это для меня новость.
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул… – попытался я вспомнить известные строки. – Хорошие стихи, правда, Женя? Они вам знакомы?
– Э, дорогой Алёша, вам не удалось меня поймать. Гомер это! «Илиада».
И она снова села за стол.
Николай Иванович раскупорил очередную бутылку вина, и мы, не обращая больше внимания на Женю, продолжили беседу.
Было далеко за полночь, когда Женя опять перебила нас:
– Слушать мне вас приятно, Алёша, но, к сожалению, мне пора спать. Могли бы зайти к нам ещё раз, хотя бы послезавтра? Теперь я хочу поговорить с вами.
Она сделал ударение на «я».
– Я не знаю, что будет со мной уже завтра, а вы говорите о «послезавтра».
– Может, боитесь разговора со мной?
– Почему?
– Я очень острая.
– Но я постараюсь притупить вам язычок.
Все засмеялись. В глазах Жени загорелся злой огонёк.
– Тогда постарайтесь, чтобы с вами ничего не случилось.
Женя повернулась и вышла.
Все уже устали, и Наталья Александровна предложила идти спать. Меня положили в комнате на первом этаже, а они спали на втором.
Заснул я быстро, по-партизански, и проснулся утром часов в десять, когда все уже встали, а Николай Иванович и жена ушли на работу.
Чем-то зацепила меня эта Женя, и я никак не мог успокоиться. Мне хотелось её видеть, беседовать с ней, чувствовать её рядом.
Через день после первой встречи я пришёл к её родителям. Увы, Жени дома не оказалось.
Она пришла какое-то время спустя, но не одна, а с молодым французским офицером.
– Я очень сожалею, что опоздала и что не смогу побыть с вами столько, сколько хотелось бы. Я должна ночевать сегодня дома, а Жан, который очень спешит, меня проводит. Мне трудно нести чемодан.
Я до сих пор не понимаю, как у меня вырвалось:
– Я вас могу проводить. Если Жан спешит, отпустите его.
– А вот это – идея. Жан, – обратилась она к офицеру, – меня проводит Алёша, извини, что я тебя побеспокоила.
Ничего не сказав, Жан простился и ушёл.
Мы ещё немного посидели и тоже распрощались с хозяевами дома. Был первый час ночи, идти нам надо было пешком из Альфорвиля до метро «Пор-де-Ванв». Тротуар был усыпан листьями каштанов чуть не до колен. Тихо разговаривая, мы шли по берегу Сены, откидывая ногами листья.
Это случилось как-то неожиданно для нас обоих. Поставив чемодан на землю, я вдруг обхватил Женю обеими руками и принялся целовать. Она не сопротивлялась, а наоборот – отвечала жаркими поцелуями:
– Пойдём скорее ко мне…
И вот началось, закружилось, неудержимо помчалось то, что называется безумной страстью.
Она была очень темпераментна. Своими ласками она доводила и меня, и себя до изнеможения, иногда теряя сознание. Я опрыскивал её водой, приводя в чувство (первый раз даже испугался – думал, умерла), и всё начиналось сызнова.
Я с нетерпением дожидался её с работы. Она приходила, и всё повторялось. Это было и блаженство, и мука – мне было страшно, что она покинет меня. Но этого не случилось. Через пару месяцев такой испепеляющей жизни мы обнаружили, что любим друг друга, и захотели быть мужем и женой. Сообщили об этом родителям и родным.
Где жить – во Франции или в России?
Я уговаривал её поехать в Россию, а она меня – остаться во Франции. Я рассказал о своём семейном положении. Жена, сын, пасынок… А она не могла иметь детей, но очень любила их. Пределом её мечтаний был ребёнок. Неважно чей, свой или взятый на воспитание.
Вопрос, где мы будем жить, постоянно возникал в наших беседах.
– Если ты не хочешь жить во Франции, поедем в другую страну, лучше в колониальную, в Конго например. Купим плантацию и будем жить в чудесном саду, – предлагала она.
– Воображаю себя плантатором! – усмехался я, представив себя в пробковом шлеме, шортах и рубашке с короткими рукавами. – Нет, это не для меня. Только в Россию.
Мы долго молчали. Я чувствовал, что Женю нельзя сейчас тревожить и сбивать с хода мыслей, а она о чём-то глубоко задумывалась.
– Хорошо, я согласна. Поедем в твою Россию, она какая-то особая, самая передовая в социальном отношении. Я постараюсь привыкнуть к вашим условиям жизни. А твоего Саньку возьмём к себе. Я буду с ним заниматься.
И стала мечтать вслух, как она будет воспитывать незнакомого ей Саньку.
Да, она решилась ехать в незнакомую ей Россию, и мы пошли в советское консульство, чтобы выяснить условия переезда.
По дороге зашли в Нотр-Дам, где Женя, встав на колени, долго молилась.
Нас принял сам консул Гузовский, внимательно выслушал и сказал:
– Я не вижу, что может воспрепятствовать вашему браку. Если вы любите друг друга – Бог вам в помощь, никто не против вашего союза. Вот только оформить это надо в СССР. Оформленный не в нашей стране брак не считается действительным. Вам, товарищ Фёдоров, надо быстрее ехать в Советский Союз и устраивать свои дела, а вам, мадам Дешан, нужно подать заявление с просьбой о принятии в советское гражданство.
Сволочь! Он обманул нас. По возвращении на Родину я узнал, что приезд Жени в нашу страну со мной был бы возможен, если бы у нас был оформлен брак во Франции, а так, извините, у неё не было никаких прав на проживание в Советском Союзе. Не отказывая в получении советского паспорта категорически, оформление советского гражданства интриган Гузовский поставил в зависимость от согласия Жени работать на нашу разведку.
Она, конечно, отказалась и позже пыталась приехать к нам в составе нового французского посольства, но при просмотре списков в министерстве иностранных дел Франции фамилию Жени вычеркнули за связь с советским офицером.
Увы, брак не состоялся, и пути наши разошлись. Встреча с Женей в 1960 году не произвела на меня особого впечатления. Я уже был женат, имел маленького сына. Но Женя, хотя и была замужем, предлагала возобновить старые отношения вплоть до брака, но я отказался.
Мои дети, читая эти записки, могут подумать, что я поступал нечестно по отношению к Санькиной матери. Но это не так. Тот, кто знал в ту пору его мать, понял бы, что её поведение давало мне весомые основания для моей свободы от всех обязательств перед ней еще в 1939 году. Но не хочу вдаваться в подробности наших отношений.
Остановлюсь ещё на некоторых моментах парижской жизни.
Витя познакомила меня и с другими своими родственниками: Тата – женщина лет 50 и её муж (забыл имя), тоже примерно этих лет, художник. Промышляли они раскраской и продажей носовых и головных платков. В то время это была довольно прибыльная работа, ибо в войну легкая промышленность влачила жалкое существование. Муж Таты – человек хорошо образованный, прекрасно знавший французское искусство, особенно архитектуру. Он устраивал мне экскурсии по Парижу, возил в Версаль. Благодаря ему, я увидел «Лувр», собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), «Пантеон», «Инвалиды» и прочие известные архитектурные сооружения и музеи. Он показал дом доктора Гильома – изобретателя гильотины, помещение, где была типография Марата, улицу Кота, который удит рыбу. Шириною метра в полтора, эта улица выходила прямо на берег Сены и была знаменита тем, что в XV–XVI веках она служила местом сведения счётов мушкетёров и других дуэлянтов.
По злачным местам мой добрый гид меня не водил: показывал только художественные ценности. Дома у них я был раза три, один раз с Валерием, у которого с Витей завязался короткий роман.
Приехав в 1960 году в Париж, я навестил эту семью. Они жили в той же квартире, но в одной комнате, а остальные две или три были заперты. Оба сильно постарели – задавила бедность: на творчество художников-кустарей уже не было спроса.
Кто-то познакомил меня с адмиралом Иваном Анатольевичем Кононовым. Это был делец, хоть в его конторе и стояли макеты «Нормандии» всех размеров из разных материалов, что говорило о его участии в проектировании этого суперлайнера (действительно, он имел подряд на крупные проектные работы, которые осуществляли два русских инженера – Петров и ещё кто-то). Но в то время Кононов зарабатывал деньги спекуляцией и делами, скажем так, не вполне праведными. Он предложил мне возглавить караван грузовиков, на которых из-под Бордо в Париж везли коньяк. Продажа этого напитка тогда была запрещена – он шёл только на экспорт за валюту. Я должен был надеть советскую военную форму и сидеть на первом грузовике, с бумагой из военной миссии СССР о том, что груз направляется в её распоряжение. Мне обещали пять миллионов франков. Я отказался, хотя в то время не видел в подобных аферах греха. Деньги тогда «делали» все кому не лень. И самыми разными способами. Но я не хотел связываться с Кононовым.
А деньги пытались добывать и бывшие советские военнопленные. Вот каким образом.
Владельцы французских предприятий, сотрудничавшие с немцами и пользовавшиеся трудом военнопленных, ради собственной реабилитации перевели в государственный банк очень крупную сумму (называли два миллиарда франков) для оплаты использованного во время войны труда заключённых. Узнав об этом, бывшие пленяги, которых тогда в Париже было немало, решили на этом поживиться.
Сначала это делалось просто: приезжает в банк предприимчивый пленяга, захватив с собой не менее предприимчивого эмигранта. Вместе они составляют список фиктивной команды, работавшей на N-ском предприятии с такого-то по такое-то время. Пленяга расписывается как бригадир, получает солидную сумму, делится с эмигрантом и до свиданья – разбежались.
Денег получали много – от сотен тысяч до миллионов франков!
Вскоре французы-предприниматели поняли, что их обманывают, и потребовали, чтобы для получения денег представлялись «аусвайсы» (прописка на предприятии) и список, заверенный советской военной миссией.
А вот тогда и мы, бывшие партизаны, узнали об этом «золотом мешке». Будучи безденежными, мы тоже решили попытать счастья. Заказали у гравёра немецкий штамп с орлом для «аусвайсов», в типографии – бланки по образцам трёх предприятий, купили несколько сот фотокарточек французов необходимого образца. В капиталистической стране за деньги всё можно купить. Составили список, двое суток занимались «аусвайсами» (трое ребят и две девчонки).
Со списком в нашу военную миссию пошли я и Сашка Красин (о нём позже). Там попытались наложить лапу на ту часть двух миллиардов, которая приходилась на русских пленяг. Сидевшие в миссии военные заявили французскому правительству, что они сами распределят эти деньги. Но не тут-то было. Они забыли, что в капиталистическом мире существуют владелец предприятия и рабочих рук. Государство не регулирует или почти не регулирует их денежные взаимоотношения. Если капиталисты-коллаборационисты попросили государственный банк произвести расчёты с работающими, то это их дело, но передавать частные деньги военным руководителям чужой страны права государство не имеет.
Получив отказ, руководители нашей военной миссии дали негласное указание: всеми путями вычерпать из банка все причитающиеся русским деньги. Так что наша афера не была для них секретом. О ней знали оба генерала, руководившие военной миссией, да и все её сотрудники. Подполковник Алексеев не удивился, когда мы пришли к нему со своими списками. Он спросил:
– Машина для военной миссии будет?
– Будет, – бойко пообещал Сашка.
Подмахнув списки и скрепив подписи печатью, подполковник распрощался с нами. Автомобили военной миссии были очень нужны – офицеры пользовались частными машинами эмигрантов и французов. Частники с удовольствием предоставляли им свои машины – кто в аренду, а кто из чувства патриотизма, имея в виду, что по справке военной миссии СССР они могут получать бензин. В то время все частные машины стояли на приколе – бензин не продавался. Особые патрули останавливали машины и проверяли, по каким документам владельцы получают горючку. Адмирал Кононов безвозмездно предоставлял свой «мерседес» в распоряжение военной миссии, и поэтому бензин у него был всегда.
Поскольку банк, который выплачивал деньги пленягам, располагался в Версале, я попросил у адмирала машину. Он дал нам её с удовольствием, видя в этом возможность впутать меня в какую-нибудь аферу типа коньячной.
Старый русский шофёр, сидевший за рулём, вёл машину со скоростью не больше шестидесяти километров в час. Он объяснил мне, что и он, и адмирал любят тихую езду: это безопаснее, а адмиралу к тому же лучше думается в пути. Как мы ни хотели быстрее попасть в Версаль, водитель отказался давить на газ.
Войдя в банк, увидели массу народа. За столами сидели молодые машинистки, все в золоте: браслеты, серёжки, ожерелья… Ясно, что братва подкупала этих барышень, дабы быстрее напечатать списки по нужным банковским формам. А у нас денег на дорогой подарок не было, и мы решили так: Сашка Красин с другим нашим компаньоном пойдут сдавать «аусвайсы» и получать разрешение на печатание списков, а я за это время должен уговорить машинистку напечатать наши довольно большие списки без очереди.
Они ушли. Я выбрал молоденькую машинистку с самой смазливой рожицей. Подсев к ней, попытался рассказать что-то смешное. Анекдот и моё смешное произношение подействовали – девушка сначала заулыбалась, а потом захохотала. Лёд тронулся, и я перешёл к делу – предложил свидание в кабаре «Фоли Бержер». Она сразу же согласилась и показала мне двух подруг, которые пойдут с ней. Я предупредил: чтобы успеть в кабаре, нужно сегодня же получить деньги. Она поняла с полуслова, закончила страницу и вложила новый лист, на котором принялась печатать наш список. С передачей «аусвайсов» ребята возились довольно долго, и, когда они пришли, моя милая девушка уже заканчивала наше задание. Она печатала очень быстро, попросив меня помолчать или уйти. Я гулял, зашёл в кафе, не спеша выпил рюмку арманьяка. Ко мне подсел здоровенный американец и, узнав, что я советский, на ломаном русском языке предложил пойти побоксировать.
Взглянув на его кулачищи, я понял, что в первом же раунде он изуродует меня как бог черепаху. Я положил на стол свой кулак рядом с его. Мой выглядел как слесарный молоток против кувалды.
Он улыбнулся и предложил выпить виски. Я не отказался, и мы опрокинули с ним по целому стакану. Янки предложил ещё, но я постарался быстрее смотаться – не хотел напиваться и предстать пьяным перед смазливой машинисткой, которая должна была уже заканчивать наши списки. Вернулся почти вовремя. Ребята пришли довольные – «аусвайсы» сдали благополучно и получили разрешение на печатание. Узнав, что списки почти готовы, обрадовались. И ещё больше, когда я им показал на девушек, с которыми мы должны провести вечер. Француженки выглядели красавицами. Глядя на них, ребята забыли даже о деньгах. Сашка Красин первый очнулся и сказал:
– Надо обязательно получить сегодня «аржан», а то «Фоли Бержер» сорвётся. Беру это на себя!
Схватив отпечатанные списки, Сашка умчался. Я уточнил у машинистки, в котором часу они заканчивают работать, и вместе с коллегой вышел поговорить с шофёром.
«Мерседес» адмирала был большим и вместительным, но водитель упрямо не соглашался везти шестерых. К приходу Сашки он сдался.
Старик-шофёр был высоким и худощавым, в меру разговорчивым и немного важным – всё-таки возил адмирала, хоть и бывшего. Когда я ходил в кафе, пригласил перекусить и его. Он отказался, достал термос, бутерброды и закусывал в машине. Судя по разговорам, к советским людям он относился доброжелательно, а Родиной и победоносной Красной Армией гордился.
Сашка незаметно от шофера показал нам чек. От цифры, которая там стояла, у меня ёкнуло сердце – восемнадцать с чем-то миллионов франков! Это же целое богатство: министр иностранных дел получал тогда сорок тысяч франков в месяц.
Чек должен был подписать мэр Версаля. Двинулись к мэрии. Глава города обедал, и почти два часа мы не находили себе места. Огромная цифра. Подпишет ли? Я не думал, куда дену свою долю, – было ясно, что прогуляю. А некоторых, получивших крупные суммы, деньги взбаламутили – биржа, приобретение акций, недвижимости и в итоге прощай, Родина. Я знавал двоих таких.
Долго мы сидели в кафе, потягивая арманьяк. Наконец время настало. К мэру Сашка пошёл один. Ждали мы его с час. Он вернулся радостно взволнованный – подписал! По словам Сашки, мэр, поглядев на чек, куда-то звонил по телефону, сердито что-то говорил, и у Сашки тряслись поджилки – с законом дело иметь не хотелось. Когда мэр подписал чек, Сашка взял себя в руки, с достоинством откланялся и медленно вышел из кабинета.
В банк мы заспешили втроём. Сашка с подписанной доверенностью подошёл к кассе, а мы стояли в сторонке. Народу в банке было мало, в основном наши. Сашка ещё куда-то ходил, а потом поманил нас к кассе. Мы подошли, и кассир начал класть большие пачки на полку через окошко. Мы сбрасывали их в мешок, не считая (но Сашка-то считал). Когда коллега взвалил мешок на плечо, я сказал:
– Приготовим на всякий случай оружие, – и спустил предохранитель лежавшего в кармане пистолета.
Но всё обошлось благополучно. Мы сели в машину, договорившись подарить шофёру десять тысяч франков. Сумма была вполне приличной: зарплата рабочих в то время была от двух до пяти тысяч франков в месяц.
Когда мы приехали за девушками, они ещё работали. Я подсел к «моей» машинистке и спросил, смогут ли они уйти пораньше.
Она кивнула и, закончив страницу, пошла к подругам.
– Ждите через двадцать – тридцать минут, – сказала она, вернувшись.
Они явились, и мы, с трудом вместившись в машине, двинулись в Париж.
Десять тысяч франков, подаренные старику, скорости нашему авто не прибавили: стрелка на спидометре «примёрзла» к цифре 60.
Мы заехали в казарму, оставили мешок с деньгами компаньонкам-девушкам, а несколько сотен тысяч франков взяли с собой.
Время провели в ресторане на площади Пигаль. Наши ребята абонировали его постоянно, мы приходили туда как домой. Несколько раз я бывал там с Женей. Ресторан однозальный, стены драпированы красным бархатом. Уют создавался и сменой света. Такие питейные заведения работали до одиннадцати вечера, но, когда часов в двенадцать или в час ночи в него заглядывали патрули и видели советских офицеров в форме с золотыми погонами, они козыряли и молча удалялись. Хозяин-армянин уходил из ресторана в полночь, предварительно попросив посетителей расплачиваться с метрдотелем. Оркестр оставался. Он играл в основном русские мотивы, и музыканты зарабатывали на заказах немалые деньги.
Домой я вернулся рано утром на велорикше. Бензина-то не хватало, а автобусы были газогенераторными, работали на деревянных чурках. Поэтому в Париже массовое распространение получили велосипеды и велорикши. Такой же «транспорт» в 1959 году я видел в городах Индии, но там советским людям не разрешали использовать велорикши.
Проснувшись утром, а вернее, уже днём, я поехал в казарму, где получил свои четыре миллиона франков, то есть сто зарплат господина Бидо, бывшего тогда министром иностранных дел Франции. Деньги поделили так: ребятам по четыре миллиона, девчатам – по три.
О нашей компании «аферистов»: кроме меня, две пары: Сашка Красин и его подруга, Станислава Павлюц и другая пара, которую я не помню.
Сашка Красин – ростом ниже меня, широкоплечий шатен с узкими глазами. Москвич. Проживал в казарме, инженер, держался несколько надменно, говорил, что партизанил на севере Франции, но, вероятно, это было не так. Оказался он не Красиным, а Крысиным и домой не вернулся – мимо Москвы проследовал в Сибирь. Об этом мне рассказали его родственники, к которым я заходил по его просьбе. Они жили на Пушкинской улице.
Станислава Павлюц – из Минска, за связь с белорусскими партизанами была арестована и выслана в Германию, а как оказалась во Франции – не помню. Высокая интересная шатенка, по национальности полька, она считалась невестой Сашки. По возвращении на родину я проезжал через Минск и остановился у неё. А когда она приезжала в Москву, всегда находила меня. Выяснив, что Сашка засел в Сибири надолго, она вышла замуж за врача-корейца и жила в Бресте. Работала врачом-гинекологом (институт окончила по возвращении на родину).
Она мне рассказывала о своей судьбе после ареста – её били, и в полуобморочном состоянии изнасиловали полицаи. До этого она была девушкой.
Последний раз я видел ее в Москве в 1958 или 59 году.
Как я упомянул, мы часто прогуливали деньги в разных злачных местах. Помню, как, просидев до рассвета в упомянутом ресторане, мы взяли скатерти, вино, закуски, и уехали в Венсенский лес. Там, у прудов, продолжали пить, петь, танцевать, а затем на велорикшах разъезжались по домам. Зря мы так транжирили деньги. Не надо было покупать барахлишко, не надо было везти деньги с собой, всё равно энкавэдэшники отобрали их. Лучше было положить их в банк и ждать лучших времен, а теперь эти деньги можно было бы получить.
Но не только в ресторанах я проводил время в Париже. Помимо экскурсий по городу с мужем Таты, я несколько раз посетил Лувр и Версаль, причём, благодаря Жениным связям, и Лувр, и Версаль первый раз мне показывали лично директора этих великих музеев. Они водили меня и в подвалы-хранилища. Я побывал в «Музее человека», в Институте Пастера. Посещал и заводы – автомобильные и авиационные. На заводе «Рено» две недели стажировался. Директор предприятия месье Ля-Фуше оказался бывшим партизаном, хорошим знакомым Жени. Мне выделили переводчика – русского эмигранта, инженера-химика. Я ознакомился с интересовавшей меня технологией, отобрал ценные для меня материалы, в том числе по технологии производства литого коленчатого вала. С разрешения Ля-Фуше взял с собой копии этих документов и через военную миссию отправил их в Москву на родной завод «Серп и Молот» в надежде использовать по возвращении. Но туда они не попали, а когда в 1950-х годах я поинтересовался у знакомых работников КГБ судьбой этих документов, мне ответили: они поступили в Союз и ушли по назначению.
Моим переводчиком на заводе «Рено» оказался бывший капитан-корниловец, человек высокой культуры. Он эмигрировал с врангелевской армией во Францию, здесь окончил военное учебное заведение и работал на заводе на вторых-третьих ролях. Такова судьба эмигрантов. Первые места в должностной иерархии им достаются во Франции тяжело и очень редко. Ему было далеко за пятьдесят, а жена – молодая красавица. Жили только на карточки, недоедали. На заводе мне выдали карточки на продовольствие, в столовой отвели постоянное место и обед без карточек. Я отдал свои карточки этой семье. По возвращении с отдыха на юге, о чём упомяну, я привёз им ящик сардин. Вот тогда и посетил последний раз эту семью. Хозяин был по-прежнему сумрачный, дочь – тихая, худенькая девочка лет десяти – скромно и молчаливо сидела за столом, а мамаша расцвела – у неё был любовник, американский еврей русского происхождения, офицер лет сорока. Он снабжал эту семью продовольствием.
Время пребывания на «Рено» для меня отмечено двумя любопытными случаями.
Надо мною шефствовал начальник лаборатории месье Кадиок. Когда я составил список материалов, которые задумал взять с собой, то, естественно, счёл необходимым показать его моему куратору. Он посмотрел и отрицательно покачал головой:
– Не могу выдать вам эти материалы. Сожалею, но не могу.
– Почему?
– Но ведь это же секреты фирмы.
– Но фирмы уже нет, завод национализирован.
– Всё равно это коммерческая тайна.
И вдруг я ни с того ни с сего выпалил:
– Позвоните, пожалуйста, месье Ля-Фуше, может, он разрешит.
Кадиок пристально посмотрел на меня и поднял трубку:
– У меня сидит русский инженер месье Фёдоров. Он собрал кое-какие материалы и просит разрешения взять с собой.
– Какие?
Кадиок перечислил, и я услышал ответ директора:
– Дайте их ему.
– Но ведь некоторые из них мы раньше никому не давали
– А теперь дайте!
– Слушаюсь, – Кадиок повесил трубку.
– Месье Фёдоров, завтра зайдите ко мне – материалы будут готовы.
Я поблагодарил и попрощался.
На следующий день он вручил мне материалы, о которых я уже упомянул.
Второй случай.
Я знакомился с литейным цехом и обратил внимание сопровождавшего меня начальника цеха на то, что обычно литьё считал менее прочным, чем поковку, тем более из бессемеровского конвертора (у них плавка металла велась в таком конверторе).
Он согласился со мной.
Тогда я спросил:
– Чем вы достигаете прочности коленчатого вала, которая необходима для автомашины?
Он ответил:
– Хорошим качеством шихты и строгим режимом.
И тут начальника цеха позвали. Ко мне подошёл рабочий, как оказалось после, из русских эмигрантов и сказал по-русски: начальник цеха «забыл» сказать вам, что металл, из которого льют коленвал, содержит более 1 % меди. А вы, обратился он к переводчику, знаете это и молчите. Какой же вы русский человек? Надо помогать Родине.
Во как сказал!
– Помолчите, – ответил переводчик, – не вызывайте подозрений. Я знаю, о чём вы говорите, но обсуждать эту проблему здесь не рекомендую.
Он посоветовал мне посмотреть в документах технологию, о которой мы говорили с месье Кадиоком. Там было больше интересного, чем сообщил мне русский рабочий. Но он сказал от сердца, и, возможно, переводчик без его подсказки не догадался бы сообщить мне это. Не придал бы значения.
Интересным человеком был начальник цеха горячей штамповки месье Жан. Он пришел на эту должность из рабочих. Его назначили после национализации (завод национализировали за активное сотрудничество хозяина «Рено» с немцами). Начальник цеха сам разносил по рабочим местам зарплату в конвертах, где были деньги и записка с пояснениями и обоснованием начисленной суммы. Рабочие нигде не расписывались и с возникавшими вопросами обращались прямо к нему.
Теперь об отношениях с советской военной миссией. Всех нас она взяла на учет и выплачивала пособие, почти равное пособию французских безработных. Они получали тысячу пятьсот франков в месяц, а я, например, – тысячу семьсот пятьдесят. В то время, когда мы сорвали в Версале солидный куш по липовым документам, Сашка купил в дар миссии американскую автомашину за сто семьдесят пять тысяч франков.
Я редко заходил в миссию – всего раза два или три, мне нечего там было делать. Вот Постников (который в Нанси советовал нам вступить в американскую армию), тот устроился там работать, стал очень важным и с нами здоровался сквозь зубы. Для солидности нацепил кобуру. Что он там делал, не знаю, но на нас смотрел сверху вниз.
Посетил я военную миссию по просьбе адмирала Кононова. В те времена большинство эмигрантов, так или иначе, хотели показать свой патриотизм. Патриотический пафос адмирала я бы взял в кавычки, потому что он больше интересовался возможностью разжиться у соотечественников бензином.
В одно из посещений военной миссии я встретился на лестнице с группой человек в пятнадцать – двадцать генералов. Старые знаки различия – звёздочки на воротнике и измождённые лица говорили сами за себя. Бывшие военнопленные. Они спускались по лестнице, чтобы сесть в ожидавший их автобус. Потом на родине они так же, как и я, оказались людьми «второго сорта».
Однажды меня вызвали в миссию, чтобы я помог вызволить из тюрьмы эмигранта Клягина. Объяснили, что это крупный промышленник-миллионер, в войну устраивал на своих предприятиях беглых советских военнопленных. Французские власти арестовали его за сотрудничество с немцами, но здесь якобы другая «подкладка»: они просто хотят «освободить» Клягина от миллионов – национализировать его предприятия.
Меня снабдили подлинником и переводом письма беглых военнопленных, работавших нелегально на тех злополучных предприятиях во время оккупации, и документом от военной миссии. Рекомендовали переговорить сначала с его женой – француженкой, узнать у неё, к каким властям надо обратиться с ходатайством об освобождении Клягина. В помощь дали эмигранта-переводчика.
Подозреваю, что Клягин был нужен нашей разведке, а меня мобилизовали на эту работу по двум причинам: во-первых, на это щекотливое дело нельзя было посылать штатного сотрудника военной миссии – если будет провал, то она умоет руки. Это, дескать, инициатива самих военнопленных. Хотя, вероятно, в случае провала военная миссия как-то защитила бы меня. Но для этого она должна быть «чистой». Во-вторых, они наверняка знали от консула Гузовского, что я через Женю обзавёлся связями в верхах, вплоть до министра иностранных дел Бидо, и в случае необходимости Женя меня выручит.
Но всё прошло благополучно. Я был у жены Клягина – худощавой лет сорока пяти шатенки, узнал у неё, куда мне обратиться, и вместе с переводчиком поехал к прокурору, предварительно надев советскую военную форму.
Прокурор выслушал мою «взволнованную» речь, принял документы и обещал в ближайшие дни сообщить о результатах в военную миссию.
В миссии я не отчитывался. За меня это сделал эмигрант-переводчик. И Клягин был освобождён. Об этом я узнал из письма его жены, которое она прислала мне на адрес Жени. Она благодарила меня от собственного имени и от имени мужа, приглашала к себе и предоставляла в моё распоряжение все свои материальные ресурсы. Я письменно поздравил её и Клягина, поблагодарил за приглашение (обещался быть) и за предложение «материальной помощи». Конечно, у Клягиных я не был – Женя отсоветовала. И вообще она не поощряла мои знакомства с эмигрантами, хотя они меня очень интересовали.
В один майский день меня пригласил консул Гузовский. Я мчался к нему на крыльях надежды, думая, что речь идёт о нашей с Женей заявке. Но был разочарован его фразой:
– Товарищ Фёдоров, вами интересуется торгпред, зайдите к нему.
Зашёл. Торгпред принял меня радушно и сразу стал сетовать на трудности работы:
– Многие фирмы предлагают нам свои услуги, но мы не знаем их производственных возможностей, и я боюсь обмана. Не поможете ли мне определить мощности некоторых предприятий? Консул Гузовский рекомендовал мне вас как человека со связями.
Я понял, что передо мной разведчик. Почувствовал, откуда ветер дует и почему мною воспользовалась военная миссия в деле Клягина.
Стало обидно, что они со мной не откровенны, но ведь это наша разведка, советская, русская, и потому я согласился помочь торгпреду:
– Хорошо, если это будет в моих силах.
– Вам достаточно побывать на тех предприятиях, которые я назову, и в разговорах с руководством этих предприятий нечаянно задать вопрос о том, сколько они могут выпустить в месяц машин. К тому же вы инженер, кое-что сами определите.
Он продиктовал мне названия заводов – «Рено», «Ситроен», «Пежо» и «ГНОМ-РОН» (завод авиационных двигателей). Были ещё какие-то, но их не помню, потому что на упомянутых успел побывать до отъезда в Союз.
Через две недели после беседы с торгпредом я через приятеля передал ему письмо, в котором были данные о мощности перечисленных предприятий. Сам я не пошёл, опасаясь, что он узнает о моём намерении уехать, и задержит.
На этом завершилась моя кратковременная деятельность на благо советской разведки.
В конце марта Женя взяла на две недели отпуск, и мы поехали с ней на юг, в Сен-Жан-де-Люз. Маленький городок на берегу Бискайского залива, километрах в десяти от испанской границы. Остановились в пансионате, хозяйка которого гордилась тем, что у неё до войны отдыхал советский дипломат (кажется, Молочков). В эту поездку сагитировала нас приятельница Жени, соратница по Сопротивлению, молодая девушка по имени Крестьон. Эта черноглазая интересная блондинка питала ко мне симпатию, но без отклика с моей стороны. Для меня тогда, кроме Жени, не существовало никого.
Из поездки в Сен-Жан-де-Люз запомнились два моих нелегальных посещения Испании.
Да, забыл важную деталь. Граница с Испанией была «закрыта» (дальше будет понятно, почему я поставил кавычки), и, чтобы проживать в двадцатикилометровой пограничной зоне, нужно было специальное разрешение от соответствующих органов в городе Байене.
Мы поехали туда. Для Крестьон это было просто – она прибыла к родственнице. Для Жени тоже не представляло сложности – достаточно продемонстрировать служебные документы. А я-то иностранец. Ещё в Париже запасся документом из военной миссии, в котором говорилось, что я её сотрудник и еду в Сен-Жан-де-Люз в отпуск. Предъявляю этот документ двум военным чиновникам, и по выражению их лиц вижу, что разрешение на проживание в пограничной зоне могу не получить.
Женя шепчет:
– Покажи им французские партизанские документы.
Я вынимаю сертификат о демобилизации из французской армии, в котором указаны мои заслуги. Чиновники сразу же заулыбались, а старший по званию надел фуражку, встал и откозырял мне. Разрешение на проживание было выдано. Прощаясь, старший офицер сказал:
– Мы тоже партизанили, в нашем «маки» были русские, они храбрые солдаты и хорошие друзья. Мы уважаем русских!
Такой оказалась сила этих документов. Ну а причины строгого пограничного режима заключались в проблемах с контрабандой. Во Франции в то время не было в продаже (я имею в виду свободную продажу, а не «чёрный рынок») цитрусовых, шоколада и многого из того, что продавалось в Испании (она же не воевала). У пограничных жителей была привилегия: им выдавались письменные разрешения на посещение Испании для закупки в пограничной испанской зоне дефицитных товаров, но количество закупок регламентировалось.
И вот однажды хозяйка пансионата говорит нам:
– Завтра я на велосипеде еду в Испанию кое-что закупить. Не хотите ли поехать со мной?
– Но у нас нет разрешения.
– Пустяки, уладим.
Нам с Женей достали велосипеды, и мы большой компанией рано утром отправились на пограничный пункт.
Часовой на границе проверил документы у местных жителей, а когда наша хозяйка сказала, что мы парижане, он махнул рукой, и мы пошли, оставив велосипеды около его будки.
Два километра – нейтральная зона с хорошо протоптанной тропкой. Встретился французский патруль. Поздоровались и разошлись. Семь женщин и один я не вызвали у них подозрений.
Испанская граница. Тропка ограничивается скалой справа и невысоким обрывом слева. Пограничный столб. А где же пограничник? На той стороне ручья он сидит около полулежащей девушки и крутит около её носа цветок. Увидав нас, даже не встал, просто махнул рукой. Та же беспечная манера, что и у французского пограничника.
Метрах в двадцати – деревянное здание, кабачок, харчевня и магазин. Заходим. У прилавка два покупателя. Нас ставят сразу за ними и предупреждают:
– Покупайте и сразу уходите на нейтральную полосу!
Только мы начали перечислять товар, как вошли солдаты и потребовали вина. Пока хозяин ходил в подвал, они уставились на меня.
Мне стало не по себе. Я понимал, что не похож на француза, тем более южанина, и это вызывало их любопытство. Но от того, что я это понимал, легче не было. Боялся, что взглядом или неловким жестом вызову у них желание ближе познакомиться со мной – спросить документы, например. Я незаметно опустил руку в правый карман, сжал пистолет и тут же подумал, что он не спасёт: их восемь с автоматами, а я один. Мысли быстро пробегали в голове, но ни одна не подсказывала выхода. Мне просто повезло – хозяин принёс солдатам вина. Их внимание отвлеклось, напряжение разрядилось.
И вдруг, когда Женя расплачивалась, кто-то из солдат взволнованно произнес:
– Капитан!
Наша хозяйка сразу же сообразила, что идёт начальник заставы, и солдаты должны спешно покинуть харчевню. Она сказала нам:
– Быстро идите за пограничный столб!
Мы спешно покинули харчевню. Столб был метрах в двадцати, вроде близко, можно не бежать, но солдат, который баловался на том берегу ручья с девушкой, уже вставал, и нам пришлось поспешить, чтобы до него успеть к столбу. Успели. Солдат опоздал на несколько секунд и нас остановить уже не имел права. Куда делись другие солдаты, я не видел.
Мы с Женей отошли метров на тридцать от столба и сели на камень. Закурили. И когда я зажигал спичку, заметил, как дрожат мои руки. Попасть в лапы франкистов перспектива не из приятных. Ведь там, за столбом, не только франкисты, но и удравшие немецкие фашисты и власовцы – разорвут на мелкие кусочки, если узнают, кто я такой. А узнать просто – со мной был не только пистолет, но и документы. Я боялся оставить их дома.
Закончилась эта история благополучно, и мы пришли на французскую территорию, гружённые цитрусовыми, шоколадом и какими-то пустяками.
Другой мой поход в Испанию интереснее. Он был сопряжён с большим риском, но там я чувствовал себя спокойней и уверенней.
Я ходил через кордон с настоящим контрабандистом.
А дело было так: кто-то организовал для меня и Жени поездку на рыбалку. Не баловство с удочками, а на ловлю сардин на настоящем промысловом судне. В Бискайском заливе очень много сардинок.
Ещё затемно мы были на небольшом кораблике. Таких судёнышек стояло в бухте много, их движение в море началось до рассвета. Один за другим они покидали бухту, отгороженную от океана молом. Мы сидели с Женей на канатах на корме и кутались в пледы. Ждали, когда заработает мотор на нашем кораблике, а мотор барахлил и не хотел заводиться.
– Капитан наверняка ругает себя за то, что разрешил присутствие женщины на корабле, – сказал я Жене.
– Это ваши моряки суеверные, а наши не занимаются пустяками. Они рыбу ловят, – отрезала она.
Но морячки нервничали. На судне кроме нас было восемнадцать человек, не считая капитана. Наш мотор заработал, когда предпоследний корабль выходил из бухты, и уже стало светло.
Рыбаки хмурились, с нами не разговаривали, да и между собой лишь изредка обменивались отрывистыми фразами. Курили. Видно было, что они переживали задержку.
Но вот бухта осталась позади, и берег начал исчезать в утренней дымке. Впереди по горизонту видно, как некоторые судёнышки уже травят сети, а мы ещё идём вперёд.
В какой-то момент капитан дал команду, и рыбаки быстро опустили сеть в море, затем корабль выписал большой круг. По его завершении рыбаки стали выбирать сеть руками (на некоторых судах были лебёдки). Чтобы согреться и не стоять лодырем, я присоединился к рыбакам и взялся за тонкий канат. Скоро от напряжения заболели пальцы. Сардин было полно. Лица рыбаков расплылись в улыбках. Большим сачком они вычерпывали улов на борт. Два раза закидывали сеть, и этого оказалось достаточно, чтобы заполнить стоявшие на борту ящики.
– Только сардины, – сказал довольный капитан, – это очень хорошо. А когда мы выходили из бухты и барахлил мотор, я проклинал себя за то, что взял на корабль женщину, мадам Дешан. Оказывается, был неправ.
Южане говорят далеко не по-парижски, и я с трудом понимал, о чём шел разговор.
– Ты был прав, – Женя перевела мне слова капитана.
До порта – около часа хода. Мы возвратились первыми, остальные еще вели лов. Капитан достал большую бутыль вина в корзине и наполнил всем в кружки.
– Ваше здоровье, мадам Дешан, вы принесли нам счастье, – сказал капитан и выпил залпом пенящееся вино.
Выпили все. Вино вкусное, испанское.
– Вы не успели насладиться всеми прелестями рыбной ловли, поэтому приглашаем вас на завтра, – улыбнулся капитан, провожая нас на пристани.
Мы дали согласие, до полудня уже были дома и завалились спать.
Вечером я попросил Женю добыть через хозяйку пять литров спирта и ночью захватил их с собой на судно.
Мотор уже не барахлил, мы отплыли нормально, но на этот раз нам не так повезло – рыба, а это была скумбрия, задержалась часов до четырнадцати, но наловили мы её много, опять все ящики были заполнены. Когда мы повернули к гавани и мотор запел свою песню, я достал из сумки бутыль со спиртом и обратился к рыбакам:
– Друзья, выпьем русского белого вина!
Все заулыбались и потянулись за кружками. Чтобы показать пример, я налил стакан и выпил, закусив хлебом с маслом. Когда первый рыбак налил кружку, Женя объяснила всем, чтобы пили не вдыхая и сразу, а закусывали маслом.
Как ни странно, но всё прошло хорошо – никто даже не поперхнулся. Но, выпив, каждый таращил глаза, совал в рот масло и, отдышавшись, говорил о чёртовой крепости русского вина.
Все захмелели. Я предложил гнуть руки на столе: руки у меня были сильные, и я гнул всем желающим. Но один рыбак победил меня. Его рука была как железная и на ладонь длиннее моей.
А слегка прихрамывающий бородач вдруг обратился ко мне с такими словами:
– Вот ты, русский, воевал, но не ранен, а я не воевал, а хромаю – подстрелили ногу.
– Где же это тебя немцы подстрелили?
– Да не немцы, а испанцы.
– ?
– Я года три назад за контрабандой ходил, и на границе подстрелили.
– За контрабандой? Это интересно.
– А хочешь – пойдем? Заработаешь.
– Я не о заработке, просто интересно. С удовольствием пойду.
Разговор переводила Женя. При последних моих словах она удивлённо посмотрела на меня и пожала плечами.
– Я иду завтра в ночь, – сказал хромой бородач.
Мы договорились, где встретиться и что брать с собой.
На другой день на велосипедах мы поехали в пограничный город Андай. Он стоит на берегу моря и реки, а с другой её стороны расположен город Ирун – это уже Испания. Граница проходит по реке, и города соединены между собой мостом, на концах которого устроены шлагбаумы и установлены будки для часовых.
Перекусив в кафе, мы с рыбаком отправились вверх по реке, неся что-то в рюкзаках, а Женя и Крестьон, сопровождавшие нас, уехали обратно в Сен-Жан-де-Люз.
Я взял с собой документы и пистолет.
Шагали мы известными рыбаку тропками, он впереди. Остановились, перекусили и стали дожидаться темноты.
Когда стемнело, пошли к реке. Бурную речку пересекли вброд и оказались на земле Испании.
– Шагай осторожно, тихо, – шепнул рыбак и протянул мне руку.
Долго шли, продираясь через кусты. Рыбак шагал по знакомой ему тропке. Потом мы вышли на дорогу и пошли по обочине. Наконец добрались до цели. Показался огонек и тёмные громады строений.
Вошли в харчевню. Сонный бородатый мужик убирает посуду. Посетителей нет. Поздоровались. Мой рыбак заговорил на непонятном языке. Чувствую, что начали говорить обо мне. Хозяин уставился на меня и спросил
– Власовист?
– No, партизан.
На лице недоверие, тогда я рискнул и вынул документы.
Хозяин прочёл. Улыбка осветила его лицо. Он вернул документы и спросил:
– Что пить будем?
– Коньяк.
– Хорошо.
Он ушёл и вернулся с пыльной бутылкой.
– Первый раз вижу русского коммуниста!
Мы выпили за встречу, потом за победу над фашизмом, дальше пошло за Сталина, за де Голля, а когда я поднял тост за Хосе Диаса, то хозяин харчевни сказал:
– Хосе Диас умер. В Москве умер.
Вот где я узнал о смерти вождя испанской компартии – в гнезде контрабандистов!
Мой напарник о чём-то поговорил с хозяином и предложил пойти на покой. Я очень хотел спать – бессонная ночь, усталость, немного алкоголя, но спать в доме опасался. Предложил устроиться на сене, которое лежало недалеко от дома под небольшим навесом. Француз тоже решил спать там. Хозяин выдал одеяла, и мы ушли. Я долго не мог заснуть, но потом сон сморил меня, и я проспал до сумерек.
Разбудил нас хозяин. Мы умылись и зашли в харчевню. В ней произошли изменения – столы, залитые, как я видел утром, вином и заваленные остатками пищи, были застелены скатертями и сервированы чистыми тарелками, вилками, ножами и кружками. Пол был вымыт.
Француз сказал, что хозяин устраивает банкет в честь русского коммуниста, и что скоро прибудут гости из соседней деревушки.
Они собрались часа через полтора, когда стало совсем темно. Пришли молодые парни и девушки, принесли бубны, гитары, кастаньеты.
Хозяин усадил всех за стол и произнёс тост в мою честь. Потом началось веселье. Впервые я видел испанские и баскские танцы (ведь я был в Стране басков), впервые услышал щёлканье кастаньет. Веселились часа четыре. Выпив изрядно, я тоже пустился в пляс, потом пил с девушками на брудершафт, что мне очень понравилось.
В полночь мы двинулись обратно. Тяжёлый мешок шерсти отягощал мою спину. Мы шли обливаясь потом, хотя было прохладно. Дошли без приключений.
Я «заработал» себе серой шерсти на свитер, который мне связала в Париже Женя и послала в Сен-Жан-де-Люз для вышивки. Получил его, когда она приехала в Москву. Серый свитер с голубой затейливой вышивкой.
Уезжали мы в Париж с четырьмя ящиками рыбы – два ящика свежих и два ящика солёных сардин. От рыбы, конечно, пахло, и, когда мы с Женей заснули, соседи по купе вынесли ящики в коридор. Утром появился контролёр и за провоз рыбы, к большому удовольствию соседей по купе, хотел взять штраф, но, увидев мои партизанские документы, отстал и даже помог мне внести ящики обратно в купе (теперь уже к большому неудовольствию соседей).
Париж жил на карточном пайке, поэтому наша рыба (около 40 килограммов) пришлась как нельзя кстати родным и знакомым, в том числе корниловскому капитану с его красавицей-женой.
По приезде в Париж я узнал, что началась репатриация советских людей на родину. Услышал и о том, как встречают власти и КГБ репатриантов – допросы, лагеря, тюрьмы, ссылки и даже расстрелы.
Мне это стало известно не из французской печати (она об этом в то время не писала), не от «агитаторов», засылаемых союзниками, – нет. Обо всём этом я узнал от двух молодых парней, вернувшихся в Россию и сумевших удрать оттуда на Запад. Им нельзя было не верить, ибо они не афишировали себя, о своих приключениях предпочитали молчать, а мне рассказали в компании за хорошим столом. Их рассказы не произвели на меня особого впечатления, скорее наоборот, заставили меня поторопиться с отъездом, да и их я убеждал вновь поехать на родину.
Медлить я не мог: терзала тоска, делала меня на чужбине беспомощным, и даже большая любовь не могла нейтрализовать эту тоску.
Возможность быстрого возвращения окрылила меня. Я помчался в консульство и узнал, что репатриантов собирают в лагере местечка Борегар. Поехал туда в составе большой партии репатриантов. Меня провожала Женя. Везли нас в открытых грузовиках, и ребята, у которых ещё оставались крупные суммы денег, бросали их пачками в населенных пунктах, которые мы проезжали. Жители бросались подбирать бумажки. А я был уже без денег, с одним большим чемоданом барахла.
Из Борегара нас дня через два доставили на аэродром, где сажали на грузовые «дугласы» и отправляли в Лейпциг, занятый в то время американскими войсками. Я всем сердцем стремился в Союз, но должен признаться, что в дни пребывания в Борегаре меня терзали сомнения – не вернуться ли к Жене? Любовь и тоска по родине боролись в моей душе с любовью к прекрасной женщине, но родина победила.
В Лейпциге американцы разместили нас в аэродромных ангарах, обращались с нами корректно и спокойно, вечером накормили, а утром, после завтрака, на грузовиках повезли по прекрасному шоссе на восток.
Передача происходила торжественно, с оркестром и трогательной речью какого-то офицера, который в заключение попросил сдать оружие (я оставил там пистолет калибра 6,35). Нас отвели в казарму, вернее, в полуразрушенное административное здание.
Там я попал в число остающихся в армии и теперь уже не помню, как мне удалось избавиться от этой перспективы. Кажется, я приложил немало усилий, хитрости и изворотливости. Мне во что бы то ни стало надо было попасть в эшелон, отвозивший репатриантов на родину. Ведь мы договорились с консулом Гузовским, что Женя сможет приехать ко мне в Москву по получении моего письма. И я твёрдо верил официальному представителю советской власти. Откуда мне было знать, что он – негодяй!
Впрочем, на родной земле мне пришлось встретиться и с другими бериевскими выкормышами.
Первый раз меня допросили ещё в той казарме. Следователь грубил, давая понять, что между мной, бывшим военнопленным, участником движения Сопротивления, и им, «прошедшим от Сталинграда до Берлина», – большая дистанция. Я взял в кавычки эти слова, потому что их повторяла вся бериевская команда в разговорах с нашим братом.
Особенно он ёрничал, разглядывая мои французские («на собачьем языке») документы. А когда дошёл до партизанского удостоверения, выданного штабом советских партизан и подписанного Таскиным, насторожился и стал похож на легавую собаку на охоте. Дело в том, что в этом удостоверении я исправил своей рукой моё воинское звание с «капитана» на «мл. лейтенанта». Объяснил ему, откуда появилось звание «капитан», и почему я его исправил. Он сразу уловил суть вопроса, понял, что советский закон не нарушен, но не мог не доставить себе удовольствия, измываясь надо мной. Пока я не стал проситься в туалет, пригрозив, что сниму штаны прямо в его кабинете. Он понял, что я смеюсь над ним, и… отпустил меня.
А вот второй возмутивший меня случай грубости.
В числе репатриантов был хромой офицер авиации со Звездой Героя Советского Союза на груди. Все мы с уважением относились к нему, и вдруг, на второй день пребывания, в большой зал, где мы беседовали, вошёл офицер, как после оказалось – следователь. В руках папка, неестественно серьёзное лицо, возможно, он был в подпитии. Случайно взгляд его упал на Звезду Героя. Офицер закричал на лётчика, требуя снять погоны, иначе ему, «прошедшему от Сталинграда до Берлина», придётся приветствовать его как старшего по чину. Хотя за этими погонами скрывается, мол, трус или предатель. Лётчик побледнел и с достоинством ответил, что воевал с начала войны и был сбит в апреле 1945 года, а высокую награду получил как раз за Сталинград. Бериевец не слушал, продолжая орать, и пригрозил сорвать погоны и звезду. Я не выдержал – встал между ними и, задыхаясь от бешенства, попросил бериевца удалиться или прийти сюда с офицером, который по званию выше лётчика.
Только тогда следователь ушёл.
…Меня тяготил груз, который я вёз с собой. Это был большой чемодан барахла. Я понимал, что меня ожидают допросы, досмотры, а возможно и лагеря, и этот тяжёлый чемодан будет мне мешать, привлекая взоры кагэбэшников. Надо бы что-то сделать с моим чемоданом.
На какой-то остановке к нашему поезду подъехали на джипах советские офицеры. Они поинтересовались, что можно купить у репатриантов. Это были обычные барахольщики, но для меня советский офицер всегда был светлым образом, примером честного, бескорыстного и отважного человека. Воин-освободитель и барахольщик в моём сознании никак не соединялись. Даже то, что подъехавшие занимались скупкой шмоток, меня не смутило, а наоборот, доказывало, что это действительно воины-освободители, а не воины-грабители: у них ничего нет, они не грабили, поэтому теперь покупают.
Остановив капитана, я спросил:
– В Москве будете?
– Даже скоро, – ответил он.
– Не могли бы отвезти в Москву мой чемодан. За это я подарю кожаное пальто.
– С удовольствием. А чтобы вы не сомневались, запишите номер моего партбилета.
Конечно, я отказался это сделать, но запомнил, что он из станицы Ленинградская. Передал ему чемодан, а кожаное пальто, привязанное к чемодану, отвязал и набросил капитану на плечи.
На душе стало легче, но спутники по вагону смеялись над моей наивностью. И они оказались правы. Больше я этого капитана никогда не видел.
Ехали мы через Варшаву. Страшно было смотреть на изуродованный город… Но трамвай уже ходил. Вскоре доехали до Бреста. Там всех нас высадили и колонной повели к лагерю (так называемому фильтрационному пункту). У входа в лагерь на стуле сидел офицер, и мы по одному подходили к нему. По известным только ему признакам, не разговаривая ни с кем из нас, он сортировал людей – кого в лагерь, кого к месту следования.
Я был отправлен в лагерь, где уже на другой день меня вызвал следователь, капитан Нехлюдов. Длительный допрос. Он забрал все мои партизанские документы, записную книжку и орден Почетного легиона, поиздевался над тем, что я исправил в советском партизанском документе звание, и, в поисках чего-либо подозрительного, разрезал переплет записной книжки. Потом приступил к допросу. Я сидел на табуретке посредине кабинета, метрах в трёх от стола следователя. Допрос длился два часа, проходил спокойно, придирок не было.
Когда я подошёл к столу, чтобы подписать протокол допроса, Нехлюдов спросил меня: «Сколько времени на твоих часах? Я не завёл свои». Подняв рукав и посмотрев на подаренные Женей золотые часы-хронометр, я ответил. При этом обратил внимание на его хищно устремлённый взгляд.
– Что это у тебя за часы?
– Подарок любимой женщины, швейцарский хронометр.
– Покажи.
Я снял часы и подал Нехлюдову.
– Хороши. Дорогие?
– Не знаю.
– А что это у тебя между крышками? – спросил следователь, открыв двойную крышку и увидев между ними завиток волос Жени.
– Это волосы любимой.
– А как её фамилия?
– Дешан.
– Она что, дворянка?
– Нет. «Де» пишется слитно.
– Давай меняться часами, у меня хорошие швейцарские.
И он хотел снять свои часы.
Я остановил его:
– Не могу. Это подарок любимой.
– Но ведь тебе, в некотором роде, выгоден обмен.
– Выгода меня не интересует. Память дороже.
– Ну подумай, а сейчас иди. Я тебя ещё вызову.
Я попросил свои документы и орден. Он ответил, что не положено. У репатриантов отбирают все документы и иностранную валюту (у Нехлюдова на подоконнике лежала большая куча иностранных денежных купюр). По его словам, достаточно одной справки из лагеря.
Я настаивал, твердя, что документы тоже память, а орден – награда, и моему сыну будет приятно иметь такую память об отце.
Но Нехлюдов отказал.
Второй раз он вызвал меня через несколько дней и попросил оказать ему содействие в вылавливании предателей и власовцев.
Я задумался. Кого Нехлюдов считает предателями? Власовцев? Всех военнопленных? Угнанных в неволю гражданских?
– Кого вы считаете предателями?
– Ну известно кого – власовцев, полицаев, антисоветчиков, которые перешли к немцам или высказывают антисоветские взгляды, недовольство порядком.
– Я не могу полностью согласиться с этим и вынужден отказаться.
– А с чем же ты не согласен?
– Власовцы, полицаи, перебежчики – это предатели, но люди, протестующие против того, как их встретили на родине, и резко высказывающиеся по этому поводу, – не антисоветчики.
– Я с тобой согласен. Так ты, партизан, принимаешь моё предложение?
– Нет. Но если я увижу или узнаю кого-либо из встречавшихся мне предателей, то приду и скажу.
– Согласен. Подпиши документ о неразглашении нашего разговора.
Подписывая, я ещё раз попросил у него документы и орден. К моему удивлению, он сказал:
– Чёрт с тобой, забирай, но не забудь о моей просьбе обменяться часами.
Я промолчал, взял документы и ушёл.
Конечно, я и не подумал кого-либо выискивать, там и без меня нашли какого-то здоровяка-кавказца, служившего палачом в Прибалтике. Если бы я увидел дядю Сашу из лагеря 326, сразу побежал бы к следователю, а вот своего земляка и товарища детских игр и шалостей Сашку-сапожника, бывшего комендантом барака в минском лагере, я бы не выдал.
Разговоры у нас велись всякие: о плохой кормёжке (баланда из воблы), о грубостях следователей и охраны лагеря, об отношении к военнопленным вообще, а вот антисоветских разговоров не припомню. Не могли они быть среди людей, стремившихся на Советскую Родину, которые буквально молились на Сталина. Поэтому всех нас беспокоили детали жизни в лагере, а не сам этот лагерь. Никто не знал, какой режим будет в нашей стране после войны. Нужно признать: послевоенная свобода в западных странах смягчила нас, мы стали демократичнее и с бо́льшим уважением относились друг к другу.
У меня нашёлся земляк, живший до войны у Заставы Ильича. По профессии шофёр, был моложе меня, холостяк. Оставив во Франции любимую женщину, он сильно грустил о ней и мечтал (как и я) привезти её к своим родителям. Чувствуя по обстановке, что мечты его несбыточны, он решил вернуться во Францию. Посоветовался со мной. Я не одобрил его решение и отказался разделить с ним компанию. Его звали Сашей; он всё-таки нашёл двух или трёх единомышленников, и однажды ночью они исчезли. Никто их не хватился – в лагере не было строгого учёта людей, которые прибывали и убывали ежедневно.
Примерно через неделю беглецов привели под конвоем в лагерь. Что с ними случилось? На вторую ночь они забрели в расположение воинской части, там их схватили и отправили в каталажку. Должны были передать трибуналу, но тут подоспела амнистия в честь Победы, и с них сняли обвинения. С Сашей я приехал в Москву, несколько раз мы с ним общались. В лагере я встретил ещё одного земляка. В столице он устроился работать администратором Театра имени Моссовета и снабжал меня контрамарками.
Всего один раз в лагере была общая проверка состава «фильтрующихся». Перекличка проводилась на стадионе. Солдаты из ближайших частей, прознав об этом, усеяли забор стадиона, высматривая земляков.
– Витебские есть?
– Смоленские есть?
Из строя иногда отзывались:
– Есть!
Солдаты охраны громким матом пресекали перекличку – и вдруг возглас из наших рядов:
– Брат, Мишка!
С забора:
– Володька, сукин сын, иди ко мне!
С забора сорвалась фигура солдата, а из строя навстречу выбежал репатриант. К ним бросились охранники и оторвали друг от друга обнявшихся в слезах радости братьев. Репатрианта пинками загнали в строй, а солдата, заломив руки, повели к воротам стадиона – к лагерному офицеру. Во время этой сцены солдаты с забора криками выражали возмущение. Тогда на стадион вошли три человека. Посередине – высокого роста, в белом свитере, по бокам – два офицера в чине майора и подполковника. Они медленно подошли к офицеру, который допрашивал согнутого двумя охранниками солдата. Человек в свитере что-то сказал офицеру, и тот моментально вытянулся, а охранникам все трое надавали пинков, выкрикивая: «Прочь, хохлы, службисты!» Отпущенный солдат был в восторге. Солдаты на заборе аплодировали и кричали «Ура!». Лагерное начальство молчало.
Этот случай – наглядный пример отношения фронтовиков к «тыловым крысам»: заградительным отрядам, охранникам – короче, ко всем сотрудникам тогдашнего КГБ.
Конечно, кто-то должен заниматься и такими делами. Но для этого нужны люди с добрым сердцем и чистыми руками, а не трусы, садисты, взяточники и стяжатели, которые табунами устремились в тыловые службы, в том числе по линии КГБ. Чтобы не попасть на фронт, надо было всё время отличаться в своём службистском рвении. Народ это видел, знал, а если не знал, то догадывался и поэтому ненавидел и презирал таких людишек. Однако эти мои рассуждения не касаются разведчиков и контрразведчиков. О них я совсем другого мнения.
«Тыловой крысой» был и капитан Нехлюдов. Он отпустил за взятку власовца, взятого в плен в Париже. Когда я возмутился его поступком, он ответил:
– На родине его всё равно отправят на каторгу.
– Но почему вы этого не сделали?
– Эшелонов не хватает…
Тоскуя по близкой Москве и не имея возможности связаться с далеким Парижем, я сдался и обещал Нехлюдову обменять часы, если он меня отпустит. Он сразу же согласился и выписал мне справку, которую я сохранил: на право жительства в Заокском районе Тульской области (в Москву репатриантов не пускали). Я попросил за Сашу, который тоже проходил у Нехлюдова, и он тут же выписал такую справку и ему. Но часы я не отдал, было жалко расставаться с памятью о Жене. Мы с Сашей попросту удрали из лагеря.
Это не имело ничего общего с побегом из плена. Мы не перелезали через двойное проволочное заграждение «Брестского фильтрационного пункта», не переплывали через Неман. А просто пристроились к партии репатриантов, покидавшей лагерь раньше той, в которую определил нас Нехлюдов. Так и прибыли на станционный пункт, где репатриантов сажали на поезда. Пункт этот тоже охранялся.
С небольшой партией репатриантов, которые должны были ехать в места назначения через Москву, нас с Сашей разместили на ночь в комнате на 2-м этаже. И вот тут-то и случилось со мной несчастье. В те времена я спал как убитый, и вот во время сна у меня украли часы, которые я не отдал следователю. Сняли, конечно, охранники. Я понял это сразу, когда увидел, с каким жадным любопытством они рылись в мешках и чемоданах репатриантов после моей заявки о пропаже.
Так что ехал я в Москву без вещей и без денег, в плаще и соломенной шляпе.
Да, забыл рассказать об одной интересной встрече в лагере. Вместе с репатриантами в Союз добирался эмигрант-шахтёр: чернявый, коренастый, с большими сильными руками и очень добродушный. Сразу же объявил следователю, что он – эмигрант Гражданской войны, шахтёр и очень хочет жить и работать по специальности на родине. Не знаю, как уж там сложилась его судьба, но из лагеря после проволочек его направили в Караганду.
А мы с Александром доехали до Минска, сошли с поезда и пошли к Станиславе Павлюц – той самой молодой женщине, которая вместе с нами «делала деньги» в Париже.
Минск был разрушен, как и Варшава, но бойкий трамвай доставил нас на окраину, где в маленьком деревянном домике жила семья нашей знакомой. Стася гостеприимно нас приняла, рассказала об особенностях послевоенной жизни, о своём путешествии. У неё обошлось без проблем – она добралась домой без приключений.
Поблагодарив добрую хозяйку, на другой день мы сели на поезд и «зайцами», иногда в вагонах, а то и на тендере, доехали до Москвы. Сашка продал свои часы, и на эти деньги мы питались два дня.
На Белорусском вокзале появляться нам было не с руки – могли прицепиться патрули, и мы, спрыгнув на ходу поезда в районе ипподрома, вышли на Ленинградское шоссе. Сразу бросились в глаза посадки картошки и овощей на газонах перед домами, грязные облупленные здания, редкие автомобили, трамвай, автобусы, неподстриженные липы. Прохожие в старой, потрёпанной одежде; худые, измождённые лица… Я грустно улыбнулся, вспомнив, как под сенью парижских каштанов думал, что Ленинградское шоссе не уступит по красоте Елисейским Полям.
Шагая домой, думал о Жене и надеялся на встречу с ней. Я считал, что лагерь и поездка отняли у меня полтора месяца, и этого вполне достаточно, чтобы она могла оказаться в Москве. Из Бреста я написал о ней Санькиной матери, моей жене, и просил принять иностранную гостью как следует.
Дверь мне открыл сын. На его лице я не заметил радости от встречи с отцом. Поражённый его худобой и бледностью, я схватил его в объятия и стал целовать. Сын был каким-то безучастным, с отрешённым взглядом. Рыдания стиснули мне горло. Я видел, что мальчишке необходимо хорошее питание, и для этого я должен быть постоянно с ним, в Москве.
Я тут же сел за стол и принялся за письмо Сталину.
Писал о том, что пошёл воевать добровольцем, в плен попал не по своей вине, а по вине командования Тимошенко и Хрущёва. Рассказал, как вёл себя в плену, как партизанил во Франции, как спешил на Родину и как меня и других репатриантов здесь встретили. Закончил послание вопросом: почему мне не разрешают жить в Москве?
Я прибыл в субботу и на следующий день с утра поехал на стадион «Динамо».
Как же я был рад видеть знакомых! Некоторые подходили ко мне и расспрашивали о военной судьбе, а ребята с моего завода обратились с просьбой – пробежать в большой шведской эстафете первый этап – 800 метров.
Я отнекивался, ссылаясь на неподготовленность, но они убеждали, что сейчас все не подготовлены, и чем больше я отказывался (мне не хотелось проигрывать), тем настойчивее они были. Наконец я сдался и попросил шиповки. Их нашли, но тридцать девятого размера, а я всегда бегал в шиповках сорок первого. Еле натянув туфли, вышел на старт. По радио тут же объявили, что в очередном забеге стартует на первом этапе известный до войны средневик, вернувшийся с фронта Алексей Фёдоров. Я чертыхнулся про себя, уверенный, что проиграю своим молодым соперникам.
– На старт! Внимание! Марш! (Старт давался по отмашке флажком.) И мы рванули.
Я оказался первым, остальные, услышав объявление по радио, очевидно, сдрейфили и не рискнули брать на себя инициативу. Так я и повёл бег, вновь переживая на каждой сотне метров свои особые ощущения, с которыми расстался четыре года назад. Закончил свой этап первым, никто меня и не пытался обойти. Итак, я снова в спорте!
Но спорт спортом, а ведь я ещё не демобилизован. Предстоит армия. Ребята посоветовали зайти на завод, дескать, его руководство ускорит мою демобилизацию. Я не очень-то верил и хотел дождаться ответа Сталина. И тут кто-то из динамовцев сказал: а не стоит ли мне сходить в районный НКВД? Ведь я в Москве живу на нелегальном положении. Может, мне разрешат остаться в столице. Но идти в НКВД я боялся: вдруг меня там схватят, посадят в вагон и отвезут в Заокский район Тульской области? Тогда мне Москвы не видать. Может, Сталин все-таки разрешит жить в Москве?
После долгих раздумий я все же решил пойти в райисполком к уполномоченному КГБ.
Он выслушал меня, не перебивая. Не помню, задавал ли вопросы, но в заключение сказал:
– Против вашего пребывания в Москве мы ничего не имеем, но вы ещё не демобилизовались. Идите в райвоенкомат и демобилизуйтесь!
Но прежде я зашёл на завод. Заместитель директора по кадрам Пашко принял меня хорошо, сказал, что завод нуждается в инженерных кадрах и что он через министерство будет хлопотать о моей демобилизации.
Не знаю, хлопотал он или нет, но пробыл я в Зарайском офицерском полку два месяца и демобилизовался в конце сентября. К работе на заводе приступил в октябре инженером-исследователем в УЗЛ. Оклад – 1000 рублей (тогда буханка хлеба на базаре стоила пятьсот). Спекулировать, купить-продать-перепродать я не умел, но мне немного помогал спорт. Я как тренер получал восемьсот рублей – надо было думать, как и чем кормить сына.
Начинался послевоенный период моей жизни, и об этом тоже можно было бы написать книгу.
Впрочем, как и о каждом из нас…

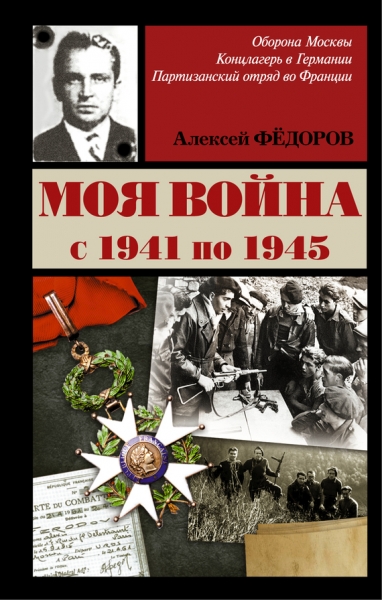
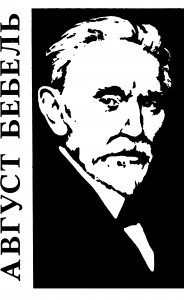



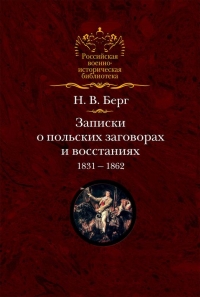
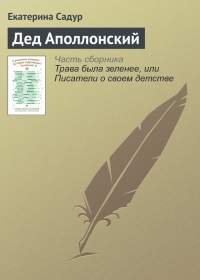
Комментарии к книге «Моя война», Алексей Александрович Федоров
Всего 0 комментариев