Олег Стриженов Олег Стриженов и Лионелла Пырьева. Исповедь
© Стриженов О., 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
Последний романтик, кумир поколений
Имя Олега Стриженова – кумира не одного поколения – давно стало символом героя-романтика. И не только на экране – по неповторимым образам в фильмах «Овод», «Капитанская дочка», «Сорок первый», «Белые ночи», «Северная повесть», «Пиковая дама», «Неподсуден»… Зрители 1960–1970-х помнят его порывистого, мятущегося Треплева в чеховской «Чайке» на сцене МХАТа в постановке Бориса Ливанова, барона Тузенбаха в «Трех сестрах», когда такая притягательная внешняя красота актера вдруг исчезала, прячась за нездоровой бледностью лица, круглыми стеклами маленьких очков, а открывалась душа героя – ранимая и страдающая. И конечно, не забыть его Незнамова в спектакле «Без вины виноватые», где Стриженов играл в паре с Аллой Тарасовой. Это был дуэт двух великих актеров. Как и на заре его кинематографического взлета, в фильме «Овод» с Николаем Симоновым – Монтанелли.
Придя в Московский художественный театр в начале 60-х прошлого века, на гребне своей кинославы, Стриженов – выходец совсем не мхатовской школы, а щукинец-вахтанговец – был принят знаменитыми «стариками» легендарной сцены как равный. Борис Николаевич Ливанов, ставя «Чайку» именно на него, говорил: «У меня «Чайка» больше станет не она, а ты в роли Треплева». Так и вышло: герой Олега Стриженова стал средоточием спектакля, его магнетической силой и заставлял зрителя всецело сострадать этой трагической личности.
Двум братьям – Глебу и Олегу из семьи потомственных военных суждено было стать актерами. Старший, Борис, погиб в бою под Сталинградом. По признанию Олега Александровича, многие сыгранные роли кажутся ему биографическими. Говоруха-Отрок в «Сорок первом» напоминал ему отца, когда-то выпускника петербургской Николаевской кавалерийской школы. Играя в фильме «Неподсуден», он представлял брата Бориса, летчика военной эскадрильи. А хождение в комендантский час по московским крышам времен войны (проводив знакомую девушку, так скрывался от ночного патруля) послужило этюдом к учебному спектаклю «Ромео и Джульетта».
Каким бы мог быть Ромео Олега Стриженова на экране! Но никто из наших кинорежиссеров не взялся за трагедию Шекспира. Не сыграл замечательный мастер и предлагаемую ему роль (сохранились кинопробы) князя Андрея Болконского в «Войне и мире» Сергея Бондарчука. Кто знает, возможно, теперь, по прошествии лет, об этом все же сожалеет… Но тогда даже министру культуры СССР Екатерине Фурцевой не удалось уговорить его сниматься в грядущей киноэпопее.
Олег Александрович Стриженов – советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР (1988)
«Несладкий», неудобный для многих характер артиста, живущего по законам истины и совести, зачастую совсем не соответствовал изменчивому успеху. Но Олег Стриженов никогда не предавал себя, не растрачивал Божий дар своего таланта по мелочам, ничем не омрачив созданный им в искусстве образ красивого человека чести, достоинства и благородства, к чему так устремлял и наши души.
Татьяна МаршковаПредисловие
Писать о самом себе довольно трудно и не совсем удобно – не все можно вынести на суд людей. Получается, что ты на исповеди. А исповедь – это тайна. Поэтому воспользуюсь некоторыми высказываниями обо мне постороннего человека – журналиста. Познакомьтесь с некоторыми выдержками из статьи Анатолия Байбекова «Джентльмен с голубыми глазами», опубликованной в петербургском журнале «Нева» за 1998 год.
«Актер мало играл современников и никогда не воплощал героя, потрясающего своей партийной совестью.
В Союзе он был самым деидеологизированным актером.
На «Ленфильме» Олега Александровича Стриженова называют истинно петербургским киноактером.
…Убивали его на экране часто. А вот от кино отлучили однажды и надолго. Отказался сниматься в престижной картине. Не подействовали уговоры самой Екатерины Фурцевой: отказался от роли Андрея Болконского. Характер у Стриженова очень нелегкий.
…Актер был представлен кинозрителями и в кандидаты на соискание Ленинской премии. Но это желание общественности оказалось из области фантазии. Нас воспитывали на иных образах. И не дали Стриженову премию. Как ни странно, он вообще не лауреат… И это при его феноменальной популярности».
Одна небольшая неточность – у меня никогда не было голубых глаз. Эта легенда «голубоглазенького» тянется еще со времен фильма «Овод» и в особенности после выхода на экраны страны «Сорок первого». Глаза у меня зеленые.
Помимо звания «Народный артист СССР» есть еще кое-какие награды, и главная из них, которую я ценю более других, – медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».
Но что значат все награды и звания?.. Ведь на могильном памятнике их не перечислишь. Правда, в недалеком прошлом на надгробии даже писали, с какого года усопший состоял в членах Коммунистической партии. Зачем? Ведь перед Богом все равны. В стародавние времена говорили об умершем: «Раб Божий…» Лучшее надгробие, на мой взгляд, у прославленного русского полководца в соборе Александро-Невской лавры Петербурга, где на плите лишь три коротких слова: «Здесь лежит Суворов».
Но я отвлекся. Далее по тексту Анатолия Байбекова:
«…В то время он был звездой первой величины! Вообще-то его хождение по свету обширно. Словом, полмира он обошел, но остаться где-то там, за тремя морями, отказывался. А посулы и предложения были заманчивыми. Наверное, зря отказался?»
Ну, нет! Я – наш! По-другому и быть не могло! Я с самого детства помнил слова блистательного российского генерала А. А. Брусилова: «Считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы это ни стоило. Скитаться же за границей в роли эмигранта не считал и не считаю для себя возможным и достойным».
Заканчивает Анатолий Байбеков статью обо мне словами:
«Нет теперь петербуржцев… Ну почти нет… Живет в Москве истинно петербургский киноактер – благородный джентльмен с голубыми глазами. Он – отец, дядя, дедушка; он – муж первой московской красавицы. Снимается редко. Пишет этюды, делает шаржи на коллег. Преемников в искусстве у него нет. Наверное, он последний из могикан?»
Детство
Я не знал своих ни дедушек, ни бабушек – третий сын в семье военного, кочевавшего в 1920-е годы по всей России. Мама всю жизнь была, как принято выражаться, домашней хозяйкой. Хотя получила блестящее образование в петербургской Мариинской гимназии при женском Институте императрицы Марии Федоровны с правом преподавания в начальных училищах и школах. Первые годы она учительствовала в Финляндии, тогда еще российской провинции, потом, кажется, в Петербурге. Но, после того, как она вышла замуж за выпускника известной петербургской Николаевской кавалерийской школы, ставшего красным командиром, ее спокойная жизнь кончилась. Вслед за мужем с моими старшими братьями Борисом и Глебом она оказывалась то в Персии, то в Туркестане, то на Дальнем Востоке – на самых окраинах России, где на границе не прекращались мятежи, разбои, конфликты.
Я появился на свет в 1929 году в городе Благовещенске на реке Амуре. Гражданская война давно кончилась, а отец все продолжал воевать. Теперь он гонялся, как тогда говорили, за бело-китайскими бандитами. Шли ожесточенные бои на КВЖД – Китайско-Восточной железной дороге, где он был командиром мангруппы – маневрированной группы, то есть кавалерийского разведывательного отряда.
Родители Олега Стриженова: Ксения Алексеевна и Александр Николаевич, г. Спасск. 1927 г.
Благовещенска не помню – мы оттуда уехали, когда я только-только вышел из грудного возраста. Зато следующее место жительства – Тифлис тридцать третьего года – до сих пор перед глазами. В памяти остался пыльный базар, ослики, сидевшие повсюду нищие и множество фруктов. Конечно, у четырехлетнего мальчика в первую очередь запечатлелись в Тифлисе река и фуникулер, который поднимал нас на гору Святого Давида, и как отец купил Глебу и Борису по оловянному пугачу и они салютовали из них над обнесенной решеткой могилой Грибоедова.
Тифлисские дома потом напоминали мне одесские – со своими балконами, глядящими во внутренний дворик.
В тот год, помню, в Тифлисе было солнечное затмение, поэтому, если мне изменила память в цифрах, то этот редкий случай может точно указать дату нашего пребывания в Грузии. Борис тогда коптил пластинку 9×12, которую выпросил у отца (у него был «Фотокор»), и через нее мы наблюдали за солнцем во время затмения.
Но военная жизнь заставила уезжать и отсюда, нас увозил из города на вокзал открытый зеленый «форд», а следом бежала любимая дворовая собака, которая очень привязалась к нашей семье. Бежала, пока не выдохлась и не отстала. Я долго плакал из-за разлуки с собакой, но ничего поделать было нельзя – в семье военного не то что животное, мебель и ту с места на место не перевозили. Брали лишь чемоданы и сундуки с самым необходимым.
Недолго прожили в Петергофе и Ленинграде, откуда переехали в Харьков – тогдашнюю столицу Украины, где на окраине города в районе знаменитого Лесопарка находилась пограншкола имени Ворошилова. Отец уже носил ромб в зеленых петлицах и имел звание комбрига. Несмотря на высокий воинский пост, он не пострадал во время «чисток». Наверное, оттого, что, как и все в нашей семье, оставался беспартийным. Партия – это всегда подозрительно. Зачем собираетесь? О чем шушукаетесь? Вдруг что-то плохое про вождей? Значит, нужна чистка рядов. Сталин убирал, главным образом, партийных, а отец был вне этого, его главным и единственным делом оставалась военная работа, он был настоящим службистом в хорошем понимании этого слова, военным профессионалом. «Я был строевой кобылкой, – говорил он в старости. – Кому я был нужен? В чем меня подозревать?» И правда, отработал честно положенное, а если надо – и сверх положенного, а потом – жена, дети, опять те же кони, любимая собака. Собаки у нас были на протяжении всей моей жизни, чаще немецкие белые шпицы.
В Харькове мы жили в военном городке на краю города, где размещались и штаб, и клуб, и жилые помещения. Вокруг на огромной территории казармы пограншколы, полигоны, даже свои воинские бахчи.
Я обожал вольную детскую жизнь и большую часть времени проводил на армейских конюшнях, где отец иногда находил меня спящим на соломе возле лошадей. В пять лет меня впервые посадили на коня и покатали шагом, вскоре я уже уверенно скакал на лошади. Конечно, под прикрытием (вернее, под страховкой) отца или коновода.
Когда пограншколу расформировали, мы переехали в Москву. С шестилетнего возраста я оказался жителем Замоскворечья, этого тихого уголка города, где когда-то происходило действие многих пьес А. Н. Островского. В некоторых из них мне впоследствии предстояло играть: «Правда хорошо, а счастье лучше» (Платона Зыбкина), «Без вины виноватые» (Незнамова), «На всякого мудреца довольно простоты» (Глумова), «Последняя жертва» (Дульчина).
Поселили нас на улице Коровий вал, сплошь до революции застроенной двухэтажными жилыми домами и конюшнями для конки – конно-железной городской дороги. Здесь еще витал дух дореволюционной купеческой Москвы. Это был район сплошных голубятен, в переулках паслись гужевые лошади, привольно себя чувствовали куры и свиньи. Кажется, не о начале XX века, а о моем Коровьем вале середины 1930-х годов говорит дореволюционный путеводитель: «Длинные деревянные заборы, бесконечные сады, ворота на запоре, за воротами псы, деревянные дома на каменных фундаментах. Целый день, особенно в будни, ни проезжего, ни прохожего. Ворота заперты, окна закрыты, занавеси опущены». С одной лишь разницей – на улицах детвора. И далеко не интеллигентского круга.
И вот я вышел в первый раз из дома на прогулку во двор. В белых носочках, сандаликах, береточке, матросочке. Настоящий маменькин сыночек из буржуйской семьи. Местные мальчишки тотчас решили, как тогда говорили, «подкинуть пачек» новоселу «из гнилых интеллигентов». Но вот тут-то они и наткнулись хоть и на опрятного, но закаленного спартанским военным воспитанием паренька. Я уже знал, что, если к тебе подступают группой, – бей сразу главного, бей первым. Удалось сбить его с ног, другие затихли, зауважали барчука в матросочке. Разревелся я уже дома от злости: купите мне, как у всех, косоворотку, и ходить я теперь буду только босиком.
И все дальнейшее замоскворецкое детство прошло в сатиновых трусах и простенькой рубашонке, которые не мешали носиться по улицам, бежать купаться на Москву-реку и драться с мальчишками чужих дворов. Чаще – из-за голубей. А зимой – это всегда лыжи на Воробьевке и в Нескучном саду и обязательно коньки. И еще излюбленное занятие: на валенках – гаги, крюком ухватишься за грузовик, другие – друг за дружку, и вот по переулкам за машиной вьются колбасой пять-десять мальчишек с криками и свистом.
Как мы гоняли по льду в парке Горького вокруг знаменитой «Девушки с веслом»! Об этой скульптуре потом писали как об образце безвкусицы. Но мне и моим сверстникам «Девушка с веслом» памятна как знак нашего детства. Рядом, в знаменитом шестиграннике, – ресторан и танцплощадка. А ближе к набережной – тоже незабываемая и тоже снесенная позже парашютная вышка.
Жизнь в парке Горького не умирала и в годы войны. Здесь устроили в сорок втором году трофейную выставку сбитых немецких самолетов, искореженных танков и артиллерийских орудий. Позже на набережной поставили наши пушки, из которых впервые салютовали нашим победам в сорок третьем году. Вскоре салюты стали привычными в нашей жизни.
Сейчас мне более грустно, чем в войну. Конечно, возраст дает о себе знать. Но не только в этом дело. Народ стал мрачнее и менее общительным. Оправдываются, что устают, жизнь бедная. Но мы, пацаны военного времени, и на работе уставали, и недоедали, а все равно не упускали случая покататься на коньках, повеселиться и даже поозоровать, мягко говоря.
Военная Москва – это не только траурные дни, но и праздники. Влюблялись, ходили на танцы в громадный по тем временам кинотеатр «Ударник», где в фойе выступали артисты и где мы слушали молодую певицу Капу Лазаренко. «Ударник» всегда был переполнен шестнадцатилетней молодежью, приезжающими в отпуск с фронта военными, командированными, московскими рабочими и служащими.
Сорок четвертый год. Весна. Танцы. Знаменитая и модная тогда «Линда». Потом кинофильм – то ли «Королевские пираты», то ли «Остров страданий». Последний сеанс закончился поздно, и я пошел провожать мою девочку Катю, жившую на Ордынке. Пока «напровожались», минула полночь – настал комендантский час. А мне идти аж от самого Балчуга!
Я знал по опыту, как избежать патрулей. Во-первых, надо быть начеку, чтобы вовремя услышать их шаги по пустынным мостовым. Во-вторых, нельзя идти по освещенным улицам.
Пробираюсь домой по темным переулкам. И вот почти у цели – во дворе кинотеатра «Авангард». Смотрю из-за угла… Калужская площадь освещена, и на перекрестке Житной улицы стоит военный патруль. Мне всего-то прошмыгнуть через освещенную полосу шириной десять-двадцать метров, там будет двор, который упирается в сараи, по крышам переберусь к своему дому. Мне там каждая досочка знакома.
Олег Стриженов с родителями. 1933 г.
Стою, жду. Думаю, как только отвернутся, побегу, меня не догонят – я моложе, мне ни винтовка, ни шинель не мешают. Наконец отвернулись. Я рванул, миновал уже ворота, вбегаю во двор и слышу – топот за собой. Припустился еще стремительнее, упал на скользком месте, тут же вскочил и вновь побежал. Слышу сзади выстрел, но в темноте им по мне не попасть. И вдруг винтовка загремела о землю – это мой преследователь поскользнулся там же, где и я. Теперь уж, если догонит, то будет бить долго и больно. Но я уже забрался на крышу сарая, спрыгнул в свой двор, влетел на второй этаж и, не включая свет, заперся в квартире. Потихоньку подхожу к окну, всматриваюсь. Патрульные стоят около нашего двора, переговариваются. Наверное, догадались, как я скрылся от них. Но наши ворота на запоре, перелезать не стали. А если бы и перелезли – где меня искать?…
Вот такой получился этюд к «Ромео и Джульетте». Когда я потом в училище играл Ромео, часто вспоминал о патруле, ведь у шекспировского героя каждое свидание и провожание – тоже опасность на каждом шагу, только виной тому не комендантский час, а ненависть между двумя семействами – Монтекки и Капулетти.
Эту опасность очень хорошо уловил режиссер фильма «Ромео и Джульетта» с участием популярного ныне голливудского артиста Леонардо ди Каприо. Удивительно, что никто из критиков не заметил открытие, которое есть в этом фильме. Обычно в последней сцене Ромео пьет яд, целует Джульетту и говорит: «С поцелуем умираю». Здесь же последняя фраза не произносится. Просыпается Джульетта, видит мертвого Ромео и говорит последний монолог. И здесь Ромео приоткрывает глаза, он еще не умер и все слышит, хоть его возлюбленная об этом не догадывается. И лишь когда она после своего последнего монолога целует его, Ромео произносит слова: «С поцелуем умираю». Это – отлично! Реально, жизненно!..
Но я отвлекся. Итак, вернемся во времена Великой Отечественной войны.
Насколько помню, бомбежки Москвы начались ровно через месяц после объявления войны.
До сих пор сохранился универмаг на Серпуховской площади. Впритык к нему, на Коровьем валу, находился известный кинотеатр «Спорт», построенный в 1914 году и носивший тогда имя «Великан». «Великан» – потому что имел самый вместительный зрительный зал в дореволюционной Москве. Но в конце тридцатых годов он уже уступал по размерам не только «Ударнику», но и соседнему «Авангарду», превращенному в кинотеатр из огромного храма.
Впритык к «Спорту» находилась пекарня. И в оба этих здания при первой же бомбежке угодила бомба. Стоявший поблизости универмаг остался цел, а кинотеатр и пекарню разнесло начисто, наутро всю улицу покрывало тесто.
Чуть дальше от Серпуховки к Павелецкому вокзалу разбомбили еще один кинотеатр – имени Моссовета.
Мы, мальчишки, в начале войны красили негорючей известкой чердаки, очищали их от рухляди, посыпали пол песком, ставили бочки с водой, рядом клали щипцы. Зажигалки падали на дома целыми кассетами. Мы хватали их щипцами и тушили в бочках с водой.
Иногда зажигалки не загорались. Если отвинтить у них головку, то высыпется серебристый порошок. Мальчишки поджигали его, часто вместе с неразорвавшимися снарядами. Так появлялись пареньки с оторванными пальцами.
В сорок третьем году поблизости от нас без объявления тревоги разорвалась торпеда, снесла несколько домов, где учились мои довоенные школьные товарищи. Потом долго на этом трагическом месте оставался пустырь.
Ныне на Коровьем валу многое изменилось: осталась только бывшая музыкальная школа да появилось новое длинное серое здание. На месте «Спорта» выстроили кинотеатр «Буревестник». Бо́льшая часть улицы, где кипела наша мальчишеская жизнь, теперь превратилась в подземный проезд.
Со временем к бомбежкам стали привыкать, иногда даже не просыпались от взрывов.
Шла трудная военная жизнь. Люди получали похоронки, ночами простаивали в очередях, чтобы отоварить продуктовые карточки. Но не покидало ожидание чего-то хорошего в будущем. Озверевших не было, а если бы и попались такие, народ быстро бы их приструнил. Людей сплачивало общее горе, и все становились внимательнее друг к другу, можно сказать, добрее и приветливее.
Несмотря на усталость, недоедание и холод в домах, жизнь у нас, замоскворецких пацанов, не прекращалась. Все так же бегали в наш «парчок» на каток, не расставались с «Шестигранником» и «Девушкой с веслом», с Воробьевкой, ее крутыми спусками и трамплином. Не надо думать, что этим ограничивался круг наших занятий. Мы успевали бывать и в театрах, слушать очень популярные в то время радиопостановки с участием известных артистов и читать.
Что у нас еще было в детстве? Конечно, кино. Фильмы мы смотрели по многу раз и знали их наизусть. Как-то спустя несколько десятилетий я признался кумиру наших детских лет Крючкову:
– Николай Афанасьевич, в году тридцать восьмом или тридцать девятом ты шел в модной кепке, в сером костюме и с орденом Ленина на груди в сторону Якиманки, а мы за тобой, пацаны, всю дорогу бежали с восторженными глазами. Уж не знаю, зачем ты туда шел…
– Я сейчас не упомню, за мной везде мальчишки бегали. А на Якиманку шел, наверное, к Петру Алейникову, он там тогда жил.
Бегали мы не только за Крючковым. Помню, раз в ВТО, уже много лет спустя, Яншин познакомил меня со знаменитым спартаковским вратарем Анатолием Акимовым (о нем написана книга «Вратарь республики»). Я, уже известный актер, говорю:
– Дядя Толя, если б вы знали, сколько раз мои руки были разбиты за право поднести ваш чемоданчик, с которым вы ходили на тренировки и игры.
У него аж слезы навернулись на глаза.
На Крымском валу, где позже выросло здание Центрального дома художника, в мои мальчишеские годы был деревянный большой стадион. Да и Крымский мост имел тогда совсем иной вид – квадратный, словно железнодорожный. Сколько мы на этом стадионе пропадали, болея за наш «Спартачок» и мутузя друг дружку, лишь бы подобраться поближе к знаменитым футбольным кумирам!
Голуби, спорт, вечные драки да кино – вот мое довоенное московское детство.
Кино, если нас не выгони, мы смотрели бы сутками. Тем более, кинотеатр «Авангард» был под боком. А там, где нынешний Театр эстрады, находился Первый детский кинотеатр. Бывало, засунешь портфель куда-нибудь под лестницу и вместо школы – в Первый детский.
Билеты были недорогие. Мне на них деньги давала мама. Но она строго следила за моими успехами в школе. Не дай боже принести «посредственно»!.. Даже за «хорошо» – обида. И это не из-за того, что из меня хотели вылепить примерного отличника. В нашей военной семье выбивалась из детей лень, мы и подметали, и бегали в магазин, и по другим поручениям.
– Ну почему ты обижаешься, – спрашивал я маму, – что я принес «хорошо»?
– Если бы ты был придурок, я бы к тебе относилась снисходительно. Но ведь это не так. Вот мне и обидно, что ты ленишься, историю знаешь на «хорошо», когда можно и надо на «отлично». Вот за это «хорошо» я тебе и не дам денег «на кино».
Это было суровое наказание. Да и самому мне было неприятно, когда выйдешь к доске, на тебя смотрят девочки, а ты стоишь, как идиот, и ни бэ ни мэ. Я и сам любил учиться. Любил литературу. Особенно увлекался географическими картами, любил делать цветные чертежи по физике и геометрии. Вообще со школьной парты я – человек увлекающийся, всегда должен быть чем-то занят. Вот только не всегда хватало усидчивости. Поэтому, наверное, правильно, что я пошел в артисты, а не в художники, хоть рисовал хорошо. Профессия артиста больше соответствует моему характеру, я человек подвижный, мне трудно долго корпеть над одной картиной, как то делают профессиональные художники. И наверное, в характере что-то есть особенное. Артистизм, что ли? Хочется больше появляться на людях, участвовать в игре. В профессии артиста нужны и навыки, и умение, и талант. Но для меня главное, что это – праздник. Надо сегодня играть в спектакле – я иду на праздник. Иногда с удивлением слышу от коллег по профессии на вопрос: «Куда идешь?» – такой ответ: «Да в театр, будь оно неладно. Играть сегодня, скорее бы отделаться».
Кинотеатр «Авангард» на Калужской площади
Непонятно. Если неинтересно, трудно, надоело – тогда уйди. Театр – твоя жизнь. А такой профессии, как артист кино, по-моему вовсе не существует. Моя профессия называется только одним словом – артист. Когда я смотрю старые фильмы, где играл, то удивляюсь: где я всему этому выучился? Да и вообще: я ли это? У меня создается ощущение, что кто-то взял и подарил мне особенную вторую жизнь, вел меня откуда-то сверху, как кукловод в причудливый искусственный мир.
Удивляюсь, когда слышу: «Как мне трудно давалась эта роль». Мне все давалось легко – я ходил на праздник. Конечно, я уставал, у меня были роли, требовавшие большой физической отдачи. Взять, к примеру, съемки «Сорок первого» в пустыне, изматывающие то холод, то жара. И песок, песок, песок… Но я все преодолевал с радостью. И тогда же понял – в кино дохляк не нужен, здесь место выносливому, хорошо знакомому со спортом человеку.
Надо еще вырабатывать в себе такие качества: терпеть и уметь ждать. Нет, не залечь спать, дожидаясь нужного часа. Да один только грим приходится хранить сутками! Надо уметь хранить в себе образ, который взялся воплощать. Начало утренней смены в 7.45, впереди 14 часов на натуре. А тебе играть только через десять часов – и играть самый трудный эпизод, где не соврешь, не схалтуришь. Так что, ожидаючи своего кадра, не подремлешь, не развлечешься игривой беседой про былую жизнь или анекдотом.
В перерывах нынешних съемок иногда слышишь: «Все! Камера остановилась. Отстрелялись!» – «Как? – удивляешься. – Ты отступал, что ли? Или в тире? Ведь ты на рабочем месте – на съемочной площадке. Надо работать над ролью, а не отстреливаться!»
Все, кого я видел на киноэкране до войны и во время войны, – мои любимцы, кумиры. Плеяда великолепных советских режиссеров создала фильмы, которые помнит не только мое, но и более позднее поколение. Мне удалось в юные годы увидеть и киноленты уже несколько позабытые, хотя во многом поучительные для человека, собирающегося стать профессиональным артистом.
На Коровьем валу, в глубине нашего двора – голубятня, за ней дом, а следующее здание НИКФИ – основанного в 1929 году Научно-исследовательского кинофотоинститута. Вход в него с Житной улицы, напротив кинотеатра «Авангард». Тогда еще был в сохранности павильон со стеклянной крышей, где снимали старое кино.
Здание НИКФИ – бывшая киностудия Александра Ханжонкова – родоначальника отечественного кинематографа, еще в 1908 году открывшего в Москве первую русскую кинофабрику и построившего несколько кинотеатров, среди них «Арс» на Тверской улице и «Дом Ханжонкова» на Триумфальной площади.
Я по возрасту не мог видеть начало русского кинематографа. Но, судя по воспоминаниям очевидцев, главным зрителем все же всегда считалась молодежь.
Кумиры кинематографа начала нашего века – Макс Линдер, Фред Астер и наши отечественные Вера Холодная, Мозжухин, Чердынин, Полонский, Максимов – были мне известны.
В НИКФИ работали взрослые девочки с нашего двора – проявщицами, архивистами, монтажницами. В сорок четвертом году, когда мы с мамой жили вдвоем, если не считать любимого шпица Миши, меня устроили в НИКФИ учеником механика. Я очутился среди стен, еще хранивших память об истоках русского кино. Вот теперь-то во время просмотров «для своих» удалось бесплатно увидеть массу старых картин. Сюжеты зачастую не отличались оригинальностью, да и сама картина длилась десять-пятнадцать минут. Оказалось, что на заре кинематографа очень любили мелодрамы.
Но самые замечательные фильмы, увиденные в пятнадцатилетнем возрасте, – старые киноленты с гениальным Чарли Чаплином.
В конце сорок четвертого года стали привозить трофейные картины. Я смог познакомиться со многими звуковыми зарубежными фильмами тридцатых годов.
В НИКФИ я проработал около двух лет и получил медаль с надписью: «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, пришлось расстаться с этим замечательным хранилищем киноискусства – надо было идти на трудфронт, как и всякому совершеннолетнему гражданину страны. Строил Павелецкий вокзал и прокладывал железную дорогу для пригородных электричек. Мама вплоть до сорок шестого года работала в научном зале библиотеки имени В. И. Ленина. Она тоже получила медаль «За доблестный и самоотверженный труд…». Правда, продуктов по карточкам я, как рабочий, получал больше, чем она. Но все мы, естественно, делили поровну на троих: маме, мне и шпицу Мише. Может быть, Мише, как младшему, перепадало и поболее.
Братья. Эшелоны на путях
Борис был на десять лет старше меня. В тридцать седьмом году ему исполнилось восемнадцать лет, и он уехал в Саратов учиться на летчика. Его выбор никого не удивил, большинство в семье Стриженовых – потомственные профессиональные военные. И не только по папиной линии. Мамин отец – гусар, полный Георгиевский кавалер, потомственный почетный гражданин Российской империи.
И все в семье очень высокие. Мы с Глебом – самые низкорослые, хотя во мне метр восемьдесят два сантиметра. В отце метр девяносто пять сантиметров, его брат Николай, полковник, ему под стать.
Может быть, поэтому многие мои роли кажутся мне биографичными. Говоруха-Отрок, например, напоминал мне отца. В фильме «Неподсуден» я пою песню почти в той же летной форме, что тогда была на Борисе, и представлял, что я – это он.
Брат Олега Стриженова – Борис. Курсант летной школы, г. Саратов. 1938 г.
Борис получил звание лейтенанта и в сороковом году приехал в отпуск в новом синем обмундировании, только что введенном в авиации. Незадолго до того Бернес спел знаменитую песню «В далекий край товарищ улетает…». Я был дружен с Марком Бернесом, часто мы менялись пластинками и записями. Больной, умирающий Марк лежал дома, когда я снимался в фильме «Неподсуден» и исполнил там песню «Птицы поют». Записал ее на маленький японский магнитофон и позвонил Бернесу.
– Марк, сейчас услышишь песню, навеянную твоими «Истребителями». Я в фильме так же, как ты тогда, сижу за фортепьяно и пою.
– Включай.
Я прокрутил мелодию до самого конца.
– Мне понравилось, – сказал он. – По-моему, будет шлягер.
Это был наш последний разговор. Скоро Марка Бернеса не стало. Но песни его продолжали жить, и профессия летчика, о которой он поет, по-прежнему оставалась очень популярной.
Помню, как мы с Борисом пошли в парк Горького и он заставил меня в первый раз прыгнуть с парашютной вышки, что придало мне еще больше авторитета среди пацанов с нашего «Коровячьего».
В сорок втором году, в ноябре, Борис погиб под Сталинградом, и его похоронили у деревни Бекетовки. Впоследствии прах брата перенесли на Мамаев курган.
Осенью шестьдесят второго года мы с братом Глебом играли двух пленных офицеров в «Оптимистической трагедии». Есть такой кинотермин – «режим». Это короткий промежуток времени для съемок вечером, когда надо закат поймать, или утром – не упустить рассвет.
Режиссер Самсонов все подготовил к «утреннему режиму». Нас с Глебом привели на площадку. Берег реки весь усыпан черными точками – матросами: дремлют в ожидании, когда понадобятся в массовке. Оператор Монахов – возле камеры и по первой команде готов начать работу. Пять часов утра, ждем рассвета. Утренняя прохлада заставляет матросов лежать съежившись.
Подходят к нам с Глебом два ассистента режиссера, зачерпывают из ведерочка водички на ладошки и начинают хлопать нас по плечам.
– Чем это вы занимаетесь? – удивляюсь.
– Но ведь сейчас начнут снимать, как вы вышли из реки и стоите мокрые, – растерялись ассистенты.
– Вот и отойдите от нас.
– А как же создать видимость, что вы мокрые?
– Создадим, увидите, что будет.
Когда ассистенты отошли, говорю брату:
– Когда моргну тебе и скажу «пошли», делай как я.
Встает солнце – начало «утреннего режима». Холод. Знобит.
– Готов? – спрашиваю у оператора.
– Готов.
– Самсон, – обращаюсь к режиссеру, – поднимай матросов-то.
– Матросы, вставайте! – кричит Самсонов.
Они зашевелились, нехотя принимают вертикальное положение.
– Пошли, – коротко бросаю Глебу.
Мы рванули к реке и с ходу в одежде ныряем в студеную утреннюю воду. Матросы смотрят, оживились, удивлены, что актеры принимают с утра пораньше холодный душ. Массовка перестала походить на спящее царство.
Раздалась команда «мотор», матросы побежали нам навстречу, а мы стоим и всем видно – только что вышли из реки, вода стекает с лица, с одежды. И мы себя чувствуем по-настоящему офицерами времен Гражданской войны, а не современными паяцами, которых хотели похлопать мокрой ладошкой по плечам.
Отлично с Глебом работалось не только в «Оптимистической трагедии», но и в «Миссии в Кабуле», где мы играли врагов, двух антиподов. У него была интересная психологическая роль, и сыграл он ее удивительно тонко.
Глеб, как и я, был одержимым человеком. Во всем!
Однажды встретил нашего замечательного борца Алексея Ванина, который играл в фильме «Чемпион мира». Они дружили с братом.
– Слушай, – спрашивает, – Глеб с какого года был? Я не верю официальным бумагам, сам себе исправил дату рождения, чтобы попасть на фронт.
– Он такой же, как и ты, – отвечаю, улыбаясь. – В двадцать пятом родился, а переправил на двадцать третий.
В начале Великой Отечественной войны Глеб ушел на фронт. Помню, он приезжал на побывку домой в черной шинели, в тельняшке. Значит, служил в морской пехоте. Шел сорок третий год. Брат как-то перед отъездом привез с собой щеночка – кудрявый-прекудрявый маленький клубочек и только три точечки на нем видны – глаза и нос. Мы его назвали Мишей, шерсть со временем разгладилась, и щенок вырос в умного немецкого шпица.
После нескольких дней домашней жизни Глеб вновь уехал на фронт, куда-то в район Херсона. Вскоре его контузило, он попал в госпиталь, после чего демобилизовался.
Еще подростком Глеб пробовал свои силы в разных театральных студиях. А теперь пошел работать в театр Балтфлота, находившийся в Либаве. Еще шла война. Позже перешел в Ульяновский театр, а оттуда – во Владимирский. Играя на сцене, одновременно завершил среднее образование в школе рабочей молодежи.
Я очень любил брата и постоянно думал о нем, хотелось, чтобы он был рядом. Когда я заканчивал среднее театрально-художественноее училище, узнал, что при Театре Революции существует МГТУ – Московское городское театральное училище. Там учились Вера Васильева, Иван Переверзев, преподавали ведущие мхатовские актеры. Мечтал: вот бы Глебу туда поступить!
Летом сорок восьмого года мама с папой уехали к дяде, а мы с Мишей – не оставишь же собаку дома в одиночестве – рванули во Владимир. Оказалось, что Глеба нет в городе, он с театром уехал на гастроли в районный центр Гусь-Хрустальный. Взял Мишу под мышку – и в поезд. Намордника нет, кондукторы пристают – с собаками не положено ездить. Я убеждаю их, что Миша – ученый цирковой пес, везу его на гастроли. То ли поверили, то ли пожалели Мишу, но из поезда нас не высадили. Добрались до Гусь-Хрустального поздно ночью. Та же история в местной гостинице – не пускают с псом. Опять убеждаю, что это не обыкновенный пес, а артист, и в конце концов пускают до утра.
Переночевав, пошли в театр. Глеб был на репетиции. Я побыл с ним несколько дней, потом вместе вернулись в Москву. Когда приехали родители, всей семьей уговорили Глеба пойти в МГТУ. Он не сразу согласился, хотя очень хотел учиться, ему, фронтовику, казалось неловким сидеть за одной партой со студентами на пять-шесть лет младше его.
Глеб поступил сразу же. Через год, когда я стал студентом Вахтанговской школы, МГТУ расформировали и брату предложили, как самому талантливому на курсе, перейти в Школу-студию МХАТ, где его учителем стал Василий Осипович Топорков – великий мастер.
Высшее образование мы получили в один год. Я уехал в Таллин, он – в Иркутск, где сыграл прекрасную роль Геннадия в драме Бориса Ромашова «Огненный мост». Иркутские старожилы до сих пор помнят его и отзываются с восторгом. В Иркутск-то я ему и дал телеграмму из Ялты, где снимался тогда в «Оводе»: «Пора возвращаться домой. Жду тебя в Ялте». И вот в пятьдесят четвертом году мы снова оказались вместе.
Москве Глеб устроился сначала в Театр транспорта (теперь Театр имени Н. В. Гоголя), позже в театр Плотникова (на Таганке).
Когда я снимался в Индии в роли Афанасия Никитина, одновременно надо было сделать несколько эпизодов на «Мосфильме». Думали: кого взять мне дублером? И решили – Глеба. Ему пришелся впору запасной костюм Афанасия Никитина, и он за меня снялся в общих планах. Завязались знакомства с работниками «Мосфильма». И в пятьдесят седьмом году Глеба пригласил Володя Басов в картину «Необыкновенное лето». Это была его первая самостоятельная роль в кино – Игната Ипатьева.
Они сдружились с Басовым, и года полтора спустя Глеб вновь снялся в его фильме «Жизнь прошла мимо», где сыграл Петьку-артиста. Следующей его работой в кино стала роль Максимова («В начале века», 1961 г.). Потом брат сблизился с Аловым и Наумовым и участвовал у них в фильме «Монета» по новелле А. Мальца, где сыграл безработного американца. Далее играл Рязанцева («Третий тайм», 1963 г.), Константина Метелева («Сорок минут до рассвета», 1964 г.), Летягина («Короткое лето в горах», 1964 г.), Дулькевича («Ракеты не должны взлететь», 1965 г.), Анатолия («Я вижу солнце», 1966 г.), Франкенберга («По тонкому льду», 1966 г.), служителя цирка («Арена», 1967 г.) и множество других ролей.
Брат – Глеб. Заслуженный артист РСФСР. Школа-МХАТ СССР
Глеб был очень тонким артистом, глубоким и внутренне сдержанным. Мне кажется, что он, если бы захотел, мог бы стать замечательным театральным режиссером. Но жизнь и работа так закручивают человека, что порой невозможно высвободиться, бросить одно, чтобы взяться за что-то другое. Он ушел из жизни в шестьдесят лет.
Семья у нас была дружная, родители и братья до сих пор перед глазами стоят. Когда начались потери, я стал меняться характером, из разбитного парня превращаться во взрослого мужчину. Сначала погиб Борис, потом уходили из жизни мама, папа, Глеб. До сих пор помню и нашего Мишу. Это было дивное существо. Настоящий друг.
У меня было как бы два воспитания – благородное домашнее, главная роль в котором принадлежала маме, и уличная босяцкая жизнь со своим кодексом чести.
С большой радостью и гордостью родители отнеслись к моему успеху в кино. Соседи останавливали их на улице, расспрашивали о сыне. Где бы ни находились, они испытывали гордость за меня. Отец как-то приболел и попал в военный госпиталь имени Бурденко.
– Олег, я знаком со многими людьми и в высоком чине, – рассказывал он, когда я его навестил, – а на меня теперь ходят смотреть, как на твоего отца. Ну, ничего, благодаря твоей популярности становится шире и круг моих знакомых. Ты – мамина гордость… Ну, и моя, конечно, тоже, – добавил он, обнимая меня.
Вернувшись из Индии в пятьдесят седьмом году, я постоянно слышал от чиновников разных рангов одну и ту же фразу:
– Надо бы вам вступить в штат «Мосфильма».
– Надо так надо, – отвечаю. – Только хотелось бы иметь и свою жилплощадь. Я устал скитаться по гостиницам.
Вскоре мне выделили двухкомнатную квартиру на Мосфильмовской улице в только что построенном доме, окнами на улицу Пудовкина. Я стал штатным работником «Мосфильма», но часто навещал родителей на Коровьем валу, рассказывал о своих новых работах и просто отдыхал в кругу семьи. Родительский дом «на Коровячьем» я называл «хутором» и очень любил его. Радовался моему приходу и шпиц Мишка и всегда подпрыгивал аж до потолка.
Вспоминаю нашу встречу с отцом во время войны. Первая половина сорок третьего года. Ранним утром, отпросившись, мама – с работы, я – со школы, спешим на Курский вокзал. Отец вез на фронт бойцов свежего пополнения и сообщил, что остановятся они ненадолго.
Еще по пути мы с мамой решили, что ничего не расскажем отцу о полученной о Боре похоронке. На отце лежала большая ответственность за людей, и не стоило его расстраивать.
Добрались. На путях стоит эшелон, рядом – другой. Длинный коридор между ними заполнен людьми – здесь не пройти. Все поспешно говорят, прощаются с родными и близкими. Те, у кого никого нет в Москве, смотрят из вагонов, дымят махоркой. Гармонист что-то тихо наигрывает.
Мы недолго посидели с отцом в штабной теплушке посреди мешков с сахаром и сухарями. Отец усиленно угощал нас этим с «чайком» и расспрашивал о московской жизни. Но вот вагоны дернуло, прокатился раскат, напоминающий пулеметную очередь. Люди засуетились – последние объятия, поцелуи. Бойцы стали запрыгивать в вагоны. Эшелон медленно двинулся, и мы с массой других людей провожали его взглядом. И вдруг послышалась песня, как бы боевой призывный марш: «Вставай, страна огромная…» Бойцы поют, остающиеся тоже, продолжая идти вслед удаляющимся вагонам. Все представляют собой как бы единый фронт. «Идет война народная, священная война!»
Вернувшись домой, мы с мамой долго плакали.
Мой лицей
Летом сорок шестого года я стал отчаянно думать об учебе. Умея хорошо рисовать, решил получить среднее образование в театрально-художественном училище. Оно находилось на Ильинке, тогда улице Куйбышева, а учебные мастерские – в Ветошном переулке около ГУМа.
Поступил на художественно-бутафорский факультет, который готовил театральных художников. Еще были гримерный, костюмерный, электротехнический факультеты. Училище выпустило немало первоклассных специалистов. Со мной одновременно заканчивал электротехнический факультет замечательный оператор телевидения Володя Каракосов, там же учился великолепный кинооператор Левон Паатешвили. Кто-то потом стал скульптором, кто-то живописцем, как художник с Алтая Геннадий Брунов, живущий в Барнауле. Брунов позже окончил ленинградскую Академию художеств, где учился на одном курсе с Ильей Глазуновым у Бориса Владимировича Иогансона.
Училище давало прекрасную подготовку и даже, может быть, более широкое образование, чем в специализированных театральных актерских школах. Здесь часто преподавали те же педагоги. Например, историю искусства читал чудный педагог Борис Николаевич Симолин. Когда он потом меня увидел студентом вахтанговской школы, рассмеялся: «Я и тебя прекрасно помню, и то, что у тебя в училищном дипломе по моему предмету пятерка. Считай, я ее перенес и сюда, можешь не посещать моих лекций». «Борис Николаевич, – отвечаю, – вы настолько интересно преподаете, что я с радостью еще раз послушаю и про египетские пирамиды, и о героях Древней Греции…»
Позже, когда впервые посетил Индию и проработал там почти полгода, мне казалось, что я здесь уже бывал прежде. В этом ощущении виновен Симолин – так наглядно и доходчиво он рассказывал об искусстве и религии Индии, что образ этой древней страны уже был запечатлен в моем воображении задолго до поездки туда.
Кроме того, Борис Николаевич читал нам историю материальной культуры – предмет, который не входит в программу сугубо артистических школ. Мы, затаив дыхание, слушали его рассказы об особенностях древнеримского быта, мебели эпохи Людовика XIV, оружия немецких рыцарей. Будущие театральные декораторы, гримеры, костюмеры получали на этих уроках не только общие знания, но и сугубо профессиональные, ведь им предстояло на сцене создавать обстановку определенного времени. Мы с научной точностью рисовали римские тоги, средневековые доспехи, обстановку боярского дома.
Конечно, были у нас и общеобразовательные предметы, но главное внимание уделялось тому, что станет в будущем необходимо в первую очередь – истории русского и западноевропейского театров, рисованию, скульптуре, гуманитарным наукам.
На съемках фильма «У главного визиря». Олег Стриженов и Притхви Радж. Индия. 1957 г.
Мы с Геннадием Бруновым были самые младшие на курсе. Остальные – люди, пришедшие с фронта. Все три учебных года я имел возможность общаться с поколением, испытавшим все ужасы войны, но не сломленным духом. Увешанные орденами, кто без ноги, кто с осколком в груди, они обладали уже глубоким опытом жизни, и учиться с ними на равных, завоевать их уважение с первых дней стало моей потребностью. Фронтовики пришли в училище с необузданной жаждой знаний, желанием наверстать упущенное за годы войны. Я невольно тянулся за ними. И вскоре стал замечать, что они меня зауважали, приняли как бы за своего. Почему? Может быть, за умение быстро работать. Я с малых лет был стремителен в делах, и в труде, и в учебе жаждал быстрой победы. Например, всегда ощущал легкость руки. Геннадий Брунов, когда мы спустя много лет навестили его в Барнауле, рассказывал моей жене:
– Сдаем вступительный экзамен в училище. Задание – написать акварелью натюрморт. Прошло совсем немного времени, все только приступили к работе. Вдруг вижу: какой-то светловолосый паренек встает и направляется к выходу. «Вы куда?» – спрашивает экзаменатор. «Пойду покурить». – «А не боитесь, что не успеете закончить работу»? – «А я уж закончил». Этим пареньком был Олег.
Уважали меня фронтовики и за хорошие знания, особенно по литературе. Здесь уж главная благодарность маме и нашей домашней библиотеке. Есенин, Бальмонт, Мережковский, З. Гиппиус, Северянин, Саша Черный – с их поэзией, которая тогда в Советском Союзе была под запретом, я познакомился по дореволюционным сборникам, хранившимся в нашем доме. Любовь же к Франсуа Вийону, Байрону, Ростану, Полю Элюару, Рембо привила мама, которая прекрасно знала французский и немецкий языки. Она иногда читала мне наизусть отрывки из корнелевского «Сида». Наверное, помнила еще с гимназических лет.
Конечно, в училище мы не только учились, но и веселились, особенно любили всенародные праздники. И не только из-за танцев и гулянок до утра. Накануне 1 Мая и 7 Ноября нам открывалась возможность подзаработать деньжат. Геннадий Брунов подрабатывал сторожем в училищной мастерской, где и жил. К праздникам мы получали заказы писать лозунги на красных полотнищах и шли выполнять халтурку к нему. Я, кроме того, выполнял особую работу – рисовал сухой краской портреты Ленина и Сталина. Дело это далеко не простое, ведь каждый портрет скрупулезно рассматривали партийные чиновники, прежде чем дать команду выплатить гонорар. Получалось, без приработка я не сидел. Часть денег отдавал маме, чтобы она со шпицем Мишей устроила праздничный стол. Это, конечно, помимо стипендии. Стипендию надо приносить домой. Не дай-то бог получить «посредственно» и лишиться ее. А для личной жизни: крутись, подрабатывай.
Иногда даже могилы оформлял. На заводе сделают из жести простенький памятник с крестом. Берешь эту железяку, очищаешь от ржавчины и масляной красочкой расписываешь под мрамор. Потом крест бронзовкой красишь, нужные слова пишешь. Крест горит при сдаче-то. Хозяин платит денежку. Конечно, после нескольких дождей крест поблекнет, но надпись и «мраморная расцветка» останутся надолго. Кроме того, большим подспорьем были работы по восстановлению ВДНХ.
Училищную жизнь всегда вспоминаю с радостью. Люди, с которыми общался, оставались милыми и доброжелательными, на устах часто мелькала улыбка, а в глазах сияла надежда на лучшее будущее. Главное – никогда не терять веру!
Уже позже я сыграл сложный образ Треплева в чеховской «Чайке» во МХАТе. Трагедия Треплева состоит в том, как он сам говорит: «А я не верую и не знаю, в чем мое призвание». Так вот, несмотря на трудную жизнь и послевоенную разруху, мы все-таки верили.
Верили!
Человек с ружьем
Летом 1949 года меня вызвали в военкомат – подошло время служить в армии.
– Какая семья! Все военные! – говорит районный военком. – Я из тебя настоящего офицера сделаю, в лучшее военное училище пошлю.
А я только что собирался поступать в театральную школу. Я себя мог представить только в одной профессии – артиста. И вдруг, когда дома находилась только мама, постучал солдат с ружьем и, не застав призывника, передал повестку, чтобы я срочно явился в военкомат.
– Мама, я пока дома появляться не буду, – говорю. – За меня не волнуйся. Будут приходить опять, отвечай, что не знаешь, куда уехал. Как сдам экзамены, вернусь.
Тогда уже действовал закон, что студентов высших учебных заведений в армию не забирали.
Я нашел, где мне ночевать – в сарае у товарища, и стал готовиться к экзаменам. Поступать решил в Щукинское училище, где преподавали лучшие педагоги и курс набирал Толчанов.
Июльским утром отправился на собеседование. Толпившиеся в коридорах юноши и девушки со страхом рассказывали, что сегодня беседует с поступающими сам Захава и многих сразу заворачивает, не допуская до экзаменов.
Уже не новичок в театральном мире, я понимал, что для поступления нужны тексты, по которым сразу заметно, что ты эмоциональный человек. У меня был подготовлен хлесткий отрывок из поэмы Сельвинского «Ров», вернее, монтаж из нескольких отрывков.
Вхожу в кабинет. За столом два человека. Один – красно-рыжий, с длинными волосами, бакенбардами и худой, как скелет. Я его потом часто рисовал. Вот она, думаю, эта страшная Захава. Рядом с ним сидит румяненький толстячок. Этот, решил, для меня не важен. В коридорах говорили, что обращаться надо к Захаве. Ну, думаю, я ему «Ров» сейчас покажу! Всю эту трагедию со смертью друзей и обещанием отомстить за них. Прочитал со слезой, с нервом.
– Стоп, – говорит маленький толстенький человек.
Он-то и оказался Захавой. А рыжий, худой – училищный завхоз, про которого ходило множество шуток, вроде: «Дает талоны на обед Исаак Давыдыч Меламед». Вообще в училище оказалось много смешного, вплоть до фамилий. Например, пожарник имел фамилию Горелов, а главный осветитель на учебной сцене – Слепой.
Настоящий Захава мне и говорит:
– Вы куда-нибудь, кроме нас, поступаете?
– Нет.
– Это хорошо, – улыбается.
– Чего ж хорошего? Если к вам не попаду, что делать-то? Ведь за мной уже человек с ружьем приходил.
А у них шел тогда спектакль Погодина «Человек с ружьем».
– Что за человек с ружьем? – рассмеялся Захава.
– Самый натуральный, в армию забирать. Военком говорит: я из тебя отличного офицера сделаю. А я в артисты хочу. Если к вам не поступлю, не знаю, что тогда…
Дипломный спектакль Олега Стриженова – пьеса «Правда хорошо, а счастье лучше» по А. Н. Островскому. Актер исполнял роль Платона Зыбкина. В центре – Народный артист СССР, профессор, И. М. Толчачов. 1953 г.
– Вы у нас будете учиться, – обещает Захава.
– Дело-то не терпит, я на Даниловской заставе у товарища ночую, чтобы дома не показываться.
– Что же нужно?
– Если вы меня возьмете, то дайте сразу справку, что я – студент высшего учебного заведения. Тогда меня военком оставит в покое… Да и мама с Мишкой с ума сходят.
– А кто такой Мишка?
– Собака любимая.
– И что за порода?
– Шпиц, немецкий.
– О! Аристократ… Не волнуйтесь, сейчас мы вас спасем от человека с ружьем.
Поднялись в канцелярию, и я получил справку, что являюсь студентом Театрального училища имени Б. В. Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова.
– Отдыхайте до десятого августа, – распорядился Захава.
– Почему до десятого?
– Будут все педагоги. Должен же я им вас показать.
Десятого августа, в день своего двадцатилетия, прихожу. На сцене большого гимнастического зала стол, за ним вся училищная профессура – Захава, Толчанов, Мансурова, Москвин, Синельникова, Кольцов – ученики Вахтангова.
Нас запускали пятерками. Я опять прочитал Сельвинского, добавил басню Крылова «Вельможа», отрывок из «Молодой гвардии» Фадеева.
На следующий день нашел свою фамилию в списке принятых. Майор в военкомате воскликнул: «Оплошал я, такого офицера упустил!»
Я шел в театральное училище совершенно сознательно с единственной целью – стать артистом. Притом с уверенностью, что со временем буду известным. Я фанатично любил театр. Не было ни одного спектакля на московской сцене, которого бы я не видел в те времена.
Иосиф Моисеевич Толчанов считался лучшим педагогом, он и Борис Евгеньевич Захава – ближайшие ученики и соратники Вахтангова, уже преподавали, когда учиться в училище в шинели и обмотках пришел Щукин.
Для меня педагог – наставник, который выше тебя на сто голов по образованию, уму, опыту, знаниям. Не обязательно он должен оказаться талантливым актером – это будущая профессия его ученика. К нашему счастью, профессор Толчанов был и прекрасным актером, и человеком большой культуры. Он приходил к первокурсникам и говорил: «Здравствуйте, дети». На втором курсе: «Здравствуйте, молодые люди». На третьем: «Здравствуйте, студенты». А на четвертом выпускном: «Здравствуйте, коллеги». И ободрял нас: «Первые тридцать лет в нашей профессии будет очень трудно. Но зато потом… Потом будет еще трудней».
Сейчас я с ним согласен – становится все труднее. Чем ты более знаменит и талантлив, тем чаще и сам, и другие предъявляют к тебе все более высокие требования. От тебя ждут чего-то необыкновенного. Есть артисты, которые живут ровно и легко, от них ничего особенного не ждут, жизнь их катится сама собой. Во МХАТе о таких говорили: «Ну, у этого искусство проверенное».
Меня часто спрашивают: «Ты, когда идешь на сцену, волнуешься или нет?» Да как артист может не волноваться! Нет, я не боюсь публики или своей роли. Иначе – зачем выходить? Но как не волноваться, когда все глаза прикованы к тебе и ты словно жаришься на раскаленной сковородке?.. Это волнение – какая-то особая приподнятость.
Чему только нас не учили! Общеобразовательным дисциплинам, фехтованию, ритмике, танцам, игровым видам спорта. Наверное, только один предмет все без исключения не любили – политэкономию. К марксизму-ленинизму относились лучше – нравился преподаватель, симпатичная женщина, завуч, переживавшая за каждого из нас, как родная мать.
В политэкономии самое страшное – конспектировать громадное число научных трудов. Первые слова, которые слышишь на экзамене: «Покажите ваши конспекты». И если не окажется с собой пачки толстых тетрадок, на экзамен не допустят.
– Завернули назад, – пасмурно вздыхает один из студентов.
– Почему? – интересуюсь я. – Не было конспектов?
– Есть, но почему-то не понравились.
Он протягивает несколько тетрадок. Листаю и догадываюсь о причине преподавательского неудовольствия.
– У тебя каждый конспект другой рукой написан. Они сразу и распознали, что их писали разные люди.
Неудачник, понурив голову, отправляется исполнять тяжкий труд – переписывать все одним почерком.
Больше всего мы любили репетиции спектаклей. Каждое полугодие студент должен был самостоятельно поставить на сцене пьесу или отрывок из нее. Тебя оценивают – плюс или ничего.
Училище размещалось в специально построенном для него в 1930-х годах здании в Большом Николопесковском переулке. Здесь же находился театр со зрительным залом на двести шестьдесят мест и с оркестровой ямой. Каждую субботу и воскресенье мы играли здесь спектакли и получали первые аплодисменты и комплименты от публики.
У меня всегда хватало работы – мальчики в училище были в дефиците, особенно в амплуа героя. Я часто подыгрывал девочкам выпускного курса то тургеневского героя, то чеховского.
Негласно считалось, что выпускной четвертый курс – ульяновский, на нем учился Михаил Ульянов; третий – быковский, Ролана Быкова, второй – яковлевский, Юрия Яковлева, первый – мой, стриженовский.
Ролан Быков заболел накануне его дипломного спектакля по пьесе Александра Корнейчука «Калиновая роща». Профессор Толчанов, поставивший этот спектакль, попросил меня выручить старшего товарища, и я сыграл за него комедийную роль – Кандыбы.
– Вот этого артиста я с ходу в любой театр возьму, – сказал председатель экзаменационной комиссии Владимир Михайлович Петров.
– Это студент второго курса, придется с ним повременить, – возразил Толчанов.
Он вообще ко мне благоволил и, входя в аудиторию, говорил: «Здравствуйте, молодые люди и Олег Александрович».
В училище я играл Петруччио в «Укрощении строптивой» и Ромео в «Ромео и Джульетте» Шекспира, Самозванца в «Борисе Годунове» Пушкина, Емелю в водевиле Ленского «Простушка и воспитанная», Майорова в «Глубокой разведке» А. Крона. Мы выступали не только на своей сцене, но и в ВТО, ЦДРИ, на Всесоюзном радио.
Многие преподаватели помогали нам в наших дебютах. С благодарностью вспоминаю Зою Константиновну Бажанову, жену замечательного поэта Павла Антокольского, поставившую со мной «Ромео и Джульетту» и «Бориса Годунова».
Большинство училищных педагогов одновременно выступали на сцене Театра имени Евг. Вахтангова. Получалось, что, к примеру, Толчанов днем преподает нам, а вечером играет царя Ивана Грозного, а мы участвуем в массовке, изображая бояр, опричников и стольников.
Среди преподавателей любили сына великого Ивана Михайловича Москвина – Владимира Ивановича. Ролан Быков (он учился двумя курсами старше меня) был парнем въедливым, все приставал к Москвину: «Владимир Иванович, Владимир Иванович! Что такое подсознание?» Видно, много читал Станиславского. Москвин отвечает: «Знаешь что, Ролик. Ты пойди в библиотеку. Чаще туда ходи, читай книги, много книг. Сначала приобрети сознание. Глядишь, под ним чего-нибудь и появится».
Мы с Москвиным никогда вместе не работали.
– Чего меня не берете? – обижаюсь.
– Зачем я тебе нужен? Я беру тех, кого надо спасать от исключения, эмоции в них разбудить. А у тебя их и так через край, тебе, наоборот, остудить темперамент нужно.
Олег Стриженов в роли Ромео. Педагог – З. К. Бажанова
Владимир Иванович творил чудеса. Учились у нас девочки, скромненькие, еще в школьных передничках. Какой у них темперамент?
Они и о жизни-то только по книжкам знали. Москвин брал их под свое шефство и уводил на учебную сцену. Там они кричали, бегали, чуть ли не мебель ломали, и в конце концов он вытягивал их с двойки на четверку, а то и пятерку. А мне говорил:
– Ты Толчаныча слушай. Тебе сейчас не эмоции нужны, а мысли. Ты посмотри, он со своим небольшим росточком и тихим голосом играет Арбенина, Ивана Грозного. Умный артист! Великая техника.
Был у нас свой зритель.
– Мы с сестрой были твоими фанатами, – вспоминал как-то Миша Державин, живший в юные годы по соседству с нашим училищем, – на все твои спектакли ходили.
На училищной сцене я пожинал первые плоды успеха, пока еще в узком кругу почитателей. Но это уже была практика. Приобретался опыт. Так что не такими уж «зелеными и неумелыми» мы выходили из училища. Вахтанговских выпускников всегда любили и ценили за их профессионализм и самостоятельность. Теперешние выпускники говорят: «Мы – из Щуки!» Мы себя называли: «Щукинцы-вахтанговцы».
Когда наступали экзамены, мы группировались по нескольку человек, чтобы заниматься вместе. Мой родительский дом был гостеприимным, и нам разрешали собираться там, уступая на время занятий самую большую комнату, служившую отцу кабинетом.
На письменном столе у отца стоял полый внутри гипсовый бюст Ленина. У нас с Мишей была игра: я брал кусочек сахара, дразнил собаку, а потом приподнимал бюст и прятал лакомство под него. Миша тычется носом вокруг Ленина, но сахара достать не может. Тогда садится рядом на стул и стережет добычу. Стоит мне протянуть руку к бюсту и сказать: «Сейчас возьму», он тотчас начинает рычать.
После нескольких сеансов Миша так привык к нашей игре, что, даже когда под бюстом было пусто, все равно сторожил Ленина.
Когда пришли ребята готовиться к экзамену по марксизму-ленинизму, я решил их удивить.
– У нас пес очень любит философию, он – прирожденный марксист. И беспредельно предан Владимиру Ильичу.
– Как так? – удивляется самый недоверчивый из ребят.
– Если тебе штанов не жалко, можешь проверить.
– Хохмишь?
– Тогда подойди к дедушке Ленину и приподними его.
Он подходит к столу, протягивает руку к бюсту. Миша, решив, что покушаются на его сахар, зарычал, тяпнул воришку за штанину и потянул в сторону от стола. Пришлось срочно спасать недоверчивого товарища и его изрядно пострадавшие штаны.
– Кто еще хочет проверить Мишину преданность? – спрашиваю.
Смельчаков не нашлось, и в дальнейшем ребята опасливо отдергивали руку, если она оказывалась рядом с бюстом Ленина. Миша доказал свою идеологическую выучку.
Дома у нас, конечно, не могло быть икон – отец военный человек и никогда не заговаривал о Боге. Зато мама всю жизнь оставалась верующей. В конце войны на воскресные и праздничные службы она ходила в церковь Иоанна Воина на Якиманке, что напротив французского посольства.
Я читал Библию, но не соблюдал ни православных постов, ни церковных обычаев. И вот закончил вахтанговскую школу и собирался уезжать в таллинский Театр русской драмы.
– Сынок, – говорит мама, – ты родился на Амуре, где не было поблизости ни одной церкви. Ты один из братьев остался некрещеным. У меня на душе от этого как будто тяжкий грех… Сможешь ты сейчас, – продолжает она робко, опасаясь отказа, – принять крещение?
– Мамочка, – отвечаю, – разве ты во мне сомневаешься? Я и сам об этом думал. Давай 10 августа, в день моего рождения, и сходим в церковь. Я с радостью приму крещение.
Заветная мамина мечта осуществилась в Ризоположенской церкви на Донской улице, и с тех пор я стал носить православный крест и нисколько не боялся, что меня за это начнут преследовать парторги и профорги.
Человек должен всегда верить! И я верю во Всевышнего. Долгие годы религию пробовали искоренить, и лишь война принесла облегчение верующим. Люди потянулись в храмы, ведь у каждого в семье война унесла близких. Ставили свечки за упокой, заказывали священнику панихиды.
Помню, МХАТ приехал на гастроли в Одессу, и я пошел на пляж. Подходит ко мне один шибко партийный артист и нагло советует:
– Ты снял бы крест.
– Ты что, дерьмо! – разозлился я. – Тебе же никто не советует рвать партбилет и выходить из КПСС? Ты лучше не лезь в чужую душу. А то можешь по ушам схлопотать!
Потом эти недавние советчики посжигали свои партбилеты и спешат в храмы постоять со свечечкой перед телекамерой.
В сорок девятом году, когда я только что поступил в училище имени Щукина, по актерским школам часто ходили ассистенты режиссеров, подбирая среди студентов кандидатов на небольшие роли. И вот меня пригласили участвовать в картине о футболе «Спортивная честь», которую снимал народный артист СССР Владимир Петров, режиссер нашумевших фильмов «Гроза», «Петр Первый», «Ревизор».
Приехал на «Мосфильм» я, естественно, на городском транспорте – студентам не подают машин. Вторым режиссером у Петрова был Николай Владимирович Досталь, сын которого до недавнего времени был директором «Мосфильма». Я понравился Николаю Владимировичу, и он предложил мне главную роль.
– Нет, – отказываюсь, – могу согласиться только на небольшую, чтобы подработать.
Тогда в театральных училищах считали, что студентам сниматься нельзя, надо сначала выучиться актерскому мастерству. За непослушание гнали из училища. Так, когда на роль Незнамова в фильме «Без вины виноватые» утвердили студента второго курса Школы-студии МХАТ Владимира Васильевича Дружникова, его тотчас исключили с курса.
Досталь меня понял и предложил роль болельщика в эпизоде.
– Вас будет группа из четырех человек, – пояснил он, – и вы будете изображать друзей с одного завода, которые пришли на стадион болеть за свою команду.
Я согласился и впервые сыграл в кино, даже несколько слов досталось произнести. А моими партнерами оказались будущие известные артисты Женя Леонов, Нина Гребешкова и знаменитый ныне поэт-песенник Коля Добронравов.
Училище им. Щукина. Экзамен по гриму. Олег Стриженов работает с портретом Виссариона Белинского
Таллин
После окончания училища я с тремя товарищами отправился по распределению почти что за границу – в Таллин. Мне сразу же предложили в местном Театре русской драмы играть в пьесе Островского «Без вины виноватые» Незнамова.
В Таллине тогда находилась база Балтийского флота. Повсюду наш зритель – морские офицеры, их жены и дети, матросы. Театр всегда набит битком, и успех у меня грандиозный. Если войдешь иногда после спектакля в знаменитый ресторан «Глория», многие встают из-за стола, приглашают в свою компанию.
Хотя меня утвердили на «Овода», все равно нельзя было бросать спектакль – он давал превосходные сборы. И не только спектакль, а театр вообще в течение двух лет. Тогда «Ленфильм» договорился с министром культуры Эстонии, что я буду приезжать в Таллин каждую неделю и играть в театре в субботу вечером и в воскресенье утром и вечером.
Рано утром в понедельник я добирался до таллинского аэродрома и, бывало, в одиночестве летел в каком-нибудь грузовом «Дугласе».
Ранней весной в самолете отчаянный холод, начинаешь отбивать ногами чечетку, пока летчики не позовут погреться в кабину.
– Зачем каждую неделю в Ленинград летаешь? – спрашивают.
– В кино снимаюсь.
– Да ну? – удивляются и смотрят на меня уже с уважением.
Всю неделю работаю на «Ленфильме», а в пятницу вечером разгримируюсь и меня везут на вечерний поезд Ленинград – Таллин. Приезжаю, в субботу и воскресенье играю в театре и вновь спешу на «Дуглас».
По молодости я только радовался этой напряженной жизни, приятно щекотало самолюбие, что тебя ждут, что ты даришь людям праздник. И так я разъезжал взад-вперед до мая 1954 года. Но встречи с Таллином и таллинскими зрителями продолжались и в последующие годы. У меня до сих пор хранится афиша, где указано, что 24–25 июля 1956 года в театре Кингисеппа будет показан спектакль «Без вины виноватые». Незнамова будет играть Олег Стриженов, исполнитель главных ролей в фильмах «Овод» и «Мексиканец».
Что произошло?
В «Сорок первом», в эпилоге, когда я, вернее, поручик Говоруха-Отрок лежит убитый, не удался эпизод плача Изольды Извицкой на берегу моря. Куда поехать доснять?
– Сергей Павлович, – обращаюсь к оператору Урусевскому, – в Эстонии прекрасный залив, все там доделаем, а заодно побываем в чудном городе. Вы ж любите керамику? В Таллине она на каждом шагу.
Уговорил. Чухрай, Урусевский, Изольда Извицкая, я и еще несколько человек вылетели в Таллин. Разместились в гостинице на площади Победы – впритык к Театру русской драмы. Я по старой памяти зашел в театр.
– Помоги, – просит директор, – сыграй пару спектаклей. Мы тебе заплатим.
– Ладно, – соглашаюсь, – только платить не надо. Лучше сделайте для всех артистов банкет в «Глории».
Разок прорепетировали. Костюмы оказались целы, декорации тоже. Сняли более вместительный Театр имени Кингисеппа. Сыграли два спектакля при переполненном зале, а потом все участники отпраздновали это событие в «Глории». Тем временем отсняли и сцену плача Изольды, и этим закончилась моя очередная встреча с любимым Таллином.
В следующий раз попал туда уже с Уфимским русским театром драмы, когда приезжали на гастроли. Я опять играл любимую роль Незнамова, но уже совсем с другими партнерами.
«Овод»
Удивляешься, когда слышишь вопрос: «Как вам тот или иной партнер?» Это в кино-то? Да я часто не видел его по месяцу и дольше. Ставят камеру, за ней рядом с оператором сидит режиссер и объявляет: «Я вам прочитаю за партнера». Вот так и играй. В одиночку ты должен чувствовать ритм сцены, понимать, что тебе говорят и кто это должен говорить. А ведь далеко не каждый режиссер умеет хорошо читать, он же не профессиональный актер.
Я сейчас занялся тоже непрофессиональным делом – писать о прожитой жизни. Часто задумывался: почему великая актриса Вера Николаевна Пашенная не оставила после себя ни строчки? По-настоящему великая актриса! Что, ей нечего было вспомнить?.. Может, когда пишешь о прожитом, отчасти лукавишь – стараешься никого не задеть, не обидеть, не коснуться чего-то больного для других людей. А вся жизнь – сплошное противоречие. Мы ведь живем не в воздушном замке с добрыми феями и волшебниками, а в общении и труде, видим не только благородные поступки, но и ложь, предательство, низменные желания. К тому же сама жизнь стремительно меняется, и далеко не всякий может привыкнуть к новшествам.
Я начал сниматься в 1954 году. Недавно умер Сталин. Менялось все – время, вкусы, настроение. Притом не только в нашей стране – на всем земном шарике. Менялся и кинематограф. На смену романтическим героям пришел антигерой постсталинизма. Спасало то, что продолжали работать еще довоенные мастера, они продержались до начала, а некоторые даже до конца шестидесятых годов и позже.
Когда я в неполных двадцать пять лет попал в мир создателей кино, то сразу познакомился почти со всеми старыми мастерами. Более того, мне показалось, что они тоже хотели завести со мной знакомство. Когда на «Ленфильме» начались съемки «Овода», на меня забегали в гримерную смотреть не только девочки, а и профессиональные актеры, режиссеры. Я тогда и в голову не мог взять, что скоро узнаю всех тех, кто работал рядом с Николаем Афанасьевичем Крючковым. А Борис Ливанов, Евгений Самойлов, Иван Переверзев, Константин Сорокин!..
На «Ленфильме» одновременно снимали несколько фильмов: «Ломоносов», «Герои Шипки», «Большая семья», что-то еще. Весь цвет советского кинематографа был здесь. И для меня было очень важным, чтобы кумиры моего детства признали меня за своего, за артиста. Даже за очень хорошего артиста!
Режиссера «Овода» Александра Михайловича Файнциммера вроде бы не относят к великим. А я считаю его, царство ему небесное, своим учителем. И очень неплохим режиссером и человеком.
В кино до сих пор существует презрительное режиссерское правило: не показывать артистам отснятого материала. Считают, что мы ничего не понимаем в выборе дублей, а часто и боятся: вдруг пойдут споры, какие кадры лучше.
Файнциммер, понимая, что я играю у него главную роль, и будучи человеком мудрым, обладающим чутьем и тактом, решил, что я должен вникнуть в специфику кинематографа. Специфика непривычная для театра: можно сначала снять конец фильма, потом начало или середину. Актер должен быть готов и днем и ночью сыграть свою роль с любого места.
На первых съемках я еще многого не знал. Например, снимают крупный план, а я привык в театре подавать реплики на задний ряд. Александр Михайлович говорит: «Что ты кричишь, микрофон ведь рядом». Ну и все, я сразу стал более сдержан, привык к этой, как позже и к другим особенностям киносъемок.
В Ленинграде я, молодой артист, не был брошен на произвол судьбы. Вот съемки кончаются, собираются режиссер, оператор Москвин, монтажер. Ломая обычные правила, Файнциммер говорит: «Олег будет всегда смотреть отснятый материал и участвовать в отборе дублей». И я стал своим человеком в группе, узнал людей и как делается фильм. Иногда спросят: «Какой тебе дубль больше нравится?» Ответишь. «Эх, ты, следишь только за собой. У тебя здесь лучше всего получилось, а у партнерши очень плохо. Значит, посредственный дубль. Вот если бы это был решающий эпизод твоей роли, мы бы отобрали его». И дальше продолжается работа, обсуждения, споры. Когда завершили «Овода», мне показалось, что я закончил режиссерский факультет ВГИКа.
Иногда спрашивают: «Чему вы научились у Николая Симонова?» Не знаю, что отвечать. У него своя роль, у меня своя. Я же не могу научиться ходить, как Симонов, или говорить, как Симонов. Быть таким приличным человеком, как Симонов, – да, этому надо учиться у него, как у любого хорошего человека.
Симонов впитал в себя и расточал вокруг целый мир искусства, он учился в Академии художеств и был мастером живописи, он последний гигант, воспитанный знаменитым петербургским Александринским театром, актер, воссоздавший великолепные исторические образы как в театре, так и в кино.
Посещая Ялту, я обязательно поднимался вверх по узкой улочке, проходил под аркой сумрачного дома, пересекал двор и останавливался у обрыва над морем. Здесь тихое и пустынное место. У края обрыва – деревянная скамейка. Я ее назвал «скамейкой моего падре». Как-то, гуляя по многолюдной Ялте, где шли съемки «Овода», Симонов привел меня сюда и пояснил: «Мое любимое место». Позже я понял, что Николай Константинович не выносил своей популярности, узнаваемость на улице и навязчивость поклонников утомляли и раздражали его. Эта скамейка была его спасением от вечно любопытствующей толпы. Он любил сидеть здесь на закате дня, курить в одиночестве и, слушая море, мечтать. Часто брал с собою меня. Вспоминал о Петербурге, о своих знаменитых учителях, особенно часто о художественном руководителе Александринского театра Юрии Михайловиче Юрьеве. Когда был в настроении, с увлечением, вдохновенно читал отрывки из «Царя Эдипа», «Маскарада», «Отелло», монологи короля Лира, сыграть которого мечтал.
Сцена расстрела Овода
Невозможно забыть светлые горящие симоновские глаза, проникновенные симоновские интонации и весь его облик, возвышенный и вдохновенный.
В декабре 1971 года отмечали семидесятилетие Симонова, и ему, беспартийному трагику, одному из первых среди артистов присвоили звание Героя Социалистического Труда. Справляли юбилей в Александринском театре, я не мог присутствовать – снимался во Львове в фильме «Земля, до востребования». Послал телеграмму: «Падре, живите вечно. Ваш Артур». Потом мне рассказывали, что, когда ее зачитали со сцены на юбилейном вечере, Николай Константинович прослезился.
Файнциммер, кроме «Овода», снял такие известные картины, как «Поручик Киже», «Котовский», «Константин Заслонов», «Танкер «Дербент», «За тех, кто в море». Завистники о нем говорили: «Это мастер монтажа». Нет, он был крепким профессиональным режиссером. Мы с ним встречались время от времени, но не часто – то я полгода в Индии снимаюсь в «Хождении за три моря», то на Волге, то в Средней Азии. Как-то, уже переехав в Москву, Александр Михайлович позвонил: «Олег, нашему «Оводу» юбилей – двадцать лет». Мы встретились, посмотрели старую ленту, вспомнили о былой счастливой жизни. У него я больше не работал, а вот в 1970 году с братом Глебом снялись в картине его сына Леонида Квинихидзе «Миссия в Кабуле». Глеб же снялся у Александра Михайловича в фильме «Трактир на Пятницкой».
Вернусь к началу работы над «Оводом». После проб меня утвердили на фильм, но не отпускали из Таллинского театра русской драмы, куда я попал по распределению после Щукинского училища.
Григорий Михайлович Козинцев тогда был худруком «Ленфильма». Он просмотрел весь отснятый в павильонах материал и предложил мне поступить в Александринку – академический Театр драмы имени Пушкина. Я согласился и был зачислен переводом. Перед отъездом на съемки в Ялту – я уже артист стариннейшего русского профессионального театра. И мне был дан отпуск за свой счет до окончания «Овода».
Что в кино главнее? Изображение. Кто более других в киногруппе трудится над тем, чтобы запечатлеть на пленке красоту окружающего мира и игру актеров? Оператор. Половина успеха фильма – мастерство съемки. Если оператор посредственный, он может загубить картину даже при великолепном сценарии и блестящей игре актеров.
Мне повезло с операторами, как, наверное, никому другому. «Овода» снимал Андрей Николаевич Москвин, соратник Эйзенштейна. Его мастерство в фильме «Иван Грозный» произвело впечатление не только у нас, но и повсюду за рубежом. Москвин, работая на «Ленфильме», создал целую плеяду своих учеников. Он был безумно влюблен в технику, сам усовершенствовал объективы, осветительные приборы. Москвина просто считали богом в своем деле.
Снимали по всему Черноморскому побережью. В Алуште устроили огромные декорации – базар высоко в горах. Дворцы Италии заменили Ливадией – бывшим царским поместьем, ставшим закрытым санаторием для высоких начальников.
А вот начало фильма – итальянский город и католические храмы – здесь выручил неповторимый Львов. Пришлось сниматься во Львове и позже, в «Земле, до востребования» про разведчика Льва Маневича. Когда фильм вышел на экран, меня стали спрашивать даже профессионалы: «Хорошо жилось в Милане? Долго там пробыли?» Я смеялся: «Жилось прекрасно. Только мой Милан находился во Львове».
Закончили «Овода», и тут же новое приглашение: на «Мосфильм» на главную роль в «Мексиканце». Прихожу к директору Александринки Скоробогатову. Его сын Игорь был художником и моим другом.
– Дядя Костя, прошу по собственному желанию…
– Ну, борода, – Константин Васильевич почему-то всех так называл, – ты даешь! Это первый случай, чтобы из Александринки по собственному желанию уходили. У нас великий гений Мамонт Дальский и тот выгнан был, а не сам ушел.
– Что поделаешь, нужно к маме, она в Москве живет. И договор на «Мосфильме» подписал.
Он меня отпустил.
В «Оводе» первоначально существовала еще одна сюжетная линия – полицейский по прозвищу Дон Кихот, возглавлявший отряд, который гонялся в горах за Оводом. На эту роль пригласили Марка Наумовича Перцовского из Театра Советской Армии. Его зритель знал по фильму «Учитель танцев», где он играл слугу героя Зельдина. Отыграв в Москве в театре, он летел в Ялту на съемки. Но как только появлялся, подметили все, погода начинала портиться. У оператора Москвина даже вошли в поговорку слова, когда хмурилось небо: «Полный Перцовский!»
Мы отсняли в горах множество сцен, как Дон Кихот пытается поймать Овода. Но при монтаже фильма оказалось, что либо нужны две серии, либо сокращение готового материала. Так как первоначально заявили лишь одну серию, пришлось полностью убрать одну сюжетную линию, именно связанную с Дон Кихотом.
Премьера «Овода» состоялась в Доме кино. Перцовский не знал, что фильм сократили, и привел показать себя на экране множество родных и близких. Каков же был его ужас, когда не увидел себя ни в одном кадре, ни в титрах! А жаль, что так случилось. И сюжетная линия была интересная, и сам Перцовский милейший человек и хороший артист. Получилось смешно и трагично для Марка Наумовича. Бывает и такое… «Как в кино».
А вот еще один парадокс «Овода».
Сергея Бондарчука пробовали на роль Овода в паре с более молодым Юлианом Паничем – на Артура. Когда их отвергли на коллегии Министерства культуры, Бондарчук затаил обиду на режиссера Файнциммера, не зная, что именно тот оказался единственным, кто отдал свой голос за него, и в нескольких статьях довольно зло и несправедливо высказался об Александре Михайловиче. Например, он писал: «Постановщику «Овода» вовсе необязательны были репетиции с актерами, он не строил мизансцены. Ему не требовались детали. Для Файнциммера главное – монтаж».
Все это неверно, Александр Михайлович и с актерами постоянно работал, и мизансцены выстраивал. А то, что он большое внимание уделял монтажу – за это его только похвалить надо.
Я же лично благодарен Файнциммеру за то, что он ввел меня в «кухню кинематографа»: всегда показывал отснятый материал, приглашал на отбор дублей и даже в монтажную. В дальнейшем это стало стилем моей работы в кино. Я присутствовал на записи и перезаписи музыки, благодаря чему познакомился с великим композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, который написал музыку к нашему фильму.
Любовь с первого взгляда
Когда я перебрался из Ленинграда в родную Москву, в нашем доме на Коровьем валу продолжали жить мама с папой и постаревший любимый шпиц Миша. Я сразу же с головой окунулся в работу над фильмом «Мексиканец». Предстояло взвалить на себя не только актерский труд, но и профессиональную подготовку к сценам боксерского поединка и мексиканского танца. И, конечно, ждал выхода на экран «Овода».
Меня уже знали в кинематографических кругах. Первая слава пришла после просмотра в марте 1955 года «Овода» в Доме кино, размещавшегося в здании бывшего знаменитого ресторана «Яр».
На премьере в Доме кино, куда допускалась только избранная публика, нас, работавших над картиной, разместили на втором этаже балкона, в ложе почетных гостей. Не дождавшись конца фильма, я вышел в верхнее фойе и долго сидел в одиночестве. Уже кончился фильм, даже притушили свет. Вдруг появляется Файнциммер: «Пошли, Габрилович зовет к себе, отметим премьеру». Мы стали спускаться вниз по белой мраморной лестнице. Я думал, что все уже разошлись, и вдруг… Я даже рот раскрыл от растерянности: полное фойе людей, никто не расходится, как обычно. Раздались оглушительные аплодисменты. Всюду известные лица – мастера кино, другие знаменитости. Подошел поздравить Александр Николаевич Вертинский, подходили и другие почтенные люди, которых я раньше мечтал увидеть хоть издали одним глазком. Я понял, что это – успех!
Всенародная известность иногда приходит в один день – когда фильм появляется на экранах страны.
Мое лицо стало мелькать на афишах и рекламных щитах. И наконец «Овод» пошел в кинотеатрах. Фильм настолько понравился зрителям, что устраивались дополнительные сеансы: один – ранним утром, другие – поздним вечером.
Люди писали, что смотрели картину по пятнадцать-двадцать раз и каждый кадр выучили наизусть.
Запомнилось на всю жизнь одно давнее, смешное и трогательное письмо. Его прислал солдат. Ему, судя по всему, было около двадцати лет, а мне тогда – двадцать пять. Он подробно рассказал, что не знал ни отца, ни матери, всю жизнь воспитывался в детдоме и считался жутким хулиганом. Когда оказался в армии, стал нерадивым солдатом, не вылезал из внеочередных нарядов. Хромала и военная, и политическая, и физическая подготовка. «Но, просмотрев «Овода», – пишет он, – я счел вас за родного отца. Извините за то, что дальше я вас буду называть отцом… Так вот. Дорогой отец! Разрешите доложить, что после просмотра «Овода» я стал отличником боевой и политической подготовки, примерным солдатом…» Хохотал я до слез, несмотря на искренность и задушевность письма, ведь мы с автором были почти ровесниками, и я не представлял себя в роли отца столь великовозрастного сына.
Теперь в свой любимый «Ударник» я уже не забегал украдкой, пряча портфель под лестницей, а подъезжал к нему на машине, и не сидел на задних рядах или балконе, впиваясь глазами в экран, а стоял на сцене спиной к экрану, рассказывая зрителям о своей работе в кинематографе.
Бокс в кинофильме «Мексиканец». Денни Уорд – заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР Геннадий Степанов; рефери на ринге – заслуженный артист РСФСР Леонид Клинт («Петька» из к/ф «Чапаев»)
Спасало от поклонников, что без грима я имел мало сходства со своим героем и на улице меня редко узнавали. В отличие от Артура я теперь был коротко подстрижен, волосы для «Мексиканца» начернили до синевы, и в своем простеньком советском костюмчике я выглядел как обычный русский парень, а отнюдь не итальянский студент Артур и тем более Ривера или Овод.
Да и время шляться по улицам и демонстрировать свой профиль неоткуда было взять – предстояло играть боксера, играть без дублера, играть с таким партнером, как заслуженный мастер спорта Геннадий Степанов, – чемпион страны. А бокс – это не игра. На ринге работают.
Я ходил на тренировки к Виктору Павловичу Михайлову, тренировавшему в то время сборную СССР по боксу. Когда его попросили, чтобы он со мной позанимался, он сначала стал отказываться: «Нет времени, у меня сборная». Потом все же согласился: «Пусть Олег приезжает к нам, тут его ребята потаскают по рингу».
И я стал пропадать на тренировках вместе с лучшими боксерами страны. Более того, в одном из павильонов для озвучания фильмов поставили настоящий ринг и, если недосуг было ехать в сборную, на «Мосфильм» приезжал Геннадий Степанов, и мы о ним репетировали наш поединок. Нужно было отработать рисунок боя, а мне, кроме того, научиться профессиональным ударам и защите. Главное – научитъся двигаться по рингу, ведь за тобой будет ехать на съемках камера, и ты должен будешь суметь изобразить перед ней весь ритм боя. Так что пожинать лавры славы «Овода» оказалось некогда.
Еще я посещал Театр киноактера, где прекраснейшая женщина (балетмейстер) Елена Менес обучала меня танцам. Она до этого на съемках фильма «Молодая гвардия» научила Глеба Романова танцевать, после чего он стал популярен, в первую очередь, как эстрадный артист. Менес сделала ему целую танцевальную программу. К тому же он хорошо пел. Популярен был невероятно.
Мы с Татьяной Самойловой – «Мексиканец» стал ее первой ролью в кино – должны были в фильме исполнять мексиканский танец. Больше месяца изо дня в день приходили к Менес, чтобы в совершенстве овладеть непривычным видом искусства. Если, конечно, танец можно назвать видом искусства. Многие причисляют его к спорту. Что, конечно же, абсурдно.
Тренировки, репетиции и съемки в павильоне длились до конца мая пятьдесят пятого года, когда настала пора уезжать в Одессу. Одесские переулки должны были стать городскими кварталами Мехико.
«Мексиканец» был режиссерским дебютом Владимира Павловича Каплуновского, считавшегося одним из лучших художников советского кинематографа. Как художник он оформил «Два бойца», «Трактористы» и целый ряд других кинокартин. Владимир Павлович как никто другой умел выбирать нужную для съемок натуру. Из Одессы мы несколько раз выезжали в глухую деревню, в сторону Николаева, где простирались великолепные пейзажи, качались на ветру сочные початки кукурузы, медленно передвигались трудолюбивые ослики. Эту деревню Каплуновский выбирал еще для съемок «Трактористов». Но основной базой была Одесса, где я проживал в знаменитой «Лондонской» гостинице с видом на Приморский бульвар, порт и море.
Узнавали меня, как главного героя не сходившего с экранов страны «Овода», в редкие часы отдыха. Например, в ресторане «Лондонской», где иногда доводилось перекусить. Но обед в публичном месте – это редкость, обычно рабочий день длился от рассвета до заката, и мы довольствовались сухим пайком во время недолгого перерыва.
И я – все время в кадре. Если играю не Риверу, то его отца Фернандеса. Момент, когда он погибает во время демонстрации, мы снимали в Одессе на так называемой Малой Потемкинской лестнице.
Выезжали в Аккерман, где возвышалась старинная крепость и где я играл побег отца Риверы из тюрьмы. Там в это же время Юткевич снимал «Отелло» с Сергеем Бондарчуком…
Экспедиция в Одессе подходила к концу. Мы должны были перебазироваться в Ялту. Оставалась последняя вечерняя «режимная» съемка возле Оперного театра, на улочке с задней стороны.
Я вышел из «Лондонской» и направился на съемочную площадку, которая находилась буквально в двух шагах за углом. Я увидел ее сразу. Она скромно стояла за веревочным оцеплением в толпе любопытствующих. Ее нельзя было не заметить. На вид лет шестнадцати-семнадцати, с огромной копной коричневых волос, лучезарными карими глазами, четко очерченными, чуть припухлыми губами и замечательной фигурой с тонкой осиной талией. Она была просто неотразима! Казалось, от нее веет морем и загаром. А загар ее, особенно при свете вечернего заходящего солнца, был просто золотым. Пройти мимо такой девочки невозможно!
Я подошел к человеку из съемочной группы, который руководил оцеплением, и сказал:
– Ты чего не пускаешь такую девочку?
И, взяв ее за руку, ввел на съемочную площадку.
– Вы не Джина Лоллобриджида? – не зная, что сказать, спросил ее.
Она улыбнулась и опустила голову.
– Ну все-таки, кто вы? – не унимался я. – Скажите хотя бы, как вас зовут?
– Меня зовут Лионелла.
– Значит, я угадал! Вы – итальянка!
– Да нет, я не итальянка. – Она рассмеялась, обнажив прекрасные зубы. – Просто мои родители – моряки. Конечно, в основном, папа. Он стармех, «дед». Они с мамой часто бывали в Италии и увидели там девочку, которую так звали. Она им очень понравилась. Вот и решили, когда у них родится дочь, назвать ее Лионеллой. Но обычно все зовут меня Линой.
– Это неправильное сокращение. Лина – это Ангелина. Вас точнее надо звать Неллой. – И, подумав, я добавил: – Я буду вас называть просто: Ли. А вообще-то имя у вас красивое…
Далее наш разговор прервался, ибо подскочил помреж и начал, как это называется в кинематографе, «поднимать волну».
– Уже все готово, – с невероятными причитаниями и придыханиями запричитал он. – Приехали пожарные машины! Репетируют дождь! Вас срочно требуют в кадр! Идемте!
Он просто утащил меня. А я даже не успел попросить эту милую девочку подождать меня до окончания съемок.
Начались репетиции перед камерой. С дождем и без него. Затем: «Дождь, съемка!» Дубли, дубли и прочее. Все быстро, в суматохе, ибо съемка «режимная» – на закате. Надо успевать до захода солнца.
Я не помню, сколько времени прошло. Наконец: «Съемка окончена!» Весь до нитки промокший прошел в раздевалку, насухо вытерся, переоделся в собственное одеяние, а грим решил снять в гостинице. Я торопился! Хотелось поскорее увидеть ее! По какой-то наивности я думал, что она ждет меня. Выскочил из раздевалки, побежал к тому месту, где оставил ее… Но ее там уже не было.
На следующий день вечером наша съемочная группа отплывала в Ялту. А днем я опять пришел на место, где мы с ней беседовали. Обошел оперный театр и «Пале Рояль», побродил по Дерибасовской. Естественно, ее нигде не было. Да и как я мог ее встретить?.. Глупо!
Вернулся в свою «Лондонскую», зачем-то долго сидел у телефона. Думал: «А вдруг?.. А может быть?..» Кидался на каждый звонок, но это были другие голоса.
Вечером под проливным дождем с чемоданом в руках я спустился по знаменитой Потемкинской лестнице, ведущей в порт, прошел по длинному молу туда, где в полном сиянии огней стояла «Победа» – знаменитый в те времена лайнер. Я поднялся по трапу на палубу. Как бы прощаясь с чем-то до боли дорогим и близким, в последний раз посмотрел на город. Он уже засыпал, один за другим гасли огни. Изредка доносились далекие гудки пароходов. И все время лил дождь. Но вот «Победа» дала первый гудок. Наша группа в ресторане уже праздновала окончание одесской экспедиции, а я не хотел да и не мог составить им компании. Спустился в свою каюту, заперся на ключ и бросился в койку. Меня обуревала дикая грусть и какая-то непонятная злость. И еще почему-то хотелось плакать.
Вновь раздался гудок «Победы», как бы возвестив: «Прощай, милая красивая девочка Лионелла! Прощай, Ли!..»
Утром нас встречал Ялтинский порт знаменитым фокстротом «Рио-Рита», который разносился над всем городом. Очень знакомо, как будто я и не уезжал из Ялты с прошлого года. Гостиницу «Южная», находившуюся через дорогу от порта, было видно уже с корабля, и я обрадовался ей, как родной. Еще бы! В ней я прожил всю ялтинскую экспедицию по «Оводу».
В жизни множество совпадений. Вот и сейчас «Южная», все тот же номер-камера и длинный коридор, в конце которого туалет с единственным краном холодной воды. Зато наша группа пригнала из Москвы для съемок ворошиловский красавец «Кадиллак» 1929 года.
Для сцен, изображавших Мексику, выбрали Ай-Петри, где на высоком плоскогорье с крутыми склонами открывались замечательные широкие просторы. Там выстроили конюшню, завезли лошадей с обслугой. Из Одессы перебрались в Ялту и рано-рано утром, загримировавшись, поднимались на машинах на Ай-Петри. Каплуновский, оператор и я, конечно, на ворошиловском «Кадиллаке» с открытым верхом. Там нас уже ждали оседланные лошади, и начинался трудовой день, а с ним – пробы, разочарования, удачи. И так до вечера, пока оператор не скажет: «Стоп, солнце зашло».
Повсюду врыты кадки с экзотическими растениями, на мне, по замыслу, одна легонькая рубашонка. Промерзал утром на высокогорье до костей. Но виду показывать нельзя, что холодно – на тебя смотрит камера. Удавалось, сказывалась спортивная подготовка, весенние купания мальчишкой в студеной Москве-реке на Воробьевке.
И вдруг на Ай-Петри внезапно набегают тучи, перестаешь видеть даже близко стоящих людей. Поэтому спешили, поглядывая на небо. Как только туча настигала солнце, мигом залезали в машину и перебирались на новое солнечное место, где расторопно делали другой дубль. Если же туча накрывала нас во время съемок, значит, дубль запороли, проделанная работа пошла насмарку.
Когда рассказывают басни про артистов, что они много пьянствуют, бездельничают, посвящая большую часть жизни гулянкам, – удивляешься. Конечно, как и среди людей любой профессии, случалось и с артистами, что запивали. Но такой человек сразу пропадал как работник. Его никто не судил, не казнил, но никто и не приглашал на новые роли. Ведь в кадре очень много значат глаза. Обмануть зрителя невозможно, камера, как рентген, высвечивает твои зрачки, и сразу становится заметно, что перед тобой пьяный человек, и больше у него за душой ничего нет. Даже пьяницу, и того надо играть в трезвом виде.
Тем более не выпьешь, когда тебе вставать в пять утра, идти накладывать грим, потом подниматься по серпантину дороги вверх на Ай-Петри, где ждет четырнадцатичасовой рабочий день. Вернешься к ночи в свою «Южную» и волей-неволей превращайся из мексиканца в белого человека, смывай грим в общем туалете под единственным краном с холодной водой. Иной раз махнешь рукой, завалишься на кровать черный по пояс, только лицо немного омыв, и сразу засыпаешь. А утром снова за работу.
«В тот день, когда я впервые увидела Олега, я шла в поликлинику и вдруг увидела толпу. Кругом софиты – снимали фильм “Мексиканец”. Я подошла поближе. В самом центре съемочной площадки стоял Стриженов. Ассистенты режиссера начали оттеснять публику, меня тоже попросили отойти. Стриженов повернулся, посмотрел на меня и сказал: “Ее не прогоняйте”…»
(Лионелла Пырьева)Многие знаменитые боксеры шестидесятых годов говорили мне, что фильм «Мексиканец» стал для них толчком для того, чтобы посвятить жизнь боксу. Могу с уверенностью об этом говорить, потому что дружил с самыми прославленными среди них – Валерием Попенченко, Борисом Лагутиным, Борисом Никаноровым, Алексом Шокасом, Евгением Феофановым, Володей Сафроновым.
Валера Попенченко был очень скромным человеком, на вид косолапым и неуклюжим. Занимаясь боксом, он одновременно учился в Ленинграде в военной академии, получил звание капитана третьего ранга. Однажды я ему пожаловался: «Валер, ты так быстро кончаешь с противником, что не успеваю полюбоваться боем». «Я тебе по секрету скажу, – оправдывался он, – у меня от природы не очень хорошее сердце, и длинный бой переношу тяжело. Мне надо быстрее крутить противника, сломить его на первых минутах». Попенченко считал самым трудным своим соперником Евгения Феофанова, ни разу его не нокаутировал, еле-еле выигрывал по очкам, потому что Женя был здоров как бык.
Дружен я стал и с Геннадием Степановым, своим партнером по «Мексиканцу». Его брат Анатолий играл с Переверзевым в фильме «Первая перчатка». Был в их семье и старший брат Виктор, как и младшие, заслуженный мастер спорта, чемпион по боксу. Геннадий выиграл свой последний чемпионат страны не у кого-нибудь, а у своего брата Анатолия.
Знакомство со спортом и спортсменами волей-неволей продолжалось и дальше. Иван Александрович Пырьев, когда снимали «Белые ночи», говорил: «Что, мы не можем на уровне Голливуда?» – «Сможем, – отвечаю, – даже лучше».
У меня в картине большая сцена фехтования. Иван Александрович пригласил литовского фехтовальщика Иозеса Удраса и известного тренера Блоха. И мы тренировались, словно мне предстояло не в кино сниматься, а выступать на Олимпиаде.
Дружили мы с заслуженным мастером спорта баскетболистом Аркадием Бочкаревым, который в составе нашей сборной в пятидесятом году получил золотую олимпийскую медаль.
Нас с Переверзевым как актеров, участвовавших в фильмах, прославляющих бокс, часто приглашали на торжественные мероприятия в «Крылья Советов» – колыбель советского бокса.
Самые популярные виды спорта моего детства – футбол и бокс. Потом меня Аркадий Бочкарев заразил баскетболом, и я стал страстным поклонником этого вида спорта. У нас немного любителей баскетбола, а за границей, особенно в США, это один из самых популярных видов спорта.
Наверное, в судьбах спортсменов и артистов есть нечто общее, гладиаторское. Лермонтов писал:
Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
Он презрен и забыт… освистанный актер.
Меня всегда поражало, когда ходил смотреть боксерские поединки друзей, что находятся зрители, которые свистят, орут: «Бей чемпиона»! Разозлишься на крикуна: «Почему надо бить чемпиона? Он тебе в борщ, что ли, нагадил? Чемпионов любить и уважать надо».
Толпа не знает, сколько чемпион работает, чтобы стать лучше других и удержать это высокое звание. Толпе – давай нового, старый надоел.
Хороший актер всегда понимает спортсмена.
Особая близость всегда была с футболистами. Михаил Михайлович Яншин всю жизнь дружил со Старостиными, особенно с Андреем Петровичем, знаменитым капитаном «Спартака» тридцатых годов. Яншин познакомил меня и со Старостиными, и с другими нашими корифеями футбола.
Кино имело большое влияние на развитие спорта. Когда мы, мальчишки, увидели фильм «Первая перчатка», многие пошли в секции заниматься боксом. Мастерили самодельные перчатки и устраивали дворовые соревнования.
Многие советские фильмы не только призывали укреплять здоровье, но через спорт воспитывали любовь к родине, закаляли характер.
Михаил Светлов смешно иронизировал над культуристами, вся цель тренировок которых – нарастить мускулы: «Он делает все, чтобы умереть здоровым».
Дружить со спортом я не переставал всю жизнь. Конечно, не занимался им профессионально, не накачивался, как Шварценеггер, но зарядку, плавание, пешие прогулки никогда не забывал. Если бы я нарастил себе мускулы, как нынешние представители театрализованного вида спорта бодибилдинга, то стал бы безработным. Таких артистов раньше никуда не брали, разве только в сторожа. Актеру нужны классические параметры, он должен походить на акробата, а не на гориллу. Нужно с утра в меру позаниматься с гантельками, попрыгать через скакалочку, порастягивать резину или эспандер и обязательно облиться холодной водой.
В восемьдесят четвертом году снимали фильм «Господин Великий Новгород». Приехали в Старую Руссу. Вокруг – болота, что и нужно по сценарию. Как я войду в студеную воду? К этому же надо себя приучить, чтобы не дрожать от холода, когда на тебя направлена камера. Или надо плыть в одежде через холодный Волхов. Горжусь, что ни разу не заболел на съемках и даже не кашлянул.
«Сорок первый»
Артур, с которого начался мой путь в кинематографе, – герой мелодраматический. И произведение Э. Войнич считается мелодраматическим. Я же играл героя романтического, потому что считал своим долгом по возможности дальше уйти от мелодрамы. Трагический образ в «Оводе» – кардинал Монтанелли, каким и играл его настоящий русский трагик Николай Симонов.
Но это отнюдь не значит, что у моих героев не было трагических черт. Взять хотя бы поручика Говоруху-Отрока из фильма «Сорок первый». Что такое амплуа героя? Оно должно быть как можно более емким, разнообразным. Мне кажется, за основу надо брать героя драматического, а в него вмещать и романтику, и лирику, и смешное, и трагическое, чтобы получился живой персонаж.
Но давайте разберемся все-таки в понятии романтического героя. У нас существует и такое мнение, что он вроде бы исключает психологию. Это не так! Я говорил, что если вы меня считаете романтиком, то никогда не думайте, что я герой «плаща и шпаги». А в нашем сознании прежде всего возникает чисто внешняя сторона: таинственная маска, шпага, шляпа с пером… Какое отношение имеет все это к тому же поручику Говорухе-Отроку?
В «Оводе» я играл романтического героя, и романтическая же окраска нашла свое выражение в трактовке образа Риверы – героя Джека Лондона. Были сыграны две роли, объединенные одной темой, темой революции – итальянской и мексиканской. После этого меня хотели использовать в кино в этом же плане и другие. Из меня пытались создать вариант западноевропейского «романтического» киногероя. А для меня романтиками всегда оставались Байрон, Пушкин, Лермонтов, Гёте, Гюго… Их герои!
До сих пор я играл мало похожих на себя людей – Артура, Риверу. Видя успех этих ролей у зрителя, режиссеры стали и дальше предлагать нечто подобное. А мне хотелось сыграть русского человека, на которого я похож. Похож хотя бы внешне. Опостылели брюнеты, грим по всему телу. Мечтал создать на экране сложный психологический образ.
Я думаю, Григорий Чухрай выбрал меня на роль поручика Говорухи-Отрока не по типажу, а как известного популярного артиста. Образ героя я придумывал сам: и манеру держаться, и все детали поведения.
Наконец-то остались свои светлые волосы, своя, а не накладная бородка. Сделали пробы с Изольдой Извицкой, всем понравилось, и начались съемки.
О «Сорок первом» говорить одновременно и трудно, и легко. Не хочется влезать в разборы, которые присущи коммунальным кухням, где собирается десяток соседок позлословить и посплетничать о тех, кого нет рядом. И все же нельзя не вспомнить об этом неординарном фильме и людях, что создали его.
Начнем с того, что Чухрай хотел получить меня на этот фильм. Это была его первая самостоятельная работа, картина числилась как внеплановая. Сам Чухрай – никому не известный до этого ассистент режиссера с Киевской киностудии. И все же я пошел к нему. Пошел, потому что мечтал сыграть поручика в «Сорок первом», еще когда учился в вахтанговской школе.
Чухрай очень смело пошел на изменение сценария, в чем я его поддержал. Первоначально в фильме были намечены беспомощные сцены, из-за которых он потерял бы свою трагическую окраску и стал бы походить на идеологический революционный боевик. Например, сидит Марютка одна, а к ней являются тени умерших по дороге красноармейцев и даже самого комиссара Евсюкова, который говорит ей: «Как ты посмела полюбить белого офицера? Как посмела изменить нашему красному делу»? И грозная тень начинает исчезать, а Марютка продолжает сидеть, размышляя о своем «контрреволюционном» поступке. И это далеко не единственная сцена, которую Григорий просто-напросто выбросил из сценария.
Не совсем гладкими были отношения Чухрая с оператором картины – знаменитым мастером своего дела Урусевским. Сергей Павлович к этому времени уже имел мировую известность и несколько снисходительно относился к Григорию. Я стал буфером, который смягчал отношения между режиссером и оператором. Я понимал, что если на съемочной площадке не будет хорошей рабочей атмосферы, то ничего не получится. И тогда, и позже Чухрай не раз благодарил меня за то, что помог ему утвердиться в коллективе. «Нужно было преодолевать недоверие, – писал он, – настороженность, столь естественные, если на площадку выходит «зеленый» новичок и пытается руководить большим съемочным коллективом. Поддержка была мне крайне необходима. И Олег оказывал ее: он, знаменитый уже артист (позади «Овод» и «Мексиканец»), с полным вниманием и серьезностью прислушивался к моим режиссерским требованиям и тем задавал тон – другие, глядя на него, проникались ко мне уважением. Конечно же, я очень обязан ему и благодарен за все».
Кадр из кинофильма «Сорок первый». 1965 г.
По вечерам собирались с Григорием, обсуждали мои сцены с Изольдой, исправляли их, репетировали до выхода на площадку.
Чем дальше, тем дружнее становился наш актерский коллектив. Урусевский заметил, что мы поддерживаем режиссера, и сам смягчился по отношению к нему. Вообще Сергею Павловичу принадлежит в фильме чуть ли не главная роль. Он умел найти единственно верный ракурс, охватить проницательным взглядом и людей на съемочной площадке, и все, что их окружало.
Очень сблизился я и с Николаем Афанасьевичем Крючковым. Когда мы оба оказывались в кадре, то испытывали радость от нашего общения.
Хотя, надо признаться, и наша командировочная жизнь, и работа оказались нелегкими. Вокруг пески, казалось, что ты весь пропитан песком. А уж когда включали пропеллеры (ветродуи), чтобы изобразить буран, чудилось, что песчаный смерч решил похоронить нас здесь навсегда.
Советское кино было самое целомудренное, иногда на фильм не допускали подростков до шестнадцати лет даже из-за двух-трех эпизодов с изображением любовных поцелуев.
Запад в то же время уже наводнили дешевые порнографические киноленты, главная цель которых была – возбуждение похотливости. Но существовали и высокохудожественные фильмы с сексуальными сценами. Лучшим из них считалась французская картина К. Лелюша «Мужчина и женщина», появившаяся на европейских экранах в 1966 году.
Среди наших фильмов откровением стал «Сорок первый», где мы с героиней сидим голые у костра. С избытком для тогдашнего советского кино там имелось и других так называемых эротических сцен – с поцелуями, сексуальной нежностью, одеждой из лохмотьев, лишь слегка прикрывавшей красивое женское тело. И никому даже из партийных идеологов не приходило в голову назвать «Сорок первый» порнографической картиной, потому что эти эротические сцены говорили о глубокой любви между мужчиной и женщиной.
Зрителям порой кажется, что съемки фильма – дело нескольких дней или, в крайнем случае, недель. На самом деле – это длительный процесс, в котором творческая работа занимает лишь малую часть времени.
Сначала пишется сценарий, иногда до трех вариантов, пока его не одобрят или не отвергнут. Далее режиссеру нужно собрать группу – операторов, костюмеров, художников, гримеров и т. д. Они делают приблизительные разработки декораций, одежды, внешнего вида героев, еще не зная, какие артисты будут участвовать в картине. Потом нужно заранее подготовить большие декорации, которые придумал художник. И в любой момент можно встретиться с непредвиденными обстоятельствами.
Например, когда начали снимать «Овода», в Алуште на горе построили большой бутафорский дворец, площадь, а в середине фонтан. Возводили постройки несколько месяцев. И вдруг над городом прошел страшный ураган и уничтожил весь наш итальянский городок, на который ушла уйма денег и времени. Всех охватило уныние, боялись, что остановят финансирование и картина так и останется незавершенной. Хорошо, что к этому моменту мы уже многое отсняли, и Министерство культуры скрепя сердце выделило денег сверх сметы на новые декорации.
Но, скажут, это подготовительный период, а сами съемки длятся несколько дней. Глубоко ошибается тот, кто так думает.
Например, заключительная сцена «Сорок первого». Мы с Изольдой сидим на песочке, беседуем и вдруг я вскакиваю.
– Парус!
Размахиваю руками, бегу к воде.
– Наши! Наши!
А моя Марютка – Изольда берет винтовку, прицеливается…
Выстрел. Я падаю.
– Сорок первый.
Она подбегает ко мне и, плача, произносит над мертвым телом длинный монолог.
Всего-то действия пять-шесть минут на экране. А мы снимали его пять-шесть дней. Почему?
Если внимательно всмотреться в кадры фильма, то можно заметить, что мы сидим не на летнем морском пляже, а почти что на льду. Песочек даже не сыплется между пальцев – он мерзлый. А почему такое особенное небо? Почему офицеры в лодке в шинелях и башлыках? Да потому, что по сценарию только-только настал конец зиме. И чтобы не изменять правде изображения, съемки шли ранней весной. Если ступить в воду, ноги сводит судорогой. И мы полуголые играем сцены в эдакую холодищу. Пока на тебя направлена камера, ни о чем другом не думаешь, кроме того, что ты – поручик Говоруха-Отрок. Но вот отсняли дубль. Вскакиваешь и бегаешь, пока не разогреется окоченевшее тело. Звучит команда «мотор», и ты вновь забываешь о холоде. Главное – съемка!
Нужно было играть трудный эпизод, когда, как говорится, нечего играть. То есть изображать труп. На мне вместо одежды висят тряпочки, чуть-чуть прикрывающие голое тело и уж, конечно, не согревающие его. Рядом у камеры стоит оператор Урусевский, на нем пыжиковая шапка, полушубок, шарф, ватные брюки. Другие члены группы тоже нарядились по сезону. Завидно смотреть.
Моя задача – плюхнуться полуголым в ледяное море, да так, чтобы голова оказалась под водой, и как можно дольше находиться в подобном положении, чтобы Изольда успела произнести свой монолог над убитым и вдоволь наплакаться.
Начинаем первый дубль.
– Все готовы? – спрашивает Урусевский.
– Готовы.
– Олег, ты готов?
– Готов.
– Тогда ложись, – с издевочкой говорит Урусевский, запахивая полушубок.
Я набираю воздуха, плюхаюсь в воду, лежу расслабившись. Чувствую, как Изольда склонилась надо мной, оплакивает своего сорок первого застреленного врага Советской власти. Слов, конечно, под водой не слышно. Сколько мог, пролежал. Когда стал задыхаться, привстал, глотнул воздуха, огляделся по сторонам.
– Хорошо? – спрашиваю. – Все в порядке?
– У нее хорошо, гениально играла, – апатично сообщает Урусевский. – Просто замечательно получилось у Изольды… А покойник встал. А она еще не доиграла.
– Извините, – расстроился я. – На большее не хватило дыхания. Давайте повторим.
– Нет, надо подождать. Туча ушла, теперь до следующей – перерыв.
На меня накинули какую-то хламиду, чтобы не замерз окончательно, и ждем, уставясь в небо. Вот и долгожданная туча на подходе.
– Пора снимать, – объявляет Урусевский.
«Только бы не испортить в этот раз, – думаю. – Умру под водой, но дам Изольде сыграть до конца».
Набрав полные легкие воздуха, погрузился в воду и лежу, не шелохнувшись, кажется, целую вечность, все рекорды побил. Наконец тяжело дыша, но с гордостью за свое долготерпение, поднимаюсь.
– Как, Сергей Павлович, хватило?
– Чего хватило?
– Дыхания у меня.
– Дыхания-то хватило, да только пленки в аппарате не хватило. Сейчас новую катушку зарядим и повторим еще раз.
В третий раз и дыхания хватило, и пленки, но не получилась игра у Изольды. В первом дубле она была полна сил и эмоций, теперь продрогла и устала. Пришлось отложить съемки на следующий день. А назавтра погода подкачала, небо «как портянка». И несколько дней ждали, пока Урусевский не дал «добро» на съемки…
Зритель не чувствует утомительного труда создателей фильма, он приходит в кинотеатр и видит слаженную игру актеров, постепенное развитие сюжета. Его не интересует, что осталось за кадром – неудачные дубли, технический брак и т. д.
Так всегда в искусстве. Мы читаем стихи Пушкина и удивляемся их простоте, ясности мысли, мелодичности. Кажется, что написаны они на одном дыхании, в течение нескольких минут. Лишь дотошный ученый, изучавший пушкинские рукописи, знает, сколько творческого труда затратил гениальный поэт, создавая десятки вариантов одной-единственной строчки.
Прекрасно, когда зритель и читатель радуются произведению искусства, не задумываясь, сколько творческих сил, а в кино и производственных проблем было затрачено на него. И все же надо помнить, что легко создается только халтура.
Основная база находилась на Каспии в Красноводске. Потом спустились ниже по морю к полуострову Челекен, на мысу выстроили избушку, где и происходило действие последней части картины.
Крючков любил оставаться ночевать в этой избушке – он был страстным рыболовом. Компанию ему составлял обычно ассистент оператора Сережа Вронский, который потом самостоятельно снял такой блистательный фильм, как «Братья Карамазовы». Они ловили двухаршинных осетров и угощали нас несравненной ухой. Когда наступила весна, не только рыболовы, но и все участники картины почувствовали очарование здешних мест. То лебеди приплывут к нам, то фламинго пролетят мимо.
Атмосфера сыпучих песков, ощущение одиночества человека, попавшего в мир пустыни, даже нехватка воды сближали всех. Натура помогала вжиться в образ и в ситуацию, в которой оказались герои. Мы с Изольдой без всякой работы гримеров и художников по костюму с каждым днем под палящим солнцем и при полном отсутствии привычных бытовых условий изменялись, как и положено по сценарию, превращались в робинзонов, отрезанных от цивилизованного мира. Волосы отрастали, лица грубели от загара, одежда ветшала и свешивалась лохмотьями.
Когда в начале семидесятых годов умерла Изольда Извицкая, все вдруг заинтересовались причиной ее смерти. Выстраивались различные версии, одна из них: покончила с собой по причине алкоголизма. Почему-то интересовались больше не душой актрисы, которую она раскрыла в своих ролях, а изнанкой жизни. Но ведь актер – это загадка, это праздник, а если ты копаешься в мелочах семейной жизни, значит, тебя больше интересует не киноэкран, а замочная скважина квартиры чужого человека. Я не хочу исповедоваться во всех откровениях ни читателю, ни священнику. И все же скажу: Изольда была от природы одаренным человеком, красивой и внешне – чудесные волосы, обворожительная улыбка, и внутренне. Во Франции ее часто сравнивали с Мэрилин Монро. И она удачно вписалась в прекрасный образ Марютки, созданный Лавреневым.
Олег Стриженов и Изольда Извицкая на съемках фильма «Сорок первый». 1965 г.
«Сорок первый», несмотря на некоторую необычность для советского кино, не встретил возражений ни в Министерстве культуры, ни даже в высших партийно-идеологических кругах. Дело в том, что, когда человек талантлив, он и умен, он знает меру и наперед чувствует, что цензор будет выстригать. Чухрай убрал отдельные слова, а я бессловесно доигрывал то, что осталось недосказано. Поэтому и признали меня за эту работу лучшим актером пятьдесят шестого года.
На мой взгляд, «Сорок первый» – лучший фильм Чухрая. Ему помогали его учитель, художественный руководитель картины Михаил Ильич Ромм, директор «Мосфильма» Иван Александрович Пырьев, оператор Урусевский, композитор Крюков и отличный ансамбль артистов.
«Сорок первый» – это появление нового советского кино, любовная элегия со свежим оригинальным взглядом на прошлое. Весь мир удивился, как русские могут красиво любить, какие они удивительные люди и сколь восхитительна и разнообразна природа их страны. Когда в конце фильма меня, вернее поручика Говоруху-Отрока, убивали, зрители плакали. И не только за границей, где доживали свой век постаревшие поручики, но и у нас, где народ воспитывали на ненависти к белогвардейцам. Вдруг зритель понял, что все мы – и белые, и красные – русские люди и, воюя друг с другом, занимаемся ненормальным делом, уничтожаем свою любовь, а значит, и душу.
Смелость Чухрая в том, что он наперекор принятому и утвержденному сценарию, стал снимать совсем другую картину. Григорий на первое место поставил человека с его извечными страданиями, красотой души и стремлением к чистой любви.
Индия. Рим – Париж – Москва
Для меня роль Говорухи-Отрока в «Сорок первом» – этап, отдельный момент в развитии творческой работы. Мой герой – бывший студент, образованный и интеллигентный человек, занесенный лихолетьем Гражданской войны в гущу жестокого и непривычного для него мира. Я попытался донести до зрителя трагическую раздвоенность обыкновенного русского человека, а отнюдь не курить фимиам белогвардейщине.
Что же началось потом? По дрянной киношной традиции меня завалили сценариями, где обязательно присутствовал дворянин «голубой крови», эдакая «военная косточка», презирающая сиволапого мужика, поднявшегося на борьбу. Меня сочли эталоном офицера Белой армии, и если бы я пошел на поводу у режиссеров, мог бы сыграть всех поручиков, существовавших в литературе.
Я подумал: как сломить обыденный взгляд на мой театральный талант как нечто устоявшееся и неизменяемое? Хотелось нового образа, мало чем напоминавшего нашумевшие роли Артура, Риверы, Говорухи-Отрока.
Услышал, что намечается первый совместный советско-индийский фильм «Хождение за три моря» о тверском купце-землепроходце, совершившем в XV веке путешествие в Индию и оставившем о своих странствиях записки. Пошел в библиотеку имени Ленина, прочитал интереснейшие дневники Афанасия Никитина и размечтался: вот бы удивить всех, сыграв русского купца.
К сожалению, у нас издавна сложилось мнение, что купец обязательно должен представлять собой грубоватого, с внушительным животом торгаша-ростовщика, ведрами потребляющего чай и водку, поколачивающего свою супругу и ничего не читающего, кроме трактирного меню. Я создал для себя другой образ – образованного, жаждущего новых знаний путешественника с пытливым взглядом и глубоким умом. Решил даже, какая нужна бородка, как наложить грим, чтобы лицо стало пошире, как произносить слова с волжским выговором. Даже представил, какие на мне будут сапоги, кафтан. То естъ, как учили нас в вахтанговской школе, создал биографию, внешность и привычки героя, даже отрепетировал тональность его речи и самобытную походку. Лишь после этого обронил на «Мосфильме» предложение: «Хорошо бы пробу получить у вас на роль Афанасия Никитина». Потом одна ассистентка режиссера рассказывала, что в группе, узнав, кого хочет играть Олег Стриженов, сочли, что я спятил. Им казалось ясным, что на эту роль нужен типаж вроде Бориса Андреева – грубоватый мужик, по силе и ширине плеч не уступающий былинному Илье Муромцу.
На мне вроде бы поставили крест, решили не выпускать из амплуа белых поручиков. Необходимо было во что бы то ни стало сломить устоявшуюся точку зрения на себя, продиктованную предыдущим успехом.
Помог случай. Прилетел из Индии с киногруппой известный писатель Ахмад Аббас, который был режиссером и вместе с Николаевой сценаристом будущего фильма.
Надо встречать индийских гостей. Провели их по «Мосфильму», показали павильоны и цеха. После экскурсии, по обычаю, надо похвалиться новой продукцией студии. Выбрали «Сорок первый». Пригласили на просмотр в директорский зал и меня с Чухраем.
К тому времени я уже потихоньку прочитал сценарий «Хождения за три моря» и уверился, что смогу сыграть Афанасия Никитина. После просмотра Аббас поблагодарил меня в восторженных словах за «Сорок первый» и спрашивает:
– Что сейчас делаете?
– Да ничего, – отвечаю. – Хотел в вашем фильме участвовать, уже и образ придумал, да говорят: по типажу не подхожу.
– А я как раз хотел предложить вам роль Никитина. Чем же вы их не устраиваете?
– Хотят, чтобы нос картошкой был, – рассмеялся я, – мышцы, как у быка, и бас, как у дьякона.
– Да зачем? – удивился Аббас. – Нос хороший. Что нужно, гримом сделаем, а душа-то у Никитина – тонкая, он – знаток восточных языков, по-моему, один из самых просвещенных людей своего времени. Мне как раз нужен актер мыслящий. Я все сделаю, чтобы пробы с вами состоялись.
Замечательный гример Вася Фетисов сделал все так, как я попросил, костюмеры тоже не подвели. Пробы прошли на «отлично».
Меня утвердили на роль в августе пятьдесят шестого года, а уже в октябре, когда в Индии немного спадает жара и становится легче работать, я улетел на съемки в эту древнюю страну, которую знал с ученических лет по лекциям Бориса Николаевича Симолина.
Когда я был утвержден на фильм «Хождение за три моря», то перед отлетом в Индию меня позвал к себе Александр Петрович Довженко. Его мечтой (это знали все) было снять картину «Тарас Бульба». Так вот, когда я к нему пришел, он сказал: «Лети в Индию, вернешься, будешь играть Андрия». И вдруг задает мне вопрос: «У тебя «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый». Какую работу считаешь лучшей?»
Я почувствовал: этот вопрос неспроста. Что ответить? «Сорок первый»? Вокруг него был поднят большой шум. Думаю, назову его – это же как «дважды два четыре». Пресса восторженно писала именно об этой картине.
– «Сорок первый».
– Нет.
О «Мексиканце» пресса писала, что фильм излишне романтизирован, хотя и хвалили мою игру. Остается одно…
– «Овод».
– Опять не угадал, – рассмеялся Довженко. – «Мексиканец». И знаешь почему?.. Ты в кадре почти весь фильм, а слов у тебя чуть-чуть. Самое дорогое – ты умеешь молчать в фильме. Играть главную роль без слов – это самое трудное и важное…
А в «Тарасе Бульбе» сняться так и не пришлось. Уже в Индии узнал о смерти Александра Петровича. Зато беседа при последней встрече с ним запомнилась на всю жизнь. Я убеждался потом бесчисленное число раз: можно говорить без слов – глазами. Глаза – зеркало нашей души, через них вырываются наружу внутренние переживания. И потому невыносимо играть роль, где у героя лишние или неточные слова, они противоречат мимике, жестам, выражению глаз актера, они мешают донести до зрителя истинный характер персонажа.
Какое счастье, что наши классики умели ценить русский язык и не допускали словоблудия. К сожалению, их опыт не переняли нынешние драматурги. Они думают, что чем больше слов, тем психологически глубже образ. Ничего подобного! Сценарист обязан помнить, что, кроме его текста, существует артист, который может без слов выполнить поставленную задачу.
В чем наше актерское искусство? У тебя должно быть чувство меры. Если в роли появилась пустая фраза, ее надо выбрасывать безжалостно.
Помню, работал на картине «Неподсуден» у режиссеров В. Ускова и В. Краснопольского. Они потом писали, как их удивляло, что Стриженов заходил в монтажную и просил вырезать тот или иной свой крупный план, тогда как многие актеры, наоборот, борются за каждый крупный план – чем больше их, тем, им кажется, роль лучше. Особенно, если при этом произносится много слов.
Ерунда. Крупный план на экране должен сам за себя говорить без всяких слов. Как, впрочем, и множество других планов. Зритель должен понять по движениям и взгляду героя его внутреннее состояние. Крупный план не должен быть пустым.
Беда нашего массового кинематографа, что он привык все объяснять, как будто в кинотеатр приходит стадо баранов, не знающих, что такое любовь, смелость, доброта, ненависть, зависть, злоба. Зачем пустословить? Надо уважать зрителя, доставлять ему удовольствие самостоятельно понять фильм и его героев, а не преподносить на блюдечке разжеванную мораль, пустословие, тирады и лозунги.
Олег Стриженов с Джавахарлалом Неру. Индия. Дели. 1956 г.
Ходжа Ахмад Аббас был в каком-то смысле идеальным режиссером. Прежде всего в отношении к актерам. Профессия постановщика требует больших организаторских усилий, и часто случается, что, занятый подготовкой к съемкам, работой с оператором, художником, да мало ли еще чем, режиссер как-то забывает об актере. Позволяет себе быть нетерпеливым, раздражительным. А актер – существо ранимое, от того, в каком состоянии он находится, впрямую зависит, насколько удастся ему роль.
Аббас же, как бы ни был занят постановочной частью, ни на секунду не забывал об актерах, они всегда находились в центре его внимания. И актеры его обожали. Наргис, Балрадж Сахни, Притхви Радж были его искренними и преданными друзьями.
Мне кажется, у Аббаса никто не мог играть плохо. К тому же его умение проникнуть в суть человека порой позволяло ему открыть в исполнителе что-то такое, чего он в себе и не подозревал. Оттого, наверное, многие из индийских артистов, начинавшие у Аббаса, впоследствии стали звездами – и Амитабх Баччан, и Митхун Чакроборти, и Смита Патил.
Аббас во время съемок умел создать такую атмосферу, в которой каждому было хорошо. Меня он по-отечески опекал, хотя сам был далеко не стар. Мы с моими индийскими партнерами подружились и прекрасно понимали друг друга, даже не зная языка. И это также благодаря Аббасу, его неиссякаемому дружелюбию, мягкости, умению объяснить творческую задачу. Ему всегда удавалось шуткой, улыбкой погасить усталость, снять напряжение.
Меня поражали в нем и невероятная энергия, и способность быстро принимать решения. Помню съемки эпизода с горящими кораблями на Волге – эпизод по тем временам необычно трудный в постановочном отношении. Многие растерялись: как совладать с таким количеством реквизита, с такой огромной массовкой? Но под руководством Аббаса все организационные моменты прошли гладко, и съемки удались блестяще. Небольшого роста, худощавый, подвижный, он как будто находился сразу в десяти местах и мгновенно справлялся с массой проблем.
Аббас часто рассказывал мне о Неру. Они учились в одном колледже, дружили. И вот в Дели вместе с Аббасом и Притхви Раджем мы посетили премьер-министра Индии. Джавахарлал Неру оказался удивительно светлым: белые-белые волосы, белая одежда, необыкновенно простой и вместе с тем величественный, очень красивый человек. Его простота, естественность и достоинство потрясали как откровение. Он вел себя со мной так почтительно, внимательно и заинтересованно, как будто это не он, а я был великим государственным деятелем.
Трезвый и добрый взгляд на мир у Аббаса сочетался с возвышенной духовностью, постоянным стремлением к идеалу. Это проявилось и в картине «Хождение за три моря». Афанасий Никитин, каким его увидели мы, верит, что человечность и доброта способны преодолеть все различия, порожденные непохожими географическими условиями и укладом жизни наших стран. Он ищет при этом не то, что разделяет людей, а то, что их сближает.
В 1958 году, когда уже прошла премьера «Хождения за три моря», накануне какого-то праздника Хрущев по традиции, заведенной Сталиным, решил собрать творческую интеллигенцию. Я тоже получил приглашение в Кремль на праздничный вечер.
В Георгиевском зале буквой «п» стояли столы. Во главе восседал Никита Сергеевич, по бокам от него все, кого я знал по портретам в учебниках: Ворошилов, Буденный, Булганин, Молотов.
Я занял место совсем рядом с торцевым столом партийных лидеров, где перед обеденным прибором стояла табличка с моей фамилией. Рядом оказались несравненная Любовь Петровна Орлова и один из создателей советской музыкальной кинокомедии Григорий Васильевич Александров. А напротив лица, знакомые по детским годам, когда я с мамой и папой ходил в цирк, – знаменитые дрессировщики зверей Владимир Дуров и Борис Эдер. Все вокруг с орденами, все давно известны всей стране. А тут еще Любовь Петровна говорит, что она моя поклонница. Казалось, что я в сказке, а не в реальном мире.
Когда с Александровым, который был запросто со всем высшим начальством, вышли размяться из-за стола, попались навстречу Хрущеву со свитой. Никита Сергеевич узнал меня, представил своему ближайшему спутнику, худому бородатому мужчине: «Знакомься, Никита из Индии приехал. – Так он почему-то назвал моего героя Афанасия Никитина. – Хорошо, что у нас теперь молодые люди играют. И какие роли! Ведь без грима не узнать в нем Никиту».
Спутником Хрущева, как я узнал позже, оказался трижды Герой Социалистического Труда академик Курчатов.
В 1957 году Никита Сергеевич жил напротив «Мосфильма», в поселке, прозванном потом народом «Заветы Ильича». А у нас на «Мосфильме» построили «Тонстудию» для озвучивания фильмов. И только здесь существовал единственный на всю Москву широкий экран. Хрущев время от времени устраивал в «Тонстудии» просмотры зарубежных широкоэкранных кинолент, приглашая известных актеров. Здесь мы с ним иногда встречались, и здесь же он посмотрел «Хождение за три моря». Лишь позже в кинотеатре «Художественный» появился второй широкий экран, и наш совместный с Индией фильм стал достоянием непривилегированных зрителей.
Спустя тридцать лет я вновь побывал в Индии. Признаюсь, был поражен: люди помнили наш фильм. Мне даже напевали из него песни.
Снимаясь в Индии в «Хождении за три моря», я сдружился с нашим кинооператором Евгением Николаевичем Андриканисом. Он меня и подбил на зарубежный вояж.
– Можно нам с Евгением Николаевичем, – при встрече попросил я нашего посла в Индии, – обратно вернуться не вместе с группой, а окружным путем?
Посол дал согласие. Мы поднакопили индийских рупий, которые тогда ценились в мире чуть ли не наравне с долларами, получили визы на остановки и из Бомбея вылетели в Каир, оттуда в Рим и Париж и уже только потом вернулись домой.
Это было великолепно – побывать за границей вдвоем, без всяких там гидов и стукачей. Евгений Николаевич родился в Париже в семье политэмигрантов и блистательно знал французский язык. Так что переводчик нам не требовался, деньги более-менее приличные имелись, и главное – была полная свобода. Я впервые увидел страны, о которых раньше знал только по картинкам в учебниках. Все музеи, картинные галереи, памятники прошедших эпох, старинные улочки и современные кафе – в нашем распоряжении. Одеты мы с иголочки, так как в Индии могли приобрести все самое модное, по виду – типичные европейцы.
– Ты только молчи, и за шведа сойдешь, – посоветовал Андриканис.
В Париже на оставшиеся деньги пошиковали – остановились в отеле «Орсей» напротив Лувра. Евгений Николаевич был моим гидом, провел и по музеям, и по примечательным местам Парижа. Весь город исходили пешком.
Андриканис оказался фанатиком-коллекционером, он тратил деньги не на иноземные штаны и рубашки, а на книги об искусстве.
Честно говоря, сходили мы не только в Лувр, но и на стриптиз. Знали, что с делегацией никогда не попадем на подобное зрелище, какой-нибудь поганенький стукач тотчас донесет, что мы родину продаем. Хотя, по правде говоря, не мы ее продавали, а они, как оказалось впоследствии.
Мы жили, не думая о завтрашнем дне, понимая, что, может быть, больше никогда не удастся выбраться за границу. Так и прошли две бурные недели.
С Женей, как просил меня звать его Андриканис несмотря на то, что был старше на двадцать лет, пришлось снова встретиться по работе спустя три года. Он дружил с Паустовским, написал о нем книгу и взялся самостоятельно поставить фильм по его книге «Северная повесть», в котором предложил мне роль Бестужева.
Каннский кинофестиваль
Канн – французский город на побережье Средиземного моря, место проведения самого престижного международного кинофестиваля. В мае пятьдесят седьмого года на очередной кинофестиваль приехала довольно большая советская группа. «Сорок первый» шел как конкурсная картина, и с ней послали меня, Изольду и Чухрая. Николай Константинович Черкасов с Григорием Михайловичем Козинцевым привезли вне конкурса «Дон Кихота», Роман Кармен – документальный фильм. Главой делегации был заместитель министра культуры по кинематографии Сурин.
Что мне запомнилось? В Париже делегацию очень мило приняли в советском посольстве. Ужин, беседы. Нам с Изольдой, наверное, как самым молодым, очень симпатизировал посол СССР во Франции Сергей Александрович Виноградов. Зная наш пустой карман, он присылал к нам в гостиницу машину, и посыльный объявлял: «Вас Сергей Александрович ждет». Он нас ждал, чтобы покормить.
Когда прибыли в Канн, нас поселили в большом фешенебельном отеле «Карлоон» на набережной Круазетт. Здесь жили делегации лишь четырех стран – Советского Союза, Англии, Франции и США. Этим как бы оказывали особое почтение и четырем самым мощным государствам, и их развитому кинематографу.
Олег Стриженов на Каннском фестивале. Франция. 1957 г.
Капиталисты приезжали – не глядя разбрасывали деньги в ресторанах, казино. Мы ничего подобного себе позволить не могли, зато ощущали себя внутренне богаче, гордились привезенной картиной. И Виноградов нас не забывал, заботился о нашем престиже как представителей Страны Советов. Подгонит, к примеру, прямо к «Карлоону» великолепную яхту, и мы прямо из отеля поднимаемся на нее, будто миллионеры-толстосумы.
Нам дойти от отеля до фестивального дворца всего несколько шагов. Но существовал обычай – делегации обязательно подъезжали. Когда настал день премьеры «Сорок первого», Сергей Александрович подогнал к отелю шикарную машину. Помню, в нее тотчас захотел влезть Сурин. Но Виноградов взял его за плечо и говорит: «Вы подождите. Пусть сядут Олег, Изольда и Гриша. А мы с вами пройдем пешочком – это у них премьера, а не у нас».
И вот шофер открывает дверцу лимузина, мы выходим на красную дорожку, под стрекотанье кинокамер и под взглядами сотен пар глаз профессиональных киноработников поднимаемся по лестнице на балкон, где в ложе бельэтажа по обычаю сидят виновники торжества. В другие же дни каждая делегация имела свои пронумерованные места в партере.
Нам аплодировали и во время просмотра, и по его окончании. Мы даже посчитали, что получим «Пальмовую ветвь». Но ее взяли себе устроители кинофестиваля – французы. Не остались и мы без наград, получив несколько престижных дипломов и восторженные отзывы прессы. И все же чувствовали, что по справедливости первый приз должен был достаться нам.
В Канне побывать очень интересно – побродить по побережью, посетить Ниццу, Монте-Карло, Марсель. В Марселе наш фильм показывали в большом кинозале, присутствовало много белоэмигрантов. Они завалили нас цветами, кричали вдогонку: «Целуйте родину, целуйте нашу землю».
А в Монако нас повезли в Южный телецентр, работавший и на Францию, и на Италию. Там мы оказались втроем с Чухраем и с переводчиком месье Монпером, французским коммунистом. Не знаю, куда пропала Изольда, кажется, ее увез Сурин в Париж.
На телецентре, пока не подошла наша очередь выступать, нам предложили пройти в ресторан, обещая позвать, когда понадобимся. Сели за столик с Чухраем, и, как все советские люди, ничего не спрашиваем, глотаем слюнки – денег-то нет. Хорошо, месье Монпер, поняв, отчего мы столь скромны, подсказал: «Заказывайте, здесь для вас все бесплатно». После таких слов мы само собой приободрились и вдоволь полакомились французской кухней.
Наконец повели в павильон, усадили за столик с шампанским и потекла непринужденная беседа, прерываемая только глотком настоящего французского шипучего вина. Но – стоп, передача закончилась, и яркий свет в помещении поблек. Тут к нам подходит светленькая молоденькая девушка и на русском языке, правда с легким акцентом, представляется как дочь генерала, уехавшего из России после революции, знакомит со своими друзьями – итальянским режиссером, оператором из русских эмигрантов, еще двумя-тремя молодыми людьми. «Мы так редко видим русских, – продолжает она, – и просим вас подарить нам сегодняшний вечер…» Я повернулся к Чухраю и говорю немножко с иронией, ведь он член КПСС: «Гриш, как ты? Я – за. Что твоя партия говорит по этому поводу?» – «При чем здесь партия. Видно же – хорошие люди. Я не против», – согласился он. «Ну и прекрасно! Мы же не родину продавать едем».
И поехали. Мне только потом было жалко Николая Константиновича Черкасова, которого Сурин, отправившийся в Париж, оставил замещать себя. Старик безумно волновался, что мы вовремя не вернулись. Когда наконец на рассвете прибыли живы-здоровы, разворчался: «Что же вы, ребята, так долго, мало ли что могло случиться». – «Зачем же вы волновались, Николай Константинович, – отвечаю, – ведь вам французская полиция наверняка о нас постоянно сообщала: как мы посетили казино, испанский ресторан, гуляли по улицам Монте-Карло». Так оно и было – за нами как участниками кинофестиваля все время следовала полиция, чтобы, не дай бог, мы, гости Франции, не угодили в неприятную ситуацию.
Мы знали Черкасова как прекрасного человека, который не станет докладывать о нашей самовольной отлучке начальству. Я, уверенный в его доброте и отзывчивости, попросил: «Николай Константинович, только учтите, что мы, расставаясь с нашими новыми друзьями, пригласили их в гости сегодня к двенадцати часам дня. Вы уж будьте любезны, распорядитесь из представительских запасов накрыть стол». Он лишь вздохнул (нелегки обязанности исполняющего обязанности начальника группы), но к приезду гостей на нашем столе появились «Столичная» водка, черная икра и другая снедь, которую обычно возили с собой за границу наши делегации.
Новые друзья прибыли вовремя. Познакомили их с Черкасовым. Его все знали, особенно по кинофильму «Иван Грозный». Сели и под дружескую беседу выпили и закусили. Потом поехали кататься на автомобиле. Завернули в городок, где жил Пикассо, но он оказался в отъезде. Побывали в других небольших французских городах и селах. И ни разу улыбки не сходили с лиц ни у нас, ни у наших новых друзей.
В Канне всегда существовала культура фестиваля, которую мы, к сожалению, до сих пор не переняли. К примеру, собираются наши современные киноработники в Сочи. Конечно, жарко. Но в Канне тоже прохлады нет. Там, однако, для всех существует единая униформа. А на Сочинском кинофестивале кто-то оделся как положено – в смокинг и бабочку, а другой, сидящий рядом, плюет на правила хорошего тона и восседает чуть ли не в майке. Получается, глядя со стороны, что один из них дурак. Чтобы не было подобного неуважения друг к другу, на официальных мероприятиях разрабатываются особые правила, которым обязаны подчиняться все до единого приглашенные. Когда в Канне мы пришли с Черкасовым на какой-то просмотр и он оказался в галстуке, его не пустили в зал. «Я – Иван Грозный, Иван Четыре», – возмутился было Николай Константинович. «Знаем, – отвечают, – товарищ Грозный. Артист вы замечательный. И все же – магазин отсюда в двух шагах, сходите и купите черную бабочку». Пришлось выбирать, какая подешевле. Только тогда пропустили. В этом чувствуется культура, уважение к тем, кто пришел даже в жару в том костюме, который установлен многолетней традицией.
И мы, советские, умели и в Канне, и в Париже, и в любой иной чужой земле показать себя, умели одеться не только мужчины, которым всегда легче в выборе наряда, но и женщины. Шили сами, напрокат брали платья у знакомых, но выглядели не хуже зарубежных звезд.
Мы не боялись вопросов, которые задавали репортеры явно с издевкой: «Сколько вы получаете?» Отвечали: «Вам столько и не снилось». Меня раз спросили: «Сколько у вас костюмов?» – «Не помню», – отвечаю. После этого писали, что я, должно быть, очень богат, если не мог сосчитать своих костюмов. А мне лишь смешно от их мелочности и преклонения перед богатством.
Сейчас, если новые русские олигархи и попадают в Канн, соря там деньгами и выставляя напоказ золотые украшения, то все равно они живут на задворках, и никто из почтенной публики на них не обращает внимания. Нас же – уважали и почитали. Во-первых, как представителей сильного государства. Во-вторых, как воспитанников прекрасной актерской школы, которую знал весь мир. И, в-третьих, как страну, где создано немало прекрасных кинолент. Нам было чем похвалиться, кроме золотых побрякушек.
В тот год Канн увидел множество знаменитостей. Среди них старейшие актеры: Шарль Буайе, Марлен Дитрих, Генри Фонда, Курт Юргенс и Мария Шелл. Я познакомился с замечательным писателем Жоржем Сименоном и с другим знаменитым французским писателем и театральным деятелем Жаном Кокто. Сблизились с Майклом Тодтом – известным на весь мир американским продюсером, который приехал на фестиваль со своей юной женой Элизабет Тейлор, ждавшей тогда ребенка.
Майкл был невероятно энергичным и деловым человеком. Его картины в конкурсе не участвовали, просто он привез показать Канн молодой жене. Элизабет не сходила с обложек журналов, газетчики спорили, сколько весит и сколько стоит ее пуховая накидка или сколько алмазов в ее короне. Чтобы развлечь зрителей и прорекламировать свою продукцию, Майкл вне конкурса привез картину по Жюль Верну «За восемьдесят дней вокруг света». Он установил огромный воздушный шар, который снимали в фильме, на пляже возле отеля, и его надували в присутствии публики. А многочисленным журналистам раздавали ковровые саквояжи – копии того, с которым путешествовал вокруг Земли главный киногерой. И это еще не все. Майкл привез с собой целый мини-зоопарк, и, когда пригласил нас на банкет, мы бродили из зала в зал, окруженные клетками с тиграми, львами, экзотическими птицами. Несмотря на свои рекламные причуды и несчитаные деньги, он оставался доброжелательным веселым человеком.
Помню, во второй и последний раз мы с ним встретились в конце пятьдесят восьмого года в Москве. Я сидел с друзьями из Индии в «Арагви» – отмечали премьеру картины «Хождение за три моря». Вдруг заметил невдалеке Майкла и Элизабет. Подошел к ним поздороваться, разговорились. Он тогда собирался снимать «Дон Кихота» и хотел заполучить на роль Санчо Пансы нашего замечательного клоуна Олега Попова. К сожалению, Майкл Тодт вскоре при перелете на собственном самолете в Испанию погиб в аварии.
Люди, собравшиеся тогда на Каннский кинофестиваль, не забываются никогда. Познакомиться с ними, принимать от них поздравления многого стоит.
Мне не часто удавалось посещать международные кинофестивали – все время отнимали съемки, бесконечные командировки, а позже и работа в Художественном театре. Ездили все больше режиссеры и сотрудники Министерства культуры. Лишь иногда вырвешься, к примеру, на Неделю советских фильмов в Италию, Норвегию или другие страны. И все же удалось посмотреть мир, побывать в Англии, Японии, Афганистане, большинстве социалистических стран, где шли премьеры фильмов с моим участием.
Но чаще мне даже не сообщали, в какую страну и с какой целью везут тот или иной фильм, где я играл главную роль. Так, «Капитанская дочка» в Брюсселе получила приз «Золотой парус», а я только задним числом узнал об этом. Смешно получилось с Шестым Всемирным кинофестивалем научно-фантастических фильмов в Триесте. Мне там присудили главный приз «Серебряный астероид» за лучшее исполнение мужской роли (фильм «Его звали Роберт»). Но о том, что «получил» приз, я узнал лет пятнадцать спустя. Кто-то ездил туда, сославшись, что я «занят в производстве», и даже не удосужился по возвращении сообщить мне о награде, и уж тем более никто не передал мне этот «Серебряный астероид» и диплом.
У нас существовала вообще некрасивая традиция: люди получали призы за свою работу, чиновники их тут же отбирали и сдавали в Госкино. Потом как-то на выставке в фойе Союза кинематографистов я видел множество наград артистов, в том числе и своих, которые никогда не доходили до адресата.
Премьера «Сорок первого». С Изольдой Извицкой на Монмартре в Париже. 1957 г.
Пудовкин говорил, что «кинематографу нужны великая литература, великая живопись, великая музыка». А Евгений Габрилович добавлял: «…И великий актер. Не вообще великий актер, а именно актер кино, связанный с ним на всю жизнь, преданный ему, знающий все тайны его существа. Актер особой органики, способный, даже перевоплощаясь в зависимости от роли, выдержать испытание крупным планом экрана. Суровое испытание, и далеко не все талантливые артисты преодолевают его без потерь».
Обо мне Габрилович говорил, когда я сыграл в «Оводе» по его сценарию: «Здесь было настоящее, и мы поздравили себя, что открыли для кинематографа героя нового типа. Именно такой герой был жизненно необходим кинематографу пятидесятых годов».
То есть ты необходим, потому что самобытен и неповторим. Поэтому удивляет, когда тебя сравнивают с другими, указывают, на кого ты похож. Так, во французской газете конца пятидесятых годов появилась заметка «Советский Жерар Филип». «Мужчина, знаменитый из советского фильма «Сорок первый», является двойником Жерара Филипа. Одинаковая утонченность, одинаковая улыбка, одинаковая деликатность, одинаковые солнечные очки и, без сомнения, одинаковый талант. Журналисты ласково прозвали его Жераром Филиповым. Но этот милый молодой человек, который не понимает соли французских шуток, спрашивает, почему при каждом появлении ему делают комплименты о его перевоплощении в фильмах «Красота дьявола», «Такой красивый маленький пляж» и «Большие маневры».
Да, я не понимаю и не хочу понимать французских шуток, весь смысл которых в том, что на тебя навешивают ярлык: похож на популярного французского актера и еще выдают эту недалекую мысль за комплимент. Умные критики сравнивали меня с Жераром Филипом не за сходство в игре, а как личность национальную, поясняя, что же это такое – актер, играющий ведущие роли своей отечественной классики.
У нас в Советском Союзе в актерской среде бытовало неуважение к себе как к индивидуальной личности, ложный стыд за свое имя. Помню историю-анекдот, как делегация от Союза писателей приехала в одну из азиатских республик. Гостей из Москвы с распростертыми объятьями встретил глава местных писателей и стал представлять своих коллег по перу.
– Это наша Анна Ахматова… Это наш Владимир Маяковский… Это наш Михаил Шолохов…
– А вы сами-то кто будете? – спрашивает руководитель московской делегации.
– А я, – скромно потупился глава местных писателей, – я наш Максим Горький.
Нет, нельзя отказываться от собственного «я» и утешаться, что ты похож на кого-то другого. Талантливый человек должен быть похож только на самого себя.
Триумф советского кино за рубежом – явление редкое. «Сорок первый» отметили на Каннском фестивале, состоялась премьера в Париже, и, проходя где-нибудь по Елисейским Полям, я чувствовал на себе взгляды парижан, ко мне подходили взять автограф. Но это же на полгода, на год. Популярность надо поддерживать постоянно, а советские чиновники этого не хотели и не умели делать. У нас скорее станут популяризировать иностранную кинозвезду, чем своих актеров.
Помню, как в Советском Союзе звенел Радж Капур. Но его не знали ни в Париже, ни тем более в Америке. Или изо всех окон раздавались мелодии Лолиты Торрес. Да сами аргентинцы ей отводили далеко не первое место в своем отечестве. Зато у нас звенела, как будто собственных певиц недоставало.
Надо понимать, что никто наше кино, кроме нас, пропагандировать не станет. Премьера прошла – и все забылось. Америка ни одного европейского фильма прославлять не станет, особенно советского.
Если получилась хорошая картина, тебя будут знать в кинематографической среде, то есть среди профессионалов, но не широкий зритель. Даже такие фильмы, как «Броненосец «Потемкин» или «Иван Грозный», не допускали в большие европейские и американские кинотеатры.
Своих звезд кинематографа американцы раскручивают на протяжении нескольких лет, зачастую подписывая с ними длительный кабальный контракт. Будущая звезда начинает мелькать на обложках журналов, в телепередачах. Специалисты до мелочей обсасывают каждый факт биографии будущей примадонны, создают вымышленные скандальные истории, лишь бы привлечь внимание обывателей к пропагандируемому имени.
Сейчас и наши продюсеры переняли этот американский механизм для выращивания эстрадных звезд. И вот полуголодный наш зритель должен любоваться по телевизору, как безголосой певице в фешенебельном ресторане подают на золоте и серебре изысканный обед. Жуть берет от подобных сцен на фоне голодающей и замерзающей страны.
Продюсеру в капиталистическом мире главное – вычислить, кто может стать звездой, вложить в рекламу этого человека деньги и заработать на нем в несколько раз больше, чем истрачено. Отчасти поэтому он пытается своими низкопробными фильмами наводнить Африку и уже позабывшую свои славные кинематографические традиции Россию. Мы с каким-то безумным постоянством в последние годы покупаем чужие киноленты, которые в своем отечестве если и могут получить приз, так только за худший сценарий или худшую роль года.
Есть, конечно, способ русскому артисту стать известным на Западе – играть в их фильмах. Но, когда поступали такие предложения, с удивлением узнавал из газет, что Олег Стриженов слишком занят и вынужден отказаться от предложения. Наши чиновники, не спросясь меня, неизменно отвечали: «Занят в производстве».
Удавалось участвовать только в совместных картинах. В советско-французской «Третья молодость» я играл Петра Чайковского, в советско-индийской «Хождение за три моря» – Афанасия Никитина. Разрешили поехать за границу одному лишь однажды – к известному чешскому режиссеру Иржи Вайсу, у которого в фильме «Трус» я играл советского партизана Олега – ленинградского студента, случайно попавшего в годы войны на территорию Чехословакии. И то меня отпустили с неохотой, Иржи Вайсу пришлось приезжать в Москву и добиваться разрешения.
В нашем кино были настоящие звезды, только не благодаря, а вопреки кинематографическим чиновникам. Их делала популярными зрительская любовь. И режиссер стремился заполучить на свою картину уже известного и понравившегося актера, зная, что даже если фильм окажется не совсем удачным, в кинотеатр люди потянутся благодаря нашумевшему имени.
Петр Мартынович Алейников снялся в «Большой жизни» и «Трактористах», и зритель накрепко запомнил его имя, полюбил героев, которых он играл. И уже как услышит, что среди исполнителей есть Алейников, сразу решает: «Надо идти в кинотеатр». То же с Крючковым, Симоновым, Мордвиновым. Вот только слово «звезда» у нас тогда не прижилось, оно носило пренебрежительный оттенок и означало яркий типаж, а не настоящий актерский талант.
Царское Село
В театральном училище, кроме других дисциплин, нам преподавали акробатику, фехтование, танец, сценодвижение, ритмику. И если по роли предстоит фехтовать, то фехтую сам, перед этим репетируя поединок с профессиональным фехтовальщиком.
Но, например, боксировать уметь я не обязан. Со мной об этом заключают отдельный договор, и идет отдельная оплата. Боксерский поединок – это спортивная сцена, если ты сможешь «вытянуть» ее, тебе не запретят. Другое дело, работа, связанная с риском для жизни. Многие актеры любят рассказывать небылицы вплоть до того, что они – великие каскадеры. Врут бесстыдно. Никто их никогда не допустит к исполнению этой смертельно опасной работы.
Я иногда просил разрешить мне исполнить тот или иной опасный трюк, и всегда получал отказ. Например, прыгнуть с Кировского моста в фильме «Его звали Роберт». Да я мальчишкой с больших высот прыгал, тем более лететь надо было солдатиком. Нет, мне никогда не позволит подобного директор картины. Он отвечает за меня, за мою жизнь.
Есть статья об охране труда. Администратор, допустивший смерть Урбанского, попал в тюрьму. Урбанский сидел в машине, когда выполняли трюк, а по закону не имел права. На его месте должен был быть или каскадер, или мешок с песком. Снимали дальний план. Ведь машину вел каскадер, он и остался жив, а Урбанский погиб. Посадили в тюрьму заместителя директора. Счастье директора, что его не было на съемочной площадке, а то и он оказался бы за решеткой. Посадили, потому что главный администратор, присутствующий на съемках, не подошел к артисту и не заявил: «Вы не поедете, это не ваша работа». И человека не стало. Два раза проехал – обошлось, на третий погиб.
Конечно, актер должен уметь, к примеру, плавать. Если же не умеешь, придется приглашать дублера и снимать без крупных планов. Получится обкраденная сцена, неудачный эпизод. То же можно сказать об умении держаться на лошади. Есть артисты, которые падают в обморок, если лошадь от него ближе чем за пять метров. Так, в «Войне и мире» одному персонажу нужно было скакать, а взя-тый на эту роль актер патологически боялся лошадей. Вот и снимали его крупный план по пояс, когда он ехал на машине и подпрыгивал, создавая иллюзию, что скачет на лошади. Но опытный глаз сразу определит, глядя на экран, что в этом эпизоде что-то не то, фальшиво.
Я люблю лошадей, всегда сам скакал на них в фильмах, давая возможность оператору снять крупный план, показать морду коня и седока на нем, то есть воссоздать реальную обстановку. Возьмите Крючкова. Он сам и трактора водил, и танки. А как плясал, как лихо пел! И на гармошке сам играл!
Трюк же есть трюк, есть каскадеры, которых раньше так и называли: трюковая группа. Рад, что сейчас наконец стали писать в титрах их фамилии, рассказывать об их трудной работе.
Кадр из фильма «Белые ночи». Настенька – Людмила Марченко. 1959 г.
Трюкач – профессионал, который подписывает договор на опасную работу и сам определяет, сможет он проделать тот или иной рискованный трюк и при этом остаться целым и невредимым.
Если же подобное по недомыслию разрешают актеру, может случиться беда. Так на Киевской киностудии сгорела молодая актриса. Снимали горящую избу, и она не успела из нее выбежать. Удивительно, что ей разрешили участвовать в подобном эпизоде. Ведь это сверхопасная сцена. Правда, сам чуть не оказался на ее месте. Снимали «Хождение за три моря». Я влетел в горящую избу, схватил куклу-ребеночка, успел вовремя выскочить, и лишь потом рухнула крыша. Сделали только один дубль – пронесло. Когда вбежал в избу – вдруг ощутил невозможный жар. Главная опасность не в огне, а в раскаленном воздухе, который, попав в легкие, перехватывает дыхание. Видно, та несчастная молодая актриса вбежала в помещение, глотнула этого жара и упала. Произошло отравление газами.
Вообще огненные сцены очень опасны. Тут и каскадер не поможет – тоже сгорит. Режиссеру хорошо наблюдать за пожаром издали и лишь командовать: «Поддайте солярки, огня мало». А сам все отодвигается от пламени, тогда как актеру надо к нему приближаться.
Зритель же порой думает, что нас подстерегает опасность совсем в другом месте. Это ощущение создают комбинированные съемки. Например, Инна Макарова в «Высоте» пляшет чечетку на балке, которая поднята над землей на сотню метров. На самом деле она находилась в трех метрах от земли, а камеру устанавливали снизу. Благодаря специальному инфроэкрану и монтажу танца с панорамой города получалось ощущение чудовищной высоты.
С комбинированными съемками мне особенно близко и хорошо удалось познакомиться при работе над фильмом «Его звали Роберт», где я играю сразу двух персонажей.
Но, кроме трюков, есть сцены чисто спортивного плана. Для этого к актеру на период работы над картиной прикрепляется тренер, с которым он должен постоянно заниматься. Если ты даже раньше хорошо сидел в седле, но год или два не скакал на лошади, надо ходить на тренировки в манеж, вновь привыкать к коню, развивать мышцы. А то потом будешь валяться в лежку и стонать от боли в ногах.
В фильме «Белые ночи» у меня был небольшой проскок на лошади, но зато невероятно длинный бой на шпагах. Мы репетиро-вали его ежедневно и в спортзале, и позже с декорациями, и, естественно, на съемках перед каждым дублем. Шпаги настоящие, тяжелые, ритм и темп высокие, репетиций и дублей много. Да и опасность подстерегает везде, даже, как говорится, на ровном месте.
Вот, например, у партнера сломался кончик шпаги и, отлетев, впился мне в подбородок. Рана, кровь! Врач быстро останавливает кровь, дезинфицирует рану, заклеивает ее. И сразу же надо продолжать съемку.
На съемках фильма «Белые ночи» неожиданно серьезно заболел постановщик картины Иван Александрович Пырьев. Катастрофа – надо останавливать съемочный процесс! Но это невозможно – все подготовлено. И вот все мы (каждый по своей профессии) получили от Пырьева задания и уехали в Ленинград, чтобы успеть заснять настоящие белые ночи, наши прогулки с Настенькой. Приходилось работать ежедневно по ночам. Поначалу от подобного режима к утру просто валились с ног.
Помню, пришел в гостиничный номер прямо в костюме своего героя и в гриме. Было уже утро. Пока наполнялась ванна, я на секунду прилег на кровать. Когда, пытаясь про-снуться, открыл глаза, то увидел вокруг массу людей. Поднявшись с кровати, я, как и вся шумевшая толпа, оказался по щиколотку в воде. Хорошо, что не запер дверь номера, а то могло бы произойти «великое затопление гостиницы». Не помню, простили меня или пришлось платить за ремонт…
Вскоре мы, как говорится, акклиматизировались и днем уже почти не спали.
Чем я занимался в свободное от съемок время? Ну, я же в какой-то степени петербуржец. Был у меня в Царском Селе друг Паша – замечательный скульптор-монументалист. Его жена – художница по куклам. (По старой памяти меня всегда тянуло к художникам.)
У Паши в доме уютно и интересно. Громадный кот, красавица овчарка, повсюду куклы и камин. Жил он в старинной кирхе, переделанной под жилые помещения. Во дворе в отдельном доме размещались его мастерская и конюшня с сеновалом. На этом сеновале я иногда немного досыпал после ночных съемок, с приятным волнением вспоминая свое детство и кавалерийские конюшни пограншколы.
Моей любовью был белый конь по кличке Талант, подаренный Павлу государством для натуры как хорошему скульптору. Как приятно было иногда к вечеру, оседлав Таланта, прогнать его по Царскому Селу. Прохожие оборачивались. Ей-богу!
Талант, кроме того, был известным артистом. Его доставляли в Кировский оперный театр, где он вывозил на сцену то ли князя Игоря, то ли еще кого-то. Кинозрители могли запомнить его по фильму-опере «Евгений Онегин». На Таланте скакал сам Онегин – мой друг, народный артист России, артист популярнейшего БДТ Вадим Медведев.
Естественно, когда я навещал Павла в Царском Селе, заходил и в Лицей. Тогда он представлял жалкое зрелище. Где находились комнаты-клетушки лицеистов, я увидел черно-грязный коридор с сильно закопченной и невероятно вонявшей коммунальной кухней. Правда, актовый зал в среднем этаже уцелел. Здесь стоял большой стол, перед которым, наверное, на экзаменах читал свои стихи Пушкин. Существовала и старинная, ведущая вверх винтовая лестница. Мне рассказывал кто-то из «стариков», кажется, Константин Вахтеров, что знаменитый Владимир Яхонтов, чтобы уловить ритмы пушкинской поэзии и ощутить саму легкость поэта, дыхание той эпохи, бегал вверх и вниз по этой лестнице, читая стихи Пушкина. И, когда я слушаю сохранившиеся записи Яхонтова, то верю, что он читает пушкинские стихи точно так же, как великий поэт. Недаром же Яхонтов создал «театр одного актера», где исполнял целые спектакли с минимумом атрибутики и костюмов – «Евгений Онегин», «Пиковая дама».
На моих глазах восстанавливался Лицей. Сколько же талантливых мастеров вложили в это благородное дело своего труда и таланта. А главное – любви к своей истории, любви к Родине.
Я не забывал Пашу и его дом и позже, когда снимался на «Ленфильме» в «Пиковой даме». Всегда, попадая в Питер, навещал эту прекрасную семью. Так продолжалось до 1974 года, когда приехал с МХАТом в любимую северную столицу на гастроли. Посетил Царское Село… Не было ни мастерской-конюшни, ни Таланта, ни Паши… Стояла кирха, превращенная в автобазу.
«Пиковая дама»
Жанр кинооперы особенно популярен в Италии, где уже в тридцатых-сороковых годах появились постановки «Фра-Дьяволо», «Риголетто», «Паяцы» и другие. Попытку создания оригинальной кинооперы предприняли в шестидесятых годах во Франции режиссер Ж. Деми и композитор М. Легран: «Шербурские зонтики» и «Девушки из Рошфора».
Начало советской кинооперы относится к 1936 году – «Наталка-Полтавка». Потом сделали еще несколько подобных музыкальных картин.
Наш фильм «Пиковая дама» 1960 года был второй работой в жанре кинооперы режиссера Р. Тихомирова после «Евгения Онегина».
Мне посчастливилось «играть» с замечательным партнером, который пел роль Германа – Зурабом Анджапаридзе, солистом Большого театра, народным артистом СССР, блестящим тенором.
Сначала пришлось всю оперу выучить наизусть, так как даже в эпизодах, где Герман не поет, надо продолжать играть, жить жизнью героя, играть без дирижера, вслушиваясь в каждый музыкальный такт.
Спальня графини… Музыка подчеркивает напряжение момента. Герман входит со свечой, осматривается вокруг. Страшно. Вот он осветил портрет и… запел. Я на сценической площадке должен суметь вовремя начать арию и петь во весь голос, чтобы жили не только губы, но все лицо, все тело. Нужно петь синхронно с певцом и именно в ту силу, которую затрачивает он.
Мне переписали всю оперу на мой маленький магнитофон, слух у меня был превосходный, и я справился с необычной ролью без всякой подсказки в виде дирижерской палочки или нотной тетради. До сих пор помню эту гениальную оперу Чайковского наизусть. Даже чувствую, когда любой оперный певец, боясь в отдельных местах не вытянуть верхних нот, поет ниже.
Трудность роли Германа в чем? Он воспален все время, на пределе нервного возбуждения. И ты должен перед каждой съемкой становиться похожим на него – полусумасшедшим человеком, маньяком. Надо войти в его состояние, жить его страстями. И одновременно чувствовать себя профессиональным певцом, свободно, как рыба в воде, плавать в музыке русского гения. Ведь «Пиковая дама» признана одной из лучших опер мира. Чайковский сочинил ее за сорок четыре дня! Поставил последнюю точку и заплакал.
– Что с тобою? – спрашивает брат Модест.
– Жалко.
– Кого жалко?
– Германа жалко, – ответил Петр Ильич, рыдая.
Вот и я на сценической площадке старался так жить жизнью своего героя, чтобы чувствовать каждый всплеск его мятущейся души. И когда вечером становился самим собой, мне тоже было жалко Германа, до слез. Но я не плакал.
Фильм сняли на одном дыхании – за весну и лето 1960 года. Получилось, что мы как бы переняли у Петра Ильича Чайковского его стремительность в творческой работе.
Олег Стриженов в роли Германна на съемках фильма-оперы «Пиковая дама». 1960 г.
После первого месяца съемок мне надо было для «перебивки» переехать из «Европейской» в другую гостиницу. Так случалось не раз – на съемках «Овода», «В твоих руках жизнь», «Белых ночей». Обычно я выбирал центральный корпус «Астории». Но в этот раз почему-то подошел к главному администратору гостиницы и попросил пятый номер филиала «Астории». Это есенинская комната в бывшем отеле «Англетер». Когда взял ключ у портье и поднялся на второй этаж, долго стоял перед дверью, прежде чем открыть ее. Наконец повернул ключ и, переступив порог, остановился, осматриваясь вокруг. Так бывает, когда попадаешь в морг или крематорий (у меня, во всяком случае). Мебель, думаю, с того памятного 1925 года не уцелела. Вспомнил старую фотографию, на которой изображен покойный Сергей Александрович с неестественно приподнятой рукой на оттоманке.
Все теперь другое – и тумбочки, и письменный стол, и кресла. Прежними остались лишь стены да Исаакий за окном. Я находился в закрытом мною на ключ, неуютном и мрачном номере (уже наступил вечер), но не испытывал страха, разве чувство какой-то бесприютности. Оставив чемодан у двери, подошел к письменному столу, положил на него магнитофон и присел в кресло. Может быть, оно все же осталось от тех времен?.. Знакомый почти со всеми воспоминаниями, посвященными последним дням Есенина, я пытался представить, как он ходил по этой комнате, где останавливался, где присаживался.
Здесь он поселился 24 декабря 1925 года. Если, конечно, поселился… Есть версия, что его привезли сюда уже мертвого и очень глупо, наспех подвесили в углу лицом к батарее и совсем даже не за шею, так как следа от петли не осталось. И при этом учинили «декоративный беспорядок», подбросили бумажку с «последними стихами». История очень темная и запутанная. Да и зачем понадобилось ломать, то есть сносить здание бывшего «Англетера»? Не напоминает ли это уничтожение дома Ипатьева в Свердловске?..
Номер Есенина, где я прожил дней десять, мне очень помог в работе и над «Пиковой дамой», и в дальнейшем над поэзией Есенина. Атмосфера этого места давала нужное настроение. Я слушал здесь на своем магнитофоне не только «Пиковую даму», но и «Лунную сонату» Бетховена, «Реквием» Моцарта, фортепьянные этюды Скрябина и Рахманинова. Представьте, как они действовали в этой обстановке! Здесь у меня родилась мысль читать под сопровождение классической музыки поэмы Есенина «Анна Снегина» и «Черный человек», которые позже вошли в золотой фонд Дома звукозаписи. Сделал я и инсценировку для двоих «Анны Снегиной», где помимо музыки фоном ввел киноэкран. Но это было позже, а сейчас…
Я почти не спал по ночам. Так что состояние и настроение Германа на съемочной площадке даже не приходилось искать.
Часто в мой есенинский номер заходили товарищи из съемочной группы послушать музыку и стихи, поговорить. Зашел как-то переехавший на жительство в Ленинград популярный артист Сергей Гурзо. Потрясенный, через некоторое время он и сам поселился здесь.
Работа над «Пиковой дамой» надолго осталась в памяти. Группа подобралась дружная и талантливая. Потом фильм имел большой успех. Его даже выдвинули на Ленинскую премию. Но «в верхах» решили, что наград достойны исключительно произведения искусства, где присутствует советский положительный герой, а Герман явно не вписывался в эти строгие идеологические рамки. Притом пришлось бы давать награду сразу двум Германам – Олегу Стриженову и Зурабу Анджапаридзе.
Когда закончились съемки, отличавшиеся невероятным темпом работы и нервным напряжением, я решил, что надо передохнуть. Ведь буквально через пару недель или даже меньше меня ждали в Гаграх на съемках «Дуэли» по А. П. Чехову, где мне предстояло сыграть психологически сложного, интересного главного героя Лаевского.
Мой старший мудрый друг Николай Афанасьевич Крючков, который в это время тоже снимался на «Ленфильме», перед отъездом в экспедицию в Ялту предложил:
– Олегорский, – так он меня обычно звал, – приезжай ко мне в Ялту. Тебе необходимо чуток передохнуть. Герман, брат, это не шутка!
Я так и сделал. Николай Афанасьевич целыми днями пропадал на съемках, а я на море. Или в санатории ВТО «Актер», где можно было и пообедать, и шары погонять на бильярде, и соснуть часок-другой, когда захочется. Да и друзей-приятелей здесь хватало. Иногда я затевал с ними вылазки-шашлычки в горы.
Отдых мой подходил к концу.
– Завтра, Олегорский, – говорит Крючков, – поплывешь с моим другом Гарагулей на «Грузии».
– А кто он?
– Ты, Олегорский, не знаешь капитана Гарагули? Ты меня смешишь. Его все кино знает.
Гуляя по набережной накануне дня отплытия, я повстречал дочку известного режиссера Птушко – Наташу. Оказалось, она снималась здесь в фильме-оперетте режиссера Трауберга «Вольный ветер».
– Приходи к нам на съемку в порт, – пригласила Наташа. – Это рядом. – И хитро улыбнувшись, добавила: – У нас такая прекрасная героиня! Кстати, влюблена в тебя.
Я пообещал, и на следующий день, перейдя улицу у гостиницы «Южная», сразу попал в порт. Найти место съемок не представляло труда. Естественно, что люди, не пускавшие никого из публики за веревочное ограждение, не стали останавливать меня. Наоборот, любезно пригласили:
– Пожалуйста, проходите! Очень рады! По себе знаю, что не следует обращать внимание на себя людей, занятых сложным делом, и поэтому остановился в сторонке. Съемка действительно было сложной. Герой и героиня стояли на платформе подъемного крана высоко-высоко над землей и что-то пели. Наверное, про любовь. Музыка разносилась по всему порту.
Когда я попристальнее пригляделся к героине, то чуть не упал от неожиданности. Это была она! Моя чудная милая Ли! Она повзрослела и стала еще красивее. Матросская тельняшка плотно обтягивала ее прекрасную фигурку, высоко вздымалась красивая юная грудь. Я не могу описать моего состояния!..
Наташа Птушко сказала, что Лина заканчивает Театральный институт им. Луначарского, живет в Москве в знаменитом общежитии на Трифоновке и что вообще она прелесть.
Времени не оставалось дожидаться окончания съемок, и я поспешил в гостиницу собирать вещи, ведь меня уже ожидала «Грузия», чтобы увезти в Сочи. Той тоски, какую ощущал при отплытии «Победы» из Одессы, уже не чувствовал, даже был счастлив. Счастлив, что наконец увидел ее, узнал, где живет и чем занимается. А главное – она любит меня! Ведь нет никакого резона Наташе врать.
Уверенный, что в Москве найду ее, я спокойно поднялся по трапу на «Грузию». Долго смотрел на удаляющийся порт, огромные краны, съемочную площадку. Злобы и горечи не было, плакать тоже не хотелось, но сердце почему-то щемило…
«Дуэль»
В сочинском порту меня встречал директор картины – мой старый знакомец по «Сорок первому». Когда вышли на площадь, меня охватили удивление и неописуемое счастье – нас дожидался мой старый друг – ворошиловский «Кадиллак» с открытым верхом. Мне показалось, что своим сиянием он тоже выражает восторг по поводу нашей встречи.
Мы разместились на мягких, из желтой кожи сиденьях и рванули прямо в Гагры. Меня поместили в знаменитой гостинице «Гагрипша», в номере с маленьким балкончиком под самой «скворешней», с видом на море. Слева виднелась Пицунда. В те времена киношники еще не построили там свой дом отдыха, на его месте располагалась птицеферма, куда мы частенько заскакивали «насчет цыплят табака».
Снимали «Дуэль» и на побережье, и в горах, и в ущельях вплоть до самого озера Рица. Я приезжал на съемки всегда в нашем открытом «Кадиллаке», любуясь по дороге красотой окружающей природы. Когда сейчас видишь хроникальные кадры, в которых показано, как безумные войны и никчемные конфликты изменили этот благодатный край, сердце обливается кровью.
О Чехове, мимо которого не может и не должен пройти ни один актер, я думал давно. Так же, как о Пушкине, А. Н. Островском, Горьком, Достоевском, Шекспире, Шиллере. Лаевский очень непрост для исполнителя. Есть опасность представить его прямолинейно из двух половин – плохой и хороший, чуть ли не злодей и совсем обновленный. Нет, у Лаевского нигде нет одного определенного состояния, у него все смешано, сбито, запутано, хорошее скрыто за плохим, черствость и жестокость перепутаны с действительными страданиями. Все сложно, как всегда у Чехова.
История создания фильма «Дуэль» такова. В Театре-студии киноактера главный режиссер Л. С. Рудник поставил инсценировку по этой повести Чехова. Роль Лаевского играл замечательный Владимир Васильевич Дружников, с которым мы, кстати, дружили. Когда же решили экранизировать спектакль, то руководство объединения «Актер» «Мосфильма» решило переместить Дружникова на роль фон Корена, а Лаевского предложить мне. Я в то время состоял в штате Театра-студии киноактера.
Я заявил, что такое перемещение может обидеть моего друга и соглашусь взять роль Лаевского лишь в том случае, если об этом попросит меня сам Дружников. Скоро мне позвонил Володя и сказал, что понимает, что театр – это одно, а кино – совсем другое и что он по возрасту уже не подходит на роль Лаевского, поэтому просит меня не отказываться от роли. Уговорил.
Получилось, что у всех уже готовые роли, они давно, как говорится, «в материале», одному мне надо начинать с нуля!
Режиссер Л. С. Рудник никогда не снимал кино и понятия не имел, как это делается. Он работал «по внутренней линии», и «Мосфильм» дал ему сорежиссера – никому не известную женщину в какой-то красной кофте. Смешно. Володя Дружников дал ей кличку «Красная режиссура». Так что работать мне предстояло быстро, напряженно и самостоятельно.
Кадр из фильма «Вольный ветер». В роли Стеллы – Лионелла Скирда
На счастье оператором картины выбрали мою соседку по подъезду и приятельницу Тосю Эгину. Так что, несмотря на некую театральность фильма, он мне дорог. Тем более что поставлен он по произведению Антона Павловича Чехова.
«Баррандов-фильм»
Шестьдесят первый год у меня прошел в основном в работе над фильмом «Трус» чешского режиссера Иржи Вайса, постановщика нашумевшей картины «Ромео, Джульетта и тьма», получившей первый приз на Венецианском кинофестивале.
Иржи Вайс спорил со своими коллегами на студии «Баррандов-фильм», что нельзя в картине, посвященной годам войны с фашизмом, русского партизана играть чеху. Он помнил меня по «Сорок первому» и решил предложить эту роль мне. В Москве ему то же самое посоветовали наши ведущие режиссеры.
На главную роль Учителя взяли замечательного актера из Национального театра Словакии Владислава Худика. Его жену играла известная чешская актриса Даниэлла Смутна. На роль немца пригласили знаменитого актера ГДР Кох-Хооге.
Мне досталась роль не традиционного в кинематографе русского солдата, где на первое место выступают сила, мощь, натиск, а студента-филолога, человека интеллектуального. Предстояло в образе этого необычного героя вписаться в строгие рамки психологического фильма.
Иржи Вайс попросил, чтобы я насытил свою речь живыми русскими словами, не обращая особого внимания на то, что мне следовало произносить по сценарию. Пришлось как бы заново переписывать текст и тех сцен, где я участвовал.
Фильм «Трус» отличался от масштабных произведений кинематографа первых десятилетий по окончании войны своей интимностью, лиричностью и красотой необыкновенной природы, которую мы снимали в горах Высокие Татры.
На озвучании своей роли я говорил по-русски, и решили так и оставить – в Чехословакии зритель в своем большинстве понимал нашу речь. Да и я во время совместной работы научился понимать своих коллег, ведь приехал из Советского Союза к ним один-одинешенек и никакого переводчика у меня не было.
Месяц за месяцем летели быстро, я с любопытством разгуливал по великолепной Праге, изучив все ее уголки, и с нескрываемым восторгом взбирался на склоны Высоких Татр.
Но наступила осень, все работы подошли к концу, и настала пора прощаться с Чехословакией, с которой предстояли еще встречи в будущем, во время гастрольных поездок Художественного театра. А сейчас, накануне ноябрьских праздников, меня ждали в Киеве на съемках фильма «В мертвой петле».
«В мертвой петле»
Шестьдесят первый год. Идет работа над фильмом «В мертвой петле». Чужая студия, чужой город. Живу в гостинице «Украина». Утром и днем – съемки. А что делать вечерами? Жить-то здесь не день, не месяц, а гораздо больше. Ну, сходишь в театр. Но, чтобы не зачахнуть от монотонной жизни, нужно ее разнообразить собственными силами. И здесь главную роль играет общение с новыми людьми, людьми, не похожими ни на тебя, ни на тех, с кем общался раньше. Хотя встреча со старым другом – всегда хорошо.
Будучи в Киеве, я однажды отправился в местный цирк и тихонько уселся на место, указанное в билете. Началось представление. Смотрел с удовольствием, любуясь отчаянными трюками цирковых артистов. Вот на арене появился мой старый друг клоун-мим Леонид Енгибаров. Началась реприза, от которой зрители покатывались с хохота. Вот и шквал аплодисментов, Енгибаров раскланивается. Вдруг увидел меня и, не стесняясь, что на него устремлены тысячи глаз, перелез через бортик, прошел к зрительским местам и обнял меня. Леня был, что называется, раскованным художником. Никто другой не позволил бы себе при полном цирке так непосредственно приветствовать товарища.
Мы с Енгибаровым всегда чувствовали себя как родственные души, он даже прозвал меня «Старшим братиком», часто просил совета в своих личных делах. Главное в Лёне – он был несомненно талантлив и необыкновенно работоспособен. Сам сочинял пантомимы и отрабатывал их до полного совершенства.
Спустя несколько лет я оказался в Одессе, снимаясь в картине Поженяна «Прощай». Лёня тогда работал в одесском цирке.
Гуляем по городу с Витей Авдюшко и Валей Куликом, занятыми в том же фильме. По дороге попалась афиша цирка.
– Давай, ребята, к Лёне заскочим, – предлагаю.
– Куда мы пойдем, представление только вечером? – удивляется Авдюшко.
– Как куда? Домой.
– А ты знаешь, где он живет?
– Конечно, – успокаиваю ребят. – В общежитии. Он все свободное от представлений и репетиций время сидит там и сочиняет миниатюры.
Енгибаров и на самом деле оказался дома. Потащили его с собой перекусить в ресторан гостиницы «Лондонская», где я остановился.
– Лёнь, – спрашиваю за обедом, – а что, если мы сегодня во время твоего выступления выйдем на арену?
– Здорово! – нисколько не смутился он рискованному предложению.
– Только выйдем не просто столбом стоять. Я же помню многие твои репризы. Давай мы подыграем тебе в одной? Где ты через униформистов перепрыгиваешь.
Эта сценка напоминает детскую игру в «козла». Сначала перепрыгиваешь через одного согнувшегося человека. Следом встает второй, и уже летишь через обоих. Потом через троих. Когда же пристраивается к группе четвертый и зритель ожидает стремительного полета через них, Лёня разбегается под барабанную дробь и… оседлывает первого стоящего перед ним, который и увозит его на своей спине за кулисы.
Другой бы клоун в те времена строгой партийной дисциплины отказался от нашей авантюры, оправдываясь, что нельзя самовольничать перед публикой – это грозит в лучшем случае выговором от дирекции. Но не такой человек был Енгибаров – он с радостью воспринял мою идею.
– Только ты свою администрацию уговори, чтобы нашу киногруппу пустили в ложу, – попросил я. – Пусть для них наше выступление будет сюрпризом.
Договорились. Лёня даже согласился, чтобы я во время репризы импровизировал.
Вечером приходим в цирк. Мы все трое высокие, еле-еле натянули униформу – пуговицы не застегиваются, рукава чуть-чуть прикрывают локти, а штаны коленки. Клоуны хоть куда!
Причесали нас на один манер – челки на лоб, так что узнать издали невозможно. Первым «козлом» встал Авдюшко. Лёня перепрыгнул через него. Вторым – Кулик. Опять удачный прыжок, веселые ужимки, реплики в зал. Третьим встал настоящий униформист. Барабанная дробь – и удачный прыжок через всех. Наконец встаю я. Только все в одну сторону головой повернулись, а я в противоположную. Лёня по-хозяйски обходит своих «козлов». Заглядывает в лицо первого, второго, третьего… Пытается заглянуть в лицо четвертого и ничего не может понять – вместо лица видит, простите, задницу. Он обходит меня кругом, чтобы все-таки заглянуть в лицо, но я одновременно с ним разворачиваюсь, и он опять может лицезреть мало похожий на лицо участок тела. И тут я решил сымпровизировать: встал на колени и пополз по тоннелю под тремя другими «козлами».
Авдюшко увидел меня под собой и своим низким голосом, думая, что говорит тихо, стал браниться:
– Ты что делаешь? Куда ты ползешь? Этого же нет по сценарию. Мы же специально за обедом даже по рюмке не выпили, чтобы Лёне номер не испортить…
– Вить, ты потише, – своим высоким фальцетом замечает Кулик, – а то тебя в первом ряду могут услышать.
– Да какой там в первом, – раздается веселый голос из зала, – в шестом все слышно.
Я дополз до конца, Лёня за мной следом. Встаю теперь как положено в ряд с другими «козлами». Лёня разбежался под барабанную дробь, оседлал меня и под оглушительный хохот зрителей умчался за кулисы. За нами убежали и остальные.
Оглушительные аплодисменты. Енгибаров выбегает на арену в своей знаменитой майке с лямкой через одно плечо, зовет и нас поклониться публике.
– Мне сейчас подыгрывали… – объявляет Лёня в микрофон.
– Заслуженный артист республики Олег Стриженов!
Я смахнул челку рукой назад и поклонился (сделал «цирковой комплимент» – так это называется в цирке). Шквал аплодисментов, выкрики: «Браво»!
– Заслуженный артист республики Виктор Авдюшко и артист кино – Валентин Кулик!
Ребята тоже кланяются. Аплодисменты не смолкают!
Прыжок Леонида Енгибарова
Вся наша киногруппа во главе с Поженяном, сидя в ложе, пооткрывала рты от удивления и попадала со своих мест. Никак не могли понять, как это вдруг мы в чужом городе стали циркачами. А дело все в прекрасном человеке – Леониде Енгибарове, который любил друзей и любил веселить публику. И всегда казалось, что ему все по плечу, что ему – все легко, что ему – ничего не страшно… Кстати, это Лёня прозвал мою Лину «копна» (от ее девичьей фамилии Скирда).
Однажды, когда я вернулся в Москву из очередной экспедиции в семьдесят втором году, раздался звонок Юры Белова, работавшего режиссером у Енгибарова в коллективе.
– Олег Александрович, приготовьтесь…
– Что случилось?
– Лёня умер.
Вскакиваю в машину, мчусь на квартиру к Енгибарову в Марьину Рощу, где он жил в деревянной бревенчатой двухэтажке с мамой. Застаю Лёню еще теплого, лежащего на диване. Над его головой висит мой портрет в роли Треплева из «Чайки». Он умер, а казалось, что спит. Остановилось сердце. Лёня писал, что любил больше других великолепную четверку – меня, Васю Шукшина, Юру Белова и Ролика Быкова. Он умер в тридцать семь лет, хоть был боксером и акробатом, энергичным и работоспособным актером и спортсменом. Он выкладывался до конца, потешая публику, не только в массовых зрелищах, но даже в застольях, как будто находился не в компании полупьяных людей, а на пражском фестивале мимов, где он получил Первый приз «Гран-при» и был назван «лучшим мимом Европы».
– Лёня, зачем ты себя сжигаешь? – спрашиваю. – Все равно главное внимание обращают не на тебя, а на водку с закуской.
– А я не могу по-другому. Мне даже наплевать на окружение, я сам себя проверяю. Считай – репетирую…
Мы с Роланом Быковым ходили в Моссовет выбивать для Енгибарова место на кладбище. Похоронили на Ваганькове, если встать лицом к входу в храм, то слева, в нескольких десятках метров от церкви. Потом армяне поставили ему памятник: Енгибаров под рваным зонтом (из его этюда) «Игра с зонтиками».
Но я отвлекся и заглянул вперед. А пока был Киев – киностудия им. Довженко, фильм «В мертвой петле»…
На Киевской киностудии у меня установились дружеские отношения с местным режиссером, лицо которого обрамляла могучая борода. Он умел и любил шутить, не боялся посмеяться над начальством и даже над партийным руководством. Звали его Сергей Параджанов, и жил он через площадь напротив цирка. Позже, создав фильм «Тени забытых предков», он стал известен на весь мир. Тогда же был скромным постановщиком и веселым парнем пятью годами старше меня.
Параджанов жил в небольшой квартирке с балконом. Казалось, что хозяин здесь не он, а кафельные плитки разных цветов, заполнившие все свободное пространство на полу и столах. Это было любимое увлечение Сергея, он кусачками как бы настригал из кафеля одного цвета фигурки и наклеивал их на плитки другого цвета, словно выкладывая мозаичную картину. Получался оригинальный любопытный рисунок.
– Давай, Сереж, я тоже что-нибудь сделаю, – как-то предложил я.
– А ты справишься?
Он не знал, что я художник, а то бы не задал этого вопроса. А меня его увлечение очень заинтересовало. Настриг кафеля и стал наклеивать. Сначала на свет появился ослик, потом на него усадил человека, а перед ними поставил арку. Получился сюжет из жизни Христа – въезд в Иерусалим. Параджанов был в восторге и тотчас повесил мою работу на стену.
На дворе стояла теплая киевская осенняя погода, повсюду красовались флаги, транспаранты и портреты партийных вождей в честь наступивших ноябрьских праздников. На балконе у Параджанова я тоже заметил как будто примету ноябрьских торжеств – бюст человека с большой бородой, развернутый лицом на улицу и подсвеченный фонарями. Я знал, что в подобные квартиры с видом на площадь, где всегда много народа, часто приходят рабочие по поручению райкомов партии и устанавливают на балконах флаги и лозунги.
– Сереж, – спрашиваю, – тебе бюст Карла Маркса на праздничные дни поставили?
– Ты пойди поближе посмотри, – усмехнулся в ответ.
Выхожу на балкон, присматриваюсь к «Марксу». Ба! Так это же не автор «Капитала», а Параджанов собственной персоной!
– Сереж, к тебе из «ментовки» еще не приходили? Дождешься, дело заведут и на работу сообщат об «идеологической диверсии».
– С площади не разглядишь – Параджанов это или основоположник коммунизма. Никто и подумать не смеет, что это я, а не он. Ведь ты даже вблизи и то догадался не сразу.
Это был не единственный случай перевоплощения Параджанова в автора «Капитала». Режиссер Григорий Львович Рошаль пригласил его на роль Карла Маркса в одноименном фильме. Наверное, из-за сходства бородами – гримировать почти не надо.
На «Мосфильме» кинопроба. Собрался творческий коллектив, административные и технические работники. Наступает ответственный момент, ведь Параджанову играть не обыкновенного человека, а идола коммунистических идей. Сергей в домашнем халате, в кабинете маститого ученого с большим письменным столом и наваленными на нем книгами. Зажгли свет, вот-вот раздастся команда «мотор».
– Начнем? Все готовы? – спрашивает Рошаль.
– Стоп, стоп, стоп! – вдруг раздается голос Параджанова. – Снимать невозможно, гасите свет.
– Что случилось? – испугался Григорий Львович.
– Роль очень ответственная, в нее вжиться надо. Не могу играть, пока не принесут старинное издание «Капитала». Эта настольная книга пролетариата должна быть под рукой, она меня станет вдохновлять.
Рошаль был человеком заумным, тотчас зауважал Сергея: «Глубоко берет! Настоящий Маркс».
Объявили перерыв, послали людей по библиотекам. Когда наконец появилась долгожданная толстенная книга, трепетно передали ее Параджанову. И вновь закипела работа: оператор налаживает камеру, осветители устанавливают и включают лампы, незанятые члены киногруппы придают своим лицам торжественно-серьезное выражение, как будто пришли на партсобрание.
Параджанов, не расставаясь с «Капиталом», занимает место за письменным столом, и всем кажется, что не режиссер, а он здесь самый главный, раз ему доверена столь ответственная роль.
– Будем репетировать? – спрашивает Рошаль.
– Зачем? – отмахнулся Параджанов. – Я и так знаю, что делать.
Раздалась команда «мотор», затрещала кинокамера, направленная на сидящего за столом бородатого мыслителя. Параджнов изобразил на лице глубокую задумчивость, потом что-то черкнул на лежащей возле него бумаге и отложил перо. Все замерли – Карл Маркс размышляет, наверное, обдумывает план новой книги. И вдруг слышат: Параджанов сквозь зубы изображает жужжание мухи: «З-з-з-з-з-з». При этом глаза его следуют за воображаемым насекомым. Неожиданно он вскочил и стал бегать вокруг стола, размахивая толстым «Капиталом». И вот кульминация сцены: воображаемая муха уселась на стол ученого, и Карл Маркс с треском прихлопнул ее своим тяжеловесным партийным фолиантом!
Наблюдавшие за происходящим прикрывали рты ладошкой, чтобы не прыснуть со смеху. А Рошаль чуть не свалился с инфарктом.
Конечно, за свою аполитичную шутку Параджанов поплатился ролью. Но он, кажется, особо и не стремился ее заполучить. В кулуарах потом долго обсуждали политическую подоплеку параджановской импровизации. Перешептывались, что мощное учение марксизма в трактовке Сергея пригодно лишь для того, чтобы убить маленькое насекомое. Может быть, даже донесли куда следует о своих догадках и присочинили, кого Параджанов подразумевал под мухой. Но те, кто поумнее, знали, что Сергей большой любитель всевозможных шуток и розыгрышей, и старались относиться к ним, как к безобидным. Мол, странность такая у человека – посмеиваться надо всем, ничего тут не поделаешь…
Съемки картины «В мертвой петле» начались в Киеве осенью, в ноябре. На празднование нового, 1962 года я уехал в Москву, так как дирекция студии после просмотра материала решила сменить режиссера и до экспедиции в Одессу появился свободный промежуток времени. (Доснимали картину уже два режиссера – Николай Ильинский и Суламифь Цибульник.)
Не буду вдаваться в подробности новогодних празднеств, расскажу только об одной встрече в Москве.
В один из вечеров начала января я забежал в ВТО (Всероссийское театральное общество), где встретил старого товарища Володю Сошальского. Мы с ним решили немного посидеть в ресторане. Заняли свободный столик справа около входа, в самом углу, и сделали заказ. За разговором даже не заметили, как знакомые официантки уже обслужили нас. Когда я на секунду оторвался от своего собеседника и окинул взглядом зал, то меня словно пронзило, свет ударил в глаза: в противоположном углу увидел ее. Ее – Лину! Она сидела за столиком спиной ко мне в компании какой-то молодой «актерской братии»…
Я не успел сделать даже малейшего движения, как она почувствовала мой взгляд и обернулась. Глаза ее расширились. Как загипнотизированные, мы одновременно встали и пошли навстречу друг другу. В самом центре зала встретились, неотрывно глядя в глаза и вдруг… Поцеловались! Первый раз за весь наш «долгий роман». Это произошло неожиданно и как-то невольно, подсознательно, и нам было безразлично, где мы находимся и что на нас смотрят. Поцелуй был долгим. Мы никого не видели и не представляли, где находимся. Потом задыхающимся шепотом я сказал:
– Давай уйдем отсюда.
– Давайте, – тихо ответила она. Мы вышли из ВТО. Шел снег. А дальше… Про то, что было дальше в тот январский вечер шестьдесят второго года скажу строками Роберта Рождественского:
А помнишь, ненастною полночью Снежинки кружились беспомощно? Мы шли по огромному городу… А помнишь пустынную комнату? И крик твой, похожий на таинство: «С тобою мы никогда не расстанемся!» Во мне будто Вечная Музыка Звучат твои слова!«Вечная Музыка»… «Никогда не расстанемся!..» Какой-то вихрь! Восторг! Счастье! Я и впрямь очутился в мертвой петле. С артисткой Московского драматического театра им. Станиславского Лионеллой Скирдой мы не расставались весь январь и февраль, вплоть до моего отъезда в экспедицию в Одессу. Провожая меня, Лина обещала, что на майские праздники обязательно вырвется из театра и прилетит ко мне на несколько дней. И я опять уехал.
Леонид Енгибаров – лучший клоун-мим Европы. Прага. 1964 г.
В Одессе поселился в «Лондонской», в том же номере с балконом на Приморский бульвар, в котором жил, когда снимали «Мексиканца». Вспомнилась наша первая встреча с Линой возле оперного театра, мое печальное и горькое отплытие в Ялту…
За каждодневными и напряженными съемками время летело незаметно. Накануне Первого мая она прилетела. Аж на целую неделю!
Город был празднично украшен, чист, розов от солнца и цветов, зелен от уже распустившихся красавцев-каштанов. Одним словом – весна!
Я познакомил Лину со своими друзьями и партнерами по фильму: Павлом Шпрингфельдом, Фимой Копеляном, Стасиком Чеканом, в то время еще одесситом Петром Тодоровским и другими, которые лет через шесть-семь стали ее партнерами по фильмам «Свет далекой звезды», «Хозяин тайги», «Опасные гастроли», «Братья Карамазовы». А Петр Тодоровский в семьдесят пятом году свел нас с Линой в фильме «Последняя жертва»…
Пока же мы ездили на море, посещали самые лучшие и красивые места Одессы. Побывали в «Лузановке», «Дофивовке», «Аркадии».
В эти дни произошло одно памятное событие: в Одессу для выступлений на центральном стадионе прибыл Московский театр массовых зрелищ. Все самые популярные и любимые артисты оперы, балета, кино, театра, эстрады и цирка! Руководил театром Илья Рахлин, мой старый товарищ по работе в Таллине.
До этого случая я предвзято относился к подобным зрелищам на стадионах. А тут Илья Рахлин предложил принять в них участие – проехать в открытом старинном трюковом автомобиле. Причем попросил одеться в игровой костюм Уточкина из фильма «В мертвой петле».
Трюк состоял в том, что управлял машиной лежавший в ее радиаторе и невидимый публике шофер, а мне предстояло только сидеть и держаться руками за руль. Я согласился, так как хотел удивить Лину, да и лишние деньги были как нельзя кстати.
Вечером на стадионе мы с Павлом Шпрингфельдом в своих игровых костюмах залезли в автомобиль, я – за руль, он – на заднее сиденье. И вот выезжаем на стадион. Все шумно аплодируют. И вдруг мне в голову приходит шальная мысль. Я бросил руль и через спинку сиденья перебрался назад к Паше. Машина продолжает катить по кругу, но уже без водителя! Эффект был громадный! Стадион в восторге рукоплескал!
Когда уже за пределами стадиона мы ехали таким же манером по аллеям парка, прогуливающаяся публика разбегалась по сторонам, ужасаясь виду автомобиля, за рулем которого никого не было.
А поздно вечером в нашей «Лондонской» состоялся большой банкет, на который я явился со своей Ли.
Наутро вся шумная братия Московского театра массовых зрелищ улетела. Проводил я и Лину – ее ждала работа в театре. Мне же предстояли три большие экспедиции: в Ригу, Петербург и опять на базу в Киев. Потом озвучание и прочее. Кроме того, я ездил на юг писать сценарий по договору с киностудией имени А. П. Довженко, таскался по инстанциям по поводу моего отказа участвовать в фильме «Война и мир» и т. д. Затем принял предложение Б. Н. Ливанова и дирекции МХАТа перейти на работу к ним.
Я даже не заметил, как в этом жутком и бешеном ритме пролетели полтора года после нашей последней встречи. Куда же исчезла Лина? Моя Ли… Позже я узнал, что она вышла замуж.
«Фильм по особому заданию»
Мне некогда было ходить по улицам, чтобы прохожие могли лицезреть известного киноактера – все время отнимала работа. К тому же специфика профессии заставляла постоянно жить в особом микроклимате. К примеру, снимаюсь в Ленинграде. Меня поселяют в одну из двух гостиниц – «Европейскую» или «Асторию». Обе принадлежат «Интуристу», куда не войдешь просто так с улицы.
Жизнь протекала в родной стране, как за границей, лишь изредка приходилось сталкиваться с обыденной действительностью. С кем я мог познакомиться в «Европейской»? Только со знаменитостями, приезжавшими с концертами в расположенную напротив филармонию или по другим делам – Людвиком Стаковским, Ваном Клиберном, Анной Маньяни, Марселем Марсо.
Но полностью освободиться от навязчивых поклонников, в которых одновременно уживались обожание своего кумира и ненависть к нему, не удавалось, даже живя в этом особом мире.
Обедаем как-то в Одессе в ресторане с Копеляном – мы с ним снимались в фильме о летчике Сергее Уточкине. Времени у нас в обрез – скоро опять спешить на съемки. Подходит так называемый поклонник.
– Разрешите к вам присесть?
– Не надо, – просишь его, – у нас осталось несколько минут на обед, ждет работа. Видите, даже грим не смыли.
– Но я поговорить хочу.
– Извините, нам на самом деле некогда.
– Да вы наш самый-пресамый любимый артист! – восторженно воскликнул поклонник, завороженно глядя на меня и вскинув вверх руки.
– Хорошо, спасибо, – отвечаю. – Только уж простите нас, дайте закончить обед.
Не унимается, еще несколько раз повторяет, что я его любимый артист, и напрашивается на беседу.
– Все, хватит, отойдите от стола! – не выдерживаю я. – Вам ясно сказали, что нам некогда.
Поклонник горделиво выпячивает грудь и смачно произносит по адресу своего любимого артиста, то есть меня:
– Зараза!
Копелян от неожиданности просто покатился со смеху и чуть не свалился со стула.
– Вот это называется народная любовь, – продолжает хохотать он, – вот это признание в любви!
– Это еще что, – смеюсь в ответ, – бывают экземпляры еще колоритнее.
Вечером зайдешь в ресторан – совсем проходу не дают. Подходит незнакомый молодой человек под руку с девушкой и, перепутав даже мое имя, развязно то ли предлагает, то ли требует:
– Алик, потанцуй с моей невестой.
Другой поклонник подсаживается за столик.
– Как вы мне понравились в фильме «Сорок первый год»!
– При чем тут «Сорок первый год»? – удивляюсь.
– Как же, помню, вы отлично сыграли в картине о сорок первом годе.
Он даже не знает, что «Сорок первый» – это фильм о Гражданской войне, о сорок первом человеке, убитом Марюткой.
Очередной поклонник, желая поблагодарить меня за роль поручика Говорухи-Отрока, запутался в словах и говорит:
– Спасибо вам за роль белорусского офицера.
Наверное, он имел в виду офицера белой гвардии.
Как-то Михаил Пуговкин с завистью заметил:
– Тебе, Олег, все-таки проще, твои герои гордые, и поклонники стесняются тебя хоть немного, не ведут себя с тобой запанибрата. А меня просто хлопают по плечу и зовут: «Пойдем, Мишка, выпьем!»
То есть, если у тебя в фильме роль выпивохи, значит, ты и в жизни пьяница и с тобой нечего церемониться.
Однажды после премьеры «Белых ночей» ко мне в номер гостиницы постучали днем, когда я отдыхал. Открываю. Стоят несколько человек с бледными нездоровыми лицами наркоманов.
– Что вам? – спрашиваю.
– Слушай, мы твои поклонники. Как ты здорово умеешь торчать! Травку куришь с толком!..
– Нет, ребята, я не по этой части. Идите отсюда. Я не курю ваше зелье.
– А в кино чего ж так правдиво получилось? – оторопели они.
– Значит, артист хороший. Спасибо за комплимент.
И закрыл дверь. Видно, они галлюцинации Мечтателя в «Белых ночах» приняли за мое собственное наркотическое опьянение.
Среди поклонников, конечно, встречается много женщин, их даже большинство. Но женщина по природе своей скромнее мужчины, она не станет к тебе приставать как банный лист. Ей труднее решиться подойти к актеру, она чаще может отважиться лишь написать ему. Например, что видела его на гастролях, хотела взять автограф, но вдруг устыдилась отнимать время у знаменитого и занятого человека.
Мужикам легче, они выпьют – и весь стыд, если он был, тотчас пропадет. Начинают в ресторане, насмотревшись в кино на чужие обычаи, пересылать тебе бутылки. Может быть, среди знакомых подобное выглядит пристойно, но когда получаешь поллитровку от чужого человека, недоумеваешь: неужто он думает, что я, если захочу, сам не в состоянии купить бутылку? Становится неприятно, что тебя как будто зачисляют в алкоголики. Неужто пославший бутылку не в силах понять, что актер не может «бухать», он обязан, когда работает, каждый день выглядеть здоровым, с ясным умом человеком. Ведь даже пьяницу пьяный артист сыграть не сможет, получится неприглядное кривляние, мутный взгляд, плохая дикция – и больше ничего.
Есть чисто театральная публика, которая не пропускает ни одной премьеры и воспитана на лучших образцах нашего искусства. Есть поклонники одного определенного актера. Большинство из них тоже достойные почитатели театра и кино, легко отличают плохую игру от хорошей. Есть случайный зритель. Диапазон его обширен – от полного профана, пришедшего в театр выпить пива и поглазеть на публику, до людей, чутких к каждому проявлению истинного искусства.
Академик Жан Кокто – сценарист-режиссер. Учитель Жана Маре
Кинозритель еще лет двадцать назад – это почти вся страна. Он настолько разнообразен, что разделить его по типам невозможно.
Кого бы я ни играл – уродов не изображал, не люблю этого. Пусть даже герой с отрицательными чертами характера, но для этого не обязательно придавать лицу злобный оскал. Вскрывать надо скверну, которая сидит внутри человека.
Я имел несчетное число поклонниц благодаря, как говорили в старину, благолепному виду. Среди них много тех, которых можно обозначить: «Хочу стать артиской!» От этих молодых девушек больше всего получаешь писем, раньше чуть ли не мешками каждый день приносили. Все они пишут примерно в одних и тех же словах о том, как счастливы видеть меня на экране и надеются, что тоже когда-нибудь попадут на съемочную площадку и станут «артисками». Многие из них пересказывают содержание фильмов, делятся своими «впечатлениями». Вы там-то «совсем светлый», а там-то «совсем брюнет, но очень свецкий».
Есть люди взрослые, которые благодарят за доставленные минуты радости, сопереживания, рассказывают о том или ином эпизоде из прошедшей жизни, который вдруг всплыл в памяти после просмотра фильма. Так близко к сердцу воспринимали «Неподсуден» люди оклеветанные.
Поклонники разные. Письма тоже. Но в них в подавляющем большинстве выражена для нынешнего времени, быть может, и банальная мысль, что «ваши герои зовут к свету, заставляют жить честнее и любить ближних». Боюсь, что после большинства современных фильмов зрители присылают режиссерам и артистам только предсмертные записки, что «просмотрев вашу бытовуху, решил повеситься».
Я нес зрителю героя с лучшими чертами, такими, как порядочность, честность, любовь к женщине, верность дружбе и, главное, – любовь к своей родине. Это и есть идеология, на которой воспитывались и сто, и двести лет назад. И не надо выдумывать ничего нового, отвергая партийную диктатуру. Надо воспеть поруганные за последнее десятилетие общечеловеческие ценности, в том числе патриотизм, без которого невозможно удержать государство от полного распада и развала.
Посмотрите на американцев, у них из каждого фильма просто выпирает идеология: люби свой флаг, свои вооруженные силы, своих героев, свою родину.
Существовал еще тип эдаких поклонниц-хулиганок. Они могли сжить со света любого нормального человека своими преследованиями, поджиданиями, постоянными телефонными звонками. Звонили под разными предлогами и представлялись разными именами, звонили круглосуточно. Иногда они доводили меня просто до бешенства, появлялось желание разбить телефонный аппарат. Однажды я даже попал в неловкое положение.
Накануне вечером поклонницы-хулиганки, как обычно, доводили меня своими звонками, смысл которых был один и тот же: «Давай познакомимся». Я ругался, бросал трубку. В постель лег лишь поздно вечером. Помню, чтобы хорошенько выспаться, задернул толстую портьеру, не оставив ни щелочки для утреннего света. Заснул крепко.
Меня разбудил звонок. Раздался, как мне показалось, молодой и бодрый голос.
– Олег Александрович?… Это Екатерина Алексеевна Фурцева.
– Пошла бы ты, недоумок, куда подальше! Будешь еще звонить – поймаю, ноги повыдергаю! – закричал я в трубку, бросил ее на рычаг и уткнулся снова в подушку, пытаясь выспаться сполна.
Через несколько минут опять звонок. Голос все тот же веселый, но мне показалось, что не такой уж юный.
– Олег Александрович, это действительно я – Екатерина Алексеевна. Меня не было в Москве, ездила в командировку в Италию…
Тут-то я поверил, что это не обман, ведь Фурцева действительно была в Италии, мне от нее уже звонили.
– Извините, – говорю, – Екатерина Алексеевна. Спасу никакого нет, звонит постоянно бог знает кто и под всякими именами.
– Ну ничего, бывает… Олег Александрович, я хотела бы вас видеть.
– Когда?
– Ну, сейчас. Я на работе.
– А который сейчас час? – спрашиваю, находясь в полной темноте и не задумываясь о том, с кем разговариваю.
– Уже час дня.
– Значит, час дня… – начинаю рассуждать вслух. – Ну, сейчас встану… Побреюсь… Приму душ… Позавтракаю… В общем, часа через два буду у вас.
– Вот и хорошо, – рассмеялась она. – Я вас жду.
Я доехал до Красной площади и до здания Министерства культуры СССР на улице Куйбышева решил пройти пешком, чтобы собраться с мыслями. Я знал, зачем понадобился. Меня уже вызывал ее заместитель В. Е. Баскаков и интересовался моим отказом играть Андрея Болконского в «Войне и мире». И Бондарчуку, и Баскакову я ответил, что просто не хочу, потому что настроение такое, что «мне сейчас ни до чего». Баскаков даже развел руками: «Ну, не с милицией же заставлять играть Болконского». Я ответил: «Вот именно».
Баскаков предупредил, что Фурцева по приезде из командировки все равно вызовет меня по этому делу, ведь утверждали меня на роль и она сама, и коллегия Министерства культуры, и отдел культуры ЦК КПСС.
Мне не хотелось вдаваться в причины моего отказа, сообщать, что ухожу во МХАТ, а эпопея «Война и мир» отнимет несколько лет и я, театральный актер, так и буду продолжать жить в кино, не выходя на театральные подмостки, зависеть от репертуара нашего советского кинематографа да еще от желания какого-нибудь режиссерчика, размышляющего: занять или не занять меня в том или ином фильме. Тем более что слово МХАТу я уже дал, теперь надо в нем утвердиться и доказать, что я ведущий репертуарный артист, что меня не зря взяли на персональную ставку и обещали «улучшить жилищное положение». Здесь не до роли Болконского, которая, по существу, ничего нового в творческом плане мне не давала…
С одной стороны, размышлял я, Катя, – как мы ласково называли между собой Фурцеву, – не будет шибко настаивать. Но, с другой стороны, я боялся, что не смогу отказать ей, она меня уговорит, беседуя один на один.
Войдя в приемную, я столкнулся с секретаршей, и она, почему-то смутившись, сказала:
– Вас ждут. Проходите, пожалуйста.
Я широко распахнул дверь и вошел в кабинет. Боже мой! Я-то думал, что она собирается побеседовать по-дружески один на один… А тут!.. Оказывается, собрались вся коллегия, представители отдела культуры ЦК КПСС, все ее замы, директор «Мосфильма» Сурин и руководство съемочной группы «Войны и мира».
«Вот это да! – промелькнуло у меня в голове. – Хочешь взять меня на испуг? Зря! Я не люблю, когда меня пугают». Я внутренне ощерился и сказал себе: «Ну что же, примем бой!»
Фурцева встала и пригласила меня сесть возле себя. Я оказался напротив С. А. Герасимова. Далее дословно привожу состоявшийся разговор, вернее диалог с Фурцевой.
– Как поживаете, Олег Александрович?
– Отлично.
– Может быть, вас что-то не устраивает? Может быть, вам что-нибудь нужно? Расскажите, мы вам во всем поможем.
– Мне ничего не нужно, все есть. Живу хорошо.
Пауза. Вижу, Екатерина Алексеевна ищет, как лучше подступиться к нужной теме.
– Олег Александрович, я вернулась из командировки, и мне доложили, что вы отказались играть в «Войне и мире». Вот я и попросила вас приехать, чтобы от вас лично узнать: почему?
– Я просто раздумал. Мне не хочется.
– Как? Вам не хочется сыграть любимый образ молодежи?
– Нас в школе и в институте тоже, Екатерина Алексеевна, учили, что любимыми образами молодежи являются Павка Корчагин и Овод. А вот то, что князь Андрей Болконский является любимым образом молодежи – об этом слышу впервые.
Наша милая Катя начала багроветь.
– Но мы же вас утвердили. Прекрасные пробы. Зачем же вы пробовались?
– Меня попросили. Я решил доказать.
– Ну, а дальше?
– Дальше – раздумал. Не хочется.
– Но вы понимаете, что это – «фильм по особому заданию»?!
– А для меня вся жизнь – по особому заданию. В творчестве так не бывает: одно делают левой пяткой, спустя рукава, а другое – «по особому заданию».
Сидящий напротив Герасимов аж схватился за голову, то ли от ужаса, то ли подавляя смех. Фурцева в растерянности молчала. Я взял инициативу в свои руки.
– Знаете, Екатерина Алексеевна. В последнее время в прессе, когда пишут обо мне, заканчивают свои опусы одним и тем же: у Стриженова все хорошо, публика его любит за те роли, которые он играет, но мы ждем от него образ советского положительного героя… Так зачем же вы меня опять в князья, в эполеты?.. Нет! Я буду ждать и искать «советского положительного героя».
Проглотив все сказанное, Фурцева после паузы сказала:
– Ну, что же… Это благородное дело… Владимир Николаевич, – обратилась она к Сурину, – надо бы попросить наших сценаристов, чтобы поработали специально в расчете на Олега Александровича.
– Конечно, конечно… А как же… – промямлил тот.
Опять повисла пауза. Я воспользовался ею и встал.
– Не смею больше вас задерживать, – сказал, обращаясь ко всем.
Встала и Екатерина Алексеевна, протянув мне руку. Я пожал ее и направился к двери. На пороге обернулся и, обведя взглядом собравшихся, бросил фразу:
– Общее до свидания! – И вышел.
Как потом мне передавали, в кабинете «повисла большая финальная пауза из гоголевского «Ревизора». Более того, Николай Александрович Иванов (позже директор «Госкинофонда», а тогда директор картины «Война и мир») рассказывал, что Фурцева звонила мне при них – при всем застолье. И когда повесила трубку, чуть ли не брезгливо произнесла:
– Какой же это князь, если спит до часу дня.
– Вот и спит, стало быть, – ответил Сергей Аполлинариевич Герасимов, – оттого, что князь.
На следующий день я взял на «Мосфильме» очередной месячный отпуск и уехал на юг: Одесса, Ялта, Сочи. Вернувшись, подал заявление о переводе меня во МХАТ СССР им. Горького, приложив к нему ходатайство от театра.
Лишь гораздо позже я узнал, что означает «фильм по особому заданию». Это – и новая квартира, и звания, и всевозможные блага. Орден за участие. И, даже если картина получится посредственной, хвалебная пресса обеспечена.
Но что же такое успех настоящий и успех мнимый?
В театре об успехе узнаешь еще на репетициях по рабочим сцены и капельдинерам. Если они с тобой здороваются и улыбаются, стараются оказать почтение, знай, что это лучшая оценка твоей игры.
Олег Стриженов и Лионелла Пырьева. 1970-е гг.
«Нам судьбой предначертано быть вместе…»
(Лионелла Пырьева)Об успехе в кино тоже впервые узнаешь по служащим. Если монтажеры бросят фразу о просмотренной пленке: «Материал идет хороший, будет из чего лепить кино» – знай, что ты поработал на славу.
Успех нужен несомненно, он помогает ощутить собственное «я». Ведь одно, когда ты крупинка в несметной массе артистов, и совсем другое, когда сумел выделиться из толпы, получить признание у широкого зрителя. Но если ты талантлив и самолюбив, то слава приносит еще большую ответственность: не повториться, сделать следующую роль лучше предыдущей. Иначе не миновать краха, тебя сбросят с пьедестала те, кто еще вчера возносил до небес, растопчут и станут насмехаться над поверженным, как над умирающим гладиатором.
Существует целая каста людей, которые только и мечтают заметить просчет прославленного человека, они ждут благоприятного момента, чтобы подскочить и пнуть ногой смертельно раненного льва. Надо всегда быть начеку, чтобы на краю обрыва тебе не поставили подножку. И помнить, что в мире кино ты одинок и должен научиться защищаться не от честного боксерского удара профессионала, а в первую очередь от подленького укола бездари.
И здесь тебе часто служит подмогой вдумчивый благодарный зритель, который голосует за тебя переполненными театрами и кинозалами.
Конечно, случалось, что и зрителя обманывали. В театральной программке напишут против малоизвестной фамилии: «народный артист». Пришедшие на спектакль смотрят на сцену и удивляются: «Кажется, должно быть хорошо, раз «народный», а на самом деле – плохо». Бедный зритель не ведает, что звание «народного» или «заслуженного» он получил не за свою профессиональную работу, а за то, что исправно заседал в парткоме или профкоме.
Теперь эти «народные парторги» поносят свою партию. Как не стыдно, ведь ты же получил от нее все, гораздо больше, чем блистательные артисты, а теперь вдруг стал лепетать, что раньше чего-то «недопонимал» и прозрел лишь в «пенсионном возрасте». Уж если ради карьеры шел «крепить идеологию масс», то хотя бы постеснялся первым удирать с тонущего корабля, менять партийный курс на противоположный, выставляя напоказ свою нечистоплотность и криводушие.
Этих «народных» и «заслуженных» в своей среде мы знаем всех наперечет и по гамбургскому счету никогда не назовем почетным именем артиста.
Иногда люди, не задумываясь над смыслом фразы, объявляют: «Мы вчера ужинали и расплачивались по гамбургскому счету». – «Как это?» – «Поровну».
Приходится объяснять, что фраза «гамбургский счет» родилась в начале века, когда вошли в моду цирковые борцы. Чаще всего на цирковых аренах была лишь видимость соревнований, на самом же деле существовал тот же тотализатор, как и на бегах. Я, допустим, чемпион, а мне тренер говорит, что сегодня надо проиграть какому-нибудь Иванову на шестой минуте схватки. Я возмущаюсь: «Зачем мне под него ложиться? Я с ним справлюсь без труда». – «Надо, я на него ставлю, и другие нужные нам люди тоже». Делать нечего, тренер обеспечивает мне безбедную жизнь, и приходится поддаваться слабому противнику.
Но один раз в году в городе Гамбурге при закрытых дверях борцы устраивали между собой соревнования на совесть, дабы знать, кто подлинный чемпион, кто сильнейший вне зависимости от ставки гонорара и титулов.
Вот мы и оцениваем некоторых народных и заслуженных артистов по гамбургскому счету, и получается, что при честном соревновании они оказываются слабее большинства своих коллег, даже не имеющих звонких титулов и наград.
Сейчас появилась новая мода, многие стали называть друг друга «великими» и «гениями». Дарование их оказывается не ниже, чем у Леонардо да Винчи. Что же… Щедро, широко! Появилось множество призов и наград, выдают их друг дружке. А «кина», как говорится, нет. Нет киностудий – стоит кинопроизводство…
МХАТ СССР им. Горького
Вот уже пошло второе столетие, как К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко был создан МХАТ. Здесь с 1920-х годов блистали М. И. Прудкин, О. Н. Андровская, К. Н. Еланская, А. О. Степанова, Н. П. Хмелев, Б. Н. Ливанов, М. М. Яншин, А. Н. Грибов, В. Я. Станицын, М. М. Тарханов, П. В. Массальский. Всех названных я видел на сцене, и со многими артистами этой старой театральной гвардии посчастливилось выступать вместе. Для меня они казались «небожителями». Я видел чудо их перевоплощения. Невозможно было сравнивать – кто лучше, а кто хуже играет. Спектакли оставались в памяти целиком, потому что их создавали не одиночки, а сплоченный коллектив талантливых личностей.
Кто с ними работал, хотел по-настоящему познать, что в них таилось, и впитывал лучшее, пропуская сквозь душу и сердце. Кто хотел продолжить их традиции, культивировать их в себе, не поддаваясь всяким соблазнам, тот с глубоким уважением относился к их профессиональной школе. Не зря во МХАТе пятидесятых-шестидесятых годов существовало ироническое выражение: «Играть по правдюльке». Ибо сценическая правда и правда жизни – едины и не имеют ничего общего с «жизненной правдюлькой», когда на сцену выносят бытовой сор, шелуху жизни.
Наверное, утрата высоких принципов той великой русской и советской школы сценического реализма и привела к нынешнему понижению мастерства, к превращению творчества актера в гримасничанье.
Традиции были великие, настоящие, но и «размыв» шел десятилетиями. Ведь созданная Станиславским система воспитания актера и работы над ролью требовали труда, подвижнического отношения к искусству, понимания и постижения подлинной жизни общества.
Несусветная глупость, если человек думает: мол, достаточно «выучить» систему Станиславского – и ты уже талант… Да ничего подобного! Станиславский никогда не считал, что каждый, изучивший его систему, может стать талантливым актером. Другое дело, ты будешь наверняка грамотным, думающим актером.
Я счастлив, что смог прикоснуться к великой школе и эстетике Художественного театра. Когда меня пригласили туда в 1963 году, притом на персональную ставку, почти как у старых мастеров, это было невероятно престижно. Причем меня приняли в труппу, хотя я и не заканчивал Школу-студию МХАТ. Кое-кто завидовал. Другие удивлялись: «Зачем известный артист кино соглашается на каждодневный труд в театре?» А мне как раз не хватало каждодневного упорного труда. Мне хотелось не только из партера наблюдать за игрой своих кумиров, но и стать партнером по сцене Тарасовой, Ливанова, Станицына, Яншина, Массальского, Прудкина, Степановой, Грибова, Зуевой, Пилявской…
Пригласили меня на определенный классический репертуар и доверили центральные роли. Во МХАТе я сыграл Треплева, Тузенбаха, Глумова, Незнамова, Мортимера, Тятина…
При всей доброжелательности у администрации сразу появилось обычное желание: заполучив известного киноактера, использовать его «на всю катушку». Я же с первых шагов стал сопротивляться, не желая засорять свой репертуар плохими пьесами.
«Ну вот, он – кассовый артист, – ревновали некоторые, – поэтому ему отдают предпочтение».
Ничего подобного, никаких особых условий для меня не создавали. Да я и сам не стремился к этому. Некоторых актеров, к примеру, ужасно расстраивало, когда им назначали дублера. Считали, что их подсиживают, хотят лишить престижных ролей. Я же, наоборот, мучился из-за отсутствия дублера, так как не бросал работу в кинематографе. Директор МХАТа, когда подашь заявление с просьбой разрешить сниматься в том или ином фильме, не возмущается, не упрашивает забрать заявление назад, а лаконично пишет: «Не возражаю, но…» В этом-то «но» вся загвоздка: «Но в свободное от работы в театре время». А попробуй-ка его выкроить, если тебе на неделе участвовать в нескольких спектаклях, а съемки фильма происходят на другом конце страны.
Каждая отлучка из-за отсутствия дублера связана с нервами. Например, играю роль разведчика Маневича в двухсерийном фильме «Земля, до востребования». Сценарий написан так, что без меня нет почти ни одного кадра. Действие происходит в южном порту. Вся группа сидит в Батуми, уже почернели на солнце. Ждут меня. Я отыграл в театре – лечу в Батуми. И тут же все приходит в движение – с раннего утра до позднего вечера съемки или подготовка к съемкам. Накануне дня, когда у меня следующий спектакль, возвращаюсь в Москву.
Однажды решил сэкономить время и вылететь утром в день спектакля. Вдруг объявляют, что рейс задерживается на два часа. Волнуюсь, поглядываю на часы, но уверен – успею. А когда объявили, что еще три часа ждать, приуныл. Места себе не мог найти, представлял жуткую картину в Москве. Полный зал на тысячу двести мест. Перед закрытым занавесом появляется директор и сообщает: «По вине артиста Стриженова спектакль отменяется. Можете вернуть билеты в кассу». Публика возмущается, думает: «Наверное, пьянствует, позабыв о нас…» И потом доказывай, что не ты виноват, а задержка рейса. Сколько ни оправдывайся, не поверят – наслушались небылиц про пьяные оргии актеров…
Пока я так размышлял, покрываясь холодным потом, вдруг объявляют: «Пассажиры, пройдите на посадку». У меня вырвался вздох облегчения. Прилетев в Москву, не заезжая домой, мчусь в театр. Еле-еле успел переодеться и даже без грима выскочил на сцену. Не подвел публику, но нервы себе подпортил.
С первых дней во МХАТе ко мне старая гвардия отнеслась очень внимательно. Михаил Михайлович Яншин говорил: «Это счастье играть с Олегом Александровичем, у него нет ни одного штампа». Режиссер спектакля «Без вины виноватые» Василий Александрович Орлов вспоминал: «Как странно, пришел артист со звонким именем и играет будто ученик – не кичится славою, полностью отдается работе».
Олег Стриженов в роли Треплева в спектакле «Чайка». В роли Нины – Светлана Коркошко
По праздникам меня приглашал к себе домой Борис Николаевич Ливанов. Мхатовские старожилы, хоть по возрасту годились мне в отцы, никогда не поучали менторским пренебрежительным тоном, считали за равного.
Часто приезжал в театр Алексей Николаевич Косыгин. Он очень любил наш спектакль «Чайка», привозил посмотреть его иностранных гостей. Косыгин обычно сидел в правительственной ложе, которая находится слева, если встать лицом к сцене. Другим большим театралом был Анастас Иванович Микоян, который любил находиться в четвертом ряду партера.
Когда кто-нибудь из руководителей страны посещал театр, мы об этом заранее узнавали по охранникам, шнырявшим повсюду. Плечистый молодой человек стоял за кулисами, как бы присматривая за нами. Особенно за мной, когда я в «Чайке» направлялся на сцену с ружьем. Очень его беспокоило это бутафорское оружие.
Любила театр не только по должности, но и от чистого сердца министр культуры Фурцева. Но среди министров культуры своей человечностью и уважительным отношением к деятелям искусства мне более других запомнился участник партизанского движения в Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Жаль, что в хрущевские времена он просидел в министерском кресле недолго.
Двенадцать лет работы во МХАТе с выдающимися мастерами старой актерской школы – это и сказка, и школа, и наслаждение. И вдруг читаю в не так давно вышедшей солидного формата и такого же солидного авторского коллектива энциклопедии «Москва»: «Несмотря на отдельные удачи, в 60-х годах театр находился в кризисе. В репертуар все чаще включались пьесы-однодневки, не безболезненно проходила смена поколений. Положение усугублялось тем, что любая критика официально ставшего государственным театра не допускалась. Желание выйти из кризиса побудило старейших актеров МХАТа пригласить в 1970 году в качестве главного режиссера воспитанника Школы-студии МХАТ О. Н. Ефремова, сумевшего в 70-х годах вдохнуть новую жизнь в театр».
На мой взгляд, кризис падает именно на семидесятые годы, когда один за другим уходили из театра и из жизни артисты старой гвардии и их некому было заменить. Заменить не только на сцене, но и в человеческом общении, в умении блюсти театральные традиции.
С Аллой Константиновной Тарасовой, когда ей исполнилось семьдесят пять лет, я играл «Без вины виноватые», и еще не догадывался, что это мой последний спектакль. Вынесли на сцену торт со свечами и объявили, что ей присуждено звание Героя Социалистического Труда. Через несколько дней Алла Константиновна на репетиции спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» отпросилась у режиссера-постановщика Виктора Яковлевича Станицына, и больше мы ее не видели. У нее оказалась серьезная болезнь – саркома мозга. Даже Звезду Героя Социалистического Труда Алла Константиновна не успела получить – ее положили на подушечке у гроба замечательной актрисы.
Я не мог продолжать играть Незнамова с другой партнершей. Да ее и не было. Образ Кручининой, как играла Тарасова, – это идеальная, коронная ее роль. Спектакль «Без вины виноватые» был закрыт совсем. Ведь зритель ходил именно на нас с Тарасовой.
С семидесятого года постепенно угасала великая плеяда артистов Художественного театра. Иногда в один день умирали по двое и, чтобы не хоронить их одновременно, устраивали очередность.
Помню завершение гастролей в Ленинграде в семьдесят четвертом году. Шли «Три сестры» Чехова на сцене Александринки – Театра драмы имени А. С. Пушкина. Алексей Николаевич Грибов играл Чебутыкина, я – барона Тузенбаха. В перерыве мне Владлен Давыдов говорит: «Что это с Грибовым? Неужели он развязал и выпил? Он еле-еле говорит».
Лишь позже мы узнали, что Алексея Николаевича к середине спектакля разбил инсульт. Каковы же у него были сила воли и тренинг артиста, чтобы до конца последнего акта оставаться на сцене! Он сам, наверное, не замечал, что стал говорить невнятно, слова поплыли. Наконец дали занавес, все раскланялись. Мы собрались ехать на вокзал, а Грибова прямиком из театра повезли в больницу. Больше он на сцену выходить не мог, хоть и прожил еще три года.
Мне не все равно, с кем играть. Искусство основано на сотворчестве, на ансамблевости. МХАТ, который я любил сначала как зритель, а потом как член творческого коллектива, стремительно исчезал. Труппа распалась. И в семьдесят шестом году я решил вернуться в Театр-студию киноактера. Это спустя двенадцать лет.
Мысли покинуть МХАТ у меня периодически возникали после закрытия спектакля «Без вины виноватые», а особенно после смерти Бориса Николаевича Ливанова.
С годами и публика менялась, к сожалению, не в лучшую сторону. Даже капельдинер, который впускает зрителей в зал, на глазах становился другим. Раньше он никогда не пропустил бы в зал, тем более в партер, опоздавших или людей под хмельком. Потом стал закрывать глаза даже на то, что идут в сапогах и чуть ли не в рабочей спецовке.
Я ощущал, что меняется зритель, по реакции зала. Вдруг в совершенно серьезном месте раздается смех.
Артисты умирали, и зритель тоже умирал, его сменял новый «театрал» – автобусно-колбасный. Особенно на дневных спектаклях в воскресенье. В театре аншлаг – все билеты проданы. Но в зале пусто. Оказывается, большинство билетов распределили по подмосковным городам. Местная администрация для «культурного мероприятия» выделила автобусы, и люди поехали в Москву. Только не с целью попасть в театр, а накупить в магазинах продуктов. А если кто-то и решится заглянуть на спектакль, жалея, что билет останется неиспользованным, то артисты услышат его по звяканью бутылок или падению тела во время сна.
Многие ныне перестали ощущать театр как храм искусства. Он стал для них чем-то наподобие зала игровых автоматов, куда приходишь лишь затем, чтобы убить время.
А вот, к примеру, когда играли в Токио «Три сестры» Чехова, меня поразили маленькие милые японочки, благоговейно, как молитвенник, державшие в руках томики Чехова. Хотя идет синхронный перевод, им все равно нужно знать, что дословно написано у великого писателя. Они успевали и нас слушать, и в томик Чехова заглядывать.
Несмотря на двадцатипятилетнюю разницу в возрасте, мы с Борисом Николаевичем дружили и часто бывали в гостях друг у друга. Он представлял собой в театральном мире такое же большое явление, как Николай Симонов. Недаром же они еще с юности были накоротке, вместе играли в фильме «Кастусь Калиновский». Оба были художниками.
О молодом Ливанове Станиславский и Немирович-Данченко говорили, что он – надежда Художественного театра.
Ливанов прекрасно рисовал, сочинял талантливые инсценировки. В театре шли поставленные им спектакли «Братья Карамазовы» и «Чайка». Сын певца, он обладал удивительно сильным и мелодичным голосом и, думаю, стал бы известным оперным артистом, если бы пошел по этой стезе. И конечно, как все мхатовцы-старики, имел замечательно поставленную речь.
На эти таланты накладывался его природный доброжелательный юмор, рождавшийся не в долгих часах кабинетных сидений, а моментально в любом месте, как только появлялся повод для смеха.
Увидит расфрантившегося актера со множеством цепочек на шее и запястьях рук и усмехается с наигранным удивлением:
– Ишь ты, как заковался!
Был у нас хороший артист Витя Шавыкин, но худющий до невозможности. Борис Николаевич как-то, глядя на него, покачал головой:
– Есть такое слово – телосложение. А у Шавыкина – теловычитание.
В театре существовала комната с табличкой на двери: «Художественная часть». Ливанов туда редко заглядывал, хотя был художественным руководителем МХАТа.
– Борис Николаевич! – вбегает в буфет запыхавшаяся секретарша. – Вас просят зайти в художественную часть.
– Как это возможно, чтобы художественное целое, – Ливанов, улыбаясь, показывает на себя, – и вдруг должно посетить какую-то художественную часть?
С давних пор первый сбор труппы в начале сезона мхатовцы называли «иудин день». Встретившись после летних отпусков, даже враждовавшие друг с другом артисты в этот день целовались и обменивались комплиментами. В 1957 году в «иудин день» много шептались о прогремевшем недавно на всю страну обвинении против Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним Шепилова». Но вот директор попросил тишины и стал представлять новых артистов.
– Вячеслав Михайлович Невинный!..
Вячеславом Михайловичем звали также свергнутого Молотова, и Ливанов тотчас обыграл это совпадение.
– А Лазарь Моисеевич?
Во МХАТе идет генеральный прогон спектакля «Враги». Тогда еще живы были все трое членов триумвирата театрального руководства – Кедров, Станицын и Ливанов. В антракте все собрались в буфете, но вот дали звонок, и мхатовцы потянулись в зал. Ливанов, поднимаясь, глубоко вздыхает:
– Пойду посмотрю на своих врагов в гриме и костюмах.
И как хочешь, так и понимай его: то ли имеет в виду название пьесы Максима Горького, то ли упражняющихся в ненависти друг к другу актеров.
Или он входит в буфет в перерыве между репетициями и, наклонившись над первым столиком, за которым бурно обсуждают коллег, неожиданно выстреливает вопросом:
– Против кого дружим?
Рассказывали, что на каком-то приеме в Кремле известный маршал, заметив Ливанова, расплылся в улыбке и громогласно заявил:
– Вот сейчас товарищ Ливанов нам что-нибудь исполнит!
– Да, – ответил Ливанов без паузы, – но прежде ты мне из пушки выстрелишь!
В другой раз «на рауте» в большом обществе Ливанова знакомят с гостями. И вот кто-то подходит сам, протягивает руку и представляется:
– Я (допустим) Сидоров, муж Валерии Барсовой.
– Понятно, – кивает Ливанов. И тут же добавляет: – Ну а днем чем занимаетесь?
Не очень талантливому, но довольно крепко пьющему актеру Ливанов мог заявить:
– Старик, не по таланту пьешь!..
Несмотря на могучее телосложение, Борис Николаевич был чрезвычайно нежен душой, что чувствовалось даже в выборе ролей. Особенно он мне нравился в образе Мити Карамазова и Егора Булычова, а в кино – в роли Дубровского. И конечно, незабываем воссозданный им Потемкин в фильме «Адмирал Ушаков».
Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Мамаева – Галина Калиновская, народная артистка РСФСР
В шестьдесят восьмом году мы побывали на гастролях в Японии. Возвращались домой через Японское море на пароходе «Байкал». Попали в сильный осенний шторм. Вся группа, страдая морской болезнью, лежала по койкам, на ногах оставались только Массальский, Комиссаров и Ливанов. Когда погода успокоилась, мы поднялись с Борисом Николаевичем на палубу и уселись за столик.
– Ты готовься, – вдруг говорит он, – как приедем, начнем репетировать «Чайку».
Стал рассказывать, какой он видит постановку и кто будет играть.
– Ты обязательно будешь, Олег. Я, можно сказать, только из-за тебя затеваю эту постановку. У меня «Чайка» больше станет не она, а ты в роли Треплева.
Когда вернулись в Москву, сразу начали репетировать, и в конце декабря состоялась премьера. Зрители принимали нашу «Чайку» превосходно. Съездили с ней на гастроли в Свердловск, а в 1970 году на целый месяц в Англию. Вернувшись из Лондона, узнали, что, пока мы услаждали английскую публику, бывшие друзья предали Бориса Николаевича – побывали в ЦК КПСС с просьбой избавить их от худрука Ливанова. В глаза ему свои претензии высказать не посмели, все делали за спиной.
Этот случай, по-моему, стал началом распада МХАТа еще задолго до его разделения в 1987 году на две труппы. Обидевшийся Ливанов написал министру культуры Фурцевой, что «ноги моей больше не будет в моем доме», то есть в родном театре. Он продолжал числиться в нем, но порога не переступал, хотя поставленные им спектакли, ту же «Чайку», мы продолжали играть.
После столь резко изменившейся судьбы Ливанов прожил менее двух лет. От грустных мыслей его на какое-то время отвлекло приглашение болгар поставить у них «Братьев Карамазовых». Он уехал в Софию, на совесть работал там, и спектакль был принят с восторгом. Вернулся в Москву Борис Николаевич вроде даже повеселевший, с болгарским орденом Кирилла и Мефодия.
Но здесь вновь открылась рана, нанесенная бывшими друзьями, и он заметно стал сдавать, не представляя своей жизни без МХАТа. Были, конечно, среди артистов его поколения люди, не участвовавшие в этой некрасивой истории, – Анатолий Петрович Кторов, Борис Смирнов, поначалу Степанова.
Я не перестал общаться с Ливановым. Он, конечно, не мог не интересоваться театром, часто расспрашивал, как идет «Чайка». При нем записали ее на радио. А фильм-спектакль снимали уже после его смерти.
Мне позвонил в этот печальный и трагический день Василий, сын Бориса Николаевича, и ошеломил вестью – отец умер. Мы с Василием и с прилетевшим из Болгарии Петром Гюровым поехали в морг больницы ЦКБ ЦК КПСС, где в тишине и безлюдье попрощались с любимым человеком. Потом перенесли гроб в катафалк и доставили в Художественный театр.
– Все, – сказал я Василию, – он нам больше не принадлежит, теперь прощаться будет народ. И действительно, огромная вереница людей не уменьшалась до самого вечера.
На траурную церемонию пришли все, даже те, из-за кого ему пришлось уйти из театра. Многие, глядя на мертвое тело, не могли избавиться от выражения испуга. Они-то знали все. Знали, почему удалили Ливанова из своего дома.
Когда на Новодевичьем кладбище произносили прощальные речи, вдруг обрушился невероятный ливень, раздались раскаты грома, и засверкала молния. Грустная Тарасова, которая обычно никуда не выходила, боясь простуды, промокла насквозь, но проводила своего старого товарища до самой могилы. О чем она думала? Наверное, что и ей скоро идти за Ливановым. Что все в мире бренно.
– Даже природа рыдает по Борису Николаевичу, – заметил кто-то.
Рождество в Париже
После Каннского фестиваля прошло много лет, когда я опять встретился с Николаем Константиновичем Черкасовым. Ставили в шестьдесят пятом году совместно с французами «Третью молодость», где я играл Петра Ильича Чайковского, а он – директора императорских театров Гедеонова.
Черкасов заметно постарел. Мы переодевались в одной костюмерной, и я заметил, что он превратился в живые мощи – до того исхудал. Но оставался, как прежде, улыбчив и разговорчив. Мне казалось, что он вообще никогда не закрывает рта, балагурит и балагурит без остановки.
– Николай Константинович, – дружески спрашиваю его, – вы не устаете все время разговаривать? Тяжело ведь…
– Если я замолчу, – как-то просто ответил великий актер, – то тотчас начну думать о смерти. Пока говоришь, чувствуешь, что ты жив.
Я подумал: каково ему дома, когда остается один? Приходится, наверное, постоянно думать о недалекой кончине. Или, может быть, он спасается тем, что одну за другой читает вслух все сыгранные за долгие годы роли?..
Вскоре после завершения работы над «Третьей молодостью» Черкасова не стало. Но в душах его соотечественников навсегда останутся созданные им в кино образы Ивана Грозного, царевича Алексея, Дон Кихота и многие другие.
Рождество по-европейски я провел во Франции. В Париже людно, шумно, все куда-то спешат, все улыбаются, и всем весело. Весело, потому что праздник! В Париже мне всегда хорошо. Иногда даже кажется, что в прошлой жизни я именно здесь жил.
Сижу в своем роскошном номере, на этот раз в знаменитой гостинице «Наполеон». Жду своего продюсера по фильму «Третья молодость» Александра Борисовича Каменку. С ним мы знакомы еще со времен Каннского фестиваля, да и в Москве тоже встречались не раз. Он был продюсером тоже совместного советско-французского фильма «Нормандия – Неман», который снимался на «Мосфильме» в 1960 году.
Именно Каменка и автор сценария фильма «Третья молодость» Саша Галич порекомендовали меня на роль Петра Ильича Чайковского. Я представил себя в этой роли и поверил, что портретный грим должен получиться. Тем более, что художником-гримером в «Третьей молодости» был один из лучших мастеров, можно считать, мой «крестный» еще по «Оводу», Василий Петрович Ульянов. Кстати, оператором выбрали очень известного мастера Мишеля Кельбера. Он снимал Жерара Филипа в фильмах «Красота дьявола», «Красное и черное», «Накипь». Режиссером-постановщиком был Жан Древиль.
Александр Борисович обещал, что они приедут к семи часам вечера. К этому времени я уже оделся и не забыл бабочку, помня случай с Черкасовым в Каннах. Вышел на улицу. Возле отеля сновали гуляющие, все кругом шумело, горело и блестело. Наконец подъехала машина, и мы направились на Монмартр.
– Чем вас позволите угостить, Олег Александрович? – спросил Каменка.
– «Мулен Ружем», – неожиданно выпалил я. – Давно там не был.
Мы уютно и мило устроились за столиком. Болтали и смотрели, что происходит на сцене. Когда разговор вдруг коснулся Москвы, Александр Борисович вспомнил, что недавно был в гостях у Пырьева и его приятно поразила молодая жена хозяина Лионелла.
– Вы ее не знаете? – спросил он меня. – Она тоже артистка. Очень красивая.
– Нет, не знаю.
Настроение мое вмиг испортилось. Каменка хотел продолжать ту же тему, но я, стараясь, чтобы не заметили во мне перемены, очень мягко и незаметно перевел внимание на сцену, где французские девочки исполняли свой коронный канкан. В этот вечер мы больше не говорили ни о Пырьеве, ни о его красивой жене. Когда же Александр Борисович проводил меня до «Наполеона» и я остался один в номере, то не знал, куда себя деть. Слонялся из угла в угол. Почему-то вспомнились строки Пушкина.
…Бомарше Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери, Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку Иль перечти «Женитьбу Фигаро».«Фигаро» у меня, конечно, с собой не было, зато в баре номера стояла бутылка шампанского. К ней-то я, естественно, и обратился.
Выпив залпом целый бокал, сел, подперев рукой голову, и закурил, размышляя «о превратностях судьбы».
Мысли навязчивые и неприятные! Я даже повторил вслух:
– Очень красивая! Но как же так?! Ведь она любит меня!
С этим убеждением я вскочил и бросился к письменному столу, включил настольную лампу и решил написать ей письмо. Сейчас, сразу же! Вот оно…
«25 декабря 1965 г.
Париж
Любимая моя, дорогая моя Ли!
Тебя нет рядом, и Мир рухнул!
Мне безумно тебя не хватает. Без тебя тошно и пусто. И все теряет свой интерес и смысл. Я не хочу ничего вспоминать и вдаваться в подробности: «Кто прав – кто виноват?» Да и в этом ли дело?..
Я тоскую без тебя. Я люблю тебя как прежде. О дальнейшем не задумываюсь. Ты же знаешь, что я никогда и ничего не задумывал. И не из боязни что-то сглазить. Просто я всегда должен во что-то верить! Сейчас я почему-то верю, что ты любишь меня и что мы скоро опять будем вместе. О господи! Прости. Куда меня занесло! Ты слишком хороша для такого дурака, как я! Сейчас мне лучше вспомнить строки дорогого Сергея Есенина.
Простите мне… Я знаю: вы не та — Живете вы С серьезным, умным мужем; Что не нужна вам наша маета, И сам я вам Ни капельки не нужен. Не прими за обиду. Прощай».Письмо я отправил на имя ее подруги, актрисы Риты Гладунко, с припиской: «Для Лины».
«Мы с Олегом Александровичем во многом похожи. Иногда доходит до того, что я подумаю о чем-то, а он это вслух уже говорит».
(Лионелла Пырьева)Дар от Бога
Иногда смотрю свой первый фильм «Овод» и думаю: «Я ли это?» Может быть, в том или ином месте нужно было играть по-иному?… Нет, всему свое время! Тогда, при том моем юношеском темпераменте все было верно. Подсказанное же опытом долгих лет жизни оказалось бы неприемлемым, неверным, неживым.
Нечто похожее в труде живописца. С возрастом думаешь: может быть, переписать ту или иную картину?.. Ни в коем случае! Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Есть закон – вовремя закончить работу над очередным холстом и спустя годы ничего не менять в однажды написанной картине. Иначе – замусолишь холст, утратится ясность вложенных в него мыслей, созвучных тому давнему периоду твоей жизни, эмоций и чувств.
Надо уметь вовремя остановиться в творчестве, не мучить свой разум и по наитию перейти к работе над следующим творением. Рука Всевышнего сама тебя наведет на правильный путь.
Помню в Милане в трапезной монастыря Санта-Мария делла Грациа рассматривал стенную роспись «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Там же при входе в храм стояли стенды. На одном из них – большие фотографии разрушенного во время Второй мировой войны собора. Вместо него – груда камней, и среди них возвышается единственная уцелевшая стена, и именно на ней запечатлена «Тайная вечеря»! Какая рука сверху остановила уничтожение бесценного произведения искусства?! Вот и размышляй после этого о тайне создания мира. Кто оберег великую стену Леонардо? Чья рука остановила разрушение шедевра?
Рукой художника, если его дар от Бога, что-то всегда ведет. Иногда он сам не может объяснить, почему линия прошла так, а не иначе, почему именно эти краски положил на холст.
Великие артисты МХАТа говорили о своих посредственных коллегах: «Этому легко, у него искусство проверенное». То есть он не ищет неповторимости, им не движет в творчестве высшая сила.
Поэтому, когда берешься за новую роль, ты не скачешь от радости: «Как хорошо! Я добился, чего желал!» Ты обеспокоен, начинаешь думать, как лучше ее сыграть, что нового надо открыть в себе для нового героя. И часто, не сознавая, какая сила движет тобою, выбираешь единственно правильное решение.
Слышал мнение: «Чем старше, тем лучше и легче играть, лучшие роли – впереди». Неправда. Что вы будете в старости демонстрировать? Свою убогость? Какая это игра, если ты уже двигаешься еле-еле?
Наш знаменитый артист балета и мой друг Марис Лиепа смешно так говорил мне, немножко с акцентом: «Ощень жаль, сечас самое время играть, играть хорошо… Все знаешь, все умеешь. Но… Прышок плохой, низкий».
Прыжок плохой. А зато знание, опыт – вот бы показать себя. Нет же, поздно – прыжок не получается как прежде.
Всегда надо чувствовать, сможешь потянуть роль или нет. Нельзя хвататься за все что ни попало, за «не свое». Конечно, плохие артисты это делают сплошь да рядом. И их почему-то никто и никогда не ругает. Может быть, критики их не считают достойными внимания?..
Если я согласился участвовать в фильме, значит, у меня не должно быть никаких конфликтов с коллегами по работе. Не нравится мне героиня – я ее полюблю. Не в прямом смысле, а буду себя настраивать по отношению к ней доброжелательно. Доброжелателен буду и с другими, потому что невозможно в плохой атмосфере радостно творить.
Даже готовясь к трагической роли, ты должен приходить в радостный коллектив. Чушь, что, играя злодея, надо с утра настраивать себя на ненависть ко всему миру. Злоба, печаль, горе опустошают человека, его на сцене обязательно выдадут глаза.
Когда в июле семьдесят первого года у меня умерла мама, я находился на гастролях в Таллине, играл Незнамова и не мог сразу выехать в Москву. Выхожу на сцену – слезы текут. Ничего не могу с собой поделать. Последний акт – мой герой сидит на скамеечке, смотрит на луну. А я все думаю о маме. От зрителя отворачиваться нельзя. И слезы продолжают литься градом.
Поэтому, если испорчено настроение, на сцене оно из тебя все равно попрет, будешь играть как положено, а глаза и мимика выдадут, что ты в скверном положении.
Вы же слышите, если гитара расстроена, как вам по ушам бьет какая-то дрянь. Так же и у артиста, когда в душе наступает дискомфорт.
Поэтому надо умело общаться с режиссером, чтобы он не выставлял напоказ свои амбиции и не портил окружающим настроение. Подсказать ему что-то и сказать, что он об этом сам в прошлый раз говорил. Он проглотит твою выношенную идею, выдаст за свою и останется доброжелательным и спокойным.
В «Кино-газете» в начале 1918 года фельетонист писал о профессии режиссера: «Лицо, стоящее у аппарата и мешающее своим криком игре актеров, называется режиссером. Никакого другого стажа, кроме наглости, от режиссера не требуется. Режиссера можно узнать по портфелю, в котором он носит газеты, журналы, иногда и сценарии. Режиссеры имеют пристрастие к значкам странной формы, не то университетским, не то профессионального союза коммивояжеров. У каждого режиссера есть помощник, от которого столько же помощи, сколько от рыжего в цирке…»
В этих насмешливо-злых словах, сказанных на заре кинематографа, есть доля истины. К сожалению, подобных режиссеров, особенно в последнее время, развелось слишком много. Боюсь, что обидятся за свою профессию хорошие режиссеры, поэтому добавлю, что бездарных артистов тоже хватает с избытком.
Режиссеры делали все возможное, чтобы отличаться от остальных членов съемочной группы. Сначала, как пишет фельетонист, их узнавали по портфелю, набитому газетами и журналами. Потом портфели появились у самых мелких чиновников, и они стали носить на голове пробковые шлемы. На смену им пришли кепочки а-ля Голливуд. И черные очки. Я удивлялся: «Зачем ты работаешь в темных очках? Ты же снимаешь цветное кино? Должен видеть все, как есть в жизни». А он только пожимает плечами, не хочет признаваться, что напялил их для дешевого пижонства. И в работе такой же.
У плохого режиссера есть еще особенность. Он начинает изгалятъся над актером – показывать, как надо профессионально играть. И пока не насытится своим мнимым театральным мастерством, не уймется. Со мной однажды произошел подобный случай. Пришлось остановить режиссера, учившего меня моей профессии. «Что такое?» – не понял он. «Да мне потом противно будет играть. Я уйду, вы тогда и выкамаривайте перед публикой», – говорю я.
И талантливый режиссер, и бездарный – оба, к сожалению, называются одним и тем же словом. Этим принизили значение постановщика картины, и в это дело полезли теперь все кому не лень.
Отличного режиссера я бы сравнил с дирижером. Ведь одну и ту же симфонию оркестр может исполнить по-разному, многое зависит от человека с палочкой в руках, который управляет музыкантами. И если режиссер – настоящий мастер, он, подобно дирижеру, хозяин своего оркестра. Только у него в руках не дирижерская палочка, а ножницы, и перед ним монтажный стол. Как-то один артист спросил у знаменитого режиссера: «Какая моя сверхзадача в фильме?»
– Ты играй, – отмахнулся тот, – а потом при монтаже я все твои сверхзадачи склею.
Вспомните, как Эйзенштейн сам рисовал отдельные кадры и наглядно давал понять всем, занятым в эпизоде, как действовать слаженно, чтобы не нарушить общей тональности. Да, режиссер – мастер, маэстро и одновременно большой души человек, который должен уметь растворяться в артисте, дать каждому возможность показать свой талант.
Хорошие режиссеры старого поколения, которых я застал – Александров, Пырьев, Барнет, Савченко, Герасимов и еще целый ряд, – имели дореволюционные традиции воспитания. Кроме того, они были талантливы не только в своей основной профессии. Эйзенштейн хорошо рисовал, мастерски писал сценарии. Герасимов – писатель, Владимир Михайлович Петров – драматический актер. Да и Пырьев тоже.
Если ты им понадобился, они сами тебе звонили, спрашивали об удобном времени, когда можно прислать машину. Как Герасимов делал?.. Звонит мне: «Олег Александрович, у меня есть в фильме, стало быть, князь». Смеюсь: «Как князь, так сразу ко мне». – «Что ж поделаешь. Есть Василий Голицын в «Юности Петра». Говорю наперед, вижу на эту роль только вас». «Сергей Аполлинариевич, – отвечаю, – у меня нет причин вам отказывать». – «Ну хорошо. Скажи, когда прислать тебе машину, чтобы померить костюмы, бородки, грим попробовать?» Договариваемся.
Назавтра в условленное время машина стоит у подъезда, и я еду. Вот это деловой разговор, который сразу переходит в работу. Идет примерка костюмов, подбираем бороду и усы, оговариваем прическу. Выдается личный сценарий.
На следующий день приезжаешь, накладываешь полный грим, одеваешься, фотограф щелкает камерой, пробуешь по-другому уложить волосы. Опять щелкает. Потом Герасимов посмотрит на разные фотографии и говорит: «Ну, мы не будем тратить пленку на пробы. Вот здесь самый подходящий вид» – и указывает на одну из лучших фотографий. Причем, дельные предложения во время съемок принимал благожелательно и исполнял.
Олег Стриженов, Зинаида Кириенко и Жан Маре на III Московском международном кинофестивале. 16 июля 1963 г.
Кино – очень жестокое производство, и актер одинок в его необъятном океане. Надо уметь себя зарекомендовать, заставить уважать, иначе из тебя вытянут все соки и выбросят как выжатый лимон. Будь стойким и умей творчески работать над созданием образа, чтобы не стать покорной рыбешкой на крючке режиссера.
Нередко актеров приглашали на пробы, выбривали брови, красили волосы, чуть ли не оставляли без зубов. И в результате после первой съемки даже не удосужатся позвонить, чтобы извиниться и сообщить, что решили взять другого человека на эту роль.
Но попробуй ты, актер, прочитав предложенный сценарий, заявить: «Мне он не нравится, и я не хочу участвовать в этой картине». Сразу же раздаются возмущенные возгласы: «Как?! Он не хочет с нами работать?!» Ведь каждый постановщик считает, что он – Эйзенштейн, а каждый сценарист, что он – Пушкин. И твой отказ они воспринимают как кровную обиду и начинают мстить. А если откажешься двадцать раз? Значит, уже нажил несколько десятков кровожадных врагов, которые имеют в кинематографе немало приятелей и их тоже будут настраивать против тебя. Их жены тоже подключатся к кинематографической вендетте, и вот уже целая свора околокиношных людей пытается втоптать тебя в грязь далеко не благородными способами.
У меня бурная фантазия еще с детских лет. Считаю, что фантазировать нужно до абсурда. Потом отбросишь лишнее, но останется главное, чем сможешь напитать режиссера, подсказав ему видение своей роли. Конечно, плохой режиссер может обидеться, посчитать, что затронули его самолюбие. И тогда он находит самый примитивный выход из создавшегося положения: накричать на актера, показать ему, чье мнение главное на съемочной площадке.
Я вырос в культурной и образованной семье, у нас никогда не кричали друг на друга, даже на шпица Мишу. Не смели на меня повышать голос ни преподаватели, ни соседские мальчишки. И, став известным артистом, я тем более не переносил крикливой брани. Это знали, и меня побаивались.
Но почему-то же не боялись ни Пырьев, ни Герасимов, ни Боря Григорьев, ни Леша Салтыков? Потому что настоящим творческим людям не надо создавать видимость, что они в группе главные. Они приносят в коллектив свои знания и талант, делятся своими замыслами с другими и в ответ получают то же. К сожалению, для подобного взаимопонимания нужен настоящий творческий коллектив, а такое встречается не часто.
К сожалению, в широком и масштабном плане в кино мало киноискусства. Это – кинофабрика. Это – производство. Индустрия, где актер – самое зависимое лицо. Зависимое от сценария, от режиссера, оператора, даже от звука и пр., и пр.
Я всю жизнь мечтал о свободе! А выбрал самую зависимую профессию в мире! Зависимую от всего, даже от собственного настроения!..
Гаденький обычай существовал всегда у плохих режиссеров. Возьмут фотографии около сотни актеров и начинают то ли пасьянс раскладывать, то ли размышлять: «Кто же будет у меня в картине героем? Кого попробовать на ведущую роль?»
Это полная слепота, незнание, как надо работать. У хорошего мастера такого не бывает.
После «Капитанской дочки» я снялся в фильме «В твоих руках жизнь», играл реального человека – капитана Дудина, руководившего саперными работами в Курске, где нашли склад боеприпасов, оставленных при отступлении немцами.
Закончив съемки, повстречался в саду между двумя павильонами с Пырьевым.
– Я начинаю снимать по Достоевскому «Белые ночи», – после приветствий говорит он, – и у меня нет актера на роль Мечтателя. Хочешь сыграть?
– Достоевского? Кто ж не хочет! – Спрашиваю: – Когда пробы?
Иван Александрович удивился моему вопросу. Он не занимался раскладыванием пасьянсов из кандидатов на роль, точно представляя, кого видит в своем будущем фильме.
– Какие еще пробы? Мы договорились или нет?
– Да, – только и сумел вымолвить я.
– Тогда иди в гримерную, там есть Аня Потяновская – хороший мастер. С ней поищите прическу, сделайте цвет волос посветлее. Короче, сами думайте над образом. И пусть костюмы по тебе подгонят. Потом мне покажешься. Я тебя сниму в очках и без очков, так и эдак и выберу, что лучше. Но ты дал согласие – значит, будешь у меня. Совмещать ни с чем эту роль невозможно!
Вот за какую я работу. Чтобы пробы означали не поиск похожего на роль артиста, когда режиссер еще сам ничего толком не понимает в будущей картине, а создание уже приглашенным артистом нужного образа. А иначе ты – натурщик, типаж!
Кино по сравнению с театром гораздо ближе стоит к жизни. Раньше даже боялись театральных актеров брать в кинематограф, их трудно было приучить к особенностям киносъемок. Здесь надо уметь полностью забывать о театральной сцене и законах игры на ней.
Так же должен уметь переключаться драматург, пишущий для кино. Невозможно воспроизвести полностью на экране прекрасную чеховскую пьесу с длинными философскими монологами. Сценаристу приходится их немилосердно сокращать.
Да, в театре не найти пьес лучше чеховских. Кино же совсем иное искусство, оно не терпит много слов. Зрителю становится скучно, он пришел в первую очередь смотреть и лишь во вторую – слушать. Он ждет постоянного движения, быстрого развития событий, смены декораций.
Киносценарий надо уметь писать по мотивам произведений, к примеру, Чехова, чтобы отобразить его самые сокровенные мысли и одновременно создать более динамично развивающееся действие. Это очень сложно, здесь нужен блистательный драматург кино.
Немирович-Данченко говорил, что семьдесят пять процентов успеха в театре – это текст пьесы. Так же и в кино. Значит, только двадцать пять процентов остается на режиссуру, художника, артистов, композитора.
Если в сценарии золожены интрига, философия, конфликт, характеры, то дело пойдет. Чепуха, когда некоторые режиссеры говорят: «Мы во время работы исправим, добавим». Когда уже пошла работа над фильмом, на первое место выдвигается суровый закон производства.
– Слушай, мы же договорились, – обращаешься к режиссеру, – и ты обещал, что в этом месте поправишь текст.
– Не помню.
– Да я и согласился участвовать в картине только с условием, что будут вычеркнуты эти нелепые фразы и заменены другими.
– Почему не начинаем съемку? – подскакивает директор.
– Олег Александрович заявляет, что фраза плохая, не хочет ее произносить, – разводит руками режиссер.
– Олег Александрович, – поворачивается директор ко мне, – вы на этот сценарий подписывали договор?
– Да.
– Ну и будьте любезны начинать.
Вот так можно наколоться, поверив режиссеру на слово. Верить никому нельзя. Кино – жестокая и очень жесткая работа.
Много спорили и до сих пор продолжают спорить, какой должен быть сценарий. Одно время в зарубежном кино раздавались голоса, что он вовсе не нужен, только сковывает творческую личность, достаточно, мол, импровизации актеров и режиссера в процессе съемок.
На мой взгляд, подобные рассуждения – лазейка для лентяев, которые презирают трудоемкую подготовительную работу и наивно полагают, что имеют недюжинный талант и в силах фейерверком разбрасывать гениальные мысли непосредственно перед командой «мотор». Наверное, они никогда не читали жизнеописания талантливых людей, не представляют себе, сколько труда и пота затрачивал тот же Чехов, чтобы добиться видимой легкости фразы. Простота рассказов, пьес, кинофильмов, созданных выдающимися мастерами, требует титанических усилий, она рождается в муках творчества, а не сама собой выскакивает из головы.
Лучшие киносценаристы отличались именно умением профессионально и кропотливо трудиться над словом, учитывая специфику кино. При работе над сценарием они даже прикидывали, какой актер может играть ту или иную роль, и писали текст под него.
Гастролер
Работая во МХАТе, я практиковал гастроли в чужих городах.
Провинциальные театры недобирали деньжат и приглашали время от времени известных столичных артистов сыграть у них в каком-нибудь спектакле. Дело считалось выгодным: имели право повысить цену билетов, да и публика валом валила на гастролера, особенно если знала его имя по популярным кинофильмам.
Гастролер не нужен, если он сыграет один-два раза, и все. Нужно – утро и вечер в течение десяти дней, то есть двадцать спектаклей. Иначе даже затраты на проезд и гостиницу для приезжего артиста не окупятся. Прилетаю в Уфу играть «Без вины виноватые». Другие люди, другие декорации, другая сцена. Но костюм Незнамова я возил свой, мхатовский. Собрался весь театральный состав. Говорю: «Пойдемте на сцену. У меня первая просьба – сверить текст». Ведь в каждом театре делают свои незначительные сокращения, изменения. Далее предлагаю: «Вы играйте как обычно, а я, гастролер, буду под вас подстраиваться».
Начинаем репетировать. Я должен импровизировать, чувствовать, куда сейчас пойдет мой партнер, и мгновенно решать, как самому двигаться по сцене. Мне очень нравились эти импровизации, когда необходимо четко ориентироваться в непривычной обстановке, каждый момент быть готовым достойно выйти из неординарной ситуации.
Поклоны после спектакля «Без вины виноватые». Уфа. 1973 г.
Ты должен чувствовать свою ответственность гастролера – тебя встречают пионеры с барабанной дробью, поклонницы с цветами, обкомовское начальство на черных «Волгах». Весь город заклеен твоими афишами, и ты должен оправдать надежды публики, не попасть впросак.
Во-первых, надо сдать экзамен у местной труппы, чтобы они потом презрительно не сказали: «И зачем его пригласили? Наши получше играют». И второе – успокоить партнеров, чтобы они перестали в тебе чувствовать чужака. Один артист, смотрю, весь дрожит перед спектаклем. «Что с тобой?» – удивляюсь. «Очень волнуюсь, что с вами предстоит играть, и особенно – зал полный, у нас еще никогда аншлага не было».
Его можно понять. Жизнь провинциального театра порой несладкая. Иной раз артисты уже загримируются, готовы к выходу на сцену. Вдруг появляется администратор и объявляет: «Спектакль отменяем. Всего десять зрителей в зале».
Гастролер – это не только известность и талант, но и сила, выносливость. Тебя никогда не пригласят, если ты немощен и можешь играть не чаще раза-двух в неделю. Ты должен работать на износ. Каждый день, утром и вечером.
Когда уезжаешь, актеры благодарят: «Спасибо. Нам наконец полную зарплату выдали да еще премию».
Но, сыграв как-то во Владикавказе двадцать спектаклей подряд «На всякого мудреца довольно простоты», я зарекся повторять подобный подвиг. У Глумова текста листов девяносто, он не сходит со сцены ни на миг. Физически трудно без передышки играть двадцать раз подряд его роль.
А вот Незнамова не бросал. Эта роль как будто создана для гастролера. Вышел, отыграл эффектные сцены, и у тебя передышка, можно расслабиться. Так что «Без вины виноватые» я по двадцать спектаклей за десять дней играл без труда.
Притом надо учесть, что, возвращаясь с гастролей, мне нужно было играть свои репертуарные роли во МХАТе.
«Проба» актера
Когда я пишу, что мне небезразлично, с кем играть, то имею в виду театр, живое общение на сцене. В кино совсем иное, здесь кого утвердят, тот и станет партнером. Взяли бы в «Оводе» на роль кардинала Монтанелли не Симонова, а другого претендента – Вертинского, и ничего для меня не изменилось бы, сыграл бы точно так же.
Актер может только посоветовать режиссеру, каким видит своего партнера. Но решать не ему.
Порой невозможно понять, по каким причинам взяли на роль того или иного актера. Например, Козинцев снимал на «Ленфильме» «Короля Лира». Под рукой в Ленинграде живет великий трагик Симонов, который мечтал сыграть короля Лира и которого безумно любил народ. Так нет же, режиссер берет на эту роль Ярвета из далекого Таллина.
Нередко случалось, что великие актеры ощущали свою близость к тому или иному персонажу, мечтали сыграть его многие годы и так и оставались ни с чем. Когда, например, Зархи ставил «Анну Каренину», его старый товарищ Черкасов сказал ему, что давно вынашивает мысль сыграть Каренина. Сделали кинопробы, но отказали, мотивируя свое решение тем, что Николай Константинович староват для этой роли. И униженный великий Черкасов уехал назад в Ленинград ни с чем.
А вот на «Ленфильме» для него нашли последнюю в жизни работу в фильме «Все остается людям», где он за исполнение роли академика Дронова был удостоен Ленинской премии.
Однажды я встретился на «Мосфильме» с земечательным вахтанговским артистом Сергеем Владимировичем Лукьяновым, который играл в «Капитанской дочке» Пугачева. Поздоровались на ходу.
– Куда, Сергей Владимирович, спешите?
– Иду пробовать режиссера.
Я расхохотался.
Хорошо сказал! Привыкли режиссеры выбирать артистов. А вот Лукьянов решил сделать наоборот.
Это был мощный талант. Он не давал себя унизить ни режиссеру, ни кому-либо другому. Ведь как бывает? Недавний выпускник ВГИКа каким-то образом добивается постановки, хоть у него нет никакого опыта – ни жизненного, ни творческого.
К примеру, смотрю эпизод современного фильма, как в 1944 году солдат возвращается с фронта и выходит из вестибюля московского метро, на котором крупными буквами написано: «Кропоткинская».
Эх ты, современный режиссер, выпускник ВГИКа. Да эта станция в те времена называлась «Дворец Советов» и только в пятьдесят седьмом году стала «Кропоткинской». Или тот же солдат снял сапоги, а на ногах современные носочки с резиночками. Да в войну их просто быть не могло, если уж не портянки намотаны, то носки-то уж со специальными подтяжками должны быть.
Коль ты родился через четверть века после окончания войны, не надейся на «авось» и бери консультанта, который поправит тебя и твою молодую команду, решивших снимать о времени, о котором не имеешь никакого представления.
Шутку Лукьянова тогда подхватили многие блестящие актеры, которых у нас было в достатке. Назову только народных артистов СССР, с которыми мне пришлось сниматься в кино, быть их партнером. Это Н. Симонов, Ю. Толубеев, В. Меркурьев, В. Чесноков, Р. Симонов, Б. Андреев, Н. Крючков, Е. Копелян, Н. Черкасов, М. Пуговкин, О. Жаков, Т. Макарова, М. Астангов.
Постепенно они уходили из жизни, оскудевал кинематограф. Не стало и моих хороших друзей: Виктора Авдюшко, Владимира Дружникова, Жени Андриканиса, Юры Гуляева, Георгия Юматова, Станислава Чекана, Павла Шпрингфельда, Павла Луспекаева…
Еще когда Паша Луспекаев работал в Киеве в Театре имени Леси Украинки, завязались наши дружеские отношения. О его смерти я узнал, будучи на съемках в Кабуле. Он последние годы жил в Ленинграде, уже нигде не работал, и его из любви и жалости похоронил «Ленфильм».
Вадим Медведев работал в Александринке, потом в БДТ у Товстоногова. Он играл со мной в «Оводе», потом в «Пиковой даме». Коренной ленинградец, Вадим любил рассказывать о родном городе и показывать гостям Петербург Пушкина, Достоевского… В семидесятых годах купил небольшую яхту с мотором от автомобиля «Волга» и устраивал для друзей новый вид экскурсий – обозревать город с воды. Петербург предстает совсем иным – знакомый и в то же время как будто впервые видишь его.
Вадим сыграл множество первых ролей в кино, в том числе Телегина в трилогии «Хождение по мукам». Но когда умер, газеты и телевидение почему-то об этом промолчали. Лишь задним числом узнал я о его смерти и не смог быть на похоронах. Стыдно было потом смотреть в глаза его вдове, великолепной актрисе БДТ Вале Ковель.
С Вадимом Спиридоновым – выпускником ВГИКа, заслуженным артистом республики, лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Вечный зов» – мы познакомились на съемках в картине Сергея Аполлинариевича Герасимова «Юность Петра». Я играл князя Голицына, он – дьяка Шакловитого. Вместе летали в Дрезден, где наши сцены снимались во дворце короля Августа. Часто ходили по Цвингеру – дворцу, в котором размещается Дрезденская галерея. Вечерами гоняли чаи и беседовали. А рано утром – съемки.
Вадим умер так же неожиданно, как Енгибаров. Позвонила его жена Валя и сообщила, что он дома прилег отдохнуть после обеда и заснул навечно. Ему было сорок с небольшим лет.
– Хоронить его будем на Калитниковском кладбище, – сообщила Валя.
– Почему так далеко?
– Ближе не дают места.
– Как? Это же Вадим Спиридонов! Спи-ри-до-нов! Замечательный артист!
И пошел в Моссовет, предварительно запасшись бумагой о Вадиме от дирекции Театра киноактера.
– Отсюда не выйду, – сказал я в Моссовете, – пока не узнаю, что Спиридонов будет похоронен на Ваганькове.
Добился. Могила Вадима на аллее, где лежат Георгий Бурков, Эдуард Стрельцов и другие знаменитые люди.
Как это больно и обидно, что в своей стране для заслуженного и очень известного человека приходится «пробиватъ» место даже на кладбище.
На фестивале в Москве. «Зеленый театр», парк культуры им. Горького. Слева направо: Владимир Монахов (оператор), Владимир Дружников, Шакен Айманов (Джамбул), Олег Стриженов. 1963 г.
Неожиданная партнерша
В 1975 году на съемках фильма Петра Тодоровского «Последняя жертва» я узнал, что роль графини Круглой будет играть Лионелла Пырьева и что нам предстоит с ней сняться в довольно большой сцене на балу.
Встретились мы в особняке Саввы Морозова, где и заканчивались съемки фильма этой последней сценой. Лишь поздней осенью, после монтажа, нам предстояло озвучание. А с первых чисел сентября у меня начинались большие гастроли с МХАТом все в той же любимой Одессе, в знаменитом оперном театре…
Встретились мы как старые знакомые. Ничего лишнего. Прорепетировали сразу со светом нашу сцену, которая происходила на красивой беломраморной парадной лестнице морозовского особняка. Моя любимая маленькая одесская девочка Ли была уже опытной артисткой и после нескольких главных ролей в кино работала в Театре киноактера.
После одной-двух репетиций мы сняли нашу сцену. Все получилось отлично. Оставалось после перерыва доснять наши «укрупнения».
В перерыве все разместились в большом зале, где кому понравилось. Лина сидела в каком-то старинном кресле. Со стороны могло показаться, что она дремлет. Было жарко. Я пододвинул стул поближе к окну, закурил и стал наблюдать за ней.
Сколько времени мы не виделись? Сколько лет?.. С шестьдесят второго года… А сейчас семьдесят пятый. Тринадцать лет! Да… А ведь когда-то я думал, что и часа не проживу без нее. Но вот ведь прожил! Как бы она отреагировала сейчас, если бы я сказал, что люблю ее?
Я внимательно смотрел на нее. Да, все так же красива и стройна.
Ей невероятно шло нарядное бальное платье графини. Оно обрисовывало по-прежнему великолепную фигуру, обтягивало бедра и подчеркивало грудь. Тонкая кожа на открытых плечах и шее была нежной и бледной. И что-то вновь оборвалось внутри меня. Кажется, я опять попадал в «мертвую петлю»!
Я заметил, что и она наблюдает за мной сквозь полуопущенные ресницы. Я рассматривал ее красивое лицо и думал: «С ней надо быть осторожным. Ее ум стал похож на мужской. С ней трудно говорить. Будет, наверное, лучше, если эта случайная встреча ничем и закончится».
После перерыва мы досняли наши крупные планы и «по-дружески» распрощались.
Вскоре я уехал с театром в Одессу.
Встреча в Одессе
Когда МХАТ гастролировал в Одессе, здесь же находилась группа артистов Театра киноактера со своими концертами. Выступали они в открытом Летнем театре парка имени Шевченко.
Буквально за день до окончания их гастролей я встретил старого приятеля Эдика Машковича, который сопровождал эту группу. Он предложил мне выступить по старой памяти у них в заключительном концерте.
– Лина в нем тоже участвует, – добавил Эдик.
Я тотчас согласился и, конечно же, просто прилетел на этот концерт, тем более что в спектакле в этот день не участвовал. Не помню, что я делал на сцене, что читал. Помню только, что, увидев ее, ощутил какую-то непонятную и ненужную растерянность. Но она вдруг протянула мне навстречу обе руки, и этот бессознательный ее жест примирил меня со всем. Я прижал ее прохладные ладони к губам, и мы присели на скамейку невдалеке от выхода на сцену. Она нежно поцеловала меня и осторожно положила свою голову мне на плечо.
– Как ты? – мягко спросила Лина.
– Нормально… Скучаю по тебе.
– Шутишь?
– Не шучу, – серьезно ответил я.
– Я рада тебя видеть.
Я окончательно растерялся и, конечно же, обрадовался услышанному.
– Может, после концерта поужинаем вместе? В «Лондонской», на нашем старом месте?
– Хорошо, – ответила она. – Я приду с Аллой. То есть с Аллой Ларионовой.
– Я все подготовлю, – обрадовался я, – и встречу вас у входа в гостиницу.
– Не надо. Ты будь на месте. Мы придем сами. Эдик нас проводит.
Ей пора было выходить на сцену. Она встала, закинув голову, посмотрела вверх. Волосы ее трепетал ветер, они завихрились, и это делало ее похожей на шаловливую девчонку, которая в «Вольном ветре» в Ялтинском порту раскачивалась на огромном кране высоко в небе.
В «Лондонской» я сидел за нашим любимым столиком в самом углу, возле оркестра. Принесли холодные закуски, холодное шампанское с коньяком и, конечно же, цветы. Я не спускал глаз с парадной двери. Наконец она распахнулась, и они вошли – Лина и Алла в сопровождении Эдика. Весь зал обернулся в их сторону. Гуляющие одесситы аж зааплодировали, кто-то даже встал…
Девочки действительно были прекрасны, нарядны и очень красивы. Я бы даже сказал, очень эффектны в своих легких длинных вечерних платьях. Да! Вошли настоящие звезды, ничем не уступающие западным.
Я усадил Лину рядом с собой. Глядя на мою одесскую девочку Ли, я просто пьянел и балдел, и снова хотелось плакать, как тогда на пароходе «Победа». Только теперь от радости.
Я кивнул своим приятелям-оркестрантам, и они, зная мое желание, заиграли наш любимый знаменитый «Маленький цветок». Лина как-то по-детски тихонько захлопала в ладоши и весело сказала, обращаясь к нам с Эдиком:
– Ну что ж, будем танцевать и даже пить! Мужчины, я разрешаю вам выпить по рюмке коньяку!
Глядя на нее, я подумал, что ее избаловало мужское внимание и что у нее появилась какая-то новая привычка становиться центром внимания. И мне на минуту вспомнилась та одесская девочка Ли, что стояла за веревочным оцеплением возле оперного театра и которую не пускали дальше любопытной толпы… Невольно улыбнулся.
– Ты чему? – спросила она.
– Ничему. Просто смотрю на тебя и любуюсь. Ты красива, как никогда.
Я не скрывал своего восхищения, чем, вероятно, доставил ей удовольствие. Она протянула ко мне свой бокал и тихо сказала:
– За нас.
Вечер прошел прекрасно и незаметно быстро. Провожая их из «Лондонской» в «Красную», где они остановились, я спросил:
– Почему ты ушла… тогда?
– Я не ушла. – Она грустно усмехнулась и добавила: – Я просто бежала. От тебя…
– Но почему? Зачем?
– Случается так, что человек уходит. Уходит, и ничто не может его остановить. Не надо ворошить прошлое. Вечер такой хороший! Поговорим лучше позже. В Москве…
– Значит, мы встретимся?
– Ну, конечно, – она рассмеялась. – Ты забыл, у нас ведь еще осталось озвучание «Последней жертвы».
– Ну да, – пробормотал я. – А я-то думал…
У «Красной» мы распрощались. Лина нежно поцеловала меня в щеку и исчезла за дверью гостиницы. А я побрел по пустынной ночной Одессе в свою «Лондонскую»…
На следующее утро я еще спал, когда раздался телефонный звонок. Звонила Лина. Ничего не понимая спросонья, я буквально завалил ее вопросами:
– Это ты? Ты где? Вы что, не улетели?
– Я здесь, в Одессе. На Пушкинской, недалеко от вокзала…
– Так это рядом! – обрадовался я. – Бегу к тебе навстречу. А ты иди по направлению к «Лондонской».
И вдруг слышу убийственное:
– Я пошутила. Я звоню тебе из Москвы, из дома. Прости, что разбудила.
– Ну и шутки у тебя… – только и смог выдавить я из себя после паузы.
– Не сердись. Я люблю тебя. И жду. Приезжай поскорее.
Вскоре я вернулся в Москву, и мы встретились на первом озвучании «Последней жертвы», где, помню, публично при всей группе сделал ей предложение стать моей женой.
Лина ответила: «Да».
Больше мы не расставались!
Нет, на несколько дней все же пришлось. Ей нужно было отработать несколько запланированных встреч со зрителями в Красноярске. Когда она вернулась, я ей сообщил, что ушел из Художественного театра.
Я уже говорил, что эта мысль посещала меня не раз. Но именно в Одессе я ощутил, как мне стало пусто и одиноко в театре. Как мне бесконечно не хватает в моей жизни Лины!
«Мы оказались с Олегом на площадке фильма “Последняя жертва”. Вели себя друг с другом как старые друзья. И вдруг, как мне казалось, совершенно на ровном месте, Олег сделал предложение. При этом присутствовала Алла Ларионова. Он сначала попросил ее: “Алла, ну скажи, чтобы она вышла за меня замуж!” И тут уже я перестала сомневаться…»
(Лионелла Пырьева)Письмо из Германии
«Саксония.
г. Дрезден. Германия.
15 ноября 1979 г.
Любимая моя!
Расстаться все-таки пришлось. «Но это ненадолго», – утешаю я себя. Каких-то 10 дней… Но, как подумаю… Боже мой! Целых 10 дней! Это же – вечность! Ведь мы не расставались ни на час. И вот через четыре с лишним года пришлось.
Смотри-ка, а четыре с лишним года – это уже срок! Хоть злые языки и пророчили нам, что «они через неделю разбегутся», однако их предсказания не сбылись. А мы скоро будем праздновать наш первый, пятилетний юбилей!
Остановились мы в Дрездене, все в том же отеле, как и прежде. Ты в нем жила. Я здесь уже третий раз. Первый раз мы были здесь в 1957 г. с премьерой «Сорок первого», который возили по всей ГДР. Нас было трое: Крючков, Чухрай и я. Второй раз – гастроли МХАТ в 73 г. И вот, бог любит троицу, – картина С. А. Герасимова «Юность Петра». О Дрездене ничего писать тебе не буду – ты прекрасно его знаешь. Все тот же отель и та же набережная на Эльбе (гирлянды, по-моему, там горят все время), ну, и Цвингер с его знаменитой галереей.
Снимать мы выезжаем в загородный дворец короля Августа. Мне нравится работать в таких реальных старинных интерьерах. Ну вот, к примеру, когда работаешь в интерьере особняка Саввы Морозова (помнишь?) или в Зимнем дворце… Ну, разница в том, что здесь – все чужое и незнакомое. Работается спокойно, уютно – никто не мешает. Сергей Аполлинариевич вообще не любит суеты и мельтешни. Снимаем сцены с Вадимом Спиридоновым с одного дубля, и не потому, что Герасимов бережет «Кодак», а просто говорит свое привычное: «Стало быть, хорошо-отлично!…»
Дворец хорош и красив – не описать. На стенах – портреты и стариннейшие гобелены бог знает каких веков. Вечером по привычке Герасимов устроил «пельмени». А потом мы с Вадиком пошли ко мне в номер, «гоняли чаи» и болтали. Он – очень славный и очень талантливый человек, несмотря на всю строгость и «неприступность» его вида и манеру себя держать. А главное, с ним легко работается. Партнер он – прекрасный!
Он во ВГИКе когда-то играл Арбенина. Вот мы немножко и перекинулись по тексту. Я заодно и потренировался для нашего будущего номера «Маскарад». Был выходной, и мы, конечно же, навестили очень уж мне знакомую галерею.
Я помню, когда она была у нас в Москве, в Музее им. Пушкина еще в 1955 г. Какие были очереди!..
Да и сейчас здесь довольно людно.
В который раз видишь все это, а все равно глаз не оторвешь!
Обратно из Дрездена придется ехать на машине всю ночь. Шофер даже взял с собой жену, чтобы не заснуть на «автобане».
А из Берлина уже самолетом – в Москву.
Не дождусь нашей встречи. Все так же скучаю и люблю.
Целую, всегда твой».
Москва, «Шереметьево».
Лионелла ждет меня внизу в вестибюле.
А я – наверху, еще в пограничной зоне.
Сверху вижу, как по вестибюлю пулей пролетел Володя Высоцкий и, минуя пограничный пост, взлетел вверх по лестнице.
Увидел меня, подбежал – обнимает!
– Куда летишь? – спрашиваю его.
– Лечу встречать! Рейс из Парижа уже прибыл!
Убегая по коридору, он обернулся и на ходу крикнул:
– Ну, надо бы повидаться! У меня для тебя давно пластинки приготовленные лежат!..
Он побежал дальше, на выход к самолетам…
Это была наша последняя встреча с Володей.
Письмо из Индии
«10 декабря 1987 г.
г. Бомбей, Индия
Солнышко мое!
Двенадцать лет мы с тобой вместе, а расстаемся уже второй раз. И опять на «этот десяток дней»!
На этот грандиозный фестиваль, который мы должны были открывать с Раджем Капуром вместе, я, естественно, опоздал. Это все наша «великая бдительность» (паспорт, ты помнишь, оформляли 45 дней!). Фестиваль открылся так.
На экран пустили сцену приплытия Афанасия Никитина из фильма «Хождение за три моря». Звучит великолепная индийская музыка. Афанасий видит Индию! И вот вместо того, чтобы с разных сторон мы с Раджем Капуром появились на стадионе в лучах света и вместе направились друг другу навстречу, как друзья, как Россия и Индия, выскочил на сцену какой-то наш из «попсы» и спел какую-то песенку про Индию. Ну, – цирк! Это под мое-то изо-бражение! И дело в том, что Радж, увидев, что меня нет, и узнав, что я не прилетел, – просто не вышел на стадион. И на сцену. В Бомбей же я попал позже, перед самым отлетом в Москву. То есть в самые последние дни.
Ты меня проводила с киношной делегацией в Дели. А у этой делегации совсем другая программа. Они и не должны были быть в Бомбее на открытии фестиваля.
Наша киношная группа, возглавляемая Сергеем Бондарчуком, должна была ездить с фильмами по определенным, заранее намеченным городам и встречаться со зрителями. Вот мы сразу же из Дели и полетели по всем этим городам, названия которых я даже и не запомнил. Помню, что были в Бгхопале, где была нашумевшая на весь мир катастрофа на газовом комбинате.
Посетили, конечно, место и дом, где проживал великий Махатма Ганди. А также огромную и очень красивую мечеть, считающуюся самой большой в мире.
И вот наконец мы в Бомбее. За те тридцать лет, что прошли с тех пор, как мы здесь жили и работали, он просто стал неузнаваем!
Спящих нищих на тротуарах уже нет. Город весь в огнях. Просто сияет. Невероятное количество машин. Сплошные пробки. Несусветное количество людей. Ну это было и тогда. Но сейчас, мне показалось, – еще больше.
Сегодняшний Бомбей называют вторым Сан-Франциско.
Поселили нас в новый беломраморный отель на берегу залива Аравийского моря. Ну, просто сказочный дворец! Внизу прекрасный песчаный пляж. Жаль, что попользоваться всем этим не пришлось. Пробыли мы здесь немного больше суток.
Провели всевозможные пресс-конференции, встречи со зрителями и кинематографистами. А днем нам дал обед в шикарном индийском ресторане младший брат Раджа Капура – Шаши. Мы с ним встретились очень радостно и тепло. В те времена ему было лет восемнадцать. А теперь это пополневший солидный господин, знаменитый продюсер, режиссер и актер! А ведь я снимался с его отцом Притхви Раджем и даже знал его дедушку.
Вот как летит время. Больше в Индии я не встретил ни одного знакомого человека. Шаши Капур сказал нам, что, узнав наконец, что мы в Бомбее, Радж завтра приглашает нас к себе домой на обед. А нам завтра утром улетать в Дели и оттуда сразу же в Москву. Мы извинились перед Шаши, просили передать Раджу наши извинения, наши добрые пожелания и нашу искреннюю любовь. Поздним вечером нас ожидал большой прием в знаменитом и старинном отеле «Тадж-Махал» (Я там жил на «Хождении»). Кстати, в Индии фильм «Хождение за три моря» назывался проще и короче: «пардеси», т. е. «Странник».
Ночью в своем отеле я написал тебе письмо, а рано утром мы уже улетели в Дели.
Ну наконец-то скоро увижу тебя и обниму.
Целую, всегда твой».
P. S. для читателя.
В аэропорту Дели нас ожидал неприятный сюрприз – задержка самолета.
Этим же рейсом летели и другие делегаты фестиваля. Здесь я повстречал старых знакомых: поэтов Роберта Рождественского и Расула Гамзатова. Они тоже возвращались домой. Время за разговорами и общением со знакомыми людьми искусства прошло довольно незаметно. Только меня все время мучила и угнетала мысль: «А как там, в Москве, в Шереметьеве»? Каково в одиночестве ждать моей дорогой и любимой Ли?»
В общем, по истечении довольно долгих часов, мы возвратились в Москву. Радость и восторги были неописуемые!.. А вот через какое-то время пришла и горькая весть, которой я был просто повержен и убит!
Газеты и телевидение сообщили, что из жизни ушел великий артист Индии – Радж Капур…
На премьере фильма «Хождение за три моря». Дели. 1958 г.
Письмо из Англии
«Shanklin.
Isle of Wight.
ENGLAND
7 января 1998 г.
Раннее утро. Сижу на краю высочайшего обрыва над самым проливом.
Внизу подо мной простирается пустынный берег и пляж. А там, дальше, за горизонтом – Франция. Может быть, именно здесь, в этом месте, высадился храбрый д’Артаньян, приплывший из Гавра на встречу с герцогом Бекингемом, чтобы вернуть «знаменитые подвески» королевы Франции?..
А может, именно в этом месте входил в воды Ла-Манша лорд Байрон, чтобы переплыть этот пролив?..
Или, может быть, именно здесь же он последний раз погрузился на корабль и, оставляя навсегда Туманный Альбион, чтобы примкнуть к восставшим грекам и бороться за свободу, гордо воскликнул:
– Я счастлив, покидая этот остров!..
А еще этот остров знаменит тем, что на нем провела свои последние дни легендарная Королева Виктория.
Вот такие разные мысли проносятся в голове.
Сижу один, смотрю вдаль, а сзади меня идет работа: установка и освещение кадра нашего нового кинофильма. А я, так сказать, иду дальше…
Вот и пролетели долгие 24 года, как мы с тобой вместе. Аж целые четверть века! У меня даже не было случая написать тебе письмо, ибо мы с тобой не расставались, были вместе все время.
А вот сегодня, после съемки, приду в отель и напишу тебе первое свое письмо. Нет, вру! А то письмо – из Парижа? Оно было первым.
Я помню, потом, когда мы сошлись и уже не расставались, ты мне его показала. Это было для меня как гром средь ясного неба! Я удивился и спросил:
– Как могла ты сохранить его за столько лет? И почему?
– Потому, что люблю, – ответила ты. – Люблю и любила тебя всю жизнь. С самой юности!
Ты не представляешь, какое счастье ты мне подарила! И правда, ты у меня – умница и красавица. Я очень люблю тебя и очень благодарен тебе за все!…
Вчера гулял по Лондону. Посетил Hyde Park, прошелся по знаменитой Oxford Street и вышел на Piccadilly со знаменитой скульптурой Нельсона на высокой колонне. Знаешь, раньше, когда я был здесь со МХАТом, то мне, как это бывает в детстве, все это казалось более крупным, большим и масштабным. Нет, у нас размах шире и просторы другие. Вспомни хотя бы одну Дворцовую площадь в Питере и Александрийский столп… Нет, я не по старому советскому анекдоту: «Наш карлик выше». А правда, у нас есть что увидеть и чем мы можем и всегда гордились.
Хотя мы были в Лондоне в разное время и поодиночке (ты с фильмом «Братья Карамазовы», я – с мхатовской «Чайкой»), но после нашей работы над есенинской «Анной Снегиной» Лондон теперь у меня ассоциируется, в первую очередь, с тобой – с нашей инсценировкой. Вчера пришел на то место, где ты стоишь на набережной в последней сцене. За тобой, на фоне – ночной Лондон. Вестминстерский мост через Темзу. А на другом берегу – само аббатство, знаменитый «Биг Бен» и, правее, – Королевский дворец…
Стою на твоем месте – совсем как на сцене! Та же атмосфера, только фон живой, реальный. В какой-то момент даже показалось, что, как и у нас в сцене, вступила великая музыка Петра Ильича Чайковского. Тема Родины. «Вечная музыка». Я даже проговорил это последнее письмо Анны вслух.
Как прекрасны ее последние слова:
Но вы мне по-прежнему милы, Как родина и как весна.Я просто слышу твой голос, как ты это читаешь. И вижу тебя, стоящую здесь на набережной в черной накидке и в шляпе с черными перьями. А потом луч гаснет, и ты исчезаешь… Темнота… Тишина. «Finita La Comedia».
Вот так, моя радость! Скоро буду дома!… Да! Чуть не забыл! Сегодня же – наше православное Рождество! (Ну, мне явно «везет» на Рождество, будь ли то католическое, будь ли наше).
Поздравляю тебя с Великим Днем спасения!
С Рождеством Христовым!
Я всегда любил тебя. Ты постоянно жила во мне на протяжении всей моей жизни. Ты – мой маяк, который светил мне всегда и вел меня по дороге любви.
А без любви: все – пусто и теряет всякий смысл.
Целую нежно.
До встречи.
«Одно лишь важно: новое творение, сам творец и вера, действующая любовью…»
(Апостол Павел)Репертуарный лист народного артиста СССР Олега Стриженова
Роли в кино
Овод. «Овод». 1955 г.
Ривера /Фернандес. «Мексиканец». 1955 г.
Говоруха-Отрок. «Сорок первый». 1956 г.
Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». 1958 г.
Гринёв. «Капитанская дочка». 1958 г.
Дудин. «В твоих руках жизнь». 1958 г.
Мечтатель. «Белые ночи». 1959 г.
Бестужев. «Северная повесть». 1959 г.
Герман. «Пиковая дама». 1960 г.
Лаевский. «Дуэль». 1960 г.
Олег. «Трус». 1961 г.
Сергей Уточкин. «В мертвой петле». 1962 г.
Пленный офицер. «Оптимистическая трагедия». 1963 г.
Барон Тузенбах. «Три сестры». 1964 г.
П. И. Чайковский. «Третья молодость». 1965 г.
Бородин. «Перекличка». 1966 г.
Старыгин. «Прощай». 1967 г.
Роберт и Сергей Сергеевич. «Его звали Роберт». 1968 г.
Сергей Егоров. «Неподсуден». 1969 г.
Лужин. «Миссия в Кабуле». 1970 г.
Лев Маневич. «Земля, до востребования». 1972 г.
Князь Волконский. «Звезда пленительного счастья». 1974 г.
Дульчин. «Последняя жертва». 1975 г.
Ламенне. «Карл Маркс. Молодые годы». 1978 г.
Князь Василий Голицын. «Юность Петра». 1980 г.
Данилов. «Приступить к ликвидации». 1983 г.
Бородин. «Господин Великий Новгород». 1985 г.
Дим Димыч. «Мой любимый клоун». 1986 г.
Кареев. «Акция». 1987 г.
Князь Ухтомский. «Оглашению не подлежит». 1987 г.
Александр Гагарин. «Вместо меня». 2000 г.
Роли в театре
Государственный русский драматический театр Эстонии
Очеркист Груздь. «Беспокойный характер»
Нетудыхата. «Над Днепром»
Незнамов. «Без вины виноватые»
МХАТ СССР им. М. Горького
Тятин. «Егор Булычев и другие»
Мортимер. «Мария Стюарт»
Незнамов. «Без вины виноватые»
Барон Тузенбах. «Три сестры»
Треплев. «Чайка»
Глумов. «На всякого мудреца довольно простоты»
Император Николай I. «Медная бабушка»
Государственный театр-студия киноактера
Сергей Есенин. Чтецкая программа
Сергей Есенин. «Анна Снегина». Сценическая композиция
Арбенин. «Маскарад». Сценическая композиция
Егор Иваныч. «Широкая масленица». Инсценировка
Работы на телевидении
Капитан. «Рассказ о первой любви». 1963 г.
Атос. «Двадцать лет спустя». 1971 г.
Треплев. «Чайка» – фильм-спектакль. 1973 г.
Дом радиовещания и звукозаписи (ГРДЗ)
Д’Артаньян. «Три мушкетера. Инсценировка
Дон Карлос. «Дон Карлос». Радиоспектакль
Том. «Тропою грома». Радиоспектакль
Спартак. «Спартак». Радиокомпозиция
Юлиус. «Третье купе». Радиоспектакль
Сергей Есенин. «Анна Снегина». Радиокомпозиция
Шопен. «Жорж Санд». Радиоспектакль
Лист. «Ференц Лист». Радиоспектакль
Арбенин. «Маскарад». Радиоспектакль
Тятин. «Егор Булычев и другие». Спектакль МХАТ
Незнамов. «Без вины виноватые». Спектакль МХАТ
Треплев. «Чайка». Спектакль МХАТ
Сергей Есенин. «Письмо к матери», «Ответ»,
«Черный человек»
«Лина – это мой выбор. Самый правильный и лучший в жизни. Просто Судьба очень долго вела нас друг к другу…»
(Олег Стриженов)


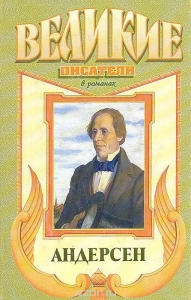


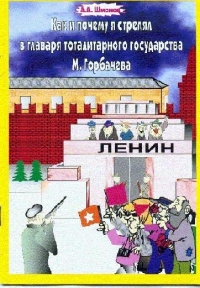
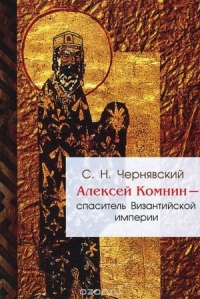
Комментарии к книге «Олег Стриженов и Лионелла Пырьева. Исповедь», Олег Александрович Стриженов
Всего 0 комментариев