Саймон Шама Сила искусства
Simon Schama
THE POWER OF ART
Copyright © Simon Schama 2006
All rights reserved
© Л. Высоцкий, перевод (Введение, Караваджо – Тёрнер), 2017
© О. Якименко, перевод (Ван Гог – Ротко), 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Посвящается Клэр Бивен, человеку, участие которого сделало этот проект возможным, и без которого телевидение – и жизнь – были бы гораздо скучней
Искусство – ложь, которая помогает нам осознать, что есть правда.
Пабло ПикассоНе бывает целомудренного искусства. Да, искусство опасно.
И целомудренно лишь тогда, когда искусством не является.
Пабло ПикассоВведение
У великого искусства ужасные манеры. Благоговейная тишина музейных залов может ввести вас в заблуждение, внушив мысль, что шедевры живописи – это нечто изысканное и деликатное, это зрительные образы, которые умиротворяют вас, чаруют и скрашивают ваше существование. На самом же деле они сущие бандиты. Великие полотна коварно и безжалостно вцепляются в вас мертвой хваткой, выбивают почву у вас из-под ног и одним махом переворачивают ваше мировосприятие с ног на голову.
Вы вовсе не за этим зашли в музей, спасаясь от дождя в воскресный день, не правда ли? Вы были готовы принять умеренную дозу красоты, пристойно скоротать время, поддавшись чарам двухмерной иллюзии. Неужели нельзя съесть эту землянику на серебряном блюде? Или вдохнуть запах сосен на рыжеватом склоне холма в Провансе? Кажется, что можно услышать отрыжку подвыпивших голландцев или погладить влажный шелк лоснящегося бока этого жеребца. Увы, нельзя. Но почему бы не призвать на помощь фантазию и, отдавшись на ее волю, не насладиться иллюзией? Вы погружаетесь в привычный процесс, воспринимаете цветовую гамму, обозреваете композицию. Возможно, вы предпочтете побродить с наушниками: пробраться к картине, посмотреть, послушать, перейти к следующей, посмотреть, послушать. Вашими перемещениями руководит внушающий доверие голос мужчины в дорогом костюме; с должным эффектом голос вещает истины во вполне приемлемом количестве, так что вы не устаете и даже способны заглянуть еще и в магазин сувениров.
Но вдруг вы почему-то сбиваетесь с курса, и вас уносит куда-то за угол, в зону, не охваченную наушниками. Тут оно и происходит: вы встречаете нечто необычное. В этой написанной Сезанном вазе с яблоками явно есть что-то странное, вызывающее тревогу. Они лежат на столе как-то криво. Да и сама столешница куда-то опрокидывается, так что даже слегка кружится голова. Ничего, конечно, не падает, но ведь и на месте нормально не стоит! В чем дело? А эти следящие за вами глаза Рембрандта на лице, напоминающем прокисший пудинг? Избитый же прием, затасканная шутка, дешевая сентиментальщина: ты смотришь на портрет, а он смотрит на тебя. И тем не менее вы продолжаете пялиться на него с таким чувством, будто к вам пристают, вас во что-то втягивают, будто вы в чем-то провинились перед ним. Ну прости, Рембрандт, если что не так. Но вот окружающие вас люди куда-то исчезают. Стены галереи исчезают тоже. Вы во власти какого-то балаганного фокусника-гипнотизера. Вы стряхиваете с себя наваждение, идете дальше и бросаете взгляд – почему бы и нет? – на восхитительную обнаженную тициановскую красотку, раскинувшуюся на фоне волнистых холмов. И – ого! – вы чувствуете, как с вами что-то начинает происходить (и не только в голове). Или, взяв себя в руки, вы покорно останавливаетесь перед кубистским коллажем, хотя никогда таких вещей не понимали и не видели в них смысла – по крайней мере, с точки зрения получения удовольствия. Но… «Черт с ним! – думаете вы. – Пусть будет». И неожиданно какой-то кусочек вашего мозга начинает сам по себе приплясывать под бренчание гитары на коллаже, в то время как обрывки газет, курительные трубки, плоскости, ребра и углы принимаются без всякого предупреждения меняться местами, проваливаться в глубину картины, пропадая из фокуса, и возвращаться обратно. И самое удивительное, что вам это нравится. Вас опять пригвоздили к месту с вытаращенными глазами. Жизнь продолжается.
Сила искусства – в его способности удивлять и тревожить. Даже если произведение искусства кажется подражающим жизни, оно не столько дублирует знакомый вам мир, сколько заменяет его собственной реальностью. Задача искусства, помимо снабжения человечества красотой, – уничтожение банального: сначала сетчатка глаза обрабатывает информацию, а затем щелкает переключатель и создается альтернативный, драматизированный образ. То, что мы знаем и помним о закатах солнца или подсолнухах, и тот вид, какой они принимают на картинах Тёрнера или Ван Гога, существуют в параллельных мирах, и еще неизвестно, какой из них живее и реальнее. Искусство словно перенастраивает наше чувственное восприятие, и иногда мы получаем такой мощный энергетический импульс, что нас основательно встряхивает.
Но телевидение не любит непредвиденных осложнений. Съемка фильма требует тщательного планирования. Все наши программы освещали кризисные моменты в жизни и творчестве художника, затруднения, которые он испытывал при создании какой-либо картины или скульптуры. Но, готовясь к съемке этого кульминационного момента, мы смотрели другие его работы, и среди них часто попадалось что-нибудь такое, что совершенно выбивало меня из колеи. Картина, которую я легкомысленно считал всего лишь подготовительной ступенью к разговору о главном произведении, представ передо мной в оригинале, а не в виде бледной репродукции или смутного воспоминания, угрожала стать гвоздем программы. Прозрев и раскаявшись, я закатывал режиссеру небольшую сцену, требуя перетасовать всю программу, чтобы уделить больше внимания открытому мной шедевру. Режиссеры выслушивали меня, стараясь не закатывать глаза, и иногда уступали моему капризу, иногда нет.
Так было, например, с картиной Ван Гога «Корни и стволы деревьев» (с. 371), написанной художником летом 1890 года, за несколько недель до смерти. Переплетение узловатых корней и прочей растительности, увиденное глазами мыши-полевки, безумное нагромождение искореженной древесины и удушающей зеленой массы порождают такую клаустрофобию, что назвать это пейзажем не поворачивается язык. Замкнутое пространство давит на нас прежде всего потому, что корни, напоминающие когти, кости скелета либо части металлической конструкции, увеличены до чудовищных размеров и образуют клетку с запертыми в ней миниатюрными деревьями. Верх – это низ, а низ – верх, далекое близко, близкое далеко. Художник, по сути дела, намеренно дезориентирует нас, выдавливая из себя нервные ганглии и запуская их в пространство.
Никогда еще ничто подобное не пыталось выдать себя за произведение искусства. Но в амстердамском Музее Ван Гога, среди хитов с ирисами и подсолнухами, на этот кошмар не обращают особого внимания. Почти никому не приходит в голову приобрести открытку с этим изображением или, тем более, шелковый платок – разве что для того, чтобы кого-нибудь задушить.
И когда я уже думал, что на этом сюрпризы кончились, Тёрнер преподнес мне еще один. Как-то поздней осенью мы снимали фильм о нем в Сассексе, в Петуорт-хаусе, принадлежавшем 3-му графу Эгремонту, одному из самых щедрых покровителей Тёрнера. На верхнем этаже дома за запертой дверью находилась библиотека, которую некогда отвели художнику под студию. Смотритель был настолько любезен, что отпер мне дверь, и передо мной предстали стены, занятые книжными полками, какими видел их и Тёрнер – или, точнее, какими он их не замечал за работой; был там и установленный им мольберт. Казалось, что вместе с ноябрьским туманом в комнату прокрался призрак художника. И может быть, именно это настроило меня таким образом, что в маленьком пейзаже «Канал в Чичестере» (с. 294), висевшем в длинной галерее на первом этаже, я разглядел нечто большее, нежели просто вид Чичестерского канала, как воспринимали эту картину в Викторианскую эпоху. Это один из четырех пейзажей, написанных Тёрнером в Петуорте и его окрестностях и замышлявшихся как декоративные стеновые панели. Вряд ли, однако, по ним можно изучать топографию местности. Парк, погруженный в розовое сияние, выглядит как волшебная страна, где олени, сцепившись рогами, борются друг с другом, словно мифические заколдованные воины.
Так о чем говорит нам церковь на горизонте? О том, что мы находимся около Чичестера или, может быть, совсем в другом месте, в фаталистическом представлении о жизненном пути, присущем стареющему романтику? Пейзаж залит поистине неземным светом, и зритель не может отделаться от подозрения, что канал – это не просто водная магистраль для перевозки пиломатериалов и гвоздей. В маленькой бочкообразной шлюпке сидит коренастый человек в темном пальто и потрепанной шляпе; известно, что так любил одеваться и сам художник. Так, может быть, это не пейзаж Тёрнера, а сам Тёрнер? Картина была написана в 1827–1828 годы, когда он достиг середины жизни. Под прямым углом к плоскости картины, то есть прямо к воображаемому окну, через которое мы смотрим на нее, по каналу плывет корабль-призрак, и как он движется – загадка, так как паруса его убраны и никаких признаков буксировки не наблюдается. Этот корабль не больше похож на обыкновенную грузовую баржу под парусом, чем «Пекод» капитана Ахава[1] был похож на фабрику по переработке китового жира. Черные мачты корабля отражаются в воде; он надвигается на нас в мерцающем свете зловеще и неотвратимо. Короче говоря, «Канал в Чичестере» – это аллегорический автопортрет, подкинутый Тёрнером в галерею своего могущественного патрона под видом пейзажа. Поступок дерзкий и трогательный.
Но самое большое потрясение я испытал на Мальте, в соборе Иоанна Крестителя в Валлетте. В конце длинной часовни рыцарей ордена Святого Иоанна, где стены изборождены сложной деревянной резьбой, а усопшие воины с бакенбардами лежат на могильных плитах, сверкающих перламутровой мозаикой, Караваджо, осужденный за убийство, изобразил (в обмен на избавление его от тюрьмы) усекновение головы уже мертвого Иоанна Крестителя. Фигуры в натуральную величину написаны с такой беспощадной ясностью, что кажется, будто никакая рама не отделяет их от нас и можно запросто подняться к ним на помост. Пространство картины заполнено несимметрично. Слева полукругом расположилась группа персонажей, олицетворяющих качества, которые традиционно прославлялись в искусстве: героическую красоту, серьезность, авторитетность. Но все они собираются принять участие в грязном деле, отпиливании головы трупа. В правой части картины нет ничего, кроме висящей во мраке тюремного двора веревки и двух арестантов, которые, вытянув шеи, наблюдают за происходящим сквозь зарешеченное окошко. Один из них имеет сходство с самим художником-преступником, хотя более демонстративно последний присутствует на полотне в виде подписи, образованной кровью, вытекающей из шеи мученика. Это одна из двух работ Караваджо, которые он в виде исключения подписал. Картина, таким образом, является увековечиванием ужаса. Художник подписывает признание в преступлении, а мы, его пленники, бросаем на эту сцену робкий взгляд, разрываемые между желанием в смятении отшатнуться и восхищенным оцепенением.
Три описанных выше шедевра не только указывают на присутствие их авторов, словно приглашая нас – или побуждая – связаться с ними напрямую, но и отражают кульминационные моменты творческой драмы художников: Ван Гога, в маниакальном экстазе живописующего окружающую природу и задушенного собственными творениями; художника-поэта Тёрнера, созерцающего жизненные приливы и отливы; истово верующего христианина и преступника Караваджо, который хорошо представлял себе, что такое искупление кровью, поскольку проливал ее своими руками. В этой книге представлены восемь примеров того, как художник, находясь в исключительно тяжелых обстоятельствах, берется за грандиозный труд, выражающий его самые глубокие убеждения. Все эти произведения – открытые признания их авторов, все они представляют собой искусство, чья цель несравненно шире, чем просто желание доставить удовольствие зрителю. Цель этих работ – изменить мир.
Это, конечно, не норма. Очень большое количество великолепно выполненных произведений искусства создано живописцами, которые предпочитали держаться в тени вместо того, чтобы примерять на себя героический образ, и ставили перед собой скромные задачи: подражание природе, воспевание красоты или и то и другое одновременно. Но начиная с эпохи Возрождения наиболее энергичные художники хотели стать чем-то большим, нежели трудолюбивыми и искусными мастеровыми-имитаторами. Они считали себя творцами, а не эпигонами. Им хватало ума преодолеть пренебрежительное отношение заказчиков, приравнивавших их к ремесленникам-декораторам. «Он думает, что он Властелин мира!» – жаловалась римскому папе мать Джанлоренцо Бернини. Для этих выдающихся творцов, которые чувствовали в себе искру Божью, было важно, чтобы люди признали, что их искусство – не менее возвышенное призвание, чем философия, поэзия или религия, не случайно выбранное развлечение, а внутренняя потребность. Они страстно верили в это и утверждали силу и значение искусства перед самодовольными официальными властителями – папами, аристократами, чиновниками, богатыми патрициями – и прикормленными ими критиками. Поэтому драма их творчества (написанная ими самими или их биографами) разворачивалась, как правило, в борьбе с недалекими заказчиками, их лакеями и трусливыми, тщеславными критиками. Отдельными актами этой драмы были жизненные испытания, из которых страдающий, но непоколебимый защитник искусства, верный своей светлой мечте, мог выйти победителем даже в случае гибели.
В этой книге я старался выделить именно такие наиболее драматичные моменты творчества, рассказать о шедеврах, созданных в условиях повышенного напряжения. Историки искусства страдают особым профессиональным заболеванием: их описание драматического момента творения принимает вид пересказа избитых романтических фантазий о художнике-страдальце или какой-нибудь донельзя сентиментальной легенды из анналов истории искусства; иногда оно превращается в современное банальное рассуждение о художественном темпераменте старого мастера, которое, вероятно, очень удивило бы самого мастера. Разумеется, необходимо признать, что на каждого Ван Гога найдется невозмутимый Сезанн, на каждого Джексона Поллока – свой Матисс, на каждого художника, одержимого бесами, – бесчисленное множество таких, кто жил и работал упорядоченно и безмятежно. Однако угрюмые, замкнувшиеся в себе художники, презревшие общепризнанные ценности, сознающие заложенную в них божественную силу, терзаемые меланхолией, обидчивые, воюющие с ограниченными или тщеславными заказчиками, отбивающиеся от бездарных и злобных соперников, существовали задолго до появления романтиков в XIX веке. Примеры можно найти уже в первых письменных источниках, повествующих о художниках Возрождения, – в автобиографии ювелира и скульптора Бенвенуто Челлини и в биографии Микеланджело, принадлежащей перу Джорджо Вазари.
Вазари не сомневается в том, что Микеланджело обладал талантом «от Бога». Сам Бог послал его на землю, чтобы он дал образцы совершенства во всех видах изобразительного искусства – живописи, скульптуре, архитектуре. Его эскизы не оставляли у его помощников сомнений, что это скорее божественные творения, нежели человеческие. Художник спорил с папами и герцогами и совершал геркулесовы подвиги, создавая на своих знаменитых по́дмостях фрески для Сикстинской капеллы. Вазари полагает, что Микеланджело сознавал свои сверхъестественные способности, ибо во время пребывания на мраморных карьерах в Карраре он подумывал о том, чтобы бросить вызов древним и вырубить в скале свою собственную колоссальную статую.
Именно сверхчеловеческое мастерство Микеланджело и удивительная многогранность его таланта побудили Бенвенуто Челлини написать экстравагантную автобиографию «Vita»[2] (1558–1566). Выдающееся художественное произведение самого Челлини, бронзовый «Персей» с головой Медузы (1545–1554), было установлено в Лоджии деи Ланци во Флоренции с таким расчетом, чтобы «Персей» находился против микеланджеловского «Давида». Из отрубленной головы горгоны Медузы капает «кровь», и Челлини настойчиво подчеркивает, что это было чрезвычайно трудным техническим достижением, в возможность которого современники не верили. Челлини не упускал случая напомнить о похвалах, которые, по его словам, сам Микеланджело расточал в адрес его работ, дабы потомки вспоминали его в одном ряду с величайшими мастерами Возрождения. Время должно было стереть разницу между ними и обеспечить ему бессмертие.
Но разница была. В то время как Вазари представляет Микеланджело аскетическим полубогом, вознесенным на его подмостях над обычными слабостями человеческой плоти, автопортрет Челлини, в противоположность этому, носит сугубо приземленный характер и изображает его как дьявольское воплощение плотских аппетитов, первого в ряду художников, полагавших, что их дар освобождает их от соблюдения норм, обязательных для простых смертных. Одно из ранних его воспоминаний относится к тому времени, когда он только начинал ходить и как-то, схватив скорпиона, стал весело размахивать им перед пришедшим в ужас дедушкой. Правда это или нет, мы никогда не узнаем, но ясно, что Челлини с самого начала хотел показать, что ему смешны страхи заурядных и малодушных личностей. Не было ничего, что Бенвенуто не хотел бы и не мог бы сделать. Он был не только ювелиром и скульптором, но и музыкантом, поэтом, воином, фехтовальщиком и артиллеристом. Сказать, что, описывая на страницах автобиографии секс и насилие, он переступает все границы приличия, значит не сказать ничего. Челлини был невообразимым развратником без страха и упрека и поглощал женщин, мужчин, мальчиков, девочек, жен, проституток – чуть ли не всех и все, что двигалось. С женщинами он бывал жесток и доходил до садизма. Одна из его любовниц, Катарина, имела наглость выйти замуж, и Челлини втройне отомстил ей, наставив рога ее мужу, вынудив ее позировать ему несколько часов подряд в очень неудобной позе и в заключение избив ее. Он не только не раскаивался в совершенных им убийствах и многочисленных яростных избиениях людей, но и с явным удовольствием похвалялся ими. Он мгновенно вспыхивал, если ему казалось, что задета его честь, и не задумываясь посылал подальше герцогов и пап, когда ему этого хотелось.
Вся эта отталкивающая маниакальная автобиографическая история проникнута авторским ощущением единства всех своих желаний и устремлений. Бенвенуто, которому ничто не стоило вонзить клинок в шею человека или затащить мальчика к себе в постель, был тем же Бенвенуто, который создавал невообразимые чудеса из бронзы. По крайней мере, он хотел, чтобы мы так думали. Он заявляет в автобиографии, что предпочел бы убивать своих врагов посредством искусства, а не шпаги, но в обоих случаях им движет один и тот же инстинкт: убить тех, кто не верит в него и насмехается над ним. Вся история его жизни предстает как серия взрывов демонической энергии и швыряние перчаток в лицо врагам. И одним из этих геракловых подвигов, совершенным в чрезвычайно неблагоприятных условиях, было написание автобиографии в то время, когда Челлини в возрасте пятидесяти с лишним лет был приговорен к домашнему аресту за неоднократные акты содомии. По его словам, перья и чернила у него отобрали и ему приходится писать тем, что имеется под рукой: чернила он изготавливает, растворяя кирпичную пыль, а в качестве пера использует щепку, отколотую от двери. Так начинается история кровожадного героя, абсолютно уверенного в собственном могуществе и абсолютно равнодушного ко всякой мелкой сошке, мешающейся у него под ногами.
Хорошо известен кульминационный момент этой эпопеи. «Персей» уже готов к отливке, но скульптор, внезапно почувствовав себя очень плохо, приходит к заключению, что должен вот-вот умереть. При этом он верит, что его творение переживет его и будет признано равным «Давиду» Микеланджело. Однако тут происходит катастрофа с расплавленным металлом – он начинает «сворачиваться», застывать. А перед лежащим в постели больным автором скульптуры возникает видение согбенного человека, предсказывающего гибель его великого создания. В ответ на эти дьявольские инсинуации Челлини выскакивает из постели, чтобы спасти плод своего девятилетнего труда. Разыгрывается фантасмагорическая сцена. Взрывается плавильная печь, на злосчастную мастерскую обрушивается ливень с ураганом. Две сотни оловянных тарелок и кухонных горшков швыряют в огонь, чтобы получить сплав нужной консистенции. Среди всей этой вакханалии художник-сверхчеловек сохраняет присутствие духа. «Персея», разумеется, спасают, и он остается жить во всем своем великолепии. «Жизнь Бенвенуто» уверяет нас, что все присутствовавшие при этом событии никогда не забудут сверхъестественных обстоятельств создания этого шедевра.
Не все художники, которым посвящены отдельные главы этой книги, отличались манией величия калибра Бенвенуто Челлини. Но в творчестве каждого из них – от Караваджо до Марка Ротко – прослеживается одна и та же тенденция: они сознательно становятся героическими борцами за торжество преобразующей силы искусства. Каждый из них работал в крайне напряженной обстановке, создаваемой заказчиками (Рембрандт), политической ситуацией (Давид, Тёрнер, Пикассо), чувством вины (Караваджо, Бернини) или своей ответственности за судьбу искусства (Ван Гог, Ротко). В каждом из этих случаев испытывалась способность художника не только выполнить заказ, но и превзойти ожидания.
При этом всем им удалось написать новую страницу в истории искусства, достичь беспрецедентных результатов. Некоторые из них – Рембрандт, Тёрнер и Пикассо – создали исторические полотна, настолько полно отвечающие требованиям момента, что их достижение никто не мог повторить – ни они сами, ни тем более их последователи и подражатели.
Таким образом, драмы, о которых рассказано в этой книге, отражают не только историю искусства, но и историю людей (по правде говоря, иногда я не вижу разницы между ними). Для всех этих художников их работа – успешная или не очень – была связана с тем, что составляет самую суть нашего индивидуального и коллективного существования: с надеждой на будущее искупление, свободой, смертью, грехом, состоянием внешнего мира и миром в душе. Все эти произведения необыкновенно красивы, каждое по-своему, и в этом нет ничего банального или недостойного. При их создании художники – даже (или, может быть, особенно) абстракционист Ротко – не стремились в первую очередь произвести эстетический эффект. Пикассо (не страдавший аллергией на красоту) выразил эту точку зрения наиболее резко и бескомпромиссно в своем известном высказывании: «Картины создаются не для украшения квартир, они боевое оружие». Тот факт, что после «Герники» (с. 414–415) он почти исключительно писал картины, которые вполне могут быть использованы как элемент декора, наводит на мысль, что драматические моменты полной отдачи себя выполнению общественного долга были у художников эпизодическими. Но когда такое случается, то их произведения, словно огненная вспышка, высвечивают что-то важное в мире и в нас самих гораздо яснее, чем это могли бы сделать мудрые рассуждения. И в этом случае картины дают неопровержимый и гордый ответ на вопрос, мучащий всякого несчастного девяти или пятидесяти девяти лет от роду, которого насильно мобилизовали на восприятие искусства, затащив в музей: он вздыхает, с трудом волоча ноги, с тоской мечтает узнать результаты последнего футбольного матча или новости распродажи модных товаров и спрашивает: «И все-таки зачем это искусство нужно?»
Караваджо Живопись становится осязаемой
I
Для начала достаточно усвоить две вещи, касающиеся Микеланджело Меризи да Караваджо: во-первых, он создал произведения христианского искусства, обладающие такой мощной силой воздействия, какой не добивался до него никто, а во-вторых, он кого-то убил. Есть ли хоть какая-нибудь связь между двумя этими фактами? Историки искусства, придя в ужас от столь грубого и нелепого вопроса, скажут, что ее не может быть. Преступление художника следует рассматривать лишь как эпизод, придающий его творчеству оттенок сенсационности. Нельзя вслед за романтиками уподоблять искусство жизни и объяснять одно исходя из другого, между ними нет ничего общего.
Но если вы посмотрите на устрашающую отрубленную голову филистимлянского воина-гиганта Голиафа на картине Караваджо, то увидите нечто такое, чего до Караваджо в живописи никогда не было и никогда после него не будет: автопортрет в виде чудовища, чье лицо – гротескная маска греха. Это беспощадное самообвинение, которое заставляет задуматься.
II
Утверждение, что картины Караваджо физически воздействуют на зрителя сильнее, чем работы других художников, уже стало общим местом. Тем не менее я не был готов взять в руки то, что Караваджо держал в своих.
«Пожалуйста, – сказал мне сухощавый носатый человек в черной сутане, пихнув меня в бок. – Пожалуйста, возьмите это». Мне не нравилось, что меня пихают. Я и без того был в некотором замешательстве, проведя еще один день с Караваджо, пытаясь сказать что-нибудь, объясняющее драму его творчества, и мучительно сознавая, что он сам сказал о себе все, спасибо ему, и что слова слишком зыбки и слабы по сравнению с мускулистой весомостью его живописи. Никогда еще речь не казалась мне такой ненужной, как в тот момент, когда я стоял в кафедральной часовне в Валлетте спиной к «Усекновению главы Иоанна Крестителя» (с. 76–77) и лицом к телекамере. Мне хотелось уйти из сумеречной душной часовни. Я чувствовал, что искусства с меня на этот день хватит. Надо было отдать дань уважения табурету, с которого некогда свалился в местном баре Оливер Рид[3].
Однако нельзя нарушать приличия. Первое правило натурных съемок – выказать благодарность тем, на чью территорию вы вторглись со своими кабелями, камерами и софитами. К тому же маленький человек в сутане криво усмехался, говоря: «Пожалуйста, возьмите».
Так что я вздохнул и взял. Это был старинный железный ключ длиной дюймов пять. Ручка в виде петли была покрыта налетом, как все очень старые металлические изделия, на противоположном конце имелась массивная квадратная бородка. Мне приходилось пользоваться такими ключами, когда я был преподавателем в Кембридже и открывал дубовые двери с замками XVII века. Но зачем мне такой ключ в соборе ордена Святого Иоанна? Я непонимающе улыбнулся служителю, смутно сознавая, что уже видел этот ключ раньше. – Так ведь действительно видел, всего за две минуты до этого! Черный гном крепко ухватил меня за руку, словно я был ребенком, а он школьным учителем, и повернул лицом к картине Караваджо. Ну да, этот самый ключ висел в связке с двумя другими на поясе мрачного красивого стражника, указывавшего на корзину, в которую следовало кинуть голову Крестителя.
Как пишут первые биографы художника Джулио Манчини и Джованни Бальоне, Караваджо практически всегда использовал живых моделей, и поскольку фигуры «Усекновения главы» изображены в натуральную величину, а художник писал алтарную картину прямо на месте, то, значит, он делал это там, где мы все стояли. Ключи, эмблема несвободы, нужны были ему, чтобы создать атмосферу кошмарной клаустрофобии, которая наполняет это полотно, несмотря на его гигантские размеры. Очевидно, он попросил своего седого натурщика повесить на пояс связку ключей. Служители собора были тогда, возможно, так же готовы помочь, как и теперь, и давали ему все, что ему было нужно. Ключ у меня в руке до последнего зубчика совпадал с тем, что изображен на картине. «Видите, видите? – спрашивал служитель. – Это его». Взяв почерневший ключ, я сжал в кулаке потертый стержень. Я не без внутренней дрожи обменялся рукопожатием с четырехсотлетним гением-убийцей.
Давид с головой Голиафа (фрагмент). Ок. 1605–1606. Холст, масло.
Галерея Боргезе, Рим
Закоренелый преступник Караваджо преследовал меня из-за моего мелкого преступления – урезания его до телевизионных размеров. Дело в том, что Караваджо – самый агрессивный из художников, он намеренно располагает все изображаемое как можно ближе к зрителю, чтобы вызвать дискомфорт. Он бросает свои большие полотна прямо нам в лицо, стараясь преодолеть защитную дистанцию, обычно предоставляемую искусством. Яркий свет выхватывает фигуры из полной темноты, поглощающей все окружающее, – раму, стену, алтарь, галерею, которые могли бы вселить в нас успокаивающее чувство, что мы всего лишь посторонние наблюдатели. Великим достижением ренессансной живописи было открытие перспективы, продление пространства картины в глубину. Но Караваджо больше интересует пространство перед картиной, в котором находимся мы, он хочет захватить и его. На полотне «Ужин в Эммаусе» (1600–1601, Национальная галерея, Лондон) Христос так резко выбрасывает вперед руку, что хочется пригнуться, чтобы он не заехал тебе по голове. Караваджо не из тех, кто приглашает подойти вежливым жестом: он набрасывается на тебя и хватает за лацканы пиджака, картины его вылезают из рам и начинают беззастенчиво приставать к зрителю, как будто это он сам, перейдя улицу, – господи помилуй! – направился прямо к вам: «Вы, кажется, смотрите на меня?»
Оттавио Леони. Портрет Караваджо. Ок. 1621. Бумага, уголь.
Библиотека Маручеллиана, Флоренция
Караваджо – художник, который любит напоминать о себе, но, в отличие от Рембрандта, он делает это не с помощью обычных автопортретов, а выступает как участник изображаемой им сцены. Единственный его портрет, представляющий исключение из этого правила, – рисунок Оттавио Леони, где Караваджо, с гривой жестких волос, носом картошкой и большими, пристально глядящими на нас глазами, кажется, вырывается из рамок скромного формата, – что в особенности бросается в глаза при сравнении его с более благовоспитанными современниками на рисунках Леони. Все же интересно, почему у него иногда возникало желание стать моделью для своей картины? Возможно, как пишет Джулио Манчини, врач, лечивший Караваджо и ставший его первым прижизненным биографом, в первое время по приезде в Рим художник был «гол и нищ» и не мог позволить себе нанять натурщика. Однако вряд ли это объяснение обоснованно – друзья Караваджо явно позировали ему задолго до того, как у него появился стабильный доход. И даже если поначалу он писал фигуры с самого себя по необходимости, впоследствии это стало сознательным выбором. Драматизация собственной персоны была умышленным жестом, бросающим вызов принятым в искусстве нормам, – таким же, как и его привычка презрительно пробежаться грязным пальцем по нижней губе. Более пятнадцати лет он выступает в роли «больного Вакха», или мальчика, укушенного ящерицей и вскрикнувшего от боли, или издающей предсмертный крик чудовищной Медузы с вьющимися локонами-змеями, или привлекательного юноши, играющего на рожке в группе небрежно одетых музыкантов, или случайного свидетеля жестокого убийства святого Матфея, в ужасе спешащего покинуть сцену, или охваченного любопытством человека, который светит фонарем при аресте Иисуса в Гефсиманском саду, чтобы свершилось злодеяние, предначертанное судьбой, или, в самом конце жизни, в поистине незабываемой роли – в виде страшной головы Голиафа с закатившимися глазами, разинутым ртом, отвисшей нижней губой, капающей с нее слюной и нахмуренными бровями, в недоумении сведенными к дыре на лбу, пробитой камнем из пращи Давида.
Нет ничего необычного в том, что художник присутствует на своих картинах. Работая в Сикстинской капелле, Микеланджело изобразил себя самого, только бородатого, в виде содранной кожи святого Варфоломея[4]. Джорджоне, чьи работы Караваджо должен был видеть в Венеции, написал автопортрет в образе Давида с головой Голиафа. Однако одно дело предстать в облике прекрасного героя, к тому же предтечи Спасителя, и совсем другое – в виде порочного великана, воплощения греха. И ведь как раз в этот период художники были особенно настойчивы в стремлении представить себя учеными мастерами, чье призвание облагораживает их в социальном и моральном плане, а не простыми ремесленниками и уж тем более не законченными злодеями. Но Караваджо был мастером на сюрпризы. Галерея его автопортретов начинается с беспутного Вакха и кончается поверженным Голиафом. И во всех без исключения случаях он принимает облик грешника. Возникает вопрос: зачем ему это было надо?
III
В 1592 году никому не известный ломбардец двадцати одного года от роду приехал в Рим из городка Караваджо, что в восьми милях от Милана. В 1606 году он поспешно бежал из Рима, спасаясь от правосудия. За этот промежуток времени он преобразил христианское искусство так кардинально, как не удавалось никому после его тезки Микеланджело.
Римско-католическая церковь нуждалась в появлении такого художника по многим причинам. Североевропейская Реформация вела на нее наступление, и ей было жизненно необходимо наглядно представить сакральную драму, которая переживалась бы рядовыми верующими так же непосредственно, как если бы разыгрывалась у них на глазах. На карту было поставлено многое. В войне между католиками и протестантами религиозные образы не служили всего лишь вспомогательным средством, а затрагивали самую суть дела. Для лютеранина слово Священного Писания было истиной в последней инстанции. Книгопечатание сделало это слово доступным для всех верующих на их родном языке, и грамотные христиане установили прямую личную связь со Спасителем. Римско-католическое духовенство, от папы до приходского священника, заявляло, что ключи к спасению находятся у них в руках и что искупления можно достигнуть только с помощью таинств и обрядов, знатоками и блюстителями которых были они же. Лютеране отвергали это как нечестивую и самонадеянную ложь. И весь этот узаконенный обман, по их мнению, опирался на зрительные образы – картины и скульптуры, изображавшие святых, Мадонну, Спасителя и даже – самое мерзкое богохульство – Отца Небесного. Эти крашеные идолы, считали они, были фиглярством, с помощью которого римский папа и его приспешники держали доверчивую паству в рабстве инфантилизма. Лютеране гневно утверждали, что это прямое нарушение второй заповеди, запрещавшей «изображение того, что на небе». Поэтому истребление идолов было, наряду с тайным распространением переводов Библии на языки разных народов, наиболее ярким проявлением протестантской революции. Их жгли на кострах в Нидерландах, Германии, Англии и в реформированных протестантских городах Швейцарии – Женеве, Базеле, Цюрихе.
Яростное уничтожение религиозных изображений приняло такие масштабы, что Римско-католической церкви было трудно с этим бороться. Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на заключительной сессии Тридентского собора в 1561–1563 годах, была способность сакральной живописи побудить верующих почитать святыни, поклоняться им и подчиняться. Церковные иерархи знали по опыту, да и инстинктивно чувствовали, что по причине неграмотности подавляющего большинства европейского населения зрительные образы остаются самым сильным средством наставления масс на путь истинный и укрепления их преданности церкви. Пренебречь ими значило обречь бедных и неграмотных на невежественность, ересь и в конечном итоге на гибель их бессмертных душ. Поэтому церковники не прекращали заказывать художникам все новые и новые религиозные образы. Они, конечно, понимали, что среди произведений искусства, поступавших в церкви, встречаются слишком экстравагантные и отклоняющиеся от канона: изображения вымышленных чудес, творимых сомнительными святыми, изображения, чересчур вольно трактующие внешность Бога Отца и Девы Марии, а то и вовсе какие-то непристойности, которые развлекают людей и скорее сбивают их с толку, нежели внушают благоговение. Подобным злоупотреблениям было не место в церкви. Собор постановил, что религиозное искусство должно соответствовать духу самого Спасителя, быть скромным и строгим. Ему следует избегать соблазнительности и языческого богохульства, свойственных мирской красоте, и стремиться к высокой цели насаждения благочестия.
Единственная загвоздка была в том, что никто не представлял себе достаточно ясно, как должны выглядеть эти произведения искусства. Караваджо родился в 1571 году, когда Микеланджело уже семь лет не было на свете. А из всех римских мастеров только он да Рафаэль, кажется, были способны выразить в живописи и скульптуре одну из главнейших христианских доктрин: смысл Евангелия заключается в сострадании Бога, который придал сыну человеческий облик, чтобы тот пожертвовал собой ради искупления грехов человечества. В связи с этим было важно, чтобы воплощение божества в Христе и Страсти Христовы переживались как физический опыт. Одна из самых трудных проблем религиозной живописи состояла в том, что изображение телесной истории Христа должно было позволить верующим сопереживать ему и отождествлять себя с ним, но при этом необходимо было сохранить ощущение божественного таинства. Примером в высшей степени успешного выполнения этой задачи была «Пьета» Микеланджело (1500). Мадонна изображена как скорбящая мать, которая держит на коленях мертвое тело сына. Тот факт, что Богоматерь выглядит моложе собственного сына, не кажется несообразным, потому что мы знаем, что божественность освобождает от власти времени.
И Микеланджело, и Рафаэль умели, каждый в своем стиле, изображать бренную плоть в полной гармонии с вечным духом. В конце XVI века, при понтификате папы Сикста V, в честь грядущего священного 1600-го года было предпринято капитальное обновление как церковных зданий, так и самого учения, и церковь остро нуждалась в образах, способных вдохновить верующих. Однако удручала полная неясность, кто может занять место этих двух великих мастеров. Альтернатива была очевидна: буйная игра воображения или классические статуи. Предыдущее поколение ставило красоту выше природы и специализировалось в изображении стилизованных фигур, удлиненных торсов и конечностей, которые перекручивались в некоем балетном движении и переливались, словно изысканная шелковая материя, фантастической гаммой абрикосового, лилового и розового цвета, изобретенной Высоким Возрождением. Лучшие из причудливых образов, создававшихся художниками вроде Россо Фьорентино или Якопо Понтормо, были, без сомнения, прекрасны, но слишком эфемерны и оторваны от природы, чтобы увлечь людей, не посвященных в тайны их искусства. К тому же трезвомыслящим церковным иерархам, внедрявшим установленные Тридентским собором нормы набожности и благопристойности, эти маньеристские изыски казались слишком чувственными.
Альтернативой этому был возврат к классической величественности Рафаэля с его понятными всем чувствами и тонко выписанными фигурами, гармонично распределенными в глубоком пространстве картины. Из художников, заявивших о себе к концу XVI века, только Агостино и Аннибале Карраччи, сыновья портного из Болоньи, были способны возродить это искусство. Но до середины 1590-х годов братья не покидали родного города и были практически неизвестны в Риме. Оба брата, и в особенности Аннибале, были, по римским меркам, приверженцами реализма, однако по сравнению с Караваджо выглядели херувимчиками-идеалистами, что красноречиво подтвердила работа Аннибале в капелле Черази церкви Санта-Мария дель Пополо.
Ни Аннибале, ни кто-либо другой не могли предвидеть, что их ожидает. Караваджо возник из мрака, из темного угла Италии – Милана, находившегося под властью испанцев. Милан был воинственным городом как в хозяйственном, так и в духовном отношении. Созданные местными кузнецами шпаги, кинжалы и кольчуги можно было увидеть на улицах, изготовленные здесь пушки грозили с укреплений, сконструированных Леонардо да Винчи для герцогов Сфорца. Самым знаменитым стратегом воинствующей веры был Карло Борромео, путеводная звезда Тридентского собора. Борромео жил исключительно просто, хотя – а может быть, как раз потому – был кардиналом и князем церкви, и именно это в сочетании с его заботой о бедных заставило церковь вернуться к выполнению ее пастырского долга в подражание жизни Христа.
В связи с этим алтари обновленной популистской Римско-католической церкви нуждались в простых образах, возрождающих величественное наследие Ренессанса в доступных для всех формах. Но художников, способных создать их, было, мягко говоря, не очень много. Картины таких миланских живописцев, как Антонио Кампи или Симоне Петерцано, были, безусловно, вполне простыми и мрачными в духе аскетизма Борромео, хотя оба старались, как могли, отдать обязательную дань уважения их прославленному земляку Леонардо и тщательно выписывали на холсте фрукты, цветы и животных. Однако основным, что от них требовалось, была скромность, и в этом они более чем преуспели, правда принесли при этом в жертву драматизм. Невозможно себе представить, чтобы даже у самого истового верующего перехватило дыхание при виде алтарного образа Петерцано и он почувствовал бы, что перед ним ожившая страница Евангелия.
И вот однажды где-то в середине 1580-х годов в мастерскую Петерцано заглянул коренастый насупленный подросток, в котором, по-видимому, уже чувствовался непростой характер. Он был родом из малоинтересной местности с обширными плоскими пастбищами, пустыми горизонтами, овцами, скорбными аллеями тополей, непременным местным чудом (Дева Мария является деревенской девочке), претенциозной базиликой, построенной в честь этого чуда, затерянным среди пустошей фортом и виллой. Молодой Микеланджело Меризи (получивший свое имя, вероятно, в честь размахивающего мечом архангела, а не размахивающего кистью гения) был не совсем уж мелкой сошкой. У него имелись кое-какие связи, хотя не очень надежные. Его отец Фермо Меризи состоял на службе у миланского маркиза в качестве архитектора и мажордома. Но во время эпидемии чумы, разразившейся в Милане в 1577 году, он умер, лишив двух своих сыновей надежды на быстрое продвижение на служебном поприще. Чтобы уберечь от опасности жену Лючию с четырьмя детьми, Фермо заблаговременно отправил их в маленький городишко Караваджо. Имущество распродали для уплаты долгов, после чего старшие сыновья могли рассчитывать лишь на место священника, ремесленника или мелкого служащего. Джованни Баттиста пошел в священники, Микеланджело в художники.
История искусства по определению не способна игнорировать влияние, которому подвергался художник, однако трудно сказать, чему научился Караваджо у Петерцано, помимо изображения ярко освещенной группы фигур на темном фоне. Если бы он остался в Милане, то, возможно, так и сгинул бы в неизвестности, занимаясь тем, чем положено заниматься ученику: смешиванием красок, прорисовкой деталей. Однако, согласно первым биографам Караваджо, еще не достигнув двадцати одного года, он стал неблагонадежным. Быстро истратив свою долю скромных средств, вырученных от продажи материнского имущества, он вращался в обществе лихих парней и проституток в городе, где любимым времяпрепровождением были уличные драки. Один из биографов пишет, что он уже тогда кого-то убил, однако Манчини, по времени наиболее близкий к Караваджо биограф, сообщает лишь о драке, в которой какой-то проститутке порезали лицо, и это представляется более похожим на правду. Отказавшись выдать полиции человека, совершившего нападение, Караваджо отсидел небольшой срок в миланской тюрьме, создав тем самым прецедент.
В начале 1590-х годов Караваджо вполне предсказуемо переехал в Рим – шумный муравейник, кишевший неугомонными молодыми художниками, жаждавшими работы, славы и удовольствий (не обязательно в таком порядке). Сняв жилье в районе Кампо-Марцио, где обычно селились ломбардцы, он вел жизнь ночного гуляки, непрерывно подпитывавшегося тестостероном, шатался по улицам в поисках приключений, приставал к прохожим и напивался до бесчувствия в различных злачных местах. Его приятели-художники Просперо Орси и Марио Миннити, как и архитектор Онорио Лонги, тоже были далеко не ангелы, в любой момент могли пустить в ход свои клинки и постоянно нарывались на неприятности со сбирри, папской полицией. Компания часто проводила время с проститутками, которые тоже дрались друг с другом, как уличные кошки, за территорию, клиентов и благосклонность сутенера.
Но приятелей Караваджо нельзя было назвать просто хулиганствующими бездельниками. Многие из них были неординарными личностями, обладали талантом и непомерными амбициями. Они затевали драки и водились с уличными девками, но увлекались также поэзией, музыкой, театром и философией. Их опьяняло не только кислое вино, но и новые идеи, и они даже посещали лекции, проводившиеся в основанной Федерико Цуккаро Академии святого Луки. Возможно, портреты и картины Цуккаро были заурядны, но он работал по заказам знатных людей, написал даже портрет самой Елизаветы I, польстив ей с исключительной лживостью, и теперь руководил академией, превратив ее скорее в гильдию, нечто среднее между собственным двором и обществом художников со склонностью к философствованию. В соответствии со стремлением Цуккаро придать организации возвышенный характер, члены ее давали клятву руководствоваться благородными идеалами как в работе, так и в личной жизни.
Известно, что Караваджо посещал время от времени собрания гильдии-академии и впоследствии стал ее членом. После его смерти академия воздала ему почести. Но в первые годы своего пребывания в Риме он вряд ли отвечал требованиям, которые Цуккаро предъявлял к достойному художнику, разгуливая по улицам в обносках некогда щегольского черного костюма с бросающимися в глаза прорехами. Работал он поначалу «на подхвате», пририсовывая на чужих картинах головы в толпе, а также фруктово-цветочные детали, считавшиеся североитальянской специализацией. Но в этом вторичном отражении природы Караваджо проявил себя не просто хорошим мастером, а лучшим после Леонардо и притом одним из самых хитроумных. Розовощекий юноша с пухлыми губами и полуобнаженной грудью или друг Караваджо сицилийский художник Марио Миннити, которому осточертело держать корзину сочных плодов, кажутся воплощением приторной сладости. И это отнюдь не случайно. Смотришь на персики в ямочках, покрытые нежным пушком, затем переводишь взгляд на обаятельного юношу, и становится ясно, что он-то и есть главный съедобный фрукт. Песенки и стихи поэтов вроде Джамбаттисты Марино обыгрывают как раз такой клишированный мотив: «Коснись меня. Раздень меня. Попробуй меня».
Тем не менее, несмотря даже на протекцию таких влиятельных особ, как маркиз и маркиза Караваджо, новичок с севера не произвел особого впечатления ни на кого из тех, кто мог бы дать работу молодому художнику, перебивающемуся случайными заработками. Пандольфо Пуччи платил художникам так мало, а кормил их так плохо, что заработал прозвище Монсеньор Латук. Некоторое время Караваджо писал «головы» для художника с громким именем Антиведуто Грамматика. И лишь попав в мастерскую самого успешного и предприимчивого мастера алтарных образов и плафонов Джузеппе Чезари, Караваджо получил наконец возможность написать что-то стоящее, приняв участие в создании произведения на сюжет Священного Писания. Возможно, его кисти принадлежат некоторые фигуры на оставшихся незаконченными расписных сводах капеллы Контарелли церкви Сан-Луиджи деи Франчези. Но и это ни к чему не привело. Караваджо провалялся несколько месяцев в больнице – согласно одним источникам, его лягнула лошадь, согласно другим, он чем-то заболел (вполне возможно, что имело место и то и другое). Как бы то ни было, когда он вышел из больницы, Чезари дал ему понять, что больше не нуждается в его услугах.
Для всякого беспристрастного наблюдателя успехи Караваджо в течение двух первых лет пребывания в Риме выглядели не блестяще. Но две картины, сохранившиеся с того раннего периода, отнюдь не говорят о том, что художник сбился с пути или утратил веру в свои силы. Напротив, они провозглашают неожиданное появление оригинального таланта и производят этот эффект прежде всего благодаря тому, что изображают, без всякого стеснения, самого художника, причем в таком виде, какой едва ли одобрила бы Академия святого Луки.
Мальчик, укушенный ящерицей. Ок. 1595. Холст, масло.
Национальная галерея, Лондон
Разумеется, при желании можно рассматривать «Мальчика, укушенного ящерицей» как предостережение от сексуальных излишеств. Если вы не вполне понимаете значение укушенного пальца и розы с шипами, то какой-нибудь соотечественник художника мог бы объяснить вам, ухмыляясь, что на уличном жаргоне слово «ящерица» означало «пенис». И укус, от которого пострадал бойкий бездельник с цветком за ухом, был намеком на заражение венерической болезнью, неизбежное для тех, кто имел дело с девицами, чье общество предпочитали Караваджо с приятелями. Но гораздо важнее насмешливого подтекста то, что картина демонстрирует буквально все, в чем силен Караваджо. Ваза с водой, отражая часть мастерской автора, превращает холст в дважды замаскированный автопортрет и показывает, что он был блестящим мастером иллюзионизма – качества, которое в первую очередь ценилось в начинающих художниках на рынке искусств. Прекрасно также схвачен момент, когда мальчик в страхе отшатывается с гримасой боли, к лицу его прилила кровь, – это говорит о том, что художник обладал умением передавать живые эмоции языком мимики и жестов, чего Леонардо да Винчи требовал от всякого живописца, изображающего людей. Картина отличается также необычным освещением: сноп интенсивного света выхватывает фигуру из темноты. Конечно, у римских торговцев картинами можно было найти много жанровых сцен, и, как ни странно, среди них встречались и другие мальчики, укушенные ящерицей (или, что было более вероятно, но менее интересно, крабом). Однако люди понимающие видели, что это работа странного, но ошеломляюще виртуозного мастера.
За этим последовали еще более странные вещи. Возможно, «Больного Вакха» (с. 34) Караваджо написал сразу по выходе из больницы. Даже если не брать в расчет, как именно он его изобразил, сама идея была непонятным вызовом традиционным представлениям. Вакх был не только богом вина и попоек, но и одним из покровителей пения и танцев, и потому его привыкли видеть вечно молодым. А Караваджо сделал из него какого-то нездорового во всех смыслах шута. Посеревшие губы, хитрый взгляд, обвисшая желтоватая кожа, на голову нахлобучен громоздкий венок из виноградных листьев, в котором нет ничего вакхического. Изобразив себя ряженым пьянчугой наутро после загула, Караваджо перевернул традицию вверх ногами. Вместо того чтобы с помощью облагораживающей магии искусства превратить натурщика со всеми его человеческими слабостями в олицетворение вечной юности, радости и красоты, художник превратил мифическое божество в простого смертного, который выглядит отталкивающе в неудачной попытке принарядиться. Вместо образа бессмертия перед нами картина разложения. В руке с грязными ногтями Вакх держит гроздь зрелого и даже перезрелого винограда, проработанную столь детально, что мы видим следы гниения на некоторых ягодах. Гниль, ясное дело, не добавляет образу привлекательности.
Это было не просто шуткой, а заявлением о революционных намерениях. Согласно теоретикам эпохи Возрождения, цель искусства – идеализация природы. Караваджо же объявил, что собирается низводить идеалы на землю.
Он скрепляет этот рискованный брачный союз между чистым и вульгарным с мастерством, какого в Риме не помнили со времен Рафаэля. «Низменные» объекты – цыгане, сцены в таверне – традиционно изображались грубыми средствами. Поскольку хорошо известные всем истории о невинных душах, погубленных коварными происками ловкачей, считались подходящим материалом для комедий, художники при обращении к этим историям рассматривали свои холсты как театральную сцену и наполняли ее шумной толпой и фарсовой сумятицей, над которой можно вдоволь посмеяться. Произведения, затрагивавшие «низменные» темы, сознавали свой скромный статус в иерархии картин по сравнению с религиозной и исторической живописью или портретами, а потому не претендовали на высокие гонорары и держались в тени. Эта снобистская традиция была еще одной условностью, с которой Караваджо был намерен покончить. Вместо громкоголосой толпы смешных чудаков он выводил на полотна ограниченное число фигур, но изображал их в полный рост, так что они доминировали в пространстве картины, а не терялись среди живописной сумятицы. Комедия, которая разыгрывается у тебя под самым носом, воспринимается совсем не так, как та, которую наблюдаешь издали. Игнорируя приземленный характер своих персонажей, Караваджо окружает их кристальным сиянием, обычно предназначавшимся для святых. Цыганка в тюрбане, гадающая молодому человеку по руке, традиционно олицетворявшая опасное мошенничество, выглядит не менее соблазнительно, чем сам молодой человек, чью руку она робко держит. Ее сорочка наглухо застегнута на шее и сияет такой же белизной, как и тюрбан. Молодой жулик, собирающийся сделать ход в карточной игре (с. 37), отличается от своей простодушной жертвы только щегольским платьем и шикарным пером (не считая того, что держит руку с картами за спиной). Караваджо мог при желании изобразить какую-нибудь старую каргу или свирепого старого головореза, так смакуя все детали, что почти чувствуешь запах лука и пропотевшей одежды. Но, избегая карикатурности и изображая последний миг перед развязкой, Караваджо держит нас в напряжении и делает более доверчивыми. Игроки наслаждаются прелестью момента. Зрители тоже.
Все это было бы невозможно без умения создавать иллюзию реальности, на котором строилась репутация Караваджо. Поразительное ощущение непосредственного присутствия возникало благодаря тщательно продуманному освещению. Биограф художника Джулио Манчини пишет, что Караваджо использовал всего один мощный источник света. Все композиционные детали, которые могли отвлечь внимание от главного, отодвигались на задний план и терялись на грязно-золотистом или серо-коричневом фоне либо, в более поздние годы, тонули во тьме. Фигуры основных персонажей выступают на нейтральном поле грубо и резко. Кажется, что они находятся в одном помещении с тобой, ты чувствуешь их дыхание, можешь пощупать пульс. Современные исследователи – в частности, Дэвид Хокни – высказывают мнение, что подобной кристальной ясности можно было достигнуть, только проецируя перевернутое изображение на стену с помощью специальной линзы или камеры-обскуры. И хотя даже Джулио Манчини и Джованни Пьетро Беллори, детально исследующие технику Караваджо, не упоминают ни о чем подобном, в этом предположении нет ничего невозможного. Караваджо водил компанию с хулиганьем, но это было хулиганье с мозгами, и многие из его приятелей могли знать о последних достижениях в области оптики. В таких работах, как «Мальчик, укушенный ящерицей», мы уже встречаем перевернутое изображение. Но одно дело использовать линзу или выпуклое зеркало (какое мы видим, например, на картине обращения Марии Магдалины) с целью получения сфокусированного изображения, и совсем другое – воспроизвести его на полотне с такой безупречной точностью, какой обычно достигал Караваджо, – тем более удивительной, что он редко делал подготовительные рисунки.
Больной Вакх. Ок. 1593–1594. Холст, масло.
Галерея Боргезе, Рим
Тот факт, что Караваджо не делал предварительных набросков, это не только признак феноменальной координации между глазом и рукой, но и свидетельство методологического бунта. Disegno[5], означающее как процесс рисования, так и общую концепцию работы художника, предписывалось всеми руководствами по теории и практике живописи как единственно правильный способ создания произведений изобразительного искусства. Рисование было не просто техникой, а идеологическим принципом. Правда, можно вспомнить венецианцев, и в первую очередь Тициана, которые говорили, что цвет не вспомогательный элемент, а одна из композиционных составляющих картины. А Караваджо по пути из Милана в Рим в 1592 году вполне мог заехать в Венецию. Наиболее очевидные его предшественники в создании картин с такой интенсивностью освещения и яркостью красок – Джорджоне и Лоренцо Лотто. Но Караваджо, в отличие от них, жил и творил не в Венеции, а в Риме, где рисунок был поставлен во главу угла. Если бы в последнем десятилетии XVI века вы прошлись по залам с собраниями классических статуй, принадлежащими папе и кардиналам, или по развалинам Форума, то встретили бы немало ретивых молодых художников, увлеченно зарисовывающих «Геркулеса Фарнезского», «Лаокоона» или «Аполлона Бельведерского». В Академии святого Луки ни у кого не возникало сомнений, что для процветания великого монументального искусства начинающие художники должны неукоснительно практиковаться в умении делать подготовительные наброски, без чего невозможно создать самостоятельную композицию.
Караваджо неукоснительно игнорировал эту практику. Он не оставил нам ни одного наброска или, тем более, законченного рисунка, копирующего античные образцы, – если вообще когда-либо делал их. Он усаживал натурщика, разглядывал его и брался за кисть. Уверенность, с какой он работал, поразительна, тем более что его манера была далека от той, в какой писали венецианцы – скажем, Веронезе, чьи композиции были выстроены цветовыми пятнами. Караваджо создавал на полотне осязаемые скульптурные фигуры, словно всю жизнь только и делал, что перерисовывал классические бюсты. Но ему было достаточно его точного глаза и твердой руки. Если ему требовалось наметить контуры будущей композиции, он либо использовал для этого заостренный конец кисти, либо делал неглубокие надрезы ножом на поверхности холста (на дереве он никогда не писал). Нож и кисть сотрудничали друг с другом в студии Караваджо очень успешно. Эти своеобразные методы плюс композиционный дар позволили ему преобразовать картины «низшего» жанра в нечто монументальное и драматическое. Торговец картинами Константино Спата (постоянный собутыльник Караваджо) выставлял его произведения в своей лавке на Пьяцца Сан-Луиджи деи Франчези. Именно там «Шулеры» попались на глаза человеку, который круто изменил жизнь Караваджо.
Шулеры. 1596. Холст, масло. Музей Кимбелла, Форт-Уэрт, Техас
IV
Франческо Мария дель Монте был не самым богатым кардиналом в Риме. Но церковной мышью его тоже нельзя было назвать, поскольку он имел в своем подчинении двести с лишним слуг и служителей. Его род, возможно, был чуть менее славен, чем знатнейшие династии Фарнезе, Орсини, Альдобрандини и Колонна, которые владели загородными поместьями и городскими дворцами, делили между собой власть в Риме и по очереди выдвигали из своих рядов кандидатов на папский престол. Но у дель Монте было нечто, позволившее ему совершить эффектный скачок к вершинам власти и богатства, – связи с великими флорентийскими герцогами Медичи. Будучи духовным лицом и знатоком искусства (весьма выигрышная комбинация), он освоил куртуазную культуру в Урбино, руководствуясь наставлениями Бальдассаре Кастильоне, – то есть там, где она сформировалась, и с помощью человека, сформировавшего ее. В книге Кастильоне «О придворном» (1528) был обрисован идеальный тип человека с безупречными манерами, щедрого, смелого и широко образованного, знающего толк в науках и искусстве. Дель Монте стремился соответствовать всем этим критериям и, познакомившись с кардиналом Фердинандо де Медичи и начав работать у него, получил возможность проявить свои способности и достоинства. В 1588 году Фердинандо унаследовал титул великого герцога и в благодарность за верную службу посадил дель Монте на освободившееся место кардинала. Сначала дель Монте получил кардинальскую шапку, а уже потом был посвящен в духовный сан. При этом он не стал нескромно щеголять в пурпурном облачении, ибо вслед за своим покровителем Медичи сблизился с орденом ораторианцев, основанным Филиппом Нери, который видел свою миссию в возвращении к простоте первых христианских пастырей, просивших подаяние на улицах. Для Караваджо это имело большое значение.
Однако уроки Урбино не прошли даром. Дель Монте с жадностью впитывал культуру – естественные науки, математику, музыку, историю, поэзию, живопись. Одним из путей, по которым римские кардиналы достигали вершин в неофициальной аристократической иерархии, было развитие художественного вкуса и меценатство. Двумя наиболее сильными ветвями религиозной власти в Священном городе были в то время суровая и высокомерная испанская и более либеральная и приближенная к земной жизни французская. Фарнезе ориентировались на Испанию и смертельно враждовали с профранцузскими Медичи. У них была своя команда художников, к которой примкнули блистательные братья Карраччи. Дель Монте поставил себе задачу найти другой многообещающий талант. Для этого оказалось достаточным перейти улицу, заглянуть в лавку Спаты и увидеть там «Шулеров». Он, по всей вероятности, сразу понял, что напал на золотую жилу, и предложил Караваджо кров и стол: студию на верхнем этаже своего палаццо Мадама, а главное – покровительство, и не только собственное, но и целого круга лиц, занимавших высокое положение в обществе или в церкви, бывавших в палаццо дель Монте на обедах и концертах и проводивших время в беседах на возвышенные темы.
Музыканты. Ок. 1595–1596. Холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Караваджо переехал в палаццо Мадама в 1595 году и прожил там шесть лет. Многие из картин, написанных им в эти годы, передают изысканную культурную атмосферу, царившую во дворце кардинала, – лениво-поэтическую и двусмысленно-чувственную, сплошные флейты и фрукты. Дель Монте гордился своим музыкальным вкусом. Он закупал дорогие инструменты, заказывал музыкальные пьесы домашним композиторам и собирал у себя лучших певцов, среди которых особенно ценились кастраты, исполнявшие перегруженные эмоциями мадригалы в духе Монтеверди. Излюбленной темой была, разумеется, любовь – любовь неразделенная, безумная, мучительная, экстатическая. «Ты знаешь, что я люблю тебя, ты знаешь, что я обожаю тебя. Но ты не знаешь, что я умираю из-за тебя», – поет друг Караваджо Марио Миннити, наряженный на античный манер в тонкую муслиновую, полураспахнутую на груди тунику и перебирающий пальцами струны лютни. На столе перед ним стоит ваза с поздними весенними и летними цветами, рядом лежат ноты с мадригалом и скрипка.
Таких кардиналов, как дель Монте, наверное, больше не выпускают. Атмосфера на картине «Музыканты» (с. 38) насыщена эротикой и приятными предчувствиями. Четверо слегка одетых юношей втиснуты в такое тесное пространство, что это вызывает клаустрофобию. Некий критик заметил, как бы между прочим, что, по-видимому, первоначально на холсте была написана другая картина, а Караваджо, не очень уверенно владевший мастерством композиции, нерасчетливо разместил на нем слишком много фигур. Однако художник наверняка отдавал себе отчет в том, что делает. Если бы он хотел дать музыкантам больше свободного пространства, он мог бы всего лишь сделать их не такими крупными. А он как раз добивался ощущения тесноты. Композиционный прием картины – контакт. Руки, ноги, бедра музыкантов чем-то заняты: настраивают инструменты, щиплют виноград; сам Караваджо на заднем плане тянется за своим рожком. Тот факт, что у находящегося слева юноши растет пара крыльев, как у купидона, – скорее всего, дань аллегорической традиции, жест, показывающий, что художник пусть и не очень настойчиво, но пытается оправдаться перед посещающей палаццо публикой, которая, возможно, будет недоумевать. Ведь это как-никак резиденция кардинала.
Юноша-купидон скромно потупил глаза; тот, что на переднем плане, изучает ноты, сидя практически у нас на коленях и выставив на обозрение свою бледную голую спину. Хотя лютнист Миннити пока лишь репетирует какую-то мелодию, по выражению его лица и по прикрытым тяжелыми веками покрасневшим глазам видно, что она уже успела пронять его до слез. Губы его полураскрыты, но вряд ли он поет, так как занят настройкой лютни; возможно, поет сам Караваджо, чьи черные глаза и рот с полными губами широко раскрыты. Эти двое смотрят прямо на нас, что можно назвать откровенным заигрыванием, одним из экспериментов с заманиванием публики, начавшихся у Караваджо с «Больного Вакха». Любимый прием художника – игра с раздвинутыми рамками картины, в которой участвуют он сам, фигуры на холсте и мы, зрители. В этой игре для Караваджо заключалась суть искусства.
V
Никто в Риме не привлекал к себе столько внимания, как Караваджо, – и не случайно: никто другой не понимал так хорошо притягательную силу взгляда и не интересовался ею так сильно. Караваджо, восходящая звезда искусства, крутой парень и позер, очень часто пристально рассматривал самого себя. Когда в 1645 году разбирали немногие оставшиеся после него пожитки, то среди них, помимо разнообразного оружия и гитары, нашли большое зеркало. Изучать свое отражение в зеркале было необходимо, по сути, всякому художнику для того, чтобы освоить внешнее проявление страстей, а затем передать их на полотне. Поскольку на рубеже XVI и XVII веков в музыке, поэзии и изобразительном искусстве возник обостренный интерес к изображению сильных чувств – ужаса, жалости, обожания, потрясения, страха, печали, то для художников, желавших поэкспериментировать в этом направлении, было полезно отрепетировать на самих себе выражение лица и жестикуляцию. Этим отчасти объясняется и то, что Караваджо интересовала реакция на укус ящерицы.
Очевидно, зеркала помогали Караваджо сосредоточить внимание на изображаемых им образах, но еще более очевидно, что они помогали ему собраться с мыслями. В его творчестве они встречаются, наряду с автопортретами, снова и снова. Иногда они символизируют само искусство, иногда служат инструментом самопознания. Именно по этой причине он изображает самую знаменитую, самую желанную и опасную римскую проститутку Филлиду Меландрони в образе Марии Магдалины с зеркалом – падшей женщины на пороге обращения в праведницу. Она погружена в задумчивость, осмысляя увиденное в темном стекле выпуклого зеркала предвестие грядущего спасения. Однако искусство не только способствует исправлению пороков, но и удовлетворяет тщеславие. Таким Караваджо изображает самовлюбленного Нарцисса, с обожанием глядящего на свое отражение в ручье. Стремление создать отраженный образ, удвоить жизнь лежит в самой основе искусства, но трагичная судьба Нарцисса предупреждает нас о том, что червь самовлюбленности подрывает эту основу.
И потому неудивительно, что в 1597 году, когда дель Монте заказал Караваджо картину в подарок своему давнему покровителю герцогу Фердинандо де Медичи, художник сделал из этого произведения манифест силы искусства, заставляющий зрителя чуть ли не буквально окаменеть. Отрубленная голова горгоны Медузы с прической в виде шевелящихся змей, этой женщины-чудовища, чей взгляд превращал людей в камень, была популярным мотивом при европейских дворах. Общеизвестен миф о Персее, которого Афина снабдила зеркальным щитом, заставившим горгону застыть на миг в ужасе перед собственным взглядом и позволившим Персею в этот миг отрубить ей голову. Ни один уважающий себя воин королевских кровей не мог обойтись без изображения головы Медузы на своем щите, шлеме или нагруднике – оно предупреждало врагов, что он тоже способен устрашить их до смерти. Продолжение этой легенды стало мифом о происхождении искусства. Кровь Медузы запачкала копыта Пегаса, крылатого коня Персея, он ударил ими о землю горы Геликон, и из земли забил ключ вдохновения. Из крови чудовища явился источник искусства.
Если учесть, что самое известное иллюзионистское изображение головы Медузы на щите было написано Леонардо да Винчи и принадлежало герцогам Медичи, пока не пропало где-то в конце 1580-х годов, становится ясно, что дель Монте заказал эту работу Караваджо, чтобы преподнести герцогу замену пропавшего шедевра. Двадцатишестилетний художник был, понятно, не в силах преодолеть искушение помериться силами с Леонардо и даже, может быть, превзойти его и ответил на этот вызов ошеломляюще эффектно. Его «Голова Медузы» стала не просто одним из примеров виртуозной иллюзионистской живописи, но сложным и блистательным утверждением силы художественного образа.
Взгляд действительно способен убить, убеждает нас картина. И мы верим: такому взгляду это точно под силу. Дар драматизации, присущий Караваджо, его неподражаемая способность вызывать у зрителя ужас и потрясение заставляют и нас ощутить дыхание смерти, ибо мы видим то, что видела Медуза за миг до гибели: ее собственное отражение как предупреждение о скором конце. Нам, однако, удается унять дрожь и выжить, и мы восхищаемся мастерством оптической иллюзии. Дело в том, что Караваджо написал картину на круглом выпуклом щите из тополя, но с помощью глубокой тени добился противоположного оптического эффекта: у зрителя создается впечатление, что ужасная голова Медузы высовывается из выдолбленной в дереве чаши. Лицо чудовища настолько выпукло и объемно, что, кажется, вот-вот лопнет; брови недоуменно нахмурены, так как Медуза не верит собственным глазам, которые вылезают из орбит (мы чувствуем, что и с нашими происходит то же самое, когда глядим на картину); щеки раздулись; рот с острыми, как бритва, зубами разинут (подходящий сюжет для мужских ночных кошмаров); язык высунут; на губах навечно застыл безмолвный крик.
Картина отталкивающе мертва и в то же время жива. Медуза изображена за миг до смерти, и мертвенная бледность еще не коснулась ее кожи. И хотя она каменеет под собственным взглядом, адский «перманент» продолжает со змеиной жизнестойкостью упрямо шевелиться на голове, уже расстающейся с жизнью. Чувствуется, что художник смаковал все эти детали. Блестящая чешуйчатая кожа змей ярко освещена, они извиваются, поворачивают головы туда и сюда, то высовывая раздвоенные языки, то снова пряча их в темной пасти.
Довольно странно выглядит поток крови, свисающей с аккуратно перерезанной шеи, наподобие воротника или сталактита, – тем более странно для художника, который исключительно умело передавал особенности любых материалов, жидких и твердых. Эта деталь кажется на первый взгляд неправдоподобной или вычурно стилизованной. Если учесть привычки и образ жизни Караваджо, то можно смело утверждать, что он наверняка присутствовал на некоторых колоритных казнях, совершавшихся в Риме; возможно, он был свидетелем и самой известной из них – обезглавливания женщин рода Ченчи, замышлявших убийство отца Беатриче Ченчи, виновного в кровосмешении (ее брату голову не рубили, а вырвали внутренности). Короче, Караваджо знал толк в кровопролитии, и бахрома из свернувшейся крови изображена такой не случайно. Кардиналу дель Монте, алхимику-любителю и непревзойденному всезнайке, наверняка было известно поверье, особенно ценимое врачами и гласившее, что кровь горгон служит источником кораллов, которые применяли в качестве сильнодействующего лечебного средства, а также носили на шее как талисман, оберегающий от всякого зла и несчастья. Лучшей темы для Караваджо не придумаешь: жизнь, порожденная смертью.
Театр жестокости в Риме процветал: тут были и обезглавливания, и сожжение еретиков, вроде Джордано Бруно, и еженедельное выставление на всеобщее обозрение повешенных преступников. Атмосфера насилия не могла не повлиять на Караваджо. Он входил в ближайшее окружение кардинала и потому имел право носить шпагу, точнее, ходить в сопровождении мальчика-оруженосца. Тем не менее полиция не раз пыталась задержать его за ношение оружия без соответствующей лицензии, в ответ на что он высокомерно отстаивал свои исключительные права.
Голова Медузы. Ок. 1598–1599. Холст поверх деревянного щита.
Галерея Уффици, Флоренция
Караваджо вел двойную жизнь, и ее половинки не всегда были четко отделены друг от друга. С одной стороны, он был известным и талантливым придворным художником кардинала, занимавшим привилегированное положение. Он расписывал потолок загородной виллы дель Монте, пользовался популярностью у многих знатных римских семейств. С другой стороны, он был непредсказуем и эксцентричен, повсюду таскал с собой шпагу, ловко обращался с кинжалом и выходил из себя по малейшему поводу. Однажды его брат Джованни Баттиста пришел в палаццо Мадама, чтобы повидаться с Микеланджело (надеясь, по наивности, уговорить его жениться и завести детей), но художник велел передать ему, что у него вообще нет никакого брата. Огорошенный и, должно быть, обиженный этим неласковым приемом, Джованни Баттиста ушел ни с чем, так и не повидавшись с братом. Караваджо водил компанию с проститутками и куртизанками, вроде Филлиды Меландрони и ее подруги из Сиены Анны Бьянкини, которых нередко привлекали к судебной ответственности за нападение с применением насилия. Хотя существовал церковный запрет на изображение женщин, пользовавшихся дурной репутацией, особенно в картинах на библейские сюжеты, Караваджо постоянно и с большим удовольствием приглашал их позировать ему. Ведь его искусство черпало силу в его решимости дать жизнь тому, что прежде считалось неинтересным и стереотипным. Шокированные критики сетовали, что его «Кающаяся Мария Магдалина» – всего лишь какая-то уличная девка, высушивающая волосы. Но именно этого эффекта и добивался художник; кроме того, знающие люди должны были помнить, что переродившаяся Магдалина вытирала своими волосами ноги изможденного Христа в доме Симона фарисея. Избрав Филлиду, юную куртизанку, пользовавшуюся в городе самой скандальной славой, в качестве модели для образа Марии Магдалины и провокационно поместив цветок апельсина – символ перерождения покаявшейся грешницы – на ее пышной декольтированной груди, Караваджо хотел не просто досадить святошам. Ощутимость приземленного характера изображения женщины позволяла ему усилить драматизм ее перерождения. На столе ненужная больше банка с косметическим средством и гребень, а в темном выпуклом зеркале видно лишь небольшое квадратное пятно яркого отраженного света – света, который делает искусство Караваджо возможным и дарит грешнице надежду на спасение.
Недовольные церковники еще могли как-то смириться с тем, что куртизанка позирует в роли Марии Магдалины, но было совсем уж возмутительно, когда ее же Караваджо изобразил в образе святой Екатерины Александрийской рядом с зубчатым колесом, орудием ее мучений, и какой-то шпагой – по-видимому, той самой, которой он орудовал на дуэлях. Картина представляет нам нечто прямо противоположное традиционному образу хрупкой и непорочной ангелоподобной святой. Эта Екатерина излучает силу и даже опасность, глаза ее сверкают, как два клинка. Если на Караваджо слишком наседали, обвиняя его в нарушении приличий, он оборачивал обвинения против самих критиков, говоря, что они по своей тупости понимают все превратно. Почему шея святой так неподобающе обнажена? – Ну, понятно же! Для того, чтобы напомнить, что она была обезглавлена. – А почему она одета в роскошное, украшенное вышивкой платье из бархата и камчатной ткани, которое больше подходит самой Филлиде, когда она принимает своего знатного флорентийского покровителя и любовника Джулио Строцци? – Вы забываете, что Екатерина была принцессой, наделенной спокойным и решительным характером, а не нервной особой, закатывающей глаза от ужаса. Необходимо было подчеркнуть, что она выдающаяся личность, с которой надо считаться.
Ворчание по поводу вольностей, которые позволял себе Караваджо, раздавалось часто, но дель Монте не обращал на это внимания. Он понимал, что его лучший художник создает абсолютно новый вид христианского искусства и в его произведениях драматизм ощущается сильнее, а эмоции выражены более непосредственно, чем у кого-либо другого после Микеланджело. Поэтому кардинал знал, к кому следует обратиться, когда возникла необходимость украсить живописью две стены в капелле Контарелли церкви Сан-Луиджи деи Франчези, находившейся под его опекой и расположенной напротив палаццо Мадама.
VI
Это был знаменательный момент и для Караваджо, и для Рима. Они идеально подходили друг к другу. Быстро приближался столь важный для папы Климента VIII Святой 1600-й год, год ревностного служения, паломничества и милосердия, год, когда даже те грешники, которым обычно отказывают в спасении души, – то есть такие, как Караваджо, – могут получить полное отпущение грехов. Сам Священный город тоже нуждался в передышке. Караваджо жил во дворце, но он всеми порами своей кожи знал и другой Рим – город сотни тысяч бедняков, пребывающих в грязи, терпящих бедствия, отягощаемых налогами, необходимыми для ведения жалких локальных папских войн, никогда не наедающихся досыта и молящихся о хорошем урожае, чтобы хлеб и macaroni стали для них доступны. Когда в 1598 году Тибр вышел из берегов и разрушил мост Понте Санта-Мария, прозванный вследствие этого Понте Ротто (Сломанный мост), казалось, что римлян спасет только чудо.
И чудеса последовали. Капелла, стены которой Караваджо предстояло украсить, находилась во французской церкви Святого Людовика. Сюжетом было избрано житие святого Матфея, потому что французский кардинал Маттье Куантрель выразил в своем завещании пожелание почтить память своего небесного покровителя. Он оставил подробнейшие инструкции относительно того, какие именно сцены следует изобразить – призвание и мученичество Матфея, – сколько фигур должно быть на холсте, каково должно быть оформление и все прочее. Своды церкви были расписаны в 1593 году Джузеппе Чезари, который вскоре получил прозвище Кавалер д’Арпино – возможно, не без участия юного Караваджо. Кавалер д’Арпино считался лучшим римским художником, пользовался большим спросом и не успел завершить работу в капелле. Ответственность за ее завершение взяло на себя духовенство, возглавлявшее собор Святого Петра. Оно поручило это дело дель Монте, тот предложил кандидатуру Караваджо.
Святая Екатерина Александрийская. 1598. Холст, масло.
Собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид
Поставленная перед художником задача, по всей вероятности, одновременно вдохновляла его и пугала. Это была самая крупная работа из всех, какие он когда-либо выполнял, – и по своим физическим размерам, и по значимости. До сих пор всегда, даже выполняя «спецзаказ» на «Медузу», Караваджо оставался хозяином положения; занимался он исключительно станковой живописью и писал с натуры в своей студии при ярком освещении; он сам определял, какие фигуры будет изображать и как они будут расположены на полотне. Теперь же он должен был учитывать указания Куантреля и даже, возможно, потолочную живопись д’Арпино с толпой фигур, ярким небом, величественной архитектурой и глубоким пространством. Он понимал, что данный заказ – это не привычные для него бытовые сцены, натюрморты или уличные девки в образе святых: он мог либо сделать ему имя, либо навсегда похоронить как художника.
Караваджо приступил к работе над «Мученичеством святого Матфея», который был убит по приказу эфиопского царя у подножия алтаря. Как предписывалось, Караваджо пытался изобразить глубокое пространство церкви, в которой было совершено убийство, толпу свидетелей, вознесение мученика на небеса, и – наверное, впервые в его карьере живописца – работа застопорилась. Предписания сковывали его. Тогда он отказался от глубокого пространства и тем более от большой толпы действующих лиц. Вся драматическая сила его картин основывалась на близости персонажей к зрителю, а не на их удаленности, на компактности, а не на величественных пространствах. Он добивался того, чтобы зритель отождествлял себя с происходящим перед ним. Но как можно отождествить себя с толпой?
Чем больше он старался подстроиться под ограничивавшие его указания, тем сильнее замедлялся процесс. В конце концов на время он оставил в покое «Мученичество» и обратился к левой стене, где работа над «Призванием святого Матфея» предоставляла ему бо́льшую свободу в трактовке сюжета – в значительной мере потому, что строки Евангелия, описывающие этот переломный момент в жизни святого, были так лаконичны: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним»[6]. Идея отрывка была понятна Караваджо, который не без причин размышлял о возможности искупления, предоставляемой даже самому закоренелому грешнику. Тут, в отличие от эпизода с мученичеством, вдохновение пришло к нему быстро и легко, тут он мог писать с натуры то, что знал: сцену из повседневной римской жизни, привычную и для него, и для всех потенциальных зрителей.
Он взял стол и одного из мальчиков, фигурировавших в «Шулерах», и перенес их в подвал с высоким потолком, грязными стенами и окном, закрытым промасленной бумагой, блеснув мастерством в изображении ее надорванного угла. Для любого зашедшего в капеллу римлянина все это было легко узнаваемо: одетые с дешевым франтовством люди, стол, звяканье пересчитываемых монет, проверка счетов, суровые мужчины и тихие мальчики – знакомая обстановка. Неподражаемая способность Караваджо к алогичному видению развернулась вовсю. А если уже нарушено одно правило, то почему бы не нарушить и самое главное? Вместо композиции, в которой все действующие лица внимали бы разговору Христа со сборщиком налогов, художник представляет нам эпизод, на первый взгляд абсолютно несущественный. Присутствующие отнюдь не ошеломлены приходом Иисуса со святым Петром, некоторые даже не замечают их. Один из них склонился над столом и кучей монет, его пожилому соседу в очках, символизирующих его близорукость не только в прямом, но и в переносном смысле, даже лень поднять голову. Пришла парочка бородатых клиентов? Очень хорошо, пусть ими кто-нибудь займется, а нам некогда.
Призвание святого Матфея. Ок. 1598–1601. Холст, масло.
Капелла Контарелли, Сан-Луиджи деи Франчези, Рим
Караваджо почти до предела низводит пафос изображенной сцены. Вместо того чтобы поместить Христа в центр полотна, он частично загораживает его фигурой спутника – пусть зритель приложит усилия, чтобы найти Иисуса. С теологической точки зрения это имело глубокий смысл, особенно в священный 1600-й год: как и в организационной структуре папства, между Христом и зрителем располагался святой Петр. К тому же это был точно рассчитанный психологический прием: пряча фигуру Христа, художник фокусирует внимание на самой важной детали – его протянутой правой руке с указующим перстом. Божественное и земное объединены здесь идеально, а ведь в этом и заключается суть произведения. Жест Христа заимствован с одной из самых известных римских фресок, изображающей момент божественного творения, когда Бог Отец протягивает палец Адаму на потолке Сикстинской капеллы, расписанном Микеланджело. Луч света на картине Караваджо исходит не столько из грязного окна, сколько из этой протянутой руки Иисуса, это свет Евангелия, падающий на лицо розовощекого мальчика, которому, в общем-то, не место среди этих отбросов общества. Он чуть отпрянул от света и инстинктивно ищет защиты у Матфея, доверчиво положив руку ему на плечо. Лицо самого Матфея также освещено, щеки его слегка покраснели оттого, что его внезапно выставили на всеобщее обозрение; Матфей отвечает на призыв Иисуса жестом, который был знаком каждому римлянину и каждому пилигриму и означал: «Ты обращаешься ко мне?» Правда, некоторые исследователи полагают, что он указывает на фигуру, сгорбившуюся справа от него, и что жест должен интерпретироваться: «Ты имеешь в виду его?» – но мне представляется несомненным, что именно бородачу суждено стать апостолом Матфеем: богатство его костюма, любимый Караваджо черный бархат делают его дальнейший переход к смиренности более выразительным.
И еще один момент в создании картины примечателен: впервые Караваджо не стремится к прямому обмену взглядами между его персонажами и зрителем – жест Матфея был бы при этом слишком демонстративным, чуть ли не заискивающим. Мы наблюдаем за этой сценой как свидетели, допущенные в виде особого исключения и спрятанные в темном углу помещения. Тот факт, что фигуры изображены почти в натуральную величину, создает впечатление, что все это происходит у нас на глазах, и обостряет наше восприятие.
Мученичество святого Матфея. 1599–1600. Холст, масло.
Капелла Контарелли, Сан-Луиджи деи Франчези, Рим
Фрагмент с автопортретом Караваджо
Понимая, что «Призвание» удалось ему, Караваджо чувствует себя более уверенно и возвращается к «Мученичеству», уже меньше скованный указаниями Куантреля. Впрочем, он отчасти следует им: полотно, против обыкновения, переполнено фигурами. Однако они не теряются в пространстве грандиозного храма с его необъятными нишами, а выведены на первый план, и действие разворачивается так близко от нас, что это становится почти невыносимым. Вместо просторного храма перед нами несколько каменных ступеней – очевидно, алтарных – и спасающийся бегством мальчик-хорист. Караваджо написал эти две картины, расположенные друг против друга, с таким расчетом, чтобы они перекликались. По сравнению с необычайной тишиной и неподвижностью «Призвания», «Мученичество святого Матфея» выглядит как неуправляемый вихрь, где фигуры разлетаются во все стороны от несокрушимо возвышающейся центральной – от обнаженного убийцы. Характерным для Караваджо было то, что он сделал эту обнаженную мускулистую фигуру, застывшую посреди всеобщей сумятицы, воплощением зла. Убийца схватил запястье Матфея, чтобы нанести ему повторный удар (ручеек крови, изображенный на этот раз реалистично, уже струится сквозь белое одеяние мученика). Эта поднятая для удара рука убийцы служит сатанинским отражением вытянутой руки Иисуса на противоположной стене. Со свойственной ему склонностью к театрализации действия Караваджо изображает на холсте борьбу добра со злом. Тело умирающего Матфея погружается в какой-то резервуар с черной водой, напоминающий крестильную купель, его левая рука выглядит укороченной – она обращена к нам, словно святой взывает к зрителю о помощи. Но сверху к нему уже спускается ангел с пальмовой ветвью в руках, чтобы унести мученика к небесному воздаянию.
Мы, смертные, остаемся где-то посредине, мечась и крича вместе с персонажами картины (ибо в ней столько же шума, сколько тишины в «Призвании»). Свет, мелькающий, словно проблесковый огонь, перебегает с фигуры на фигуру и с лица на лицо, усиливая всеобщую панику. А позади толпы, примерно с того же расстояния, что и мы, но из глубины картинного пространства за происходящим наблюдает какой-то человек. Волосы его растрепаны и спутаны, он нахмурен и обливается потом. Караваджо изображает самого себя испуганным грешником, который знает, что надо немедля бежать, чтобы спасти свою жизнь, но не может оторвать глаз от кровавого зрелища. Единственным оправданием его присутствия служит то, что он держит фонарь и является, таким образом, вопреки своей природе, несущим свет.
VII
Работы, выполненные в 1601 году в капелле Контарелли, сделали Караваджо знаменитым. Теперь даже зарубежные художники и исследователи искусства знали о его достижениях – как и о не менее известных недостатках. Голландец Карел ван Мандер писал:
«Существует некий Микеланджело да Караваджо, который создает поразительные вещи в Риме… Этот Караваджо сумел вопреки всем трудностям завоевать своими работами громкое имя и почет… Однако, собирая зерно, нельзя забывать и о мякине. Вместо того чтобы постоянно совершенствовать свое искусство… он, поработав две недели, бросает работу и шляется со своей рапирой в сопровождении мальчика-слуги, переходя с одного теннисного корта[7] на другой и всюду затевая ссоры и драки, так что с ним трудно иметь дело… Это не имеет ничего общего с искусством».
Однако это имеет кое-что общее с искусством Караваджо, с его агрессивной живописью, которая прорывается с холста сквозь время и расстояние, чтобы яростно наброситься на нас. Это искусство, в котором всякая утонченность и благопристойность с презрением отвергаются, а эстетствующее снисходительное заглядывание в трущобы бесцеремонным пинком выбрасывается за дверь. Нищие бродяги, которых Отцы Церкви лицемерно уверяли в своей заботливости, вместо того чтобы исполнять устраивающие всех остальных эпизодические роли страдающих бедняков в ожидании чудесного избавления от страданий, на полотнах Караваджо стали главными действующими лицами. Конечно, для сохранения достоинства искусства было бы гораздо удобнее считать, что Караваджо-правонарушитель, вращавшийся в сомнительной компании, неоднократно битый в драках и не остававшийся в долгу, – это совсем не тот Караваджо, который создал религиозные картины колоссальной значимости. Однако приходится признать, что без первого не было бы и второго. Гениальный художник был головорезом.
Но он был так неоспоримо гениален, что богатые и влиятельные люди единодушно защищали его от наказаний за его преступления. Чем выше восходила звезда художника, тем сильнее они стремились заполучить его к себе на службу и тем больше готовы были платить, чтобы обойти конкурентов. Привычка брать натурщиков с улицы завоевала ему дурную славу в Академии святого Луки и вызывала нарекания как недостойный пример для талантливых молодых художников, но парадоксальным образом именно в картинах, изображавших этих бродяг, церковные иерархи увидели обновленное искусство христианского смирения. Несомненное близкое знакомство Караваджо с миром бедноты рассматривалось как особая заслуга в Святой год, когда церковникам полагалось, в подражание Христу, мыть ноги бедняков, смазывать их раны и поддерживать их в несчастье. Однако кардиналы не слишком часто отправлялись залечивать раны бедняков, а тут увидели возможность возложить эту задачу на Караваджо. Он должен был, уподобившись Христу, стать их посланцем в трущобах.
Эта идея явно пришлась по душе Тиберио Черази: утопающий в богатстве главный казначей папы Климента пожелал обзавестись приделом для отпевания в церкви Санта-Мария дель Пополо (но умер, не дождавшись окончания работ по украшению придела). Церковь находилась на площади Пьяцца дель Пополо, паломники с севера посещали ее в первую очередь, и Черази рассчитывал на то, что его придел увидит большое количество народа. Он был намерен привлечь к работе самых лучших художников, заодно объединив противоборствующие лагеря, а потому заказал роспись алтаря Аннибале Карраччи – любимцу происпанского семейства Фарнезе, а украшение стен – Караваджо, выдвиженцу ориентированного на Францию дель Монте.
Караваджо подписал контракт еще до того, как закончил «Мученичество святого Матфея». В результате у него оставалось всего восемь месяцев, чтобы выполнить еще один ответственный заказ, который должен был доказать, что картины в капелле Контарелли не были случайной удачей. Дополнительным стимулом для него служил тот факт, что в оформлении церкви участвовал единственный художник, которого Караваджо считал достойным соперником, – Аннибале Карраччи. Он не раз уже брался за работу над своими лучшими полотнами, подстегиваемый желанием побороться за первенство с мастерами, чьи произведения он высоко ценил, – так было с утерянной «Медузой» Леонардо, плафоном капеллы Контарелли, расписанным д’Арпино. А теперь ему предстояло схватиться в поединке с живописцем, который был не только крупнейшим представителем болонской династии Карраччи, но и признанным мастером натуралистической живописи. Однако по иронии судьбы манера Аннибале в тот момент далеко отошла от былой безыскусности. Переходы от одного цвета к другому стали у него более плавными, краски более яркими; образцом для него теперь был, несомненно, классицизм Рафаэля. Златовласая Мадонна на его картине «Успение Богоматери» (ок. 1590) была обаятельна и полна жизни и, казалось, возносилась на небеса исключительно силой своей жизнерадостности; в складках ее юбки играли в прятки серафимы, а апостолы с энтузиазмом приветствовали это действо. В противоположность этому, на картинах Караваджо – еще одном мученичестве (святого Петра) и еще одном обращении (святого Павла) – царила битуминозная чернота, пронзенная ослепительным, как молния, лучом света. Если в «Успении» мы наблюдаем свободный взлет, не требующий никаких усилий, то здесь все приковано к земле, сопряжено с трудами и болью, тяжестью и напряжением, стонами и ворчанием. Словно желая усилить контраст, Караваджо повторяет жест Богоматери на полотне Аннибале, изображая руки Павла простертыми вперед и раскинутыми навстречу свету веры. Однако при этом Павел лежит навзничь, глаза его опалены явлением божества.
Но с «Обращением святого Павла» опять вышел фальстарт. Волнуясь, как и в случае с «Мученичеством святого Матфея», в связи с поставленной перед ним задачей, художник сотворил до странности перегруженную деталями и безжизненную картину, которую церковники, ответственные за капеллу Черази, отвергли. Но неудача и на этот раз заставила Караваджо собрать все свои творческие силы воедино. Первым делом он значительно сократил пространство, сузив его и сделав более замкнутым, чем в работах капеллы Контарелли. В постренессансную эпоху все художники, сужавшие рамки картины, инстинктивно стремились компенсировать это за счет углубления перспективы. Естественно, Аннибале Карраччи поступил так же, изображая вознесение Девы Марии, и написал картину, полную света. Но Караваджо часто добивался успеха, действуя вопреки принятой логике. Вместо того чтобы уменьшить фигуры и преодолеть узость пространства иллюзией глубины, он сделал нечто прямо противоположное – приблизил массивные фигуры людей и животного вплотную к раме, так что они нависают над нами, грозя вывалиться к нашим ногам. Прямо нам в лицо устремлено лошадиное копыто вместе с мясистым крупом, рукоятью меча и заскорузлым локтем. О каком-то облегчении, которое могло бы даровать нам созерцание пространственной глубины, нет и речи: мы испытываем священную клаустрофобию.
Распятие святого Петра. Ок. 1600. Холст, масло.
Капелла Черази, Санта-Мария дель Пополо, Рим
Обращение святого Павла. 1601. Холст, масло.
Капелла Черази, Санта-Мария дель Пополо, Рим
Это производило поразительное впечатление! Никогда еще расстояние между зрителем и изображаемым событием не было устранено с таким успехом. На другой картине перед нами неумолимая, перемалывающая все, как жернов, человеческая машина, водружающая крест с прибитым к нему вверх ногами святым Петром – он считал себя недостойным быть распятым в таком же положении, как и Христос. Гениально переданная суть произведения в том, что перед нами не законченное действие, а непрерывный процесс толкания и поворачивания, рывков и поднимания, который, кажется, длится вечно. Именно так, по мнению церкви, верующие и должны были воспринимать это событие, особенно в городе самого Петра. Верующие должны были ощущать причастность к греху, сознавая в то же время, что им гарантируется спасение, если они будут послушны последователям принявшего мученическую смерть апостола. Караваджо изображает римлян такими, какими их еще никто не показывал в религиозной живописи (и уж тем более никто из художников семьи Карраччи): мы видим грузные тела, грязные мозолистые ступни, мелькающие в темноте лица (они еще не узрели свет); наше внимание привлечено к напряженным мускулам и сухожилиям, к переплетению набухших вен. Процесс распятия воспринимается прежде всего как физический труд, который символизирует поблескивающая в сумраке лопата в руках одного из персонажей, и благодаря этому зритель не осуждает трудящихся, а невольно отождествляет себя с ними. Но разумеется, он отождествляет себя и с апостолом, чья голова – одно из высочайших достижений Караваджо: открытый рот издает стон из-за пробитых гвоздями рук, в глазах принятие судьбы, а самая выразительная деталь – клок волос, откинувшийся в сторону при переворачивании тела.
В то время как образ Петра в церкви на Пьяцца дель Пополо – вполне справедливо – связан с народом, Павел соотносится с представителями власти. На обеих картинах художник обходится с учениками Христа не очень лестно: предтеча богатых и напыщенных пап показан в момент своего величайшего унижения, а непоколебимый эталон воинствующей веры изображен выброшенным из седла своей суетной власти, распростертым на земле и беспомощным. С последним из них связан переворот в сознании самого художника, который расстается с многовековой традицией иконографии Павла, с привычном образом седобородого старца, каким он представал и в его собственном раннем творчестве. На этот раз Караваджо уподобляет его, прежде всего, своим современникам, римским полицейским – молодым, со щетиной на подбородке, грубым, любящим приструнить щеголей, – с какими он и сам не раз затевал стычки. Изображая Павла молодым, художник подчеркивает колоссальную силу света, поразившего его. Это поистине ослепляющее тщеславие.
И снова Караваджо доказывает, что его жизнь неотделима от его творчества, и использует свой дар физического воздействия на зрителя для свершения своей индивидуальной революции в религиозной живописи. Сужая пространство картины и заставляя нас смотреть на нее под определенным углом, он словно пригибает нас к земле – подобно тому, как он опрокидывал противников в драке, – и мы видим занесенное над нами лошадиное копыто. Избавившись от традиционных ангелов, толпившихся в первом варианте картины, художник оставил только три фигуры: лошадь, конюха и низвергнутого апостола. Как и «Призвание святого Матфея», своим эффектом работа обязана также свету, который окутывает корпус лошади и, отражаясь от торса и лица Павла, падает на наморщенный лоб кроткого конюха и его ногу с выступающими венами, охватывая и его спасительным сиянием. Все атрибуты мирской власти Павла в беспорядке раскиданы вокруг: шлем с плюмажем сброшен на землю, ремни для прикрепления оружия расстегнуты, а глаза, взыскательно преследовавшие христиан, неестественно пожелтели, словно роговица была сначала обожжена светом, а затем, как говорится в Библии, их затянула пленка катаракты. Но Павел лишится зрения только на три дня, и, когда оно вернется к нему, он впервые узрит свет истины.
VIII
К 1601 году в жизни Караваджо наступил счастливый момент, когда он мог считать себя непобедимым. Кардиналы наперебой приглашали его работать у них. В том же году он принял предложение еще одного богатого церковного деятеля с либеральными взглядами, Кириако Маттеи, и, возможно, переехал в его дворец, хотя есть сведения, что в октябре он еще жил у дель Монте. Караваджо любил дух соперничества и мог менять покровителей, когда ему заблагорассудится. Чем взбалмошнее он себя вел, тем больше это, похоже, нравилось его патронам. Для маркиза Винченцо Джустиниани он написал в полный рост Амура, подобного которому никто еще не видел – по крайней мере, на холсте. Эрос обитает в мире богов, а не спускается на землю, чтобы смешаться с людской толпой. А тут изображенный анфас и в полный рост голый уличный мальчишка, со взъерошенными волосами и сочными губами, лукаво улыбается, словно знает, что все эти божественные атрибуты – пристегнутые орлиные крылья и бутафорские стрелы – взяты (как и он сам?) напрокат. Поэтому было бы абсурдным и лицемерным упрямством утверждать, что эта манифестация тезиса Amor Vincit Omnia («Любовь побеждает все») – высокоморальная аллегория, призванная продемонстрировать многообразие культурных интересов заказчика.
Да, на картине присутствуют музыкальные инструменты и ноты, архитекторская рейсшина и компас, а также вооружение Амура; ноты и рейсшина образуют большую латинскую букву «V», которая символизирует имя заказчика (Vincenzo) и слово «виртуоз» (virtuoso). Но в виде той же буквы на фоне смятой простыни раздвинуты ноги Амура с безволосым мешочком и краником посредине. Неудивительно, что Джустиниани закрыл картину зеленой шелковой занавеской – неизвестно, правда, из осмотрительности или из озорного желания огорошить какого-нибудь избранного гостя, неожиданно распахнув перед ним занавеску.
Картина представляет собой суррогат прикосновения, как его трактует Караваджо. Кончик крыла Амура, касающийся его бедра, – это, несомненно, приглашение к визуальным ласкам. Но это не просто мягкая порнография; одновременно с этим художник хочет представить картину как безупречную теологическую аллегорию. Ведь в самой сердцевине христианского учения лежит положение об инкарнации Божьего сына, его появлении среди людей во плоти, и потому желание прикоснуться к этой плоти служит признаком истинной веры.
Амур-победитель. 1598–1599. Холст, масло.
Берлинская картинная галерея
Для чувствительного к прикосновениям Винченцо Джустиниани Караваджо написал также «Неверие святого Фомы». Ничего более шокирующего христианское искусство дотоле не видело. Всякое приукрашивание и все эвфемизмы были отброшены. Нельзя убедиться в существовании чего-либо, не пощупав этого своими руками, и потому Христос своей рукой с рубцами на тыльной стороне ладони вкладывает мозолистый палец Фомы глубоко в миндалевидную рану на своем теле. Грязные ногти и грубая кожа апостола подчеркивают одновременно шокирующую агрессивность и нежную жертвенность этого проникновения в плоть. Аналогия с половым актом напрашивается поневоле. О снисшедшем на Фому откровении и обретении им веры свидетельствуют его вздернутые брови и наморщенный лоб; впечатление усиливается благодаря ошеломленному взгляду склонившихся апостолов, прикованному к ране, как у медиков на консилиуме. Для достижения истинной веры, говорит картина Караваджо, недостаточно смотреть, нужно почувствовать истину нутром; нужно, чтобы волосы вставали дыбом и мурашки бегали по коже.
Караваджо не стремился разоблачить религиозные таинства, просто на его картинах таинства и чудеса происходят здесь и сейчас, в присутствии простых людей, приближенных вплотную к нам и неприукрашенных. Одежда их поношена и порвана, рты разинуты, мускулистые руки и ноги запачканы и растопырены. Одно дело, когда священники произносят благочестивые речи о возврате к простоте Христа и проповедуют мытье немытых в подражание Спасителю, – и совсем другое, когда художник тычет их носом в неприятную реальность уличной нищеты. Караваджо был поистине уникальным, единственным из всех римских художников, в чьей жизни реально соединялись мир дворцов и величественных храмов и мир игорных притонов, публичных домов и винных погребков, где толпился простой люд. Сближение этих двух миров было ценным подарком для церкви, но для художника в этом крылась опасность.
Порой он действительно нарывался на неприятности. Так, церковь Сант-Агостино поручила Караваджо написать «Мадонну ди Лорето», чтобы почтить деревню, в которую дом Девы Марии (вместе с самой Марией и Младенцем) был перенесен чудесным образом по воздуху. Лорето с незапамятных времен была объектом паломничества, куда стекались массы смиренных и доверчивых богомольцев, а Дева Мария изображалась обычно сидящей на крыше десантированного дома. Караваджо вовсе не собирался развеивать этот миф, он просто хотел спустить Мадонну на землю, приблизить ее к реальной жизни верующих и потому перенес место действия к дверям одного из римских домов. Его Мадонна не только приземлилась в Риме, но и унаследовала римские гены. У нее пышная фигура, густые черные волосы, смуглая кожа, тяжелые веки и римский нос – все характерные черты местной красавицы, и притом совершенно определенной красавицы, натурщицы и любовницы художника Лены Антоньетти. Соответствует ей и младенец Иисус: это жизнерадостный пузатый бамбино того самого типа, какой римские матери боготворят до сих пор, хотя и не думают при этом о божественном.
Неверие святого Фомы. 1602–1603. Холст, масло.
Фонд дворца и парка, Сан-Суси, Потсдам
Но возвращение Богородицы с небес на землю – далеко не самая своеобразная черта этой картины. Озабоченный, как всегда, налаживанием связи между зрителями и его произведением, Караваджо изобретает очередное возмутительное новшество. Почему бы, вместо того чтобы вообразить пилигримов перед картиной, не изобразить их просящими милостыню на коленях перед Мадонной и тем самым устранить барьер между миром на полотне и тем, где находимся мы? Зрители-пилигримы будут смотреть на картину снизу (Караваджо всегда предусматривал такой зрительский ракурс) и видеть перед собой таких же нищих братьев и сестер с грубыми, разбитыми на дорогах ногами. Белая нога самой Мадонны, опирающаяся на пальцы в некоем балетном па, делает по контрасту еще более заметными мозолистые и сбитые грязные ступни ее почитателей. Они выписаны так красочно и четко, что можно, кажется, почувствовать их запах. Подобные детали было не принято демонстрировать в искусстве, и тем более в искусстве, посвященном поклонению божеству, однако, по мнению Караваджо, ничто не достойно большего поклонения, чем стертые ступни.
Цензура все-таки пропустила эти ступни, но двум другим парам ног повезло меньше. Первая пара гигантских заскорузлых пяток еще более агрессивно вторгалась в пространство зрителя, чем ноги пилигримов Лорето, – и это был один из самых почетных заказов, какие когда-либо получал Караваджо, – алтарный образ, который должен был завершить посвященный святому Матфею ансамбль в капелле Контарелли. Решено было заменить установленную в капелле неудачную скульптуру еще одним живописным полотном работы Караваджо: на сей раз это должен был быть образ Матфея, которого ангел побуждает написать Евангелие. В результате вся капелла стала бы практически единым произведением Караваджо – на потолок, расписанный д’Арпино, никто уже не обращал бы внимания. Но по странной прихоти (какой у художника не возникало при создании «Призвания») он изобразил Матфея каким-то недоумком, с видом тупой покорности слушающим наставления ангела и бесцеремонно выставившим под нос зрителям неприглядные ноги бродяги. Церковники, отвечавшие за оформление капеллы, были шокированы подобным унижением святого и аннулировали заказ. Уже вторично (после «Святого Петра» для капеллы Черази) работа художника, завоевавшего славу pittore celebre – признанного мастера, была отвергнута. Но он не пал духом и написал устраивавший всех вариант, который и сейчас можно увидеть в капелле.
Мадонна ди Лорето. 1604–1605. Холст, масло.
Капелла Кавалетти, Сант-Агостино, Рим
В это же время в адрес маэстро впервые было брошено обвинение в непристойности. В августе 1603 года кардинал Оттавио Паравичини заявил, что произведения Караваджо – это нечто среднее между «святостью и богохульством», а потому опасны. Но даже если до художника дошел этот неблагоприятный отзыв, он не повлиял на его решимость сделать Священное Писание ближе к простому народу. Поскольку церковь Санта-Мария делла Скала находилась в Трастевере, одном из самых бедных районов Рима, где священники проявляли особую заботу о бедняках, Караваджо имел основания рассчитывать на то, что его написанное без прикрас «Успение Девы Марии» будет принято благосклонно. Замысел художника был вызывающе прост.
Традиционно считалось, что в период между смертью и вознесением на небеса Дева Мария пребывала во сне, или «успении», сохранявшем ее тело, в отличие от тел простых смертных, нетронутым. Как зачатие Спасителя было непорочным, так и смерть Богородицы была бесплотна. Но понятие бесплотности было чуждо Караваджо: он писал плоть. А в данном случае, как поговаривали, плоть в буквальном смысле мертвую – выловленную из Тибра утонувшую проститутку одного из борделей римского района Ортаччо. Поэтому тело Марии под красным платьем выглядит безобразно распухшим, кожа имеет зеленоватый оттенок, а из-под платья торчит еще одна пара неприлично босых и, естественно, не слишком чистых ног.
Но у художника не было намерения шокировать публику, напротив, он искренне хотел выразить чувство глубокой скорби. Именно то, что Мария была однозначно мертва, позволило ему передать истинный трагизм как в позе рыдающей Марии Магдалины, так и в выражении лиц апостолов, чудесным образом собравшихся вместе около гроба после разгона всей их компании. Если бы Богородица пребывала в священной дреме в ожидании вознесения, то их скорбь выглядела бы чрезмерной. Но перед лицом смерти, исчезновения с лица земли, чувство непоправимой утраты становится вполне понятным. Однако священнослужители церкви Санта-Мария в Трастевере придерживались другой точки зрения, и неподобающий вид Богородицы их ужаснул. Картина была отвергнута, а пять лет спустя ее купил для мантуанского герцога Питер Пауль Рубенс, который был так покорен силой выраженных в ней чувств и так хотел реабилитировать Караваджо, что перед отправкой полотна в Мантую в течение недели демонстрировал свое приобретение публике.
IX
Итак, Караваджо отвергли уже в третий раз. Еще недавно он отказывался от предлагавшихся ему заказов, теперь же он не мог упускать их. Но с уменьшением их числа он все чаще участвовал в драках и попадал в тюрьму Тор ди Нона. Когда он не сидел в камере, то жил в убогих, скудно обставленных комнатах в Кампо-Марцио в компании пса, которого он назвал Вороном и научил ходить на задних лапах для развлечения гостей, а все его имущество составляли рапиры и кинжалы, гитара и скрипка. В своем модном, но порванном и грязном костюме из черного бархата Караваджо выглядел элегантно и угрожающе, разгуливая по неприглядным улочкам около Пьяцца Навона в компании крутых парней, вроде Онорио Лонги. Караваджо был прекрасно знаком папской полиции благодаря его вспыльчивости и склонности размахивать холодным оружием и задирать прохожих, особенно если это были художники, которых он считал бездарными. А таковыми, по его мнению, являлись почти все, кроме него самого, его приятелей и горстки исключительных личностей, вроде Аннибале Карраччи, – последнего Караваджо искренне уважал. «Мы поджарим яйца такому ничтожеству, как ты!» – было одной из его любимых угроз, и те, кому он ее адресовал, спешили убраться восвояси, убежденные, что этот cervello straniere – свихнувшийся вполне способен привести угрозу в исполнение.
Успение Девы Марии. Ок. 1605–1606. Холст, масло.
Лувр, Париж
Как мог pittore celebre вести себя таким диким образом? Но Караваджо не умел иначе. В нем сосуществовали животная агрессия, желание физически оскорбить другого и совершить сексуальное или иное насилие, склонность к антиобщественным поступкам; пристрастие к драме, из-за которого написанные им сцены, выхваченные из темноты лучом яркого света, буквально набрасываются на зрителя; самоуверенное чувство собственной неуязвимости, сочетавшееся каким-то образом с непреодолимым ощущением своей причастности ко всему вокруг, – и благодаря всему этому он был самым необходимым, но и самым неуправляемым художником, с какими Риму и его церкви когда-либо приходилось иметь дело. Они нуждались в нем по той же причине, по которой он в конце концов попал в опалу и погиб.
Сам Караваджо был не способен направить свою славу в позитивное и надежное русло. Ему мало было того, что он добился успеха (а так оно и было, несмотря на отвергнутые работы): он должен был унизить бездарных соперников, в особенности если они имели наглость получить заказ, в котором ему было отказано. Худшим из них, с точки зрения Караваджо, был, по-видимому, Джованни Бальоне, которого наградили почетной золотой цепью и наняли писать воскресение Христа для Иль Джезу, новой иезуитской церкви – архитектурной сенсации. Сам Бальоне настолько уважал Караваджо, что написал впоследствии его биографию – на удивление беспристрастную, если учесть их взаимоотношения, – но его уважение было безответным. В конце лета 1603 года последователю Бальоне Томмазо Салини по прозвищу Мао вручили листок со стихами, которые касались его самого и его учителя и, как ему сообщили, ходили по рукам. Стихи эти вряд ли можно отнести к образцам высокой поэзии, но, учитывая их назначение, этого и не требовалось.
Джован Багалиа, ты просто недоумок, Мазня твои картины — Ручаюсь, Ты не заработаешь на них И медного гроша, Чтобы купить материю и сшить штаны. Как и ныне, разгуливать ты будешь С голым задом… Но может, будет прок с твоей мазни, Ведь она Пригодна, чтобы подтереть твой зад Или супруге Мао в дырку затолкать, Чтоб он не мог залезть туда своим ослиным членом. Ах, как же жаль, что к хору громкому похвал Свой голос присоединить я не могу. Ты недостоин цепи, что таскаешь, Позор для живописи ты ходячий…И дальше в таком же духе. Мао показал стихи Бальоне, и в сентябре тот подал иск, обвиняющий в написании пасквиля его наиболее вероятных авторов – Караваджо и его друга и собрата по профессии Орацио Джентилески. На время судебного разбирательства их обоих заключили под стражу и посадили в Тор ди Нона, которая вскоре стала для Караваджо вторым домом. Улики против него были косвенными – никто не видел, чтобы он писал эти стихи или диктовал их кому-либо из друзей, но это никого не могло ввести в заблуждение. Он не признавал за собой вины и заявил, что никогда не видел и не слышал никаких стихов или прозаических отрывков с нападками на Бальоне ни на современном итальянском языке, ни на латыни, однако не скрывал, что разделяет высказанное в стихах мнение о Бальоне, которого ни в грош не ставят все, кого он знает. Его спросили, кого из художников он ценит, и Караваджо назвал Аннибале Карраччи, д’Арпино и, как ни странно, Федерико Цуккаро, бывшего президента Академии святого Луки и воплощение пустого украшательства.
Следствие тянулось несколько месяцев и никак не могло прийти к заключению. В ожидании судебного решения Караваджо и Джентилески находились сначала в тюрьме, затем под домашним арестом. Были представлены свидетельства того, что они якобы нанимали мальчиков для распространения стихов, но и это не дало определенных результатов.
Как бы то ни было, угроза длительного тюремного заключения или, хуже того, ссылки на галеры нисколько не обуздала нрав Караваджо. В течение последующих полутора лет из-за своей вспыльчивости он неоднократно попадал в Тор ди Нона. В апреле 1604 года в мавританской таверне официант по имени Пьетро да Фузачча подал Караваджо блюдо с восьмью артишоками, четыре из которых были поджарены на сливочном масле, а остальные на растительном. «Какие где?» – спросил Караваджо. «Не имею понятия, – ответил Фузачча. – Понюхайте их». Возможно, художника вывел из себя тон, каким это было сказано. «Ах ты, becco fottuto – долбаный рогоносец! – воскликнул Караваджо. – Ты думаешь, что разговариваешь с каким-нибудь голодранцем?» Вопрос был риторический. Караваджо швырнул блюдо Фузачче в лицо и, по словам официанта, стал вытаскивать из ножен свою рапиру. Ощущение сжатой в кулаке рукояти пробудило в нем воинственный дух, и полицейские дважды арестовывали его за ношение оружия. Когда он в первый раз объяснил, что имеет на это право как лицо, находящееся под покровительством кардинала, полицейский отпустил художника, пожелав ему на прощание спокойной ночи. Но это оказалось опрометчивым жестом, потому что в ответ Караваджо бросил: «Ho in culo» («Успокой свою задницу») – и в результате вернулся в тюрьму Тор ди Нона. В июле 1605 года его арестовали снова – на сей раз за то, что он ворвался в дом к двум женщинам, Лауре и Изабелле, проломив окно.
В конце того же месяца нотариус Мариано Паскуалоне, стоя на Пьяцца Навона, получил сзади удар ножом или, согласно другим свидетелям, шпагой. Он потерял много крови, но выжил. Нападавший, закутанный в черный плащ, растворился в темноте. Однако никто не сомневался, что это был Караваджо. Паскуалоне имел неосторожность выступить в защиту добродетели Лены Антоньетти, натурщицы и подруги Караваджо. Говорили, что она «с Пьяцца Навона», а потому беспокоиться о ее добродетели было, скорее всего, поздно. Но Паскуалоне, влюбленный в девушку, отправился к ее матери, запугал ее рассказами о длинных сеансах, во время которых Лена позировала художнику с дурной славой, и обещал сделать из нее честную женщину. Мать отправилась к Караваджо, и можно с полной уверенностью предположить, что тот вышел из себя. Он встретился с Паскуалоне на Виа дель Корсо, где между ними состоялся горячий обмен мнениями. Ярость Караваджо возросла из-за того, что нотариус не носил шпаги и невозможно было вызвать его на дуэль. Не видя другого выхода, он напал на Паскуалоне на Пьяцца Навона и затем бежал аж до самой Генуи, где его подрядили расписывать виллы аристократов. Что бы Караваджо ни вытворял, какие бы возмутительные преступления ни совершал, всегда находились люди, охотно закрывавшие на это глаза ради того, чтобы заполучить какую-нибудь работу кисти Караваджо. Так было и на этот раз. Вернувшись из Генуи, он обнаружил, что Пруденция Бруна – владелица дома, где он жил, заперла его комнаты и забрала все его вещи, с тем чтобы продать их в счет погашения шестимесячного долга за жилье. В ответ на это Караваджо выломал окно и пригрозил свернуть ей шею.
Для комплекта не хватало только смертоубийства, и в мае 1606 года этот недостаток был восполнен. Караваджо и его компания уже не раз участвовали в стычках с братьями Томассони из Терни, сыновьями капитана гвардии из знатного аристократического рода Фарнезе. Джан Франческо Томассони был caporioni (начальником округа) района Кампо-Марцио, а его младший брат Рануччо, позер и задира не хуже Караваджо, был сутенером команды уличных девок и мастерски обращался с ножом и шпагой. Полицейские досье, судебные отчеты и биографы Караваджо указывают разные причины фатальной ссоры, происшедшей недалеко от теннисных кортов на Виа делла Скрофа: согласно одним свидетельствам, это было связано с игрой или пари, согласно другим, Караваджо разъярился из-за оскорбительных слов Рануччо в адрес его девушки – возможно, Лены, – а Виа делла Скрофа была просто удобным местом для сведения счетов. Как бы то ни было, состоялась классическая римская разборка между двумя группами головорезов: братьями Томассони, с одной стороны, и Караваджо и его другом, отставным болонским военным Петронио Троппа, – с другой. Драка закончилась тем, что Караваджо нанес уже раненному Рануччо смертельный удар клинком в живот (по другим свидетельствам, в пах), после чего Томассони был отнесен домой, где и умер от потери крови. Сам Караваджо тоже получил серьезную рану, но ему удалось спрятаться среди окружавших Рим холмов на вилле могущественных и благосклонных к нему покровителей – вероятно, из рода Колонна, к которому принадлежали и его давние патроны маркиз и маркиза Караваджо. По-видимому, они же осенью 1606 года помогли художнику благополучно добраться до Неаполя, принадлежавшего Испании. Папская администрация объявила pena capitale – цену за голову Караваджо, поэтому надо было срочно переправить художника в такое место, где его не могли достать ни папская полиция, ни охотники за вознаграждением.
Он прожил в Неаполе девять месяцев, произведя на свет мрачные и ошеломляющие алтарные картины «Бичевание Христа» и «Семь деяний милосердия» (1606–1607). Эти работы отличаются тем, что пробуждают в зрителях сочувствие и нежность, даже – а может быть, особенно – «Бичевание», с его безжалостной, почти безумной жестокостью, на которую невозможно смотреть хладнокровно. Ко времени приезда в Неаполь Караваджо уже завоевал себе имя, и благодаря написанным здесь впечатляющим мрачным полотнам его репутация еще больше упрочилась. В этом городе он нашел щедрых патронов, заказы сыпались один за другим, и – mirabile dictu[8] – не случилось никаких драк и тюремных отсидок. В конце 1606 – начале 1607 года казалось возможным, что он благополучно останется в Неаполе, работая на благочестивых купцов, банкиров и возведенных в дворянское звание чиновников, приведет в равновесие свой талант и свой темперамент и будет творить во славу Господа Бога и самого себя.
Но в жизни Караваджо ничто не складывалось так просто. На следующий год он был уже на Мальте, острове-крепости рыцарей-госпитальеров, основавших здесь орден Святого Иоанна. Благодаря рекомендации маркизы Караваджо он был представлен магистру ордена Алофу де Виньякуру, который не исключал возможности того, что на острове не только забудут о грехах художника, но и посвятят его в рыцари. Социальный статус Караваджо, сына архитектора-подрядчика и эконома, был изначально несколько двусмыслен – он не принадлежал вполне ни к дворянскому, ни к буржуазному сословию. Другие римские живописцы – например, д’Арпино – называли себя cavalieri[9]. А беглый убийца Караваджо становился рыцарем ордена Святого Иоанна и, значит, неприкосновенным.
Бичевание Христа. Ок. 1606–1607. Холст, масло.
Музей Каподимонте, Неаполь
Х
14 июля 1608 года черный плащ с восьмиконечной белой звездой ордена был наброшен на плечи Караваджо, и, приравненный в посвятительной речи к величайшему художнику Античности Апеллесу, он был провозглашен Рыцарем Повиновения. В знак особого расположения Великого магистра Караваджо получил двух рабов и золотую нагрудную цепь. По закону преступление Караваджо, о котором магистру было известно, не позволяло оказывать ему подобные почести, но Виньякуру было дано право распоряжаться судьбой талантливых рыцарей неблагородного происхождения. Он направил папе Павлу V из рода Боргезе прошение о предоставлении Караваджо иммунитета от ответственности, и его просьба была удовлетворена. За время, прошедшее после его приезда в октябре 1607 года, художник успел подтвердить свою репутацию, написав портреты Виньякура и еще одного рыцаря, а также зеленоватого храпящего младенца, названного «Спящим Купидоном» (опять с пристегнутыми крыльями), и эффектного «Святого Иеронима», склонившегося над письменами, лежащими на деревянном столе рядом с черепом, распятием и свечой – излюбленным набором в натюрмортах Караваджо.
Но сполна художник расплатился с орденом за его гостеприимство, когда написал «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Полотно пяти метров в ширину было не только самой крупной из всех его работ, но и значительно превосходящей их по своим достоинствам, – возможно, самой волнующей, глубокой и неоднозначной религиозной картиной XVII века. И объяснялось это тем, что изображение убийства по расчету, жертвоприношения и возрождения имело большое значение для него лично – настолько большое, что он, как один из братьев ордена, подписал картину своим новым именем – Фра Микеланджело. Больше того, он начертал подпись кровью Иоанна Крестителя и тем самым с помощью кисти перевел себя из убийц в мученики.
Часовня, восточную стену которой почти полностью занимают написанные Караваджо фигуры больше натуральной величины, предназначалась не только для молитв и религиозных обрядов. Под полом были похоронены те, кто погиб в сражениях с турками, захватившими фактически все Восточное Средиземноморье. Таким образом, часовня была, помимо всего прочего, также мавзолеем рыцарей-мучеников, и Иоанн Креститель, чье убийство по прихоти восточного деспота изобразил Караваджо, был особо почитаемым в ордене святым. Кроме того, часовня служила, как художник наверняка знал, и залом суда, где допрашивали провинившихся членов ордена и выносили им приговор. Во времена Караваджо за дальней стеной находилась камера, в которой содержали заключенных.
Размывание границ между искусством и жизнью в данном случае производило довольно жуткое впечатление, беспрецедентное даже для Караваджо. Дело было не только в том, что создавалась иллюзия пространства, общего для зрителя и изображенных фигур, и зритель как бы мог беспрепятственно присоединиться к ним и стать непосредственным свидетелем события, как это было с картинами в капелле Контарелли. Пустой и мрачный тюремный двор, где на картине Караваджо совершалось это злодеяние и проливал кровь мученик, был, как определил историк искусства Дэвид Стоун по старинным гравюрам, тем самым местом, где рыцари содержали преступников и приводили приговоры в исполнение. Логически рассуждая, справедливое возмездие уподобляло их в данном случае убийцам Ироду и Саломее. Поэтому, при всем желании Караваджо доставить удовольствие своим хозяевам, братьям по ордену, в этой картине, написанной к 29 августа 1608 года, дню Усекновения главы Иоанна Крестителя, проглядывает некоторая двусмысленность.
Эта двусмысленность не в последнюю очередь касается самого искусства. Ибо, за исключением старой женщины, держащей со страдальческим видом руки над головой – или, может быть, заткнувшей уши, чтобы не слышать, как меч рассекает шею Иоанна, – выстроившиеся полукругом фигуры представляют дьявольскую пародию на традиционных персонажей изобразительного искусства. Обнаженный герой (имеющий своего двойника в «Мученичестве святого Матфея») – это безжалостный палач, держащий наготове блестящий меч; седой тюремщик, который должен служить образцом серьезности и авторитетности, превращается в неумолимого и нетерпеливого соучастника преступления, а женщина с изящными руками нежного телесного цвета вместо воплощения красоты становится подносчицей добытого убийцами трофея. И, как во всех самых выдающихся шедеврах Караваджо – в «Распятии святого Петра», например, – одним из элементов художественной концепции является время. Все эти фигуры представляют разные стадии осуществляемого действия и заставляют нас с ужасом вновь и вновь воспринимать весь процесс как неумолимое perpetuum mobile жестокости. Атмосфера полного спокойствия, в которой неотвратимо развивается этот жуткий спектакль, превращает его в подлинный кошмар, стоп-кадр с навечно застывшим злом. Но в этом зрелище нет никакой театральности, картина холодно констатирует, что бывают обстоятельства, когда подобное происходит. И хотя она была написана для рыцарей ордена Святого Иоанна летом 1608 года, любой, увидев ее в Валлетте даже спустя столетия, понимает, что такие обстоятельства не стали анахронизмом и в наше время.
За происходящим наблюдают двое вытянувших шеи заключенных, томящихся за решеткой в правой части холста (подозреваю, что одного из них Караваджо намеренно сделал похожим на себя), – и мы с вами. Они находятся примерно на таком же расстоянии от основных персонажей, что и мы, только с другой стороны, и служат выражением несвободы и беспомощности. А ключи, висящие на поясе тюремного начальника, один из которых я держал в руках, являются, в соответствии с классической традицией, claves interpretandi, ключами к пониманию замысла. Сила данного произведения искусства в признании ограниченных возможностей искусства. В шедевре, созданном Караваджо на пике его таланта, он тем не менее признает свое бессилие перед варварством, изображенным им с таким совершенством.
Усекновение главы Иоанна Крестителя. 1608. Холст, масло.
Собор Святого Иоанна, Валлетта, Мальта
Усекновение главы Иоанна Крестителя (фрагмент с ключами тюремщика)
Бессилие во всем, кроме одного: пояснения высшего смысла самого мученичества, лежащего в основе искупительной жертвы Христа, пролития его крови во имя возрождения. И кто мог лучше понять необходимость этой жертвы, чем осужденный убийца, получивший драгоценный шанс начать новую жизнь благодаря этой самой картине? Кровь хлещет, как она хлестала из головы Медузы, и застывает такой же коралловой массой, превращающей проявление зла в средство излечения. Как и в случае с Медузой, источник искусства становится источником жизни. И неудивительно поэтому, что кровь образует на полу новое имя Караваджо, выражающее его искупление: Фра Микеланджело.
Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Но она, разумеется, не была поставлена. Караваджо, создавший одно из самых величественных полотен, протестующих против холодной силы зла, был не в силах справиться с собственным горячим нравом. Не прошло и четырех месяцев с момента принятия его в члены ордена, как он учинил потасовку с одним из рыцарей. Он был заключен в одиночную камеру на глубине трех с половиной метров, откуда подозрительно легко сбежал с помощью веревки, нашел лодку, словно специально ожидавшую его, и добрался на ней до Сицилии, следующего своего убежища. Если бы его поймали и судили, то поместили бы, как совершившего преступление рыцаря, в ту самую камеру, которую он изобразил в «Усекновении главы Иоанна Крестителя». 1 декабря 1608 года рыцари собрались в часовне, чтобы судить Караваджо, и вызывали его четырежды, но он так и не явился. Он был исключен из рыцарского братства и «отсечен и брошен прочь, как сгнившая конечность». Даже величайшая из работ Караваджо, висевшая над головой Великого магистра, оказалась бессильной смягчить суровый приговор.
XI
На Сицилии он прожил год. Старый друг из лихой римской компании Марио Миннити, позировавший некогда Караваджо с фруктами и лютней, стал Большим Художником в Сиракузах. Он принял Караваджо гостеприимно и был готов посодействовать с получением заказов, но мало чем мог помочь в том, что Караваджо требовалось в первую очередь: в обретении душевного спокойствия, прощении грехов, реабилитации имени. Если его репутация как художника повсюду следовала за ним и снабжала его работой, то и дурная слава задиры и преступника не отставала от нее и не давала ему покоя. В алтарных картинах, написанных Караваджо в Сиракузах и затем в Мессине, куда он переехал, появляется нервозность. Недавно некоторые историки искусства, обожающие пересматривать все, что хоть чуточку отдает романтической мелодрамой, пытались доказать, что сицилийские работы Караваджо написаны с не меньшим вдохновением, чем «Усекновение главы Иоанна Крестителя» или полотна римского периода, принесшие художнику славу, – просто они другие: темнее, спокойнее, воздействуют более сдержанно. Этот взгляд отчасти оправдан. В «Погребении святой Лючии» (1608), «Поклонении пастухов» (1608–1609) и «Воскрешении Лазаря» (1609) есть моменты глубоко волнующей, сдержанной простоты. Картины дают основания рассматривать их свободную, почти эскизную технику как свидетельство намеренного перехода художника к более простой живописи, но, с другой стороны, подобная оценка может быть результатом проецирования романтических умонастроений самих критиков. Не исключено, что некоторые из этих работ, написанные особенно небрежно, просто-напросто не завершены. Возможно, испытывая нарастающее отчаяние, художник торопился. Эти большие картины объединяет, помимо их почти монохромной тускловатости, ощущение замкнутости действия внутри рамы. Все приглушено, непроницаемо, отгорожено от зрителя. Да, конечно, это была новая для Караваджо манера. Но вряд ли она была лучше прежней.
Дело в том, что в Сицилии он пребывал в расстроенных чувствах, и у него были для этого причины. Список людей, которые хотели свести с ним счеты, возрастал. Оскорбив некоторых рыцарей Мальтийского ордена (если не весь орден), он нажил себе новых опасных врагов. Единственным спасением для него было бы возвращение в Рим, если бы там его простили. Он хотел жить в этом городе и писать для него. И тут до художника дошли слухи, что некоторые высокопоставленные лица в Риме так верят в его способность творить чудеса, что добиваются для него прощения. К ним принадлежал кардинал Франческо Гонзага, но особую активность проявлял влюбленный в искусство кардинал Сципионе Боргезе, племянник папы Павла V.
В октябре 1609 года Караваджо отплыл на север навстречу этой надежде, из осторожности совершив промежуточную остановку в принадлежавшем Испании Неаполе. Очевидно, сыграло тут роль и то, что в Неаполе жила на своей вилле в Кьяйе его давняя покровительница маркиза Колонна да Караваджо, которая в свое время ввела его в художественные круги Рима, а затем Неаполя. Маркиза была для него связующей нитью с Римом и, как он надеялся, посредником в получении желанного прощения. Его самая первая патронесса стала, таким образом, его шансом – и, возможно, последним – в тот момент, когда траектория его блестящей карьеры клонилась книзу, уходя в сверкающий залив.
Может быть, поэтому он был слишком неосторожен, покидая остерию Черрильо 24 октября. На него набросились какие-то неизвестные, изуродовали лицо, избили до полусмерти и оставили умирать. Друзьям и покровителям Караваджо сразу же сообщили о его предполагаемой смерти. Известие их, очевидно, потрясло, но вряд ли удивило. Но кто же хотел убить Караваджо? Хотя правильнее было бы спросить, кто не хотел этого? Такое желание могло быть, во-первых, у римских художников, которых Караваджо унижал словесно и физически. Во-вторых, у нотариуса Мариано Паскуалоне, едва не убитого им на Пьяцца Навона. В-третьих, у сильного и сплоченного клана Томассони, потерявшего сына и брата в стычке с Караваджо. И наконец, были мальтийцы, которые пострадали в учиненной им драке и не могли вследствие его побега осудить его и получить удовлетворение.
Но были и люди, желавшие, чтобы Караваджо продолжал жить и работать – на церковь и на них самих. Он и работал во время выздоровления среди кустов жасмина и лимонных деревьев Кьяйи, правда нанесенные ему увечья были настолько серьезными, что окончательно он от них, видимо, так и не оправился. Новые картины были в определенном смысле его реабилитацией, доказательством, что даже после того, как он был на волосок от смерти, он не утерял свой магический дар. Он отказался от небрежной мягкости сицилийского периода и вернулся к своей прежней, резкой и впечатляющей драматической манере, однако без малейшего намека на показной блеск. Некоторые из этих картин были написаны для людей, добивавшихся его прощения, – в частности, для Сципионе Боргезе; на них запечатлены сцены искупительного страдания и, опять же, обезглавливания, как будто мысль о его собственном pena capitale, смертном приговоре, не шла у него из головы. Мы видим искаженное лицо святого Андрея и еще одну голову Иоанна Крестителя, на этот раз на блюде; Саломея, явно не испытывающая никакого торжества, задумчиво смотрит на свой сомнительный трофей. Караваджо, судя по всему, хочет изобразить замешательство победителей. И даже герой-пастух на картине «Давид с головой Голиафа» полон сомнений и сожаления и представляет резкий контраст со всеми другими Давидами, когда-либо изображавшимися в красках или в мраморе.
Это вряд ли было ему по душе. Но вряд ли ему было по душе и то, как складывалась вся его жизнь и его работа. Он был груб и жесток, но способен на искреннее религиозное чувство. Его худшие поступки, пролитая им кровь бросали вызов Богу, но его лучшие картины взывали к нему. И теперь, когда Караваджо – как он, очевидно, надеялся – почти оправился от последствий кровавой бойни у остерии Черрильо, он снова совершил разворот на сто восемьдесят градусов в попытке добиться понимания не только со стороны кардиналов и папы, но и с нашей, а также, возможно, и с собственной.
У других мастеров – и не в последнюю очередь у Микеланджело – Давид олицетворяет единство христианской добродетели и героической силы, тех качеств, наличие которых флорентийцы охотно воображали в самих себе и в своем городе, когда проходили мимо знаменитой статуи на Пьяцца делла Синьория. В христианской традиции Давид считается прародителем Христа, и его образ ассоциируется с победой добра над злом, божественной благодати над дьявольским отступничеством. Непорочный, героический и божественный Давид помогал понять, что назначение искусства – показать красоту как средство спасения души. Пусть Микеланджело не придал Давиду внешнее сходство с самим собой, все равно в прекрасной статуе воплотилась дарованная ему от Бога гениальность. Но некоторые художники заявляли о своем сходстве с героем в открытую. Так, Джорджоне изобразил в образе Давида самого себя – «большого Джорджио»[10], победителя языческого греха.
Если бы то же самое сделал Караваджо, то, согласитесь, это было бы неправдоподобно. Он выступил в противоположной роли, но тут все сложнее, чем кажется. Не правы ли те, кто усматривает в его «Давиде с головой Голиафа» двойной автопортрет? Его молодой, залитый светом Давид – это тот Караваджо, каким он был в начале своего творчества, когда поражал всех как создатель христианской красоты (рубашка небрежно завязана у него на талии в виде пращевидной повязки, напоминая об орудии его победы, и эта белая ткань так же изысканна и ощутима, как и все написанное художником). Но поток света выхватывает из темноты и лицо жестокого великана, того Караваджо, каким он стал, похотливым бисексуалом, убийцей, ходячей энциклопедией греха.
Один из первых биографов художника писал, что моделью для Давида послужил его «Караваджино», «маленький Караваджо, который возлежал с ним», и в каком-то буквальном смысле, может быть, так оно и было, но это ни в коей мере не исключает того, что в более глубоком смысле это желаемое второе «я» художника. Они тесно связаны, молодой красавец и чудовище, – прежде всего ярким светом, который держит их вместе так же крепко, как Давид держит голову Голиафа. Вместо того чтобы резко противопоставить героя-победителя и побежденное зло, художник объединяет их в трагическом самопознании. Картина затрагивает самые главные для Караваджо темы – секс, смерть, искупление грехов, на удивление равномерно распределяя грехи и достоинства. Меч Давида, как сразу заметили все комментаторы, нацелен на и даже упирается в его пах (то самое место, ударом в которое Караваджо прикончил Рануччо Томассони), в то время как свисающий конец рубашки недвусмысленно напоминает фаллос. Если молодой Давид был олицетворением праведной доблести, то старый царь Давид был известным развратником и расчетливым убийцей, пославшим на смерть мешавшего ему мужа Вирсавии, которую он возжелал и затащил в свою постель.
Все не так просто, как кажется. Нет ни абсолютно чистых героев, ни безнадежных злодеев. И, несмотря на неаппетитные слюни, обнажившиеся зубы, землистую кожу и полуопущенные веки, бросается в глаза, что, в отличие от изображения себя в облике обезглавленной Медузы, в этом последнем автопортрете Караваджо видит в зеркале не чудовище, а человека – хотя и способного на чудовищные поступки, но все же человека. Художник даже не демонстрирует нам зрелище кровавой раны на голове Голиафа, хотя вполне мог бы при желании сделать это очень красочно; перед нами просто человек, который в момент смерти нахмурился, словно пытаясь понять что-то важное. Караваджо в образе Медузы свидетельствовал о том, что искусство отражения может убить, хотя на лице ее написан ужас и отрицание этого. Голиаф перед смертью тоже как бы видит свое отражение, но в данном случае знание выживает даже после убийства, голова, которую держит Давид, выглядит пугающе живой и издает свой заключительный вопль.
И опять, как и каскад крови из головы Медузы или ручей крови святого Иоанна, струя, бьющая из рассеченной шеи Голиафа, – это вещество, превращающее зло в искупление, непростительный грех в прощенный, это крестильная жидкость возрождения.
Давид с головой Голиафа. Ок. 1605–1606. Холст, масло.
Галерея Боргезе, Рим
XII
Но для того, чтобы исповедоваться, стать свободным и возродиться, Караваджо нужно было добиться прощения в Риме. 10 июля 1610 года, получив весть о том, что соответствующие меры предпринимаются, он отплыл на фелюге из Неаполя на север.
И тут последовала страшная развязка, в которую трудно было бы поверить, если бы речь шла не о Караваджо. Судно зашло в небольшой порт Пало, чуть западнее Рима, и комендант местного гарнизона, то ли не знавший о предстоящем прощении художника, то ли принявший его за кого-то другого, бросил его в темницу. Караваджо удалось выйти на свободу, отдав все деньги, какие у него были, но фелюга уже ушла дальше к северу, увозя на борту сверток с картинами, предназначенными в подарок кардиналам и покровителям – в первую очередь Сципионе Боргезе. Как пишет один из биографов, художник даже видел судно, исчезающее в морской дали и увозящее работы, которые должны были стать его оправданием. В попытке вернуть их Караваджо последовал за фелюгой и оказался на тосканском побережье севернее Рима, в городке Порто-Эрколе на полуострове Монте-Арджентарио, где располагался испанский гарнизон. Как художник туда попал, неизвестно. Это было слишком далеко, чтобы дойти пешком, у него не было денег, чтобы нанять лошадь, а на осле он передвигался бы слишком медленно. К тому же его била лихорадка. Почти без чувств он свалился на берегу около Порто-Эрколе. Его отвезли в местную монастырскую больницу, и там, как пишет один из биографов, «не получив помощи ни от Бога, ни от какого-либо человека, он умер так же злополучно, как и жил».
Спустя некоторое время Сципионе Боргезе распаковал картины, написанные Караваджо в Неаполе. Среди них был и «Давид с головой Голиафа». Кардиналу доводилось видеть много Давидов и еще больше отрубленных голов, которые были тогда в большой моде у художников. Но он никогда не видел отрубленной головы, которая была бы автопортретом художника, выхваченным из тьмы светом трагического самопознания. Когда-то давно Сципионе часто приходилось выслушивать исповеди. Теперь перед ним была еще одна, умолявшая о прощении.
За четыре года до этого Караваджо вынесли смертный приговор, и тому, кто доставит голову беглого убийцы, была обещана награда. И вот теперь Караваджо сам доставил собственную голову – под видом отрубленной головы библейского Голиафа. Казалось, голова говорила: «В предъявленном обвинении виновен. Могу я получить прощение и возродиться?»
Мне хочется думать, что сочувствующий ему кардинал произнес: «Mi dispiace — я сожалею… я ужасно сожалею, но ты опоздал».
Бернини Чудотворец
I
Скульптура Бернини «Экстаз святой Терезы» не может оставить равнодушным никого.
Несколько лет назад в изматывающую летнюю жару три «босоногие» монахини зашли в темную римскую церковь Санта-Мария делла Виттория и приблизились к капелле Корнаро слева от прохода. Я сидел на одной из скамей напротив, чувствуя себя, как обычно, выведенным из равновесия вспыхивающим передо мной и снова погружающимся во тьму зрелищем священного экстаза. То и дело посетители бросали монетку в ящик для сбора денег, загорался свет, и возникало удивительнейшее произведение искусства: голова святой откинута назад, приоткрытый рот издает стон, верхняя губа вздернута, глаза полузакрыты тяжелыми веками, плечи подались вперед одновременно в попытке освободиться и в страстном желании. Стоящий рядом с Терезой серафим осторожно приоткрывает ее грудь, чтобы вонзить в нее свою стрелу.
Монахини простояли возле скульптуры минут десять в полной неподвижности, затем две из них преклонили колена, перекрестились – да и было от чего, а затем вышли из церкви. Третья монахиня, маленькая полная женщина в очках, села на другую скамью и склонила голову в молитве. Я время от времени, не удержавшись, бросал на нее любопытные взгляды, но старался гнать от себя мысль, о чем она думает и какие чувства испытывает, глядя на это произведение Бернини. Ведь скульптура эта, откровенно говоря, представляет собой нечто среднее между сакральным таинством и непристойностью. Ученые мужи из кожи вон лезли, утверждая, что это никак не может быть капитуляцией перед чувственностью, ибо Бернини, как хорошо известно, был чрезвычайно благочестив, а сама святая в автобиографии настаивала, что испытывала «не физическую боль, а духовную». Типично высказывание некоего авторитетного лица, согласно которому трактовка этого произведения как эротического «донельзя сужает его смысл». Не менее типично для подобных высказываний то, что автор не удосуживается объяснить свою точку зрения. Нам только грозят пальцем и заявляют, что для правильного понимания замысла Бернини надо выкинуть эти современные пошлости из головы. По мнению этих знатоков, абсолютно антиисторично полагать, что главный папский архитектор, лучший римский скульптор, который строго следовал религиозной практике иезуитов, стал бы представлять мистическое воспарение святой как оргастические конвульсии. Между тем современным анахронизмом является не представление о единстве тела и души, которое так занимало умы многих поэтов и писателей XVII века, а лицемерное разделение чувственного и духовного опыта. Во времена Бернини экстаз понимали и испытывали как единое чувственное целое. Достаточно почитать стихи Ричарда Крэшо, Джона Донна (настоятеля собора Святого Павла) или Джамбаттисты Марино (современника Бернини, известного своим горячим нравом), чтобы убедиться, что в начале XVII века стремление души к слиянию с божественным всегда понималось как процесс, сопряженный с сильными телесными ощущениями. Отрицая физический характер ее общения с ангелом, Тереза сразу же добавляет, что «тело тоже участвовало в этом, и в немалой степени».
Все эти разногласия неизбежны, потому что были запланированы скульптором. Через сто лет после создания этой самой удивительной и впечатляющей из всех его работ французский аристократ и знаток искусства шевалье де Бросс, совершая свой гранд-тур, заехал в Рим. Бросив взгляд на судороги святой, он обронил вошедшее в историю замечание, понимавшееся как циничное: «Ну, если это божественная любовь, то она мне хорошо знакома». Однако возможно, что, высказав намеренно или сгоряча эту точку зрения, шевалье на самом деле понял, что для изображения сильного душевного движения необходимо такое телесное знание, каким обладал Бернини.
Экстаз святой Терезы (фрагмент). 1645–1652. Мрамор.
Капелла Корнаро, Санта-Мария делла Виттория, Рим
II
До Бернини скульптура стремилась прежде всего обеспечить бессмертие образа. Ваятели Нового времени, ориентировавшиеся на античное наследие, учились превращать смертных людей в нечто более чистое, холодное и долговечное – в богов и героев. Красота в представлении древних и следовавших им художников XVI–XVII веков понималась как форма, благодаря которой божественный идеал, скрытый от простых смертных, становится видимым. Задача искусства – найти такую форму красоты; скульптура, в частности, должна придать красоте ощутимую весомость, неувядаемую монументальность. В вечном споре с художниками скульпторы утверждали, что их произведения, обладающие третьим измерением и доступные осязанию, точнее воспроизводят красоту живых тел, художники же опровергали это на том основании, что материал скульптуры – холодный, бесцветный камень. Скульпторы возражали им, что искусство всегда вносит поправки в жизнь и что твердость белого мрамора придает естественному изяществу человеческих форм более совершенный вид, облагораживает их. Раскрашенное изображение на холсте – безвкусица, глина вульгарна, и только камень обладает чистотой. Чем более упорно скульптор работает с неподатливым материалом, тем благороднее будет его результат. Успех в скульптуре достигается исправлением несовершенной природы, а не подражанием ей.
Микеланджело, как известно, ставил перед собой задачу выманить из мраморной глыбы идеальную форму, которая, как он полагал, таилась в ней. Героическая мощь его «Давида» (1504) обусловлена именно нечеловеческой неподвижной монументальностью фигуры. Только в израненном и хрупком теле Христа в его «Пьете» (1498–1499) Микеланджело в виде исключения прибегает к бьющему на жалость натурализму, но Спаситель лежит на коленях Мадонны, чья идеальная нетленная красота скорее препятствует, а не способствует проявлению материнских чувств. Однако Микеланджело не столько стремился правдоподобно изобразить человеческое тело или, тем более, лицо обыкновенного человека, сколько хотел приблизить его к Богу. Поэтому он не утруждал себя работой с натуры, даже если это была какая-нибудь выдающаяся личность, вроде папы Юлия II. Когда Микеланджело упрекали в том, что в его бюстах герцогов Медичи нет сходства с моделями, он отмахивался и говорил, что через тысячу лет никто не будет знать (имея в виду, что и интересоваться не будет), как выглядели эти люди в жизни.
Но для Джанлоренцо Бернини сходство с моделью имело очень большое значение; при этом он был убежден, что истинное сходство передается не только во внешних чертах, но, главным образом, в характере человека, выраженном в его позе и лице. Бернини был к тому же живописцем, и, возможно, талантливым (когда он умер в возрасте восьмидесяти с лишним лет, ему приписывали авторство не менее двухсот картин), так что его творчество вновь пробудило к жизни давний спор между двумя видами искусства. Он полагал, что скульптура может не хуже живописи создать эффект присутствия живого теплокровного человека. Можно заставить камень пульсировать и отобразить человеческую драму с помощью гладкого холодного мрамора.
Бернини лишил статуи статичности. Его фигуры преодолевают земное притяжение, стремясь убежать с пьедестала, они крутятся и изгибаются, кричат, задыхаясь, корчатся в спазмах острых ощущений. Бернини прибегал к очень рискованному высверливанию, и мрамор под его руками начинал вести себя совершенно по-новому. Скульптор заставлял его летать и трепетать, дрожать и струиться. Фигуры, освобожденные из плена глыб, лихорадочно рвутся действовать. В них, как правило, бродит свободолюбивая закваска, и они стремятся взлететь в воздух, к свету. Если добавить к этому потоки воды, которые извергаются из фонтанов Бернини, то можно считать художника вторым Создателем, повелителем стихий. На мосту Сант-Анжело в Риме ангелы Бернини танцуют в солнечном свете. В соборе Святого Петра бронзовые колонны Бернини, поддерживающие балдахин над гробницей апостола, также не статичны, они живут и извиваются, по ним среди листвы ползают пчелы. В глубине собора находится cathedra Petri, трон святого Петра, главная трибуна Римско-католической церкви. Апостолы держат его на кончиках пальцев, словно какой-нибудь пляжный матрас, надутый небесным гелием.
Это магическое искусство. И именно поэтому после смерти Бернини его творчество подвергалось нападкам со стороны таких художников, как, например, Джошуа Рейнолдс, видевший в нем дешевого фокусника, специалиста по сценическим трюкам, нарушившего, в отличие от Микеланджело, чистоту своего рабочего материала в стремлении поразить публику. Два основных недостатка барочного искусства Бернини заключались, по мнению классицистов, в том, что его произведения были перегружены эмоциями (преступление против классической сдержанности) и что он слишком тщательно имитировал поверхность и текстуру других материалов – стали, кожи, меха – и тем самым исказил природную цельность камня. Критики утверждали, что, уподобляя мрамор другим веществам, он отдалялся от высшего идеала и приближался к бренной земле.
Бернини, несомненно, обладал даром преобразования в большей степени, чем все другие скульпторы как до него, так и после. Его работы преодолевали упрямую жесткость камня, он без колебаний стремился сделать его податливым и гибким. Как пишет его современник Филиппо Бальдинуччи, Бернини хвастал, что в его руках мрамор становится мягким, как тесто, и пластичным, как воск. И действительно, создается впечатление, что мрамор у Бернини превращается то в блестящий металл, то в волокнистую веревку и даже в человеческие волосы, причем самые разные, от жестких и грубых до тонких и шелковистых. Мышцы его фигур напряжены, поверх них пульсируют вены; кажется, что в зрачках самым невероятным образом удерживается попадающий в них свет; пасть свирепо лающей собаки оскалена, клыки обнажены; ветер шевелит листья пальмы. Точно рассчитывая, как будет падать свет на полированную поверхность мрамора и какая тень образуется при обработке тонким сверлом, Бернини мог добиться впечатления, что персонаж вспотел. Он был непревзойденным мастером драмы, и его скульптура обязана не только его таланту живописца, заставившему нас почти что видеть цвет на его каменных фигурах, но и его таланту драматурга, постановщика и актера, превратившего скульптуру в искусство драматического представления. Современники изумлялись его виртуозному мастерству и верили, что его сверхъестественные способности Великого Преобразователя доказывают, что сам Бог поцеловал его.
Вакханалия: дети дразнят фавна. 1616–1617. Мрамор.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
III
Ложная скромность, без сомнения, не принадлежала к недостаткам Джанлоренцо Бернини. Но поскольку не было момента, когда его не превозносили бы как чудо во плоти, то удивительно, что его голова не вскружилась от похвал еще больше. Его отец, флорентиец Пьетро, тоже был скульптором, выбравшим самый подходящий момент, чтобы переехать из Неаполя в Рим. Он достаточно умело подражал классическим образцам, не более того, однако в Риме в то время, с одной стороны, ощущалась нехватка талантов, а с другой – существовал непочатый край работы, ибо католическая церковь решительно инициировала бум строительного обновления, так что Пьетро имел возможность отличиться среди посредственностей. (Правда, не всегда: одно из изготовленных им надгробий было признано настолько неудачным, что ему пришлось ваять его заново.) Находясь в неустойчивом положении между признанием и отвержением, Пьетро вскоре осознал, что его самый ценный капитал – это развившийся с малых лет талант его сына, родившегося в 1598 году.
Пьетро привлек Джанлоренцо к работе над посредственно выполненной скульптурой в церкви Санта-Мария Маджоре и дал ему задание оживить скульптурную группу, изобразив резвящихся херувимов, полных неуемной энергии. Та же подростковая склонность к здоровому грубоватому озорству повторяется позже и у пары юных шалунов, мучащих заметно отягощенного фаллосом фавна. Веселье в сочетании с болью стало одним из отличительных знаков продукции Бернини.
Восьмилетний Джанлоренцо, которого отец повсюду таскал за собой и всем представлял, был признан необыкновенным ребенком. Когда отец привел его к папе Павлу V из рода Боргезе, мальчик с поразительной находчивостью молниеносно нарисовал несколькими уверенными штрихами портрет святого Павла, чем зародил в изумленном папе надежду, что перед ним второй Микеланджело. Джанлоренцо вручили двенадцать серебряных монет, которые он едва мог удержать в руках; папа назначил кардинала Маффео Барберини наставником юного дарования, с тем чтобы он следил за образованием мальчика и формированием его таланта. Кардинал был так поражен, что заметил его отцу: «Смотрите, синьор Бернини, как бы ученик не превзошел учителя!» – на что Пьетро ответил: «В этом случае, Ваше Святейшество, мне нечего бояться: проиграв, я только выиграю». Прочная связь между отцом и сыном, при всей ее неоднозначности и колебаниях между гордостью и чувством долга, говорит о том, что ма́стерская скульптура Джанлоренцо, изображавшая Энея, который выносит своего отца Анхиза из горящей Трои, была для молодого человека не просто эпизодом Троянской войны. В статуе очень реалистично передана мускулатура: крепкая, атлетическая у сына и расслабленная, по-детски припухлая у отца.
Эней, Анхиз и Асканий. 1618–1619. Мрамор.
Галерея Боргезе, Рим
Последовали годы ученичества и штудий классических образцов – период, через который должны пройти все скульпторы. Даже чудо-мальчик обязан усвоить правила. Однако впоследствии Бернини, как известно, говорил, что тот, кто никогда не осмеливается нарушить правила, никогда ничего не создаст, кроме повторения правил. По всей вероятности, наряду с античными бюстами и торсами он внимательно разглядывал также и самого себя. Для всех трех великих мастеров драматического реализма XVII века – Караваджо, Рембрандта и Бернини – зеркало было почти таким же важным орудием труда, как кисть, гравировальная игла или резец. Они стремились освободить живое чувство от искусственных ограничений, свойственных классическим образцам, изобразить с максимальным правдоподобием естественную мимику и движения тела. Являясь сами моделями в этом процессе реанимации, они имели возможность по-настоящему вжиться в изображаемый сюжет. Самодраматизация делала художников, с одной стороны, актерами и постановщиками спектакля – и, с другой стороны, зрителями.
Бернини было всего пятнадцать лет, когда он поставил свою первую прочувствованную «скульптурную драму» – «Мученичество святого Лаврентия» (с. 98). Святой Лаврентий, библиотекарь и архивист времен раннего христианства, был заживо поджарен на раскаленной докрасна сковороде. Мальчик был тезкой святого, и уже это придавало его работе личностный оттенок, но Бернини этого было мало, и для полноты ощущения он прислонился ногой к горячей жаровне. Совершая этот познавательно-мазохистский акт, он, очевидно, либо сам держал перед собой зеркало, либо попросил кого-то другого подержать его, пока он зарисовывал выражение боли на своем лице. Но лицо святого Лаврентия выражает своеобразную смесь агонии и экстаза, потому что Бернини хотел передать поворотный (в буквальном смысле) момент этого эпизода. Согласно популярной агиографии, когда страдания Лаврентия достигли высшей точки, он обратился к своим мучителям с просьбой повернуть его на другой бок, потому что с одной стороны он уже поджарился. Неудивительно, что повара избрали его своим святым-покровителем.
История эта ценна не своим черным юмором, а тем, что она повествует о глубоком внутреннем преображении, ибо, согласно легенде, по мере того как святой Лаврентий поджаривался, произошло чудо, и запах горелой плоти стал сменяться нежнейшим ароматом. Почуяв его, ошеломленные язычники обратились в истинную веру, и их души были спасены. Бернини хотел запечатлеть именно момент преображения, одновременно духовного и физического, когда тело Лаврентия корчится в мистическом единении боли и наслаждения; скульптор вернулся к этому моменту почти тридцать лет спустя в «Экстазе святой Терезы». Огонь, который, несомненно, был сродни темпераменту Бернини, играет решающую роль в этих двух работах. Он был стихией, которую, по утверждению живописцев, невозможно воспроизвести в камне, и именно поэтому юный Бернини постарался изобразить пламя как можно реалистичнее, так что зрителям кажется, будто угли накалены докрасна.
Любовь вундеркинда к игре с огнем доходила чуть ли не до извращения. Он повторил эксперимент с самообжиганием, на этот раз предплечья, чтобы передать выражение ужаса на лице «Про́клятой души» (его собственном лице, между прочим): человек высунул язык, не в силах сдержать крика при виде пылающего ада, к которому он приговорен (с. 99). Зрелище действительно устрашающее; волосы, вставшие у персонажа дыбом, похожи на языки пламени. В пару к этой физиогномической фантасмагории проклятия Бернини создает в 1619 году ее антиклимакс – портрет женщины с очами, возведенными горе, «Блаженную душу».
IV
Естественно, кардиналы не могли не обратить внимания на чудо-ребенка, и между ними развернулась конкуренция за право использовать его дар. Наставником Бернини был назначен богатый и просвещенный Маффео Барберини, чей дворец по своему убранству не уступал папским и королевским, однако с упрочнением репутации юного дарования Барберини вытеснил (на какое-то время) Сципионе Боргезе, имевший то преимущество, что он был племянником и ближайшим советником папы. Князья церкви были незаурядными личностями, по своему социальному положению и культурному уровню они принадлежали к аристократам. Многие из них были сказочно богаты, не ограничивали себя в расходах, употребляли свою власть твердой рукой, зачастую имели связи с французским или испанским двором и соперничали друг с другом за влияние в Риме. Рим в эпоху барокко все более уверенно претендовал на мировое первенство. Строились новые церкви и перестраивались старые, власть и авторитет пап и кардиналов росли. Они отстаивали свое право говорить от имени Иисуса Христа, и помочь им в этом должна была команда блестящих художников.
О молитвах они тоже не забывали. Многие церковные иерархи были не только дипломатами, политиками и меценатами, но и преданными слугами Господа, сознававшими свою ответственность в духовной сфере. Они искренне следовали новому направлению в теологии, ориентированному на изначальную простоту Христа, пастырскую заботу о бедных и распространение христианства среди простых людей. С этим был неразрывно связан основополагающий смысл земного воплощения Христа – Слово, претворенное в плоть, – и поиск визуальных средств донесения этой плотской истины до верующих. Именно по этой причине князья церкви и прелаты были готовы снова и снова смотреть сквозь пальцы на бесчинства Караваджо, ибо не было другого художника (кроме, разве что, Аннибале Карраччи), который мог бы так же ярко передать телесный аспект христианского учения. Потому и Сципионе Боргезе хотел помочь Караваджо добиться прощения и получил в награду несколько великих последних работ художника.
В пику кардиналу Барберини Сципионе решил построить роскошную виллу на холме Пинчо над Пьяцца дель Пополо. Она мыслилась ему близкой по стилю к вилле Адриана и должна была, подобно ей, хранить коллекцию античных редкостей в залах из разноцветного мрамора, но произведения старинных мастеров кардинал хотел дополнить современными. Поскольку один из постоянных споров, модных в просвещенных кругах, касался вопроса о том, какое искусство выше – античное или современное, вилла Боргезе, имевшая образцы и того и другого, могла бы служить ареной дебатов, а Сципионе выступал бы арбитром в споре.
По этой причине Сципионе Боргезе хотел поставить себе на службу талант двадцатилетнего гения, чей фонтан Нептуна, созданный для кардинала Монтальто, он наверняка видел. Повелитель морей с такой яростью бороздит волны своим трезубцем, словно хочет подцепить на него парочку акул на обед. Бернини отплатил кардиналу Боргезе за доверие целым рядом таких захватывающих дух шедевров, как «Похищение Прозерпины» (с. 105), «Аполлон и Дафна» (с. 106–108) и «Давид» (с. 103), моделью для которого послужили его собственное лицо и тело. Эти произведения, как и бюст самого Сципионе (с. 101), совершили революцию в скульптуре.
Мученичество святого Лаврентия. 1613. Мрамор.
Галерея Уффици, Флоренция
Про́клятая душа (фрагмент). 1619. Мрамор.
Палаццо ди Спанья, Рим
Хотя Бернини боготворил Микеланджело (а кто его не боготворил?), бюст кардинала выражает нечто противоположное героическому идеализму ренессансного гения. Микеланджело хотел изваять богочеловека, а Бернини – человекочеловека. Поэтому у Сципионе вполне земная внешность: мясистое лицо, бычья голова на полном теле, так плотно упакованном в ризу, что одна из пуговиц не хочет застегиваться (характерная деталь скульптур Бернини). Используя разнообразные инструменты – маленькие сверла, напильники, крупные и мелкие резцы, – скульптор варьировал текстуру мрамора в разных частях головы и лица. Вьющаяся челка, выбивающаяся из-под биретты кардинала, кончики усов и густые пряди его эспаньолки (тщательно расчесанные, но переплетенные, словно Сципионе нравилось все скрученное) демонстрируют тщательный уход за собой. Полные выпяченные губы, мясистые мочки ушей, хомячьи щеки, отвисшая нижняя челюсть и двойной подбородок намекают на то, что перед нами добродушный весельчак, любитель вкусной пищи и талантливых художников. Бернини даже отполировал щеки и нос кардинала, чтобы создать впечатление, что он покрылся испариной, – это было вполне естественно для столь крупного человека жарким летом в городе.
В бюсте кардинала Сципионе Боргезе (1632) есть еще одно революционное новшество: это портрет не столько знатного лица, властного и полного достоинства, сколько обыкновенного человека. Как пишет Бальдинуччи, натурщики Бернини не сидели неподвижно на одном месте. Скульптор считал, что это сковывает их, и, подобно лучшим современным фотографам-портретистам, просил натурщиков двигаться и говорить. Чем естественнее ведет себя модель и чем больше разговаривает, тем полнее раскрывается ее характер. Чтобы изобразить кардинала в его естественном виде, Бернини надо было создать непринужденную обстановку, в которой Сципионе разговорился бы. Джанлоренцо, как находили все, знающие его, был красив, остроумен, хорошо образован, чрезвычайно серьезно настроен по отношению к своей профессии и потому неотразим. Между скульптором и моделью установились вполне дружеские отношения, и Бернини позволил себе в виде шутки сделать бюст кардинала чуть карикатурным. По-видимому, Сципионе это понимал. В глазах его мелькает усмешка.
Скульптор поразительно точно воспроизводит эту усмешку своим резцом. Он делает глубокий надрез по контуру радужной оболочки, и благодаря образовавшимся теням кажется, что в крошечных зрачках задерживается солнечный свет. Подобного эффекта удавалось достичь лишь самым выдающимся художникам. Изображая, как падает свет на глаза модели, Рембрандт передавал характер и настроение персонажа – тревожное или задумчивое, вызывающее или спокойное. Но добиться такой же выразительности в мраморе до Бернини не удавалось никому.
Этот эффект буквально висит на ниточке, точнее, на тонкой полоске мрамора, окружающей радужную оболочку глаза. Но Бернини любил риск, и иногда ему приходилось поплатиться за это. По иронии судьбы работа, содержащая столько мастерски выполненных тонкостей, пострадала от единственного неудачного удара резца, когда на лбу кардинала образовалась жуткая поперечная трещина, охватывающая кольцом всю голову. Для скульптора-виртуоза это было кошмаром, который невозможно было предусмотреть. За много тысячелетий до этого слои древнего известняка превращались под действием колоссального давления и температурных перепадов в мрамор, но в отдельных местах его структура могла быть непрочной. Бернини, на свою беду, наткнулся на один из таких внутренних дефектов. Он попытался замаскировать трещину, но это привело лишь к тому, что голова кардинала стала похожа на сваренное вкрутую яйцо, с которого начали снимать скорлупу, а трещина никуда не исчезла. Не оставалось ничего другого, как сделать дубликат. Если над первым экземпляром Бернини трудился несколько месяцев, то второй изваял за пятнадцать суток, работая почти беспрерывно.
Молодому скульптору выпал шанс еще раз подвергнуть испытанию благосклонность патрона, сыграв с ним небольшую шутку. Когда наступил момент продемонстрировать законченную работу, Бернини сначала сдернул покрывало с испорченного бюста и, насладившись выражением ужаса на лице Сципионе, открыл копию. Ныне оба бюста хранятся в палаццо Боргезе. Затрудняюсь сказать почему, но экземпляр с трещиной кажется более удачным.
Бюст кардинала Сципионе Боргезе (версия с трещиной). 1632. Мрамор.
Галерея Боргезе, Рим
V
Бернини мог позволить себе подобные шутки, так как уже завоевал репутацию лучшего скульптора Европы. Сципионе получил то, что хотел: целый ряд потрясающих современных шедевров, которые не только тематически перекликались с некоторыми классическими произведениями его старой коллекции, но и превосходили их. Так, «Давиду» Бернини передалась энергия от имевшегося у Сципионе «Гладиатора», но Давид с такой живостью раскручивал свою пращу, что античному воину трудно было тягаться с ним. Естественно, Бернини соревновался и с более недавними образцами – как с героем Микеланджело, так и с созданным Донателло гибким юношей с головой Голиафа у ног. Ему, сыну флорентийского скульптора, они были, несомненно, знакомы.
«Давид» Бернини отличается от них тем, что он изображен в действии, в тот момент, когда он готовится метнуть камень из пращи (которая сама по себе неповторимый пример иллюзионистского ваяния). Давид Микеланджело, судя по всему, собирается с силами для нанесения удара, Давид Бернини уже замахнулся. Вены на его руках вздулись, он принял позу метателя диска, левая рука приподнята, чтобы послать камень с максимальной силой. И при этом он предельно сосредоточен, мускулы и мозг действуют согласованно. В то время как лицо микеланджеловского Давида прекрасно в своей невозмутимости, у героя Бернини оно полно жизни: брови нахмурены, челюсти и губы сжаты. Реалистичности облика способствовало, конечно, и то, что это черты самого скульптора, смотревшего на себя в зеркало, которое, по словам Бальдинуччи, держал для него сам кардинал Маффео Барберини.
Бернини погрузился в работу над «Давидом» не только с головой, но и со всем телом. Он гордился своей физической формой и наверняка использовал пращу или какое-то орудие вроде нее, чтобы правильно изобразить работу мышц. Бернини сделал много подготовительных рисунков и терракотовых моделей и в результате победил гигантов Донателло и Микеланджело; его развернувшийся для запуска камня Давид говорит о том, что скульптор не просто хотел продемонстрировать свой талант и мастерство, создав то, чего от него ждали, а стремился передать яростное и свободное движение, инстинктивное и естественное.
Давид (фрагмент). 1623–1624. Мрамор.
Галерея Боргезе, Рим
У «Давида» Бернини есть еще одна новаторская особенность. Скульптура буквально излучает энергию, образуя силовое поле, захватывающее не только Голиафа, но и нас. Подобно Караваджо, Бернини никогда не забывал о зрителе, который является не посторонним наблюдателем, а участником изображаемого события и, обходя мраморную фигуру, воспринимает ее с разных сторон (правда, «Давид» первоначально вроде бы стоял в зале около стены). В наше время уже само собой разумеется, что скульптуру можно рассматривать с разных сторон, и она будет выглядеть по-разному, словно пребывая в движении, но в 1620-е годы это было совершенно непривычно. Бернини изобрел способ показывать живые картины из мрамора.
Похищение Прозерпины. 1621–1622. Мрамор.
Галерея Боргезе, Рим
Это захватывающее ощущение происходящего у нас на глазах движения свидетельствует о том, что Бернини, как автору и постановщику пьес, был знаком язык жестов и он, как никто иной, умел создавать драму из камня. Если энергичный порыв Давида лишь подразумевает присутствие второй фигуры, Голиафа, то в двух других шедеврах на мифологические темы, принесших Бернини славу, «Похищении Прозерпины» и «Аполлоне и Дафне», перед нами прямое столкновение двух фигур. Подготовительный рисунок к работе «Похищение Прозерпины» наглядно демонстрирует, что скульптору была знакома сексуальная борьба. Плутон, удерживая Прозерпину на бедре, пытается ухватить ее покрепче, она отчаянно вырывается от него. Бернини не изображает бесцеремонно сплетение двух тел, тем не менее и традиционный сюжет похищения становится у него актом яростной борьбы за обладание женщиной. Вряд ли кто-нибудь, кроме Бернини, додумался бы передать неистовство неравной схватки с помощью глубоких следов от пальцев Плутона, вонзающихся в бедро Прозерпины. Только драматургу Бернини могло прийти в голову использовать для этого также и звук – Прозерпина кричит и плачет, о чем говорят ее открытый рот и слезы на глазах, а Цербер, охраняющий вход в подземное царство Плутона, лает во все три свои пасти, словно стремясь заглушить крики женщины.
Еще одна маленькая деталь, на которую часто не обращают внимания, характеризует эту драму страстей. На первый взгляд, у Плутона такое выражение, будто напрасные попытки его добычи освободиться из его медвежьих объятий смешат его, но самодовольное торжество мужской силы нарушено в искаженной левой верхней части лица, на границе скулы с глазницей, где Прозерпина пытается выцарапать глаз своему похитителю. Женщина не сдается и делает все, что в ее силах.
Дальнейшее уравнение полов наблюдается, по воле богов и в соответствии с тем, что пишет Овидий в своих «Метаморфозах», в скульптуре «Аполлон и Дафна». Пусть даже Аполлон вылеплен по образцу совершенной классической красоты своего Бельведерского тезки из Ватикана, Дафна все-таки ускользает от него. Застывшее действие этой скульптурной группы даже больше наполнено энергией, чем «Давид». Аполлону не удается воскликнуть «Попалась!», так как с Дафной происходит молниеносная метаморфоза – она превращается в дерево, устремленное в небо. Как всегда, Бернини предусматривает максимальное участие зрителя в разворачивающейся драме. Первоначально скульптура была установлена таким образом, что зрителю, входящему в зал, представала лишь спина Аполлона, словно он шел по стопам бога; развевающаяся накидка Аполлона свидетельствовала о его стремительном движении. Обогнув бога, словно застывшего в реальном времени, зритель сталкивался с полной остановкой движения: деревенеющей Дафной с раскрытым в крике ртом.
Аполлон и Дафна. 1622–1625. Мрамор.
Галерея Боргезе, Рим
Мы являемся свидетелями двух чудес: во-первых, превращения пальцев рук нимфы в ветви с листьями, а безупречных пальцев ног – в корни, врастающие в землю, и, во-вторых, удивительной способности скульптора (и его талантливого помощника Джулиано Финелли) предельно оживить остановленную наносекунду. Предметом изображения опять же является телесная близость, особенно возбуждающая потому, что тела, с одной стороны, вроде бы соприкасаются, а с другой – вроде бы и нет. В нескольких местах их контакт изображен так замысловато, что неясно, где кончается Аполлон и начинается Дафна. Ее ветки с лавровыми листьями (традиционная награда победителю) тянутся до слегка прикрытого паха Аполлона, подчеркивая его желание и одновременно его разочарование. Аполлон хочет схватить Дафну за бедро, но рука его натыкается на грубую древесную кору (великолепно изображенную скульптором), которой покрывается нимфа. Глубокая тень во впадине между стволом дерева и ее кожей делает ее недостижимые прелести еще более соблазнительными, а все произведение из-за этой недостижимости становится самым возбуждающим в истории скульптуры. Тут даже всемогущество бога оказывается бессильным.
Аполлон и Дафна (фрагменты)
Излучаемое композицией чувственное электрическое поле оказало несомненное воздействие на современников Бернини. Некий французский кардинал заявил, что, насколько совершенной ни была бы скульптура, он ни за что не поставил бы ее у себя дома, так как столь прекрасные обнаженные тела никому не дадут покоя. Говорят, что Бернини был польщен, услышав этот отзыв. Кардинал Барберини, все более настойчиво соперничавший с Сципионе в стремлении подружиться со скульптором и взять его под свою опеку, написал куплет, который должны были высечь на камне у подножия скульптурной группы и в котором он морализировал по поводу изображенного сюжета, дабы зрители не поняли его неправильно:
Любовнику, устремившемуся вслед за ускользающей красотой, Достанутся лишь горькие плоды и бесплодные листья.Двусмысленная репутация скульптуры, естественно, способствовала тому, что толпы людей устремились на виллу Боргезе взглянуть на вызывающую красоту. «Когда вещь была закончена, – пишет Бальдинуччи, – она вызвала такой восторг, что весь Рим ринулся смотреть ее, словно это было некое чудо… На улицах города молодой скульптор… ловил на себе взгляды прохожих; узнавшие его указывали на него другим».
Когда Маффео Барберини стал в 1623 году папой Урбаном VIII, он начал действовать более решительно и, в отличие от Аполлона, получил искомое. Вызвав Бернини в свои апартаменты, он произнес ставшее знаменитым приветствие: «Вам выпала большая удача, рыцарь (предшественник Урбана папа Григорий XV посвятил Бернини в рыцари ордена Христа), быть принятым папой Маффео Барберини, но еще большая удача выпала нам, так как рыцарь Бернини живет при нашем понтификате». Урбан VIII имел в виду, что теперь скульптор будет работать не на частных лиц – пусть даже столь выдающихся, как Сципионе Боргезе, – он возглавит обновление облика Рима, строительство и реконструкцию светских зданий, церквей и фонтанов, которые будут носить непременное клеймо Барберини. Это предложение не могло не вскружить голову даже всеми признанному гению, не страдавшему от недостатка самоуверенности. Урбан VIII, обладавший большой эрудицией и сильной волей, и сам был харизматической личностью; он заявил, что в его личных отношениях со скульптором ничего не изменится: Бернини будет советником папы, его доверенным лицом и помощником. В 1629 году в возрасте тридцати одного года Бернини был назначен главным архитектором собора Святого Петра.
VI
Бальдинуччи в своей книге дает живой портрет Бернини в этот момент его творческого взлета; дополнением к этому описанию могут послужить романтизированные автопортреты скульптора, на которых он предстает привлекательным внешне человеком с непростым характером (он ведь был также известным актером и художником). У Джанлоренцо были густые черные волосы и смуглая кожа, доставшиеся ему от матери-неаполитанки Анжелики, но он плохо переносил яркое солнце и всячески избегал его. На его автопортретах видно – несмотря даже на то, что он проводил немало времени, разглядывая себя в зеркале, – что и самому ему неуютно под своим пристальным взглядом, «вдохновенным и живым»; глаза его «пронзительно смотрели из-под густых бровей». Взгляд Бернини, пишет Бальдинуччи, приводил его помощников в трепет. Но в то же время, как известно, Бернини бывал остроумен и добродушен – он мог подшутить над Сципионе, а в качестве театрального постановщика любил пугать публику. Так, при постановке своей пьесы «Наводнение на Тибре» он применил трюк, когда казалось, что вода вот-вот хлынет каскадом со сцены в зрительный зал, но она благополучно стекала в спрятанный под сценой резервуар. Однако он хотел, чтобы о нем думали – вполне справедливо – как о человеке, целиком посвятившем себя своему благородному делу. Когда папа Урбан посоветовал ему жениться, чтобы передать хотя бы часть своего таланта следующему поколению, Бернини ответил, что его дети – это его скульптуры. Взявшись за дело, он отдавался творчеству целиком, подолгу обходясь без пищи, питья и отдыха. Его помощники в собственных интересах пытались оторвать его от работы, но обычно нарывались на очередной неуправляемый взрыв, какими славился характер Бернини. Он любил повторять, что его сжигает огонь, изваянный им в ранней работе, и «этот огонь заставляет его работать усерднее тех, в ком он не порождает таких страстей».
Автопортрет. Ок. 1623. Холст, масло.
Галерея Боргезе, Рим
Проблема заключалась в том, что при той ответственности, какая легла на плечи новоявленного архитектора собора Святого Петра, он не мог творить в одиночку. Даже при создании шедевров для виллы Боргезе он приглашал на помощь других скульпторов (например, Финелли, мастера мелких деталей), которые работали над второстепенными элементами его скульптур. А теперь ему приходилось иметь дело со множеством объектов одновременно: надгробиями, статуями и самым главным из них – высоким бронзовым балдахином над алтарем и гробницей святого Петра, так что часть работы выполняла целая мастерская помощников. Иногда он справлялся с ролью руководителя безупречно, но не всегда. Финелли так разозлился на то, что Бернини существенно недоплатил ему за тонкую работу над «Аполлоном и Дафной», что пулей вылетел из мастерской скульптора и не возвращался туда двадцать лет. А Бернини и много лет спустя беззастенчиво приписывал себе заслуги Финелли.
В соборе Святого Петра помощь требовалась ему прежде всего в создании балдахина. Как и в случае с «Давидом», а также многими другими скульптурами, над которыми ему приходилось работать, Бернини подстегивал и творческий импульс, и мысль о Микеланджело (возможно, иногда он даже жалел, что папа Павел V пробудил когда-то его тщеславие, назвав его современным воплощением этого гения). Наибольшая трудность в данном случае возникала в связи с громадными размерами купола, начатого Браманте и завершенного Микеланджело. Балдахин, с одной стороны, не должен был выглядеть смехотворно маленьким под высокими сводами собора, а с другой стороны, должен был иметь легкую конструкцию и не заслонять от верующих хор, располагавшийся за алтарем.
В разработке концепции балдахина воображение Бернини в помощниках не нуждалось. Его предшественником в создании архитектурного облика собора был Карло Мадерна, который соорудил довольно скромный, но красивый балдахин, поддерживавшийся четырьмя ангелами. Бернини, чьи творения неизменно устремлялись ввысь, преодолевая земное притяжение, спроектировал четыре высокие витые бронзовые колонны на цоколях из разноцветного мрамора. Они носили название Соломоновых, так как, согласно апокрифической легенде, первый христианский император Константин вывез подобные колонны из Иерусалимского храма для установки в первом соборе Святого Петра. Колонны спиралеобразно извивались, что придавало им динамику и делало похожими на поднимающуюся к небу виноградную лозу. Впечатление усиливалось благодаря разнообразной живности на их поверхности – геральдическим пчелам семейства Барберини, ползающим среди листьев лавра (на этот раз отлитых с настоящих листьев), и даже озорным младенцам, выглядывающим из-за колонн. Это было нечто вроде сказки про папу римского и бобовый стебель (на вершине которого находился Отец Небесный вместо великана-людоеда), фантастическое богословское развлечение, одновременно величественное и изящное, внушающее благоговейный трепет и забавляющее – и несколько напоминающее этим его создателя.
Но одно дело начертить конструкцию на бумаге и изготовить ее деревянную модель, и совсем другое – возвести ее в натуральную величину. Работая над бюстом Сципионе, скульптор убедился, что несчастные случаи возможны, особенно когда сроки поджимают, как с этими колоннами, которые должны были стоять не позже чем на следующий год после повторного посвящения собора святому Петру, намеченного на 1626 год, 1300-ю годовщину первого посвящения. Первый этап работы Бернини удалось завершить в 1627 году, но целиком балдахин был готов лишь в 1633 году. Над изготовлением и установкой колонн работала большая команда архитекторов, строителей и рабочих.
Среди них был архитектор Франческо Борромини, испытывавший смешанные чувства по отношению к Бернини. Он был на год моложе Бернини, но относился к нему как старший, считая себя более опытным и знающим строителем. Борромини работал с предшественником Бернини Карло Мадерной и уважал его как связующее классическое звено между Микеланджело и своей эпохой. Его поклонение Мадерной доходило до того, что он высказал желание быть похороненным рядом с ним. Когда Урбан VIII предложил желторотому выскочке-гению занять место его учителя, у Борромини было два повода чувствовать себя обойденным и считать Бернини узурпатором. Во-первых, он сам, по-видимому, хотел затмить Мадерну, а во-вторых, рыцарь Бернини не обладал практическими строительными навыками и потому, по мнению Борромини, незаслуженно занял этот пост. Борромини считал, что только он достоин быть преемником Мадерны. Манеры Бернини, чья жизнерадостная общительность часто сменялась вспышками неуправляемого гнева, наверняка раздражали Борромини, который, в противоположность коллеге, был угрюмым интровертом с явно выраженными параноидальными симптомами. Они были несовместимыми противоположностями.
Бюст Констанцы Буонарелли. Ок. 1636–1637. Мрамор.
Музей Барджелло, Флоренция
Бюст Констанцы Буонарелли (фрагменты)
Однако Борромини не оставалось ничего другого, как работать вместе с Бернини над балдахином, готовить чертежи и, разумеется, руководить всеми техническими аспектами строительства. Это никоим образом не означало, что Борромини не участвовал в работе и как архитектор; по отзывам современников, он трудился над проектом как одержимый и впоследствии жаловался, что Бернини недооценивал заслуги своих помощников (и в особенности самого Борромини), без которых этот великий труд никогда не был бы завершен.
VII
В 1630-е годы у Бернини слегка вскружилась голова от успехов. Считалось, что у фаворита Урбана VIII не могло быть неудач, так что ему поручили оформить фасад импозантного палаццо Барберини, и он опять пригласил в помощники Борромини. Бернини возглавлял также работу по строительству великолепных фонтанов и по изготовлению надгробий выдающихся и знатных людей, включая заготовленное впрок надгробие самого папы. Он требовал от помощников все, что они могли дать, – их силы, технические знания, ремесленные навыки; у одного из них он позаимствовал и жену.
Маттео Буонарелли приехал в Рим из Лукки примерно в 1636 году и поступил в мастерскую Бернини, где выполнял обычную работу помощников – трудился над различными деталями скульптур, ангелами и прочими второстепенными элементами, которые доверял ему Мастер. Жену его звали Констанцей, она была, по-видимому, не ангелом и не отличалась супружеской верностью. Бернини сделал ее своей любовницей – и вряд ли она была его первой женщиной: Бальдинуччи пишет о многочисленных романтических похождениях скульптора в юности. Но теперь ему было около сорока лет, и связь с Констанцей Буонарелли была, очевидно, не рядовым развлечением. Как откровенно пишет его сын Доменико, Бернини был fieramente inamorato. Иначе как «пламенно влюблен» это не переведешь: ведь скульптор, не будем забывать, считал своей основной естественной стихией огонь.
Нет необходимости читать их любовные письма, чтобы убедиться в силе его страсти, потому что есть гораздо более красноречивое свидетельство этого: бюст Констанцы, созданный на пике их отношений в 1637 году. Никогда еще таких бюстов никто не ваял. Древнеримские скульпторы кого только не изображали в мраморе – от императоров до куртизанок, – и их произведения были очень выразительны. Но с тех пор бюсты создавались исключительно по заказу аристократов и церковников или в качестве надгробных памятников. Это, конечно, не мешало талантливым скульпторам, вроде Бернини, использовать разнообразные средства для воспроизведения характерных черт модели – примером может служить бюст кардинала Сципионе. Но мраморного портрета женщины, с которой скульптор находится в интимной связи, не создавал никто ни до Бернини, ни еще двести с лишним лет после него; при этом в произведении читается несомненное страстное желание обладать моделью. Это скульптурный эквивалент какого-нибудь из любовных сонетов Шекспира или Донна, в которых сквозит непреодолимое влечение автора. Бернини умел передавать различные черты характера человека, раскрывавшиеся при взгляде на скульптуру под разными углами зрения, и Констанца становится благодаря этому не просто идеализированным воплощением обожания, а сложным объектом всепоглощающей любви, богатым оттенками чувства.
В страстной любви есть что-то такое, что побуждает влюбленных заявить о ней во всеуслышание. Бернини изваял бюст Констанцы с такой любовью, словно, отбросив всякую осторожность, упивался этим занятием, вновь переживая с каждым движением инструмента все ласки, которые ей дарил. Волосы Констанцы, густые и блестящие, собраны свободным узлом на затылке, но из узла выбивается один локон. Глаза женщины широко раскрыты, полные щеки пышат здоровьем; сорочка ее приоткрыта на груди с одной стороны чуть больше, чем с другой, – это самое сексуальное приглашение во всей европейской скульптуре.
Бюст наделен живой чувственностью: скульптор откровенно изображает свою любовницу не воспринимающей его любовь пассивно, а вспыхивающей, как порох. Бернини к этому времени создал уже много чудес, и одним из самых удивительных было изображение любимой как не уступающей ему самому в страстности. Маттео Буонарелли был человеком довольно низкого положения, но жена его происходила из знатного семейства Пикколомини и, судя по ее скульптурному портрету, была женщиной сильной и гордой, полной достоинства. Бюст Констанцы ломает все правила изображения женщин, принятые в семнадцатом столетии. Достоинством женского пола считалась невозмутимость. Констанца же показана в процессе речи, с открытым ртом, ее огромные глаза не потуплены скромно, а широко открыты и сверкают. Говорит она явно что-то непочтительное, и Бернини как раз это в ней и нравится, именно это он и превозносит наперекор всему искусству той эпохи. Нижнее веко смоделировано очень объемным, что создает впечатление увлажненности глаза, и вместе с мягкой тенью под скуловой костью эти детали представляют собой одно из самых удивительных пластических достижений Бернини. Если обойти бюст, глядя на него с разных точек, мы увидим, словно на киноэкране, как меняется настроение модели. В анфас она бросает нам вызов; в три четверти глядит мягче, почти с любовной нежностью; когда мы отходим чуть дальше назад, контуры челюсти еще больше смягчаются, женщина предстает уязвимой. Констанца поистине многогранна.
Но в непостоянстве Бернини ее, по-видимому, не подозревал; сколько бы граней ни имела ее непростая натура, он объединил их в гармоничный портрет любовницы, которая, как он полагал, была хорошо ему известна и принадлежала ему всецело. Но однажды некто прошептал Бернини на ухо (несомненно, не без опаски, так как вспыльчивый характер рыцаря был всем известен), что у Констанцы есть еще один любовник, помимо Джанлоренцо. Этим любовником был его младший брат Луиджи.
Джанлоренцо доверял брату. Их отец Пьетро дал Луиджи разностороннее образование, и тот был не только скульптором, но также архитектором, математиком и инженером-гидравликом. Он готовил декорации для театральных постановок пьес Бернини и выступал на сцене вместе с ним. Бернини всегда обращался именно к нему за помощью в инженерно-технических вопросах, и в первую очередь в работах, проводившихся в соборе Святого Петра. Передвижной орган, сконструированный им для собора, был признан шедевром братьев Бернини. Должно быть, Джанлоренцо не сразу поверил в предательство брата. В этот вечер за ужином он объявил, что на следующий день уезжает из города по делам. Вместо этого он пошел к дому Констанцы и увидел, как Луиджи выходит от нее, а она провожает его mezza vestita – очевидно, не полуодетая, а в ночной сорочке. Последовала жестокая схватка, во время которой Джанлоренцо чуть не убил брата железным ломом, но в результате только сломал ему два ребра. Дома он опять накинулся на Луиджи со шпагой, и тому пришлось искать убежище в церкви Санта-Мария Маджоре, а Джанлоренцо безуспешно пытался выломать дверь храма.
Ярость Бернини не унималась. В тот же день он послал слугу в дом Буонарелли. Слуга напал на Констанцу, лежавшую в постели, и изрезал ее лицо бритвой. Таким образом, изваяв самую красивую голову в истории скульптуры, Бернини пусть чужой рукой, но изувечил живую плоть, которую он прославлял.
Наказание, последовавшее за совершенные грехи и преступления, вряд ли можно назвать справедливым. Слуга был арестован и заключен в тюрьму. Констанцу, как прочла в архивах историк искусства Сара Макфи, также приговорили к тюремному заключению по обвинению в прелюбодеянии и блуде. Луиджи был выслан за свое волокитство в Болонью ради его же безопасности. Мать двух братьев в отчаянии обратилась к папе через кардинала Франческо Барберини с просьбой вмешаться и как-то усмирить Джанлоренцо, который, по ее словам, вел себя так, словно он «Властелин мира». На скульптора наложили штраф в три тысячи скудо – примерно столько же ему платили за какой-нибудь бюст. Но патрон и друг Бернини Урбан VIII отменил штраф с условием, что рыцарь наконец женится, дабы в будущем не повторялись подобные досадные эпизоды. Это вряд ли можно было считать суровым наказанием, тем более что предполагаемая невеста Катерина Тезио была признана самой красивой женщиной Рима. Бернини таки женился на ней, не сворачивал больше (насколько известно) с истинного пути и произвел на свет в браке с Катериной одиннадцать детей.
В разгар своего увлечения Констанцей Бернини написал их двойной портрет. Теперь же, взяв шпагу, которой хотел убить Луиджи, он вырезал фигуру Констанцы из холста. Согласно некоторым источникам, он переписал ее в образе Медузы, воплощения зла, с прической в виде клубка змей. Однако бюст Констанцы был спасен от увечья или уничтожения благодаря тому, что Катерина не пожелала, чтобы он находился в ее доме. Бюст был куплен неким флорентийцем и установлен в конце концов в Музее Барджелло, где мало кто из посетителей обращает на него внимание.
VIII
Кровавое завершение романа с Констанцей произошло в мае 1639 года. И примерно в то же время слава Бернини, взлетевшая ракетой, пошла на спад. Один из проектов, над которыми скульптор работал в соборе Святого Петра в течение двух лет, проведенных с Констанцей, был не менее почетен и значителен, чем балдахин, и вызывал не меньше пересудов. Еще в 1612 году папа Павел V решил, что фасад собора с обеих сторон должны увенчать две колокольни, которые созывали бы верующих на службу. Предшественник Бернини Карло Мадерна спроектировал две скромные колокольни высотой в один ярус. Но когда в конце 1630-х годов к проекту приступил Бернини, его воображению стали рисоваться более величественные сооружения. С обычной оглядкой на Микеланджело он объявил, что его трехъярусные колокольни будут возвышаться на шестьдесят метров над их основанием и станут существенным элементом облика собора. По весу они в шесть раз превышали колокольни Мадерны, а между тем почва под собором была болотистой и ненадежной, и к тому же Бернини торопился с постройкой, так как должен был завершить работу к 29 июня 1641 года, празднику святых Петра и Павла.
Неизвестный автор. Собор Святого Петра с колокольней Бернини. Ок. 1635. Фреска.
Казармы швейцарской гвардии, Ватикан, Рим
Через два месяца после возведения первой колокольни один из гостей города писал: «Говорят, что рыцарь Бернини, построивший колокольню собора Святого Петра, просчитался и огромный вес башни разрушит весь фасад здания. Когда это довели до сведения папы, тот вызвал к себе Бернини и строго отчитал его за то, что он ни с кем не посоветовался». Это была неправда, сочиненная, чтобы выгородить папу Урбана VIII. Бернини неоднократно обращался за советом к мастерам, которых Бальдинуччи называет «опытными строителями», и все они заверяли его, что никаких проблем с фундаментом из-за высоты и веса башен не будет. Однако выдвинутое Борромини впоследствии обвинение, согласно которому Бернини, «ничего не смысливший в архитектуре», не слушал разумных советов (то есть советов Борромини), возможно, не лишено оснований. Независимо от того, был или не был Бернини лучшим римским мастером во всех искусствах, его низкая точка вскипания, упрямство в отстаивании своего мнения и исключительное положение человека, приближенного к папе, вероятно, заставляли многих советчиков говорить ему то, что он хотел слышать. И хотя после катастрофы Урбан VIII пытался снять с себя ответственность, ранее он, несомненно, с энтузиазмом воспринимал замыслы Бернини относительно колоколен. Бернини же, естественно, хотел того, чего хотел папа. Между ними царило полное единомыслие.
Но трещина образовалась, и, в отличие от случая с бюстом Сципионе, тут было не до шуток. Отказ папы от покровительства Бернини явился сокрушительным ударом для скульптора-архитектора, до сих пор непогрешимого. Он остро ощущал нараставшее в Риме недоброжелательство по отношению к нему и, несомненно, приписывал это зависти к тому, что при понтификате Урбана VIII он получал так много заказов и занимал лидирующее положение в сфере искусства. Он не был наивен и давно уже слышал предсказания, что рыцарь, которому обязаны подчиняться все, в конце концов споткнется из-за своей гордыни. Поначалу неожиданная опала вызвала у Бернини истерику. Согласно одному из источников, он заперся у себя дома и отказался от еды, чуть не умерев с голоду. Возведение одной из башен собора было отменено, работа над другой, доведенной уже до верхнего яруса, приостановлена – частично из-за нехватки средств. Казна папы была опустошена бессмысленной войной, которую он затеял с соседними провинциями, стремясь их захватить. Авантюра бумерангом ударила по Риму, когда войска этих земель двинулись на него. Население обложили дополнительными налогами, что вызвало всеобщее недовольство. Причиной этих тягот считали сумасбродство кардинала Барберини. В этих условиях папе меньше всего нужна была новая колокольня, вызывавшая столько нареканий. Лестница, по которой Бернини быстро забрался на самую вершину, была выбита у него из-под ног. Независимо от отношения к нему папы, фигурировать в качестве его фаворита теперь не могло принести ничего, кроме всеобщей ненависти.
Если при ослабленном и отдалившемся от него папе у Бернини возникли серьезные проблемы, то в 1644 году, когда Урбан VIII умер, они возросли неизмеримо. Сменивший Урбана Иннокентий X был известен своей суровостью и открыто заявлял о своем намерении покончить с расточительством, имевшим место при его предшественнике. Люди, которым покровительствовал Урбан, попали под подозрение, задуманные им проекты подверглись придирчивому пересмотру. И самым вопиющим излишеством представлялась, безусловно, колокольня Бернини.
По крайней мере, так утверждал любимый архитектор нового папы Франческо Борромини. Трещины образовались уже и на фасаде собора. Была создана комиссия для проверки состояния сооружения; Борромини, много лет томившийся в тени Бернини, представил чертежи, демонстрировавшие происшедшие разрушения и доказывавшие, по его мнению, недостаточно тщательную подготовку Бернини к строительству. Бернини решил провести исследование грунта у фундамента собора и под ним, и это дало повод Борромини саркастически заметить по поводу неопытности скульптора: «Разумный архитектор не станет сначала возводить здание, а потом проверять, нет ли опасности для фундамента».
К концу 1645 года на фасаде собора имелось уже три трещины. Они вроде бы не создавали угрозы обрушения колокольни или тем более всего здания, но репутация Бернини была погублена. Оправдаться перед комиссией ему не дали. 26 февраля 1646 года было провозглашено решение папы: построенную башню разобрать, камень сохранить для строительства другой колокольни, спроектированной более грамотно.
Разборка башни заняла одиннадцать месяцев. Бернини, несмотря на свою неудачу, остался архитектором собора и, проходя мимо здания, наверняка слышал шум работ, видел вороты и лебедки, наваленные на крыше колонны и капители. Дошедшие до нас свидетельства о том, как он переносил это публичное унижение, противоречивы. Некий заезжий англичанин Николас Стоун писал, что Бернини впал в прострацию, «смертельно заболел и, как говорили, сразу умер». Правда была в том, что скульптор был убит горем, но тело его продолжало жить. Создавались все новые комиссии – наиболее авторитетные прибывали из-за границы. Но постепенно Бернини овладел собой и даже написал пьесу, высмеивавшую Иннокентия X и его племянника кардинала Камилло Памфили, – настолько язвительную, что люди удивлялись, как это его не посадили сразу. Проглотив обиду, он вернулся к скульптуре, отстаивая свою репутацию, и поскольку он делал работу без заказа, то создал на этот раз удивительно непривлекательную обнаженную женскую фигуру с большой грудью и раздвинутыми ногами и назвал ее «Правдой, разоблаченной временем» – предположительно, Отцом-Временем; выражение ее лица представляет собой нечто среднее между просветленным оптимизмом и неуправляемым экстазом. Однако Бернини так и не закончил эту скульптуру, потому что время, как оказалось, работало на него.
IX
Хотя к концу 1640-х годов рыцарь Бернини приобрел репутацию соблазнителя чужих жен и некомпетентного строителя, забросившего скульптуру, это вовсе не означало, что все в Риме махнули на него рукой. Достаточно было зайти в собор Святого Петра, увидеть там балдахин и статую святого Лонгина в одной из ниш или пройтись мимо впечатляющего фонтана Тритона на Пьяцца Барберини, созданного незадолго до смерти папы Урбана, чтобы поверить в то, что этот гений непременно соберется с силами и восстановит свое славное имя. Его отчужденность от нового папы давала возможность не столь высокопоставленным фигурам прибегнуть к услугам Бернини. Кардинал Федерико Корнаро из старинного аристократического рода не упустил этот шанс. Корнаро покровительствовали аскетическому монашескому ордену босоногих кармелиток и решили создать в церкви Санта-Мария делла Виттория на холме Квиринал семейную капеллу, посвященную знаменитой патронессе ордена святой Терезе Авильской. Еще несколько лет назад кардиналу пришлось бы довольно долго ждать своей очереди, потому что сам английский король Карл I и кардинал Ришелье желали получить портрет работы Бернини, но теперь ситуация изменилась. Бернини с радостью ухватился за возможность реабилитировать себя. Существенным аргументом было и то, что Корнаро собирался израсходовать на капеллу колоссальную сумму в двенадцать тысяч скудо – больше, чем было затрачено на всю церковь, построенную Борромини. Бернини мог при желании проявить все свои таланты: не только изваять скульптуру, но и создать декоративное архитектурное обрамление (и доказать тем самым, что он все-таки знает толк в архитектуре), а также, возможно, написать живописные полотна. Этот ансамбль произведений всех изобразительных искусств мог в случае успеха стать самым великим его достижением.
Экстаз святой Терезы. 1645–1652. Мрамор.
Капелла Корнаро, Санта-Мария делла Виттория, Рим
Экстаз святой Терезы (фрагменты)
Личность главного персонажа этого ансамбля производила на Бернини неотразимое впечатление. Тереза Авильская умерла у себя на родине в Испании более чем за полвека до этого, в 1583 году, но была канонизирована папой Урбаном VIII лишь в 1622 году. Она была единственной из «современных» святых, не имевшей в Риме своей часовни, ибо и при жизни Терезы, и даже после ее смерти кое-что в ней настораживало церковников – ее повышенная эмоциональность, охватывавшие ее конвульсии, которые она описала в автобиографии, восторженные припадки, когда она взлетела в своей келье к потолку, а монахини удерживали ее за одежду. Может быть, это были лишь галлюцинации недостойной истерички? Неудивительно, что, когда папа Урбан предложил испанцам выбрать в качестве своего святого покровителя либо Терезу, либо святого Иакова Компостельского, те не колеблясь выбрали Иакова.
Бернини читал литературу, и даже если книга Терезы Авильской «Моя жизнь» попадалась ему раньше, он наверняка перечитал ее, чтобы освежить в памяти факты ее биографии и, может быть, почерпнуть из нее какие-нибудь идеи. Книга должна была произвести на него впечатление, потому что, хотя экстатические припадки Терезы преподносились в ней как «мистические откровения», а вся жизнь – как пробуждение души, все ее душевные порывы проявлялись исключительно через конвульсии и томление ее плоти. Душа Терезы имела вполне анатомическое строение: «Душа не стремится чувствовать боль из-за отсутствия Господа, но иногда какая-то стрела вонзается в ее самые важные жизненные органы, в ее внутренности, ее сердце, так что она не понимает, что происходит, чего она хочет». Это был материал, с которым Бернини, досконально изучивший язык тела, мог работать.
В этом заказе он, по-видимому, видел также возможность покаяния. Он был мастером-виртуозом, совершившим грех и даже преступление, что навлекло на него позор, а теперь он вел жизнь праведного христианина и заботился о своей душе, так что переход от плотского к духовному был ему вполне понятен. Тереза ведь прошла такой же кремнистый путь. В ней оставалось что-то от ее еврейского происхождения, несмотря на то что ее дед крестился (и потом тайком еще несколько раз менял веру). Отец Терезы, крупный торговец текстилем, укрепил положение семьи обычным способом, женившись на потомственной христианке. Дочь его выросла живой, своевольной и практичной, увлекалась нарядами, украшениями и косметическими средствами. Обеспокоенный столь суетными привычками Терезы, отец поставил ее перед выбором: или замужество, или монастырь. Она предпочла монастырь, так как слышала, что там женщины пользуются большей свободой, чем в домашнем плену у какого-нибудь испанского идальго, а недавно постригшиеся монахини могут принимать гостей, в том числе и мужчин.
Однако жизнь за монастырскими стенами оказалась не такой веселой, как она рассчитывала. Одежда была черной и грубой, пища удручающей, молитвы нескончаемыми. Она заболела булимией и стала вести себя наперекор здравому смыслу, как озлобившийся подросток: вставляла себе в пищевод прутик оливы, чтобы ее вырвало. В конце концов она заболела настолько серьезно, что монахини сочли ее умершей, завернули в саван и замазали ее веки воском. Срочно вызвали ее отца, который не согласился с заключением, к которому пришли монахини, и заявил, что не даст хоронить дочь. Пролежав четыре дня без признаков жизни, Тереза открыла глаза, разлепив восковую оболочку. Она была жива, правда в очень небольшой степени. Сама Тереза так описывает свое состояние: «Мой язык был весь искусан, потому что я была очень слаба и ничего не ела, и даже вода не поступала в организм. Я чувствовала себя так, будто все мои кости смещены, в мозгу у меня царил полный хаос. Я пролежала все эти дни в мучениях, словно связанная узлом, не могла двинуть ни ногой, ни рукой, как труп. По-моему, единственное, что у меня шевелилось, – это мизинец». У Терезы начались видения, но не такие, какие следовало бы иметь. Она созвала гостей, чтобы отпраздновать свое возвращение к жизни, и к ней в гости заходил мужчина, которому она уделила столь живое внимание, что Христос на иконе нахмурился; второе предупреждение она получила в виде мерзкой гигантской жабы, проковылявшей по полу ее кельи.
Когда Терезе было уже больше сорока лет и жизнерадостная девушка стала почтенной монахиней, непрерывно сражавшейся с докучавшими ей демонами посредством молитв и самобичевания, с ней произошло нечто сверхъестественное. Она весь день молилась и только начала петь гимн Veni Creator Spiritus («Приди, Божественный дух»), как вдруг, ясное дело, это случилось. Он пришел.
«На меня снизошел такой восторг, что я чувствовала, словно поднимаюсь ввысь, вырываясь из своей земной оболочки. Он был абсолютно реален, никакого сомнения. Впервые Господь даровал мне такой экстаз. Я услышала Его слова: „Я хочу, чтобы ты говорила не с людьми, а с ангелами“».
Алтарь капеллы Корнаро. 1645–1652. Мрамор.
Санта-Мария делла Виттория, Рим
Семейство Корнаро, наблюдающее «Экстаз святой Терезы». 1645–1652. Мрамор.
Капелла Корнаро, Санта-Мария делла Виттория, Рим
Видимо, этот «подъем ввысь» подстегнул воображение Бернини. Ему было известно, что Тереза стала знаменитым реформатором монастырей, побуждая своих сестер-кармелиток жить скромно, в бедности и простоте. Она не знала покоя и воевала с официальной церковью, учреждая свои монастыри. Но в капелле Корнаро скульптору не нужен был образ Терезы – борца за духовные и политические идеалы. Он хотел изобразить Терезу, которая, согласно ее автобиографии, в экстазе поднималась в воздух. Однако саму Терезу эта левитация расстраивала, она просила монахинь держать ее за одежду и тянуть к земле, но это не помогало, и она даже сердилась на Бога.
Персонажи многих скульптурных драм Бернини, испытывая телесные мучения, словно взмывают в воздух – таким он еще подростком изваял святого Лаврентия, и так же рвется к небу превращающаяся в дерево Дафна. Вся суть скульптуры, в представлении Бернини, заключалась в преодолении земного притяжения и неподвижности. На этот раз он хотел изобразить левитацию Терезы, которая не противится проникновению, как Дафна, а страстно желает его. Его самый амбициозный проект, устремленная ввысь колокольня собора, потерпел крах, и теперь Тереза должна была вознестись, увлекая за собой подмоченную репутацию рыцаря Бернини.
При своем богатом чувственном опыте Бернини понимал, что восторг, о котором говорила Тереза, означал стремление ее души к полному слиянию с Богом. Она писала об этом так, словно ее душа была органом ее тела, раскрывающимся и испытывающим проникновение, неразрывно связанное с болью и наслаждением:
«Вблизи от меня… возник ангел, имевший человеческий облик… он был невысок, но очень красив, лицо его сияло, как у небесных ангелов, которых, кажется, объемлет пламя… В руках у него было золотое копье, чей наконечник выглядел как огненная стрела. У меня возникло ощущение, что он проткнул копьем несколько раз мое сердце и все мои внутренности. Затем он, казалось, вытащил их вместе с копьем, а внутри у меня остался лишь огонь огромной любви к Богу. Боль была такой сильной, что я застонала. Но эта же боль приносила огромное наслаждение, и не хотелось, чтобы она кончалась; удовлетворить мою душу мог только сам Бог. Боль была не физической, а духовной, хотя тело участвовало в этом процессе – и в немалой степени».
Все, что Бернини делал прежде, казалось лишь прелюдией к этой чрезвычайно деликатной и трудной работе. Он изображал благодатное пламя, экспериментировал с огнем, со страданием и наслаждением, и никто не мог передать точнее его поведение человеческого тела под действием сильных ощущений. Никто не умел так непосредственно воплотить пертурбации плоти в мраморе, заставляя его, вопреки его природе, таять, корчиться, пениться, извиваться. Стараясь создать впечатление, что Тереза поднялась в воздух, Бернини применил еще один прием, который он довел с годами до совершенства, – варьирование поверхностной текстуры камня. Облако, на котором она покоится, скульптор обработал грубо – не только для того, чтобы изобразить таинственный туман, но и для того, чтобы ее отполированное до блеска тело и одежда сияли ярче. Ему удалось достичь иллюзии левитации, сделав каменное облако пустотелым и прикрепив его к стене капеллы с помощью замаскированных брусьев и скреп.
Был риск, что произойдет катастрофа, в скульптуре опять образуется трещина. Но это был пустяк по сравнению с тем риском, на который пошел Бернини, решив изобразить лицо и тело Терезы именно таким образом. Как должен выглядеть экстаз? Бернини знал, как он не должен выглядеть: не так, как на бесконечных алтарных картинах, где персонажи закатывают глаза, умоляюще взирая на небеса. Он подумал, что, может быть, лучше, если глаза будут обращены вниз, как это бывает у женщин во время экстаза. Если эта женщина отважилась сама описать так подробно свои переживания, напоминающие ощущения на пике сексуального наслаждения, то, может быть, лучше изобразить ее полностью отдавшейся нахлынувшим на нее чувствам, стремящейся к полному поглощению, одновременно телесному и духовному? Кто посмеет бросить ему упрек? Он претворит собственное плотское знание в священном образе, вызывающем потрясение.
Бернини решительно взялся за дело, смешивая реальное и идеальное. И без слов ясно, что его Тереза не имеет ничего общего с почтенной монахиней средних лет, воспаряющей над своим ложем, как отвязавшийся воздушный шар, которую другие монахини пытаются удержать, вцепившись в ее подол. Скульптор изобразил женщину незабываемой красоты, не уступающей красоте сияющего серафима. Это влюбленная пара, хотя и необычная. Грудь улыбающегося ангела обнажена, намекая и на ее наготу; он направляет свое копье (а точнее, стрелу) не на ее грудь, а ниже. По ее полураскрытым губам можно догадаться, что ангел только что вытащил свою огненную стрелу, которую перед этим уже раз вонзил в тело женщины, и теперь собирается сделать это опять. Но задача заключалась в том, чтобы изобразить страсть, овладевшую Терезой. И Бернини словно выворачивает ее тело наизнанку, делая ее одежду, защитную оболочку ее целомудрия и символ ее подчинения религиозным канонам, отражением того, что происходит в ней. По сути дела, это судороги оргазма, взлеты и падения, переданные с помощью мрамора, который кажется живой материей. Улыбающийся ангел изливает на Терезу волны чувств, сливающиеся с беспокойным океаном ее одежды, поверхность которого представляет собой сплошные полости и углубления.
Франческо Борромини. Плафон церкви Сан-Карло Алле Кватро Фонтане, Рим. 1638–1641
Однако в композиции нет никаких намеков или лукавства, ее удивительная откровенность приковывает к себе взгляд и не допускает насмешек. Левитация Терезы была не одиночным случаем, многие свидетели как в испанском монастыре, так и за его стенами наблюдали это тревожное и будоражащее явление. Стараясь, чтобы воспроизведение его стало незабываемым зрелищем, Бернини мобилизует все свое мастерство. Он бросает на Терезу сноп солнечных лучей, проникающих сквозь скрытое отверстие в стене капеллы, так что создается впечатление, что на нее нисходит сверху божественное сияние. Высвечивая скульптуру, как на сцене, этим потоком света, Бернини не просто приковывает к ней внимание, но делает само созерцание Терезы главной темой произведения. По обеим сторонам от скульптурной группы он помещает ложи, в которых за этим чудом наблюдают изваянные им представители рода Корнаро, в большинстве своем давно умершие. Ложи кажутся обтянутыми драпировкой, изготовленной из джалло, чрезвычайно дорогого золотистого мрамора, и представляющей собою шедевр иллюзионистского искусства (с. 127). (Как раз в это время в театрах Венеции, родного города Корнаро, стали устраивать ложи, и Бернини, как театральный постановщик, должен был знать об этом.) Некоторые члены семейства смотрят на Терезу и ангела, другие, включая самого Федерико, обсуждают это зрелище, побуждая и нас задуматься о его смысле.
Плафон церкви Санта-Андреа аль Квиринале, Рим. 1658–1678
Смысл заключается в женском теле, но не ограничивается им, а, исходя от него волнами, сотрясает космические просторы. Над Терезой кувыркается компания столь любимых скульптором херувимов, с улыбкой взирая на происходящее. С находящихся еще выше иллюзионистских небес выплескивается целый поток радости. Событие столь значительно, что объемлет всю вселенную, от райских кущ до самого порога подземного царства, где земля, инкрустированная мрамором, разверзается, открывая могилы, из которых карабкаются скелеты умерших.
Все таланты, какими обладал Бернини, были соединены в этом bel composto, как назвал его Бальдинуччи, – идеальном сплаве всех элементов искусства: цвета, движения, света и даже ощущения, что небесный хор изливает песню на изображенную сцену. И если раньше наиболее резкой критике подвергались способности Бернини-архитектора, то в капелле Корнаро он назло всем критикам полностью реабилитировал себя. Самым ожесточенным его критиком был Борромини, прославившийся своими волнистыми стенами и потолками, как и прочими невероятными и головокружительными архитектурными экспериментами. Заимствуя один из его приемов, Бернини создает миниатюрный, причудливых очертаний храм. Но экстаз, зародившийся в этом храме, рвется наружу со взрывной силой, так что храм раздувается, изгибается, трещит по швам и в конце концов раскрывается, как архитектурный эквивалент разрешающегося от бремени чрева; кажется, что он выбрасывает содержащееся в нем чудо прямо к нам, лишившимся дара речи наблюдателям. Можно представить себе, как Бернини, закончив работу, рассматривает это bel composto, бросая вызов всем желающим превзойти его. Никто так и не смог это сделать, в том числе и он сам.
Семейство Корнаро было восхищено своей капеллой, на которую они потратили двенадцать тысяч скудо – сущие гроши за такую работу. Слух о том, что в церкви Санта-Мария делла Виттория рыцарь Бернини создал новый шедевр, быстро распространился по городу. Торжество Борромини длилось недолго. Параллельно с работой над «Терезой» Бернини конкурировал с Борромини за право создания фонтана на Пьяцца Навона, площади папы Иннокентия Х, и там тоже дела складывались не очень удачно для Борромини. Между тем фонтан имел чрезвычайно важное значение. В центре его собирались поместить Египетский обелиск, увенчанный в священный 1650-й год династической папской эмблемой, голубем – прообразом Святого Духа, символизирующим триумф христианской церкви над язычеством. В строительстве фонтанов Борромини чувствовал себя не очень уверенно – они были слишком игривы, к ним не подходили сложные математические и оптические приемы, которые он применял в церквах. Бернини же, с его врожденной театральностью, привлекали игра света в воде, сочетание зрелищности со звуком. (Отец его, кстати, тоже участвовал в свое время в реконструкции различных гидравлических устройств в Риме.) Предыдущие фонтаны Бернини – например, фонтан Тритона, созданный для Урбана VIII, – очень удачно совмещали мощь водного потока со зрелищно-игровыми компонентами.
Так как на Пьяцца Навона фонтан должен был находиться напротив папского дворца и придворной церкви Сант-Аньезе, перестроенной Борромини, то ему же пришлось браться за этот проект. Судя по дошедшим до нас чертежам, он спроектировал совсем простой фонтан, где вода лилась из декоративных раковин у основания обелиска. Борромини, вероятно, надеялся, что, поскольку папа не благоволит к Бернини, он будет избавлен от раздражающего соседства какого-нибудь творения его соперника. Но надеялся он напрасно. У Бернини все еще оставалось много высокопоставленных друзей, и когда симпатизирующего ему князя Никколо Людовизи пригласили как-то на обед во дворец сестры понтифика, он ухитрился протащить с собой изготовленную скульптором модель будущего фонтана Четырех рек (1648–1651), которую водрузил на стол перед папой. Его уловка оказала свое действие. Как говорят, папа воскликнул в притворном негодовании: «Это всё хитрости князя Людовизи!.. М-да, если не хочешь, чтобы какой-либо проект Бернини был воплощен в жизнь, смотреть на него нельзя».
Блаженная Людовика Альбертони. 1672–1674. Мрамор.
Капелла Альтьери, Сан-Франческо а Рипа, Рим
Это было еще одно произведение, устремленное ввысь. Предполагалось установить обелиск, столб солнечного огня, на грубо вытесанном из скалы открытом гроте, из которого будет вытекать вода четырех рек, символически изображенных в виде статуй: Нила, Ганга, Дуная и Рио-делла-Плата. Разнообразные Божьи создания – львы, крокодилы – будут копошиться среди пальм под вздымающимся символом мощи духовного божественного света. Проект выглядел впечатляюще уже на бумаге, а в виде терракотовой модели смотрелся еще лучше. Некоторые критически настроенные лица предсказывали такое же фиаско, какое Бернини потерпел с колокольней: они полагали, что глыба известкового туфа, из которой собирались вырубить грот, треснет еще до того, как на нее взгромоздят обелиск. Однако все обошлось. Перед открытием фонтана в 1650 году Бернини пригласил Иннокентия X посмотреть на его произведение и подшутил над папой, как когда-то над Сципионе, притворившись, что из-за непредвиденных задержек невозможно увидеть фонтан в работе. Когда разочарованный папа собрался уходить, послышалось громкое журчание, и рыцарь Бернини, подобно Моисею, добыл воду из скалы.
Таким образом, Бернини дважды реабилитировал себя – с «Экстазом святой Терезы» и с фонтаном Четырех рек – и продолжал набирать силу. Он работал не только на нескольких сменяющих друг друга пап, но и на иностранных монархов, а именно на шведскую королеву Кристину и Людовика XIV Французского, которые были в восторге оттого, что их портреты изваяет величайший скульптор в мире. Рим, особенно в его христианской части – то есть в соборе Святого Петра и вокруг него, – немыслим без целого ряда шедевров, созданных Бернини. Богомольцы по пути к собору переходят по мосту Святого Ангела, украшенного ангелами Бернини, затем попадают в объятия построенной Бернини колоннады, минуют изваянную Бернини конную статую императора Константина и поднимаются по парадной лестнице Бернини в собор, где, постояв у гробницы Урбана VIII или Александра VII, проходят к балдахину и cathedra Petri, престолу святого Петра.
Борромини тоже строил церкви, от красоты которых захватывает дух, церкви, напоминающие полифонические музыкальные формы, которые плывут и колышутся, но стиль их строг, мраморные стены лишены вычурной декорации, в то время как храмы Бернини беззастенчиво красуются богатством цвета и пышностью форм. Хотя Борромини работал и после смерти Иннокентия Х, момент его славы, которую он толком не успел прочувствовать, остался позади. Снедаемый параноидальным отчаянием по поводу того, что он не был вознагражден по заслугам, Борромини покончил с собой, и даже это не сумел сделать сразу, лишь нанеся себе рану, от которой умер.
Бернини так и не закончил «Правду, разоблаченную временем» – возможно, потому, что потребность доказывать что-либо этой работой отпала. Его репутация неистощимого чудотворца, величайшего скульптора со времен Микеланджело была теперь незыблемой. К тому же он стал образцом христианской добродетели, известным своим неукоснительным соблюдением религиозных обрядов, и отцом одиннадцати детей, на чью супружескую верность не падало и тени подозрения. Когда он умер в 1680 году, перешагнув восьмидесятилетний рубеж, пышнотелая «Голая правда» с пламенной улыбкой все еще оставалась в его студии. Однако в 1672 году, к концу жизни, его потревожила тень старого беспокойного времени: его неисправимый брат Луиджи, тоже давно не юнец, был задержан полицейскими при попытке изнасилования молодого человека в районе собора Святого Петра. В качестве акта семейного покаяния Бернини взялся изваять надгробие еще одной монахини, названное им «Блаженная Людовика Альбертони» и находящееся в церкви Сан-Франческо а Рипа в бедном римском районе Трастевере. Чтобы восстановить доброе имя семьи в глазах папы Климента, скульптор согласился выполнить эту задачу бесплатно.
Итак, еще одна работа во искупление грехов, еще одна монахиня в экстазе, еще одна возможность наплодить шустрых, благосклонно улыбающихся херувимов. Но на этот раз лежащая на тюфяке святая представлена в предсмертной агонии. Губы ее искривлены гримасой боли, правая рука прижата к сердцу, одежды, как у Терезы, смяты предсмертными метаниями. Сначала Бернини хотел не просто приоткрыть ее одеяние, но изобразить его разорванным посредине ее предсмертными метаниями, однако в конце концов отказался от этих намеков на бесчинство. Возможно, на девятом десятке он уже не мог с такой же уверенностью и изяществом удержаться на тонкой грани между чувственным и духовным, как это удалось ему за двадцать с лишним лет до этого.
Говорят, что Бернини часто можно было увидеть в капелле Корнаро, где он на коленях молился перед своим произведением, которое сам называл «наименьшим злом, какое он когда-либо совершил». Некоторым из нас, неисправимым язычникам, возможно, нелегко простоять так долго на коленях перед Терезой в ее экстатических спазмах. И тем не менее ни одна другая скульптура не производит на нас такого впечатления, от этой же мы не можем отвести глаз. Возможно, она так зачаровывает нас потому, что Бернини сделал видимым и осязаемым то, чего мы все – если честно признаемся себе в этом – страстно желаем и о чем написано столько неудачных книг, снято столько надуманных фильмов и сочинено столько невразумительных стихов, сколько ни о чем другом. Неудивительно, что критики и искусствоведы извиваются ужом, чтобы не высказать очевидного: что перед нами драма таких сильных телесных страстей, какую никто из нас не испытывал.
Это не значит, что Терезу скручивают всего лишь эротические конвульсии. Экстаз Терезы – не просто физиологический акт, а слияние физического влечения с эмоциональной или духовной (выбирайте сами) трансценденцией, и именно по этой причине чем дольше мы смотрим на эту скульптуру, тем сильнее она захватывает нас. Так что тот французский знаток искусства, который сказал, что если это божественная любовь, то она ему хорошо знакома, возможно, не насмешничал, а снимал шляпу перед Бернини как перед художником, сумевшим сделать самую трудную вещь на свете – изобразить блаженство.
Рембрандт Грубые манеры в парадных залах
I
Представьте себе, что вы художник. Что будет для вас самым большим несчастьем: невнимание, осмеяние, опала? Едва ли все это может сравниться с необходимостью изуродовать собственный шедевр, отказаться от своего самого дерзкого замысла. Именно это произошло с Рембрандтом в 1662 году.
Некогда он был важной персоной, амстердамской знаменитостью, ослепительной и эффектной, и город не мог налюбоваться им. Снова и снова он обманывал ожидания публики, и публика покорно принимала все, чтобы он ни сотворил. У него был красивый дом, мастерская со множеством учеников, миловидная жена из состоятельной семьи, коллекция редкостей, включавшая рисунки Мантеньи и самурайские шлемы. Когда ему исполнилось тридцать четыре года, Рембрандт, взглянув на себя в зеркало (а делать это он любил), увидел в нем северного Тициана. И он создал свое подобие, «Автопортрет в возрасте тридцати четырех лет», по образцу портретов, написанных Рафаэлем и Тицианом. Самоуверенно и непринужденно он опирается на какой-то парапет, бархатные складки модного рукава «бараний окорок» ниспадают с каменной опоры, как у истинного венецианского патриция – как у самого Тициана.
Но с тех пор прошло двадцать лет. В 1660 году ему перевалило за пятьдесят, и теперь Рембрандт жил в скромном домике на Розенграхт, напротив увеселительного сада. По улице бродили пьяные, на углу то и дело вспыхивала поножовщина. В глазах недалеких пустословов он был неудачником, попусту растратившим все нажитое: репутацию, собственность, благосклонность сильных мира сего. Бог распределяет блага справедливо, верили набожные люди, так что неудачи, постигшие Рембрандта, были, по их мнению, предупреждением о греховности гордыни.
Но тут, словно назло ханжам, обремененный долгами старый греховодник получил шанс все изменить. Знати Амстердама, в то время самого богатого города в мире, понадобилось монументальное историческое полотно для грандиозной, белой, как снег, новой ратуши. Сначала работу поручили Говерту Флинку, но тот скоропостижно скончался. И тогда решено было обратиться к его бывшему учителю Рембрандту ван Рейну, который писал в свое время поразительные исторические картины. Почему бы ему не написать еще одну? Это в его же интересах. Полотно предполагалось включить в серию картин, иллюстрирующих историю древних батавов, давних предков голландцев. Вся серия в целом должна была напомнить жителям Амстердама, преуспевающим, чувствующим себя хозяевами империи и не склонным выслушивать наставления, что их история началась с решительного восстания против самонадеянной Римской империи. Заказ, полученный Рембрандтом, имел особое значение: ему поручено было изобразить вождя батавов Клавдия Цивилиса в тот самый момент, когда он и его братья по оружию клянутся отдать жизнь за свободу своей родины. Более выгодного предложения и придумать нельзя было. Если бы работа увенчалась успехом, это стерло бы насмешку с лиц тех, кто списал его со счета как неотесанного чудака и неудачника. «Заговор батавов, возглавляемый Клавдием Цивилисом» (с. 192–193) мог стать его «Тайной вечерей», его «Афинской школой», благодаря этой картине его должны были запомнить навсегда и чтить вечно. И к тому же она принесла бы ему кругленькую сумму в тысячу гульденов.
Рембрандт отбросил все сомнения. Все приемы живописного повествования, которые он освоил в течение жизни, – поразительное умение создавать иллюзию глубокого пространства, драматические эффекты избирательного освещения, рельефная выразительная красочная поверхность – были использованы в работе над гигантским полотном. Результатом явилась невиданная прежде историческая картина, образчик атакующей, агрессивной живописи, грубой и варварской, где краски сперва наносились на холст густым слоем, оставлялись для того, чтобы дать им смешаться и покрыться коркой, а затем частично соскабливались. Самым важным элементом картины было освещение, но противоположное тому, какое мы видим, например, на пронизанных светом видениях Вермеера, где оно придает банальным вещам прозрачность и изящество. Бледно-землистый свет Рембрандта – это фосфоресцирующая масса, опасный скрытый огонь, от которого надо держаться подальше, чтобы не обжечься.
Автопортрет в возрасте тридцати четырех лет (фрагмент). 1640. Холст, масло.
Национальная галерея, Лондон
Для разорившегося художника это была игра на выживание. Дерзкое поведение и непредсказуемость Рембрандта, его прискорбное пренебрежение принятыми правилами как в отношениях с людьми, так и в работе были общеизвестны. Но даже зная обо всем этом, городские власти все же вряд ли ожидали увидеть такое. В 1662 году они повесили это в Ратуше, очевидно посчитав, что нечто вызывающее замешательство все же лучше, чем ничего. Картина провисела на предназначавшемся ей почетном месте несколько месяцев. Затем, по-видимому порешив, что она все-таки слишком откровенно неизящна, ее постановили снять. Город не нуждается в этой работе Рембрандта. Как ни жаль, но… Картина была вынута из рамы, свернута в рулон и с позором возвращена автору, не получившему за свои труды ни гроша. Заполнить пустое пространство поручили художнику Юриану Овенсу, с которым можно было не опасаться сюрпризов. Он состряпал замену в рекордные сроки. Возможно, это была худшая из картин, выставлявшихся на публичное обозрение в Голландии, но никто не жаловался.
А что было делать Рембрандту с монстром, без приглашения вторгшимся в его тесное жилище? Он был создан, чтобы занять место под аркой в парадной галерее, окружающей грандиозный Зал бюргеров. Даже в самой просторной гостиной в каком-нибудь из частных домов на амстердамских каналах ему не хватило бы места. Чтобы спасти хоть что-то, надо было найти покупателя, а для этого урезать картину до масштабов, соответствующих жилому помещению. Так Рембрандт и сделал.
В XVII веке художники были менее щепетильны в отношении физической целостности своих произведений, чем их нынешние коллеги. Полотна очень часто подрезали в соответствии с размерами помещения. В свое время так поступили и с «Ночным дозором», и с «Аристотелем», частично принеся в жертву (но хотя бы не извратив вконец) исходный замысел и композицию. И скорее всего, делал это не сам художник. Но «Клавдию Цивилису» пришлось перенести гораздо более серьезную операцию, чем косметическая стрижка. Отчаянная нужда заставила Рембрандта уменьшить площадь полотна в пять раз, безвозвратно изменив его общий вид. И это чудо, что даже после столь радикального хирургического вмешательства оставшийся обрубок в значительной мере выражает идею картины.
«Клавдий Цивилис» – полотно на мифологический сюжет, какого никогда прежде не существовало. Если вы голландец, у вас есть дети и вы хотите познакомить их с историей вашей страны, рассказать им, как сложилась ваша нация, какие она пережила войны и страдания, отстаивая свою веру и свободу, то, решив показать им картину, которая при всей своей трагической неполноценности изображает начальный момент этой эпопеи, вам придется отвезти их в Стокгольм. В 1734 году, через шестьдесят пять лет после смерти Рембрандта, некая шведско-голландская семья приобрела-таки невостребованное полотно за шестьдесят гульденов. Примерно столько же стоила какая-нибудь затейливая кровать. Так что картина, которая говорит голландцам об их родине более всех других, написанных в семнадцатом столетии, картина, где изображен знаменательный момент пробуждения национального самосознания, теперь находится в бессрочной ссылке в шестистах милях к северу от того места, для которого она предназначалась. Она должна была стать сверкающим венцом Амстердама, жемчужиной национального искусства, ради созерцания которой всякий гость столицы устремился бы в холодные залы Ратуши (ныне королевского дворца). Но она эмигрировала. И ничего подобного ей никогда уже не будет создано – ни в Голландии, ни где бы то ни было еще.
II
Все это просто поражает, потому что трудно найти другого художника, который в течение стольких лет и с таким успехом дарил бы своим согражданам именно то, чего они ждали от искусства в первую очередь, – изображение их самих. Невозможно представить, чтобы где-либо еще, кроме Нидерландов, могли быть созданы настолько жизненные портреты, написанные naer het leven – с натуры, а не в соответствии с представлениями художника об идеальной форме. Именно так всегда и писал Рембрандт, почти никогда не изображая идеальную цветущую красоту. Это ему было скучно. Он правдиво воспроизводил все несовершенства людей. Его настойчивое предпочтение видеть человеческую природу в неприглаженном виде было его главнейшим достоинством, принесшим ему славу. Но одновременно и непростительной вольностью, за которую он расплатился сполна.
Но разумеется, час расплаты был еще далек в 1630 году, когда Рембрандт приехал в Амстердам из своего родного провинциального Лейдена – города кальвинистской веры, классической университетской культуры и прочного благосостояния, основывавшегося на производстве тканей. Он был одним из двух вундеркиндов, которых Константин Хюйгенс, заведовавший культурой при принце Оранском, объявил героическим будущим голландского искусства. Хюйгенс был убежден, что сын мельника Рембрандт ван Рейн и его друг и соперник Ян Ливенс заставят итальянцев отказаться от своего покровительственного взгляда на голландских живописцев как на искусных мастеров натуралистической иллюзии, неспособных подняться до величественных вершин живописи большого общественно-исторического значения.
По мнению Хюйгенса, гениальность Рембрандта заключалась в том, что он искусно сочетал прозаическую обыденность и высокую драму. Что же касается его умения виртуозно передавать внешний вид и текстуру материального мира, то тут сомнений не было ни у кого. Никто из современников не мог сравниться с ним в воспроизведении блеска стальной кирасы, мерцания жемчужных сережек или снежных узоров кружевного жабо. Но Рембрандт умел также, как никто другой, описать человеческие чувства при помощи мимики и жестов героев своих картин. Под его кистью или гравировальной иглой каждая морщинка выдавала испуг, каждый волосок на голове старика – горечь, таящуюся в его душе. Глядя в зеркало, он изучал на собственном лице всю гамму человеческих чувств. Подобное гримасничанье перед зеркалом было обычным делом при изготовлении так называемых трони – характерных голов различных типических персонажей для продажи их на рынке. Это был особый жанр. Трони не являлись портретными изображениями конкретных людей или персонажей какой-либо истории. Сами по себе они Рембрандта не интересовали, но с их помощью он передавал экспрессивную мимику героев картин на библейские темы, принесших ему славу. Никто другой не передавал с такой убедительностью виноватый страдальческий взгляд Иуды, подбирающего с пола серебряную монету – плату за предательство, или искривленный в физической муке рот распятого Христа.
Художник в мастерской. Ок. 1629. Дерево, масло.
Музей изящных искусств, Бостон
Художник в мастерской (фрагмент: художник рассматривает свою работу)
Автопортрет с широко раскрытыми глазами в берете. 1630. Гравюра на меди.
Дом-музей Рембрандта, Амстердам
Хюйгенс, по-видимому, разглядел в юном Рембрандте природный дар создавать нечто значительное и возвышенное из низменного материала повседневной жизни. Беззубые и чумазые бездомные, с седой щетиной на подбородке, слезящимися глазами и засохшей коркой в носу, превращались под его рукой в апостолов и фарисеев. И разве не было это символом истории Голландской республики – чуда превращения обыкновенного в необыкновенное, происшедшего по воле всемогущего Бога и благодаря десятилетиям борьбы с испанским владычеством?
Так что если Хюйгенс видел картину Рембрандта, написанную на доске и изображающую художника в мастерской (с. 144) (что было вполне возможно, так как они познакомились в том же 1629 году, когда картина была создана), то он вполне мог оценить по заслугам эту небольших размеров работу, ее сложность и философскую глубину, искусно закамуфлированные внешней простотой.
На первый взгляд это этюд с натуры, запечатлевший повседневный труд художника и разнообразные орудия его труда. Художник похож на куклу в своей рабочей накидке-табарде и фетровой шляпе с широкими опущенными полями. В руках у него кисти и муштабель, который применяется для фиксации запястья при проработке мелких деталей примерно так же, как бильярдист использует кистевой упор для кия. Рядом каменная плаха для растирания красок. На вбитом в стену крюке висят палитры. Комната демонстративно пуста. В центре, на растрескавшемся дощатом полу, – массивный мольберт. В углу под действием проникающей с Рейна сырости, пропитывающей все городские дома, отвалился кусок штукатурки, обнажив кирпичную кладку. Но это нарочитое оголение мастерской, отсутствие бюстов и прочих традиционных составляющих художественного беспорядка, указывающих, что это Студия Художника, напротив, только усиливает ощущение, что в этой пустой, ничем не примечательной комнате происходит что-то очень важное. Так оно и есть, ибо это неприглядное помещение – храм, в котором молодой человек ревностно отдается старинному и священному занятию: творению искусства.
Это не просто картина, но творческий манифест. Она так мастерски написана, что с удивительной лаконичностью утверждает и одновременно демонстрирует собственным примером, в чем суть искусства: в единстве мастерства и воображения. Фрагмент с отвалившимся куском штукатурки, который свидетельствует о пронизывающей все сырости, представляет собой отдельный маленький шедевр, образец точнейшей моторики руки художника, эталон виртуозной иллюзионистской живописи, уместившийся на крошечном участке доски. (Рембрандт всегда умел работать и с точностью часовщика, и, если требовалось, с размахом каменщика.) Это что касается мастерства. Но сутью картины, ее душой является нечто гораздо более важное, настолько важное, что пряничный человек с абсолютно круглыми глазами-пуговками, окруженный атрибутами своей профессии, приобретает символическое значение. Он кажется и ребенком, и мужчиной, и учеником, и зрелым мастером, он олицетворяет само искусство. Он изображен не в процессе рутинной работы, а во время паузы. Зажав кисти в руке, он смотрит на большую доску, установленную на мольберте (того же формата, что и доска, на которую смотрим мы, но гораздо больше), но что именно он пишет, мы никогда не узнаем. Искусство, в конце концов, имеет право на тайну.
Толкователи-буквалисты сочли бы, что перед нами тот момент живописного процесса, когда завершена грунтовка и намечена монохромная композиция, ожидающая дальнейшей разработки. Но если бы было так, художник стоял бы у самого мольберта. Рембрандт никогда не был буквалистом, и его произведение трактует тему и у́же и шире учебного пособия для начинающего художника. Пряничный гений, похоже, погрузился в транс, его маленькие черные глаза – точки, нанесенные самым кончиком тонкой беличьей кисточки, в них созревает зародыш идеи. Сущность этой идеи Рембрандт, обожавший поддразнивать публику, обозначил светящейся чертой по краю доски, проведенной уверенной рукой идеально прямой вертикальной линией. Подобный знак у древних греков показывал, как пишет их первый историк Плиний Старший, что художник участвует в борьбе за совершенство. (Девизом классического искусства было Nulla diem sine linea, «Ни дня без линии».) Этот знак, таким образом, уже подразумевал все качества, необходимые талантливому художнику: мастерство, требовательность к себе и воображение. Кто из современников Рембрандта мог претендовать на то, что обладает ими? Только враги-католики – Рубенс в Антверпене и Веласкес в Испании. Последний со снисходительной симпатией изобразил голландцев, с хорошей миной вручающих ключи от города Бреды победителям-испанцам.
Но они больше не будут побеждены – ни на поле боя, ни на море, ни в художественной студии. Хюйгенс надеялся, что Рембрандт, чьи самые великие работы всегда черпали вдохновение в высокой поэзии идей, опровергнет старое карикатурное представление о голландцах как о народе, копошащемся в грязи, жадном до денег и вросшем своими ботинками в землю, как о чрезвычайно компетентных, но сугубо прозаических мастеровых, которые могут гордиться только бесподобными деревенскими домами, скотом и сыром. В Рембрандте Хюйгенс видел совсем другого человека. С его уличными персонажами – изъеденными молью бродягами, согбенными стариками, волоокими проститутками, тощими собаками, толстозадыми пьяницами со спущенными штанами – он сочинял куда более захватывающие драмы, чем сюжеты с античными моделями, один за другим создававшиеся утонченными классицистами. Ходульным поделкам на возвышенные религиозные темы, изготовлявшимся в Италии (Караваджо, которым восхищались голландские художники в Риме, был исключением), голландцы противопоставят протестантское искусство, рисующее человека без прикрас.
Поэтому в «Самсоне и Далиле» вместо того, чтобы явить соотечественникам стандартного обнаженного красавца Самсона, срисованного, как водится, с классических скульптур Геракла, одного из бесчисленных порождений Олимпа, Рембрандт (как всегда, вопреки ожиданиям здравомыслящей публики) прикрыл телеса своего героя, который в любом случае далеко не супереврей. И почему-то одетый Самсон кажется даже более уязвимым, чем голый стереотип. О том, что в этом юноше обескураживающе небогатырского вида может все-таки крыться спящий лев, говорят только осторожная походка, боязливый взгляд и вздувшиеся от напряжения вены солдата-филистимлянина, спускающегося на цыпочках по лестнице, чтобы, не дай бог, что-нибудь не скрипнуло.
В рембрандтовской версии сюжета конфликт возникает не столько между велением крови и силой характера соблазнительницы-филистимлянки, сколько между ее сердцем и головой. Она, разумеется, преобразована в подавальщицу из голландской таверны, с двойным подбородком, глубоким декольте и грязными ногтями, и пребывает в нерешительности до самого последнего момента. Рембрандт передает происходящую в ней внутреннюю борьбу с удивительной изобретательностью. В то время как одной рукой Далила держит прядь волос Самсона, которую она собирается отрезать, ослепив своего любовника и лишив его всяких сил, другой рукой она нежно гладит блестящие волосы, не в силах расстаться с тем, что любит. В одном естественном жесте Рембрандт передает самую суть дела, трагическую неразделимость нежной любви и жестокого предательства.
Этот конфликт чувства и долга от начала до конца придуман Рембрандтом – хотя, возможно, не без помощи голландских драматургов того времени, у которых история Самсона была в ходу. Обессиленный Самсон, возлежащий в объятиях ляжек Далилы, любовник и беспомощный ребенок одновременно, пребывает в неведении относительно ее планов. Но художник добавляет еще одну драматическую деталь, сделав ее ослепительно-яркой, чтобы привлечь наше внимание, – сложное зеленое с золотом сплетение на поясе Самсона. Тугой узел так прочно привязывает его к Далиле и к собственной судьбе, что развязать его невозможно, можно только перерезать. И орудие наготове.
Самсон и Далила. 1629–1630. Холст, масло.
Берлинская картинная галерея
III
В свои двадцать с небольшим лет Рембрандт уже был королем живописной драмы. Лишь его друг Ливенс приближался к нему по способности создавать на холсте столь впечатляющий театр. Поэтому Рембрандт, казалось, был обречен стать незаменимой находкой для двора принца в Гааге. К концу 1620-х годов молодая Голландская республика обладала внушительной военной и экономической мощью, но культура ее хромала. Для губернатора (то есть скорее президента, чем короля) принца Фредерика-Генриха Оранского образцом изысканности были его родственники Стюарты, правившие на другом берегу Северного моря. В коллекции короля Карла I имелись работы Рембрандта, и, поскольку художник подавал все больше надежд, что может стать голландским ответом Рубенсу и Ван Дейку, ему доверили написать портрет Амалии фон Сольмс, принцессы Оранской. Еще более многообещающим был поступивший от Хюйгенса заказ на целую серию картин на тему Страстей Христовых, предназначавшихся для губернатора. При желании Рембрандт мог переехать в Гаагу и стать первым придворным художником.
Но он не переехал в Гаагу. Вместо этого он отправился в Амстердам, что стало поворотным пунктом не только в его жизни, но и в истории живописи. Этим шагом он сделал ставку на коммерческое будущее против аристократического прошлого, попросту говоря, поехал за деньгами. В 1630 году Амстердам переживал экономический бум и преображался. Изобилие селедки в прибрежных водах и торговля зерном превращали портовый город в один из крупнейших супермаркетов мира. Он стал центром первой глобальной торговой сети, вобравшей в себя территорию от Ост-Индии до Бразилии. Имея твердую валюту, Голландия скупала, часто на годы вперед, чуть ли не весь урожай зерновых в Польше и норвежский лес. Привилегированные классы в Швеции и Польше жили припеваючи и не по средствам и были рады притоку денег, а голландцы получали взамен дешевый лес, пеньку, смолу и железо. Эти материалы шли на строительство кораблей, сконструированных без всяких излишеств и управлявшихся относительно небольшой командой, зато вмещавших большие объемы грузов. Это снижало фрахтовые ставки, и амстердамские склады и рынки предлагали такие скидки, что импортерам не было смысла везти товар до места назначения, будь то Малакка или Мурманск. В Амстердам ехали за русскими мехами, итальянским шелком, английской шерстью, французским вином, шведской медной рудой и немецкими пушками. Тут можно было добыть кожу и сталь, изготовленные врагами-испанцами, мускатный орех, перец и другие специи из Ост-Индии, а также нанять перевозчиков табака и сахара – рыночных новинок, быстро становившихся товарами массового потребления. Город купался в деньгах.
Вот Рембрандт и поехал в Амстердам, движимый, несомненно, уверенностью, которую разделяли с ним тысячи иммигрантов, что он будет жить в новой Венеции. Город преображался и внешне благодаря трем новым концентрическим кольцевым каналам, обстроенным домами с искусно сконструированными фронтонами. Кирпичные ступенчатые фронтоны, еще недавно столь популярные в Амстердаме, теперь сменились более вычурными, с «шейкой» или в форме «колокола», которые часто были сложены из известняка. Дома на каналах были высокими и узкими, но вытянутыми в глубину; их интерьеры требовали оформления. Пользовались спросом массивные шкафы и комоды, обтянутые кожей кресла, зеркала, расписные изразцы, карты мира, завоеванного голландскими купцами, а также картины – всё в невиданном дотоле количестве. Хотя сами голландцы не заявляли об этом в открытую, они переживали один из тех загадочных периодов, когда внезапно свалившееся богатство порождает всплеск творческой активности и в культуре. Вместо знатных покровителей появились первые общедоступные рынки произведений искусства. За два-три гульдена, составлявших недельный заработок плотника, можно было приобрести изображение какого-нибудь деревенского кавалера, заигрывающего с пышногрудой служанкой, или рыбаков на реке с плакучими ивами по берегам.
Искусству представился шанс начать с чистой страницы. Изгнав божественные лики из церквей как нарушение второй библейской заповеди и идолопоклонство, кальвинистская Реформация совершила революцию во взглядах на искусство и в восприятии его. Хотя образы святых не считались больше вспомогательным средством спасения души – спасение предопределено Богом, утверждали теологи-протестанты, – они настолько укоренились в нидерландской культуре, что выкорчевать их полностью было невозможно. Но теперь зов плотских наслаждений и страх перед опасностями земной жизни заставили прежних кумиров отступить. Рембрандт, как выяснилось, успешно справлялся с изображением и того и другого. Мирское и божественное были не так уж четко разделены. Призраки благочестия прокрадывались на сцену, представлявшую явления материального мира. Среди таких атрибутов мирских развлечений, как музыкальные инструменты и мерцающие бокалы белого вина, находилось место черепу или песочным часам. Беззубые старикашки пристраивались рядом с пышнотелыми проститутками. Даже жизнерадостный, как правило, Рембрандт выгравировал Смерть, преследующую молодую пару. Никто не умел так хорошо передавать смешанные чувства, как он, – возможно, благодаря тому, что ему довелось пережить.
Рембрандт поймал удачный момент, прибыв в Амстердам в 1630 году. Он успешно выступал не только в роли художника, но также предпринимателя и инвестора и вскоре сошелся с дельцом Хендриком ван Эйленбургом. Вдвоем они выжимали из искусства все, что можно: торговали картинами и копиями с них, изготавливали гравюры и брали учеников. Рембрандт процветал, он писал и портреты, и «остросюжетные» картины на исторические темы, в которых классическая красивость приносилась в жертву неожиданной и даже шокирующей эффектности. Его вдохновляли работы Рубенса и Караваджо, с творчеством которого он познакомился через художников из Утрехта Геррита ван Хонтхорста и Хендрика Тербрюггена, побывавших в Риме. Крупные фигуры толпятся на его картинах, взламывают раму и расталкивают зрителей. Прямо на нас валятся винные кубки и ножи для жертвоприношений, писает перепуганный ребенок. Все переоценивается. Ганимед, традиционно изображавшийся гибким юношей, похищенным Юпитером, становится упитанным малышом с гипертрофированной мошонкой, он ревмя ревет и орошает наш бренный мир, улетая в когтях бога-орла. Глаза Исаака, которому его отец Авраам собирается перерезать горло, у других художников обычно завязаны куском ткани, но у Рембрандта их накрывает огромная лапа патриарха. На картинах Рембрандта любовь и насилие всегда идут рука об руку. Если владелец фешенебельного дома на канале имел средства, чтобы купить эти орудия приведения зрителей в ужас или экстаз, и вывешивал их в гостиной, то это свидетельствовало о том, что он знает толк в искусстве.
И все же самым ходким товаром фирмы «Рембрандт, Эйленбург и Ко» были портреты. Отчасти благодаря тому, что это совпадало с его собственными мечтаниями: Рембрандт хорошо понимал амстердамских нуворишей с их жаждой иметь не менее величественные собственные изображения, увековечивающие их в полный рост или в три четверти, чем портреты итальянских и английских аристократов. Но, с другой стороны, он был родом из Лейдена, где обличение богопротивных пороков бесстыдной роскоши было непременным номером в репертуаре проповедников. Голландцы, и даже жители Амстердама, безусловно находившие вкус в хорошей жизни, в то же время гордились тем, что не были разодетыми в пух и прах знатными бездельниками. Согласно патриотической легенде, Всемогущий благословил голландцев на победу в долгой войне с Испанией именно по той причине, что они были скромны, бережливы и воздержанны. Самодовольное роскошество погубило не одну империю. Горе погрязшим в суетных утехах, их ждет участь Вавилона!
Жертвоприношение Авраама. 1635. Холст, масло.
Эрмитаж, Санкт-Петербург
Так что для полного удовлетворения своих богатых набожных заказчиков Рембрандт должен был выполнить сразу две, по видимости противоречащие друг другу, задачи: петь осанну и сигнализировать об опасности. Сначала надо было, мобилизовав все свое несравненное мастерство в воспроизведении предметов роскоши – кружев, шелка, тонкого белья, – написать их почти осязаемыми, передать игру красок на свету. В своей лучшей форме Рембрандт, не скрывавший, что он и сам не прочь принарядиться, мог, благодаря безупречному владению кистью, работать не хуже фотографа журнала мод, создавая изысканную текстильную поэзию. Мягко касаясь поверхности холста кистью, он изображал складки пышного накрахмаленного воротника или филигранные золотые блестки муслина. На портрете мужчины в тюрбане, хранящемся в нью-йоркском Метрополитен-музее, художник виртуозно передает полупрозрачный верхний слой одеяния осанистого псевдопаши (не исключено, что Рембрандт сам его и нарядил, – он любил переодевать своих моделей в экзотические театральные костюмы с аксессуарами). Иногда для того, чтобы точно воспроизвести текстуру ткани (например, кружев), он тщательно выписывал подробности, тут же кое-где соскребая краску другим концом кисти.
Однако нельзя было не прислушиваться к проповедям, осуждающим чрезмерное сибаритство, и художник старался, чтобы позирующий не выглядел разряженным манекеном. Лицо и общий облик человека должны были компенсировать вычурность костюма и показать, что он смиренен, добродетелен, политически сознателен, верен супружескому долгу, любезен, бережлив – одним словом, обладает достоинствами, без которых не только индивидуум, но и вся республика обречены на гибель.
Рембрандт понимал, что социальные отношения – костюмная драма. Однако жители Амстердама (по крайней мере, в его студии) разыгрывали ее на свой манер. На итальянских портретах эпохи Высокого Возрождения, как и барочных портретах испанских и французских придворных, одежда представляла человека, служила маской общественного положения. Так, темные цвета костюмов кастильской династии были Маской Королевских Забот, Стюарты щеголяли в радужном муаре, служившем Маской Земного Божества, стальной блеск соответствовал Маске Воинской Доблести. А в Голландии люди просто носили одежду; ни у судостроителя, ни у торговца скобяными изделиями или тканями не было особых атрибутов, помимо орудий труда и материалов, с которыми они имели дело, так что портретисты, и Рембрандт в том числе, могли свободно передавать индивидуальный характер своих натурщиков.
Никто из художников не изображал с таким жадным удовольствием, как Рембрандт, человеческие лица во всех деталях, показывая, что делает с ними безжалостное время. Другие из тактичности старались скрыть недостатки, вроде морщин или носа картошкой, но Рембрандт не признавал подобной косметики. Он считал, что все эти особенности не компрометируют внутреннее благородство человека и просто служат его дополнительной характеристикой. Он смотрел на людей с симпатией и не считал отклонение от нормы недостатком. Его ню были симфониями целлюлитного искусства. Глядя на карнавальное мельтешение лиц коммерческого Амстердама, он видел в каждом из них личность и раскрывал прячущиеся под маской индивидуальные черты. Никто не разглядывал более пристально полуприкрытые веками слезящиеся глаза восьмидесятилетнего старика, приглаженные и заправленные под льняной чепец волосы, чуть лоснящийся длинный нос, выражающий полное довольство жизнью, нависающие складки подбородка. Никому другому не удавалось изобразить все эти заурядные лица с такой ощутимой жизненностью.
Рембрандта интересовали, разумеется, не анатомические подробности сами по себе. Он понимал, что люди смотрят друг на друга не бесстрастно и изогнутые дугой брови, угловатые челюсти и выдающиеся скулы заранее настраивают на симпатию или антипатию. И хотя, передавая разнообразные физиономические нюансы, он задействовал весь доступный ему диапазон живописной техники – от точных скользящих прикосновений кистью к холсту до смелой размашистой живописи, – персонажи Рембрандта кажутся нам более симпатичными и даже знакомыми, когда он действует кистью особенно грубо и свободно. Ведь эскизность, вообще-то, приглашение к сотрудничеству. Мы воспринимаем намек художника и сами завершаем картину. А рассматриваем человека внимательно мы в том случае, если уже почувствовали симпатию к нему.
Брови восьмидесятитрехлетней Ахье Клесдохтер со складками кожи, нависающими над веками, написаны отрывистыми прикосновениями кисти (с. 158). Это делает ее взгляд немного неуверенным, что смягчает жесткое выражение старого, черепашьего лица и придает ему выражение тоскливого смирения перед неизбежным будущим. Терпеливое ожидание смерти – постоянный мотив протестантских жизнеописаний благочестивых людей, где целые главы посвящены матронам и вдовам. Но направленный чуть в сторону взгляд Ахье словно намекает, что у нее есть свои соображения относительно смертности.
Еще важнее жизненная сила персонажей Рембрандта. В конце концов, и сам Амстердам, подгоняемый ветром и водой, не был городом, где царит покой, – он стремительно несся вперед. Точно так же и люди на портретах Рембрандта: привычные маски готовы соскользнуть с их лиц, да и тела редко пребывают в покое. Даже сидящая модель не бывает у него малоподвижной. «Ученый» (а может быть, просто образованный господин) за письменным столом резко поднял голову, словно его работу внезапно прервали. Судостроитель так поглощен своими чертежами, что едва замечает жену, вошедшую, чтобы вручить ему письмо. Самое обычное движение передано у Рембрандта необычно. Пара на солидных каблуках надвигается на нас быстро и решительно, что видно по высоко поднятым каблукам и развевающимся на туфлях кисточкам.
Николас Рютс. Ок. 1631. Дерево, масло.
Коллекция Фрика, Нью-Йорк
Таким образом, Рембрандт предлагает нам яркое театральное зрелище со сценами из буржуазной жизни. На картинах мастеров фламандского Возрождения богачи восседают за столом, перед ними высятся горки монет, стоят весы с многозначительными гирями, а в качестве залога искупления грехов поблизости лежит Библия. Иногда они стоя демонстрируют семейное счастье на фоне лика Девы Марии. У Рембрандта же властители рынка ведут свободную, обеспеченную жизнь – по крайней мере, в тот момент, когда художник дарует им бессмертие. Они прихорашиваются, болтают, молятся. Но они не позируют, они живут.
Торговец мехами Николас Рютс вторгается к нам с чуть ли не пугающей настойчивостью (с. 156). Наверняка он сам пожелал, воспользовавшись случаем, прорекламировать «фирменную марку» и завернулся с ног до головы в свой товар. И художник услужливо выписывает соболий мех, ниспадающий роскошным каскадом с плеч Рютса, но разрешает себе в этом утопающем в шерсти портрете маленькое озорство. Остроконечные усы и блестящие глаза меховщика делают его немного похожим на грызунов, чьими шкурками он торгует. Не только сам Рютс, но и мех выглядит на портрете как живой. Благодаря тончайшим мазкам белой краски шерстинки меховой оторочки на рукавах Рютса приподнимаются, как наэлектризованные, словно мы только что погладили мех.
Заказчикам надо угождать, и Рембрандт не мог сделать из Рютса лишь рекламу его бизнеса. Надо было показать, что он доблестный гражданин, бесстрашный предприниматель, ведущий дела с Московией. Поэтому художник пишет портрет в три четверти роста, как за пределами Голландии изображали только знатных особ, в то время как Рютс был всего лишь бизнесменом, и притом слегка плутоватым. И вот он становится современным человеком действия, у которого руки буквально чешутся на дело: корпус его слегка изогнут в одну сторону, голова повернута в другую, лицо оттеняет воротник, который словно заряжен электричеством и вздымается волной из тени на свет. Но динамических характеристик для солидного коммерсанта мало, и поэтому глубокая тень под подбородком Рютса придает ему вид мыслящего человека, порозовевшие веки говорят о бессонных ночах, проведенных в заботах об общем деле. В руке, уверенно прижав листок большим (очень большим) пальцем, он держит какой-то документ – контракт или счет? – подтверждающий, что этот человек пользуется доверием. Уже тот факт, что основой для портрета послужил самый дорогой экзотический материал – красное дерево, устраняет всякие сомнения относительно богатства модели.
Но устраняет он их, как выяснилось, зря. За месяц до смерти Рютсу, который в изображении Рембрандта идеально сочетает коммерческую успешность и кредитоспособность, пришлось объявить о своем банкротстве. Его дети повесили портрет на лестнице своего дома, демонстрируя образцовую почтительность к родителю. Американский магнат Дж. П. Морган, который впоследствии приобрел портрет, не одобрил бы этого. А впрочем, может быть, и одобрил бы.
Портрет восьмидесятитрехлетней женщины. 1634. Холст, масло.
Национальная галерея, Лондон
Портрет восьмидесятитрехлетней женщины (фрагмент)
IV
В 1640 году, когда Рембрандт написал свой «Автопортрет в возрасте тридцати четырех лет», он был уже не просто одним из художников столицы наспех сколоченной империи, но и неотделимой частью ее успеха. В 1638 году он стал домовладельцем, приобретя недвижимость на улице Святого Антония, где жили его бывший учитель Питер Ластман и его прежний партнер Хендрик ван Эйленбург. При этом его дом был красив и куда более импозантен, чем обычное жилище рядового художника, он свидетельствовал о высоком положении в обществе, славе, почете. В доме было три этажа и каменный фасад в стиле ренессанса. Переднюю украшали классические бюсты, небольшие пейзажи, часть которых принадлежала кисти хозяина дома, а также жанровые сценки пирушек в таверне. Далее следовала настоящая художественная галерея с десятками картин любимых художников Рембрандта: морскими пейзажами Яна Порселлиса и Симона де Влигера, фантастическими видениями Геркулеса Сегерса, у которого Рембрандт многому научился. На втором этаже располагались студия художника окнами на север, небольшая мастерская и поразительный «антикварный кабинет».
Рембрандт пристрастился ходить на аукционы, где отчаянно торговался, если стоимость вещи была доступной (а порой и в тех случаях, когда не была), и очень расстраивался, если она от него ускользала. Его картины и альбомы гравюр и рисунков выдающихся мастеров – Лукаса ван Лейдена, Брейгеля, Дюрера, Мантеньи и Тициана – служили ему источником информации и вдохновения. «Антикварный кабинет» был набит экзотическими редкостями: японским оружием, дальневосточными носовыми флейтами и трубками для пуска ядовитых стрел, кавказскими кожаными изделиями, персидскими тканями, турецкими пороховницами, яванскими колокольчиками-гамеланами и куклами теневого театра, цитрами, тропическими кораллами и раковинами. Рембрандт, подобно современным любителям интернет-аукционов, стал заядлым коллекционером, неспособным отказать себе, если попадалось что-нибудь интересное. Он даже соблазнился легендой о безногих райских птицах, которые за отсутствием конечностей вынуждены все время находиться в воздухе и спать, подложив собственное крыло, приобрел один экземпляр и прилежно зарисовал его. Но легенда имела прозаическое объяснение: таксидермисты удаляли птичкам ноги, чтобы подкрепить выдумку.
Некоторые из этих раритетов, прежде всего турецкие и персидские ткани и японский шлем, попали в качестве реквизита на картины Рембрандта, но в целом его страсть к коллекционированию была порождена глубоко укоренившейся в нем тягой к чудесам. Хранящееся в его «антикварном кабинете» всеобъемлющее собрание редкостей как природного происхождения, так и рукотворных, созданных в далеком прошлом и в далеких странах, позволяло владельцу, словно волшебнику, вместить в одной комнате весь мир. Это было популярным увлечением благородных господ-знатоков всей Европы, и сын мельника мог гордиться тем, что попал в их компанию. Хотя Рембрандт едва ли покидал когда-либо Амстердам, он любил мысленно путешествовать по свету, дивясь его чудесам. На его рисунках встречаются слоны, львы и турки в тюрбанах; некоторые из рисунков представляют собой его собственные версии могольских миниатюр из Индии. Он совмещал страсть к экзотике с приверженностью домашнему очагу, одевая супругу Саскию ван Эйленбург в причудливый наряд из шелка и парчи, обернув свою голову чалмой и усадив около ног маленького «льва», то бишь пуделя.
Трудно найти другого художника, который регистрировал бы во всех подробностях перипетии семейной жизни на картинах, рисунках и гравюрах с такой доверчивой непосредственностью. Бернини, создавший скульптурное изображение своей неверной любовницы, не удостоил подобной чести свою добродетельную жену Катерину. Давид развелся с женой, чтобы беспрепятственно отдаться делу революции. Тёрнер (который не был женат, но имел любовницу) и Пикассо (который был женат, но имел любовницу) неоднократно заявляли, что искусство и брак – вещи трудносовместимые. Но у Рембрандта в течение недолгого восьмилетнего периода жизни с Саскией создание художественных образов и создание семьи поддерживали друг друга. Так что нам досталось много Саский: Саския, глядящая на нас искоса, Саския, положившая руку на лоб и отвечающая на внимательный взгляд мужа не менее пристальным взглядом, спящая Саския в постели, проснувшаяся Саския в постели, Саския в последний год жизни, осунувшаяся из-за болезни.
Странным образом их двойной портрет на гравюре, изготовленной в 1636 году, то есть через два года после свадьбы, в одно и то же время соблюдает традиционную негласную семейную иерархию (муж крупным планом спереди, почтительная жена чуть сзади и мельче) и подрывает ее. Это тем более удивительно, что Рембрандт, хорошо знавший все условности семейной жизни, написал два двойных портрета, демонстрирующих отношения супругов. Жена судостроителя прерывает размышления своего мужа, а супруга проповедника-меннонита, внешне напоминающего быка, робко выслушивает его наставления, нервно комкая в руках носовой платок. Но на своей гравюре художник переосмысляет этот жанр, так как Саския присутствует при его работе и даже является ее объектом. Она смотрит в зеркало, чуть удивленно улыбаясь, губы между полными, как пуховые подушки, щеками сложены в форме лука купидона. Рембрандт, по-видимому, любил фиксировать подобное выражение на лице супруги. Судя по перспективе, да и по смыслу, Саския на гравюре находится позади мужа, но очевидно, что в пространстве изображения она сидит напротив него, что и хотел показать художник. Рембрандт держит инструмент со странной рассеянностью, зажав его между указательным и средним пальцем руки, которая продолжает инстинктивно двигаться над листом бумаги, и становится ясно, что он закончил рисунок и сейчас повернется обратно к супруге.
Назвать Рембрандта с женой партнерами на современный лад было бы, наверное, неправильно, но трудно не назвать их сообщниками. В чем? Только не в стремлении выставить себя благопристойной протестантской парой (судя по «Автопортрету с Саскией», иллюстрирующему притчу о блудном сыне, с. 165). Не было ничего странного в том, чтобы переодеться для портрета в какой-нибудь необычный костюм, но вот изобразить себя как блудного сына, пьянствующего в таверне и гогочущего (уже дурной тон), с рукояткой шпаги, победно торчащей вверх наподобие фаллоса, и собственной женой, позирующей в роли блудницы, поместившей свой обширный зад на ляжке гуляки, – это было еще как странно. Прежде не замечалось, чтобы Рембрандт упивался скандальной славой. Некоторые критики трактовали эту картину как назидательную, и Рембрандт действительно изобразил на ней шаблонный набор предметов, напоминающих о цене, которую придется заплатить за мотовство, – доску для выписки счета, павлина – эмблему тщеславия, притаившуюся позади Саскии, и бокал с мерной насечкой, вроде бы призывающий к скромности в возлияниях, но пренебрегающий собственным советом, – однако подобную трактовку трудно принимать всерьез.
Саския в соломенной шляпе. 1633. Серебряный карандаш на пергаменте.
Купферштихкабинет, Берлин
Больше похоже на правду, что эта картина – ответ «А пошли бы вы!..», брошенный фрисландским родственникам Саскии, ворчавшим по поводу того, что художник проматывает наследство жены, доставшееся ей от отца, бургомистра города Леувардена, к этому моменту почившего и оплакиваемого. Хотя предположение, что Рембрандт был склонен к бунтовщичеству, относится к области фантазий, верно то, что в свои самые успешные годы он предпочитал изображать Саскию не степенной huisvrow – домохозяйкой, а нежным природным явлением, его «ребенком-цветком». На самом первом портрете Саскии – рисунке, сделанном сразу после их обручения, она в соломенной шляпе, из-под которой выбиваются медного цвета кудри, в руках у нее поникший полевой цветок. Изображая супругу в виде Флоры, святой покровительницы куртизанок, Рембрандт вплетает ей в волосы весенние цветы и дает в руки жезл, увитый маргаритками и левкоями. Она была для него фетишем плодовитости. В 1635 году, когда разразилась невиданная прежде эпидемия чумы, уносившая сотни жизней каждую неделю, Саския не поддалась старухе с косой. Она рожала детей. Но жизнь не всегда идет так, как планирует искусство. Из их троих детей двое умерли в младенчестве. Спустя несколько лет Рембрандт изготовил гравюру, где Смерть в виде скелета вылезает из открытой могилы и встает на пути молодой пары. У девушки на голове шляпа с плюмажем, в которой ему часто позировала Саския, из-под шляпы выбивается волна прекрасных волос. В правой руке она держит левкой, словно желая отогнать беду. Но мы знаем, что заклинание не подействовало.
Портрет Саскии на листе с эскизами. Ок. 1635. Офорт.
Рейкспрентенкабинет, Амстердам
Автопортрет с Саскией. 1636. Офорт.
Британский музей, Лондон
V
Ничто не предвещало беды. В 1639 году, когда была создана гравюра «Супруги и смерть», Рембрандту выпала удача написать портрет Марии Трип, самой завидной невесты Амстердама, наследницы Элиаса Трипа, который нажил одно из крупнейших в Голландии состояний, занимаясь горным промыслом и торговлей оружием. Родом из старинного южноголландского города Дордрехта, Трип, как и полагается фабриканту и продавцу оружия, был известен своей воздержанностью и набожностью. Рембрандт написал портрет вдовы Элиаса Алейт Адриансдохтер, старательно изобразив ее безупречно накрахмаленной матроной. На тощей шее почтенной Алейт сидит, как жернов, старомодный жесткий воротник, в который художник вложил все свое мастерство и сверх того. Портрет ее дочери (с. 167) также потребовал от Рембрандта проявить весь свой сокрушительный талант. Он подчеркивает высокое положение семейства Трип, поместив Марию под классическую арку; эффектный многослойный кружевной воротник с фестонами и тяжелые розетки из золотых нитей, украшающие черное шелковое платье, повествуют о богатстве изображенной. Но ее лицо, напоминающее молочный пудинг, имеет простодушное выражение, на губах нерешительная улыбка, а жемчуга на шее символизируют не богатство, а невинность. Рембрандт до конца выдержал принцип «богатые, но скромные». Он, по-видимому, пребывал в полном согласии со своими заказчиками и полагал, что этот идиллический «брак по расчету» будет длиться вечно.
Согласие сохранялось и в 1640 году, когда он получил завидный заказ написать групповой портрет роты аркебузиров гражданского ополчения для их новых казарм со стрельбищем. Это почетное задание свидетельствовало о том, что в амстердамском обществе его ценят высоко, ибо здесь все решалось в ратуше и совещательных залах гильдий, а не во дворцах. Групповой портрет был характерен именно для голландской живописи, потому что Голландия, при всем авторитете доблестного принца Оранского, была не абсолютной монархией, а республиканским содружеством различных коллективов – городских советов, гильдий, правлений домов для бедных и сирот, рот гражданского ополчения. Помпезные портреты королей и принцев не были популярным жанром в Нидерландах, именно групповые портреты создавали образ нации.
Художники, которым доставались такие заказы, были фактически официальными представителями городского искусства, подобно тому как придворные художники представляли искусство той или иной монархии. Но сперва они должны были заслужить высокий статус мастера группового портрета (и право на весьма приличный гонорар – деньги собирались с каждого из представленных на портрете горожан), удовлетворив целому ряду требований, которые предъявлялись к сюжету и композиции таких картин. Во-первых, следовало передать внешнее сходство, иначе позировавшие отказывались платить. Во-вторых, надо было правильно решить тонкий вопрос расположения фигур в соответствии с их негласной иерархией. К примеру, капитана полагалось сделать более заметным, чем подчиненных ему лейтенантов, которые, в свою очередь, должны были частично затмевать сержантов и прапорщиков. Возникал также вопрос, должны ли фигуры взаимодействовать друг с другом, пусть даже несколько аффектированно. Вопрос решался просто, когда на холсте запечатлевали какой-нибудь корпоративный праздник и сам акт еды и питья служил торжественным заявлением, что жестокая война, которую навязали голландцам, оказалась бессильна лишить их свободы и здорового аппетита. Франс Хальс из Харлема умел изобразить большую празднично разряженную компанию в непринужденной обстановке, сохранив при этом подобающую торжественную атмосферу. И наконец, обычно высказывалось несколько неопределенное пожелание, чтобы художник передал общую идею, объединяющую данный коллектив, будь то склонность к филантропии или воинственный дух.
Автопортрет с Саскией как иллюстрация к притче о блудном сыне (блудный сын с блудницей). Ок. 1635. Холст, масло.
Галерея старых мастеров, Дрезден
Саския в красной шляпе. Ок. 1634–1642. Дерево, масло.
Кассельская картинная галерея
Портрет Марии Трип. 1639. Холст, масло.
Рейксмюзеум, Амстердам
У недостаточно умелых художников стремление удовлетворить одно из этих требований иногда препятствовало выполнению другого. Соблюдение иерархии, например, нарушало естественные взаимоотношения между персонажами (но только не у изобретательного Хальса). Какого-нибудь сержанта приходилось помещать за столом спиной к зрителю или изображать «непринужденно» обернувшимся, словно художник застал его врасплох. Но в Амстердаме группы, которые предстояло запечатлеть на холсте, как правило, бывали столь многочисленны, что создать живой коллективный образ оказывалось практически невозможно. Художники либо выбирали холст большей ширины, чтобы он вместил всех участников и им не приходилось бы тесниться и толкать друг друга, либо располагали их рядами, наподобие школьной футбольной команды, часто на разных ступеньках, так что воины помладше нависали под некоторым углом над рассаженными по горизонтали старшими офицерами. Но изображение при этом получалось удручающе двухмерным. Как едко заметил однажды теоретик искусства ученик Рембрандта Самюэл ван Хогстратен, фигуры сидят так ровно, что «им можно снести головы одним ударом».
За восемь лет до получения этого заказа Рембрандт необыкновенно успешно избежал вышеперечисленных трудностей в портрете восьми хирургов на открытом уроке анатомии доктора Тюльпа. Доктор сам подсказал художнику композицию картины: правой рукой он обнажает мышцы и сухожилия на руке трупа и одновременно левой рукой демонстрирует движение, которое они производят. Этот театральный прием (дело ведь происходит все-таки в анатомическом театре) дал Рембрандту возможность создать драматическую сцену, в которой все взгляды прикованы к центральному действию. Группа хирургов в центре образует некое подобие стрелы, вытянув шеи, эти трое разглядывают труп или благоговейно внимают наставнику, производя жутковатое впечатление и напоминая изумленные фигуры на картине Караваджо «Неверие святого Фомы» (с. 63). Направление взглядов прочих персонажей более разнообразно: одни смотрят на доктора Тюльпа, другие – на его атлас анатомии, третьи – на нас, словно приглашая поразмышлять о бренности мира и о ловкости рук.
Но рота ополченцев под командованием капитана Франса Баннинга Кока была куда более серьезным испытанием – и не только потому, что надо было изобразить вдвое больше фигур. Картина предназначалась для парадного зала на втором этаже штаб-квартиры аркебузиров, где должна была занять место в центре длинной стены, напротив окон, выходящих на реку Амстел. Для работы над огромным холстом Рембрандту пришлось соорудить специальную временную галерею во дворе своего дома. К этому времени в помещении штаб-квартиры уже были вывешены несколько картин, выполненных другими художниками. Все они подчинялись основным правилам: тот, кто платит, должен быть узнаваем и два-три человека в группе должны для разнообразия кивать или переговариваться. Главное, не рисковать и никого не обидеть.
Но Рембрандт, разумеется, не мог не рисковать. Он отбросил все правила и решил написать картину как драму действия, наполненную таким же кипучим динамизмом, как и все его сюжетные работы. Все, кому надо, будут, естественно, присутствовать на полотне, но художник подчинит их самому действию, и его энергия, собравшись в один конусообразный пучок, вершиной которого станет Баннинг Кок, будет вырываться из картины под аккомпанемент собачьего лая, барабанного боя и ружейной стрельбы – и поражать зрителя!
Вместо того чтобы выстроить фигуры в один ряд, чтобы они двигались параллельно плоскости картины, Рембрандт делает немыслимое: меняет направление оси движения с тем, чтобы персонажи приближались из глубины картины, строясь перед арочным входом в их штаб-квартиру с намерением отправиться на улицы города.
Но этот порыв и построение беспорядочной толпы боевым порядком – сплошные выдумки. Гражданское ополчение Амстердама практически не принимало участия в затянувшейся упорной войне с Испанией, оставив это занятие профессиональным военным и наемным солдатам. Но чем более преуспевающим становился Амстердам, тем нужнее ему были старые мифы и вера в то, что в минуту опасности его стойкие сыны сплотятся на защиту родного города и страны. Но то, что капитан Баннинг Кок и лейтенант Виллем ван Рейтенбурх, щеголяющий в роскошном желтом костюме и ботфортах, были почти аристократами, а остальные ополченцы в большинстве своем торговцами тканями, не отменяло тот факт, что все они тоже чувствовали себя солью земли, такими же патриотами, как и старая гвардия, которая, по велению Всевышнего, послужила фундаментом их славного отечества. Дабы сделать эту фантазию наглядной, Рембрандт изображает три фигуры, которые словно воспроизводят иллюстрации из руководства по обращению с оружием: ополченца в красном костюме, заряжающего аркебузу с дула в левой части картины, коротышку, чье лицо закрывает его же большой шлем, увенчанный дубовыми листьями, стреляющего из своей аркебузы (что выглядит совершенно нелепо, поскольку его пуля неизбежно должна сбить шикарную шляпу с головы лейтенанта), и еще одного человека в шлеме, вытряхивающего с полки аркебузы горячий отработанный порох.
И фантазия оживает. Хотя действие на картине кажется беспорядочным, на самом деле все движется по осевым диагоналям, которые обозначены направленными вправо копьем, аркебузой и шпагой, а также флагом и еще одной аркебузой, указывающими влево; эти диагонали похожи на спицы гигантского колеса, в центре которого находится командир Баннинг Кок. Колдуя с красками, Рембрандту удается даже нарушить законы оптики, которые гласят, что изображенное на переднем плане должно быть светлым, темные же тона следует приберечь для дальнего плана. Но Баннинг Кок отдает приказ идти вперед и сам начинает движение, оторвав от земли пятку; кисти на эфесе его шпаги развеваются, рот открыт в команде, рука указывает направление движения, и тень от нее падает на куртку лейтенанта. Чтобы не загромождать пространство картины, Рембрандт чуть укорачивает его руку, как и алебарду его помощника. Голубая с золотом кисть алебарды нарушает еще одно устаревшее правило, согласно которому предметы, находящиеся ближе к зрителю, должны быть проработаны тщательнее, чем более дальние. Но более свободные и размашистые мазки позволяют ему усилить впечатление, что кисть представляет собой сплетение шнуров.
Ночной дозор. 1642. Холст, масло.
Рейксмюзеум, Амстердам
Ночной дозор (фрагмент: художник выглядывает из-за спины двух ополченцев)
Вся картина, таким образом, состоит из множества хитроумных элементов, в числе которых автопортрет художника. Он, правда, сводится к одному видному нам глазу и кусочку легкоузнаваемого носа, помещенным позади знаменосца с флагом левее молодого человека в красивом шлеме. Глаз смотрит на исторический синий с золотом флаг аркебузиров, который является одним из ключевых компонентов картины наряду с перекрещенными копьями справа, образующими знак «Х», геральдическую эмблему Амстердама. Картина до предела загружена подобными намеками, но уберешь один из них – и целого не станет. На первый взгляд здесь царит хаос, однако фокус в том, что на самом деле все подчинено строгому порядку. Я думаю, что примерно так же художнику виделся и великий город, в котором он жил. Так что данное полотно является портретом самого Амстердама с его порывом к свободе, целенаправленным и упорядоченным. Каждый занимается своим делом, но вместе делают одно общее.
Рембрандт, конечно, очень рисковал, надеясь, что эффектное зрелище само по себе вызовет у аркебузиров ощущение, что они получили именно то, чего желали, – притом что картина совершенно не похожа на обычные групповые портреты ополченцев. «Ночной дозор» действительно не вызвал шквала порицаний в адрес художника, а Баннинг Кок одобрил его и даже заказал себе копию, однако, как вспоминал впоследствии Самюэл ван Хогстратен, в то время подававший надежды ученик Рембрандта, не все были в восторге от театрального зрелища, представленного его учителем. И в том же 1642 году прежнее теплое отношение к Рембрандту стало сменяться более прохладным.
VI
С тех пор как в юные годы Рембрандт был избран Хюйгенсом в вундеркинды, никто пока не жаловался на его работу. Но вот одному из заказчиков настолько не понравился его портрет, что он отказался платить за него. Это было очень досадно, тем более что недовольство выразил Андрис де Греф, который вместе со своим братом Корнелисом стоял у кормила городской власти и решал вопросы, связанные с искусством. Неизвестно, что именно заставило де Грефа отказаться уплатить Рембрандту пятьсот гульденов, но можно предположить, что вошедшая у художника в привычку свободная манера письма не удовлетворила притязаний знатного лица, иначе представлявшего себе портрет важной персоны. Наверное, ему виделось что-нибудь вроде величественных полотен Ван Дейка и Рубенса. А Рембрандт написал то, что видел, и это был лучший комплимент позировавшему, какой он мог сделать. Конфликт между ними зашел слишком далеко. Чтобы получить гонорар, Рембрандту пришлось пройти унизительную процедуру проверки сходства портрета и модели, которую проводила арбитражная комиссия, состоявшая из его коллег.
Два года спустя Хюйгенс (у которого тоже были уже столкновения с Рембрандтом, когда тот существенно запоздал с работой над циклом «Страсти Христовы») опубликовал едкую эпиграмму, высмеивавшую неспособность Рембрандта передать сходство в портрете. Художник ответил грубовато выполненным, но выразительным рисунком «Сатира на критику искусства» (с. 175). Рембрандт небрежно набрасывает пером группу знатоков. Один из них, в шляпе с высокой тульей, стоит справа, прижав палец к губам, как часто делают знатоки, изучая картину. Но что он изучает, не совсем понятно, потому что слуга (или служанка) уносит картину, высоко подняв ее, и, возможно, это и не картина вовсе, а, например, зеркало. В центре находится полусогнутая фигура с обезьяньим лицом и почетной золотой цепью, какие художники, вроде Рубенса, получали от заказчиков. А у сидящего на бочке главного критика, чьи черты очень напоминают Андриса де Грефа, пририсованы ослиные уши. Высмеивая классицистов, Рембрандт и сам неплохо разбирался в античном искусстве и античной мифологии. У царя Мидаса, чье прикосновение к предметам превращало их в золото, по его глупости и как наказание за его жадность выросли такие же уши; с ослиными ушами изображали и тех, кто клеветал на знаменитого греческого художника Апеллеса. Свое отношение к «мудрому» мнению критиков и знатоков Рембрандт демонстрирует, бесцеремонно изобразив самого себя со спущенными штанами.
Не следует слишком спешить, выискивая причины постигших Рембрандта бедствий во всем, что им предшествовало. Однако тот год, когда был написан «Ночной дозор» и состоялась тяжба с де Грефом, был для Рембрандта поистине тяжелым. Заболела и умерла Саския. Художник запечатлевает ее болезнь на гравюре, очертив лицо глубокими линиями, а после ее смерти делает нечто очень необычное. Он возвращается к работе над портретом жены, созданным много лет назад, вскоре после их свадьбы («Саския в красной шляпе», с. 166). Это единственный портрет Саскии, на котором она не улыбается, и один из тех редких для Рембрандта случаев, когда он изображает модель в профиль, очертив его четко, как на ренессансной камее. И теперь на этом портрете он окутывает Саскию тканями и мехами, украшает ее шею, руки, уши жемчугами и серебром, словно не может остановиться, желая превратить ее в утраченное сокровище. Ярко-красная шляпа с большим плюмажем, взмывающим в темноту, – последнее горькое воспоминание об их днях праздничной пышности. Саския кутается в меховую накидку, будто желает отогнать холод смерти. Но этим уже не поможешь.
Сатира на критику искусства. 1644. Рисунок пером и коричневыми чернилами.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Не будет романтической фантазией сказать, что во второй половине 1640-х годов в творчестве Рембрандта что-то меняется. Сдвиг в сторону более задумчивого и печального настроения на картинах невозможно не заметить. Художник словно приглушил бодрое звучание мира. Начинает медленно и тягостно разгораться темное пламя. Шум парада затихает. Художник все чаще покидает дом на улице Святого Антония (который начинает вызывать у него головную боль из-за неоплаченных счетов), чтобы, покинув пределы города, пройтись вдоль Амстела, зарисовать домишки с низко нависающими крышами, коров, лодки, мельницы, обнимающихся тайком влюбленных. Выразительная мимика и энергичная жестикуляция, пышные ткани, бурные события сменяются простыми лирическими образами. Вместо влиятельных богачей он изображает теперь юных девушек, захваченных врасплох на пороге дома и полового созревания. Не скованный более необходимостью воспроизводить блестящую сторону общественной жизни, он пишет свободнее, нанося краску то рельефно и густо, то легко и деликатно – часто на одной и той же картине. Он пишет изысканный портрет своей любовницы (впоследствии законной жены) Хендрикье Стоффелс, где она, приподняв сорочку, осторожно заходит в воду (с. 177). Применяя все свое умение, Рембрандт старается усилить чувственный эффект картины; едва касаясь кистью доски, он выписывает рябь на воде вокруг ног Хендрикье и мягкий вьющийся локон, падающий на ее голое плечо. Он накладывает краску густым слоем всюду, за исключением сорочки Хендрикье, и благодаря этому нежность ее плоти выглядит еще более соблазнительной. Этому портрету (написанному, почти наверняка, для личного употребления) удается быть одновременно скромным и возбуждающим, он скрывает наготу и вместе с тем выставляет ее напоказ. Но самый вызывающий элемент – рука Хендрикье: она не закончена, это просто пятно, что-то между черновым наброском и законченной живописью.
Картина была написана в 1654 году. Нет оснований подозревать, что в середине жизни Рембрандт стал сознательно и целенаправленно пренебрегать общепринятыми нормами, однако его вызвали в церковный суд по поводу сожительства в блуде с Хендрикье. (Он не пошел и отправил Хендрикье подвергаться унизительной процедуре в одиночестве.) Что же касается живописи, то Рембрандт с той же свободой и экспрессией, с какой он работал над изображением любовницы, взялся за портреты богачей в полный рост – он отчаянно нуждался в таких заказах. Одним из заказчиков был драматург и наследник красильно-текстильного бизнеса Ян Сикс. Его портрет, как всегда у Рембрандта, одновременно указывает на общественное положение Сикса и раскрывает его личные качества. Взгляд прикрытых веками глаз обращен внутрь и чуть мечтателен, а публичная активность модели подчеркивается надетой на руку перчаткой, которая представляет собой рывок чистой сверкающей краски. Сиксу портрет вроде бы понравился, однако он все же передал долговую расписку постороннему лицу, которое менее терпеливо отнеслось бы к тому, что Рембрандт не укладывается в сроки.
Хендрикье, входящая в реку. 1654. Дерево, масло.
Национальная галерея, Лондон
В том, что Рембрандт стал писать в грубой манере, не было, в общем-то, никакого криминала, но вряд ли это помогало ему в отношениях с заказчиками. В середине века в культуре Голландии происходили кардинальные перемены. После восьмидесятилетней войны наконец был подписан мирный договор с Испанией, и Голландия стала независимой. Хотя на горизонте маячила морская война с Англией, у голландцев было ощущение, что их республика, и Амстердам в особенности, переживает исторический момент и становится центром мощной глобальной империи. Подрастало второе поколение патрициев, менее склонное к простой и благочестивой жизни. Они чаще ездили во Францию и в Италию, и классический стиль повлиял на их вкусы. Они украшали фасады своих домов каменными пилястрами, строили загородные виллы с ротондами в венецианском стиле, одевались наряднее, заводили лоснящихся племенных лошадей для охоты, предпочитали итальянские оперы голландской органной музыке и не считали жизнь напоказ таким уж большим грехом, который, по мнению их предков и проповедников, должен был превратить их родину в Содом и Гоморру. Впервые торжественность и величественность классической традиции стали цениться выше простоты, предприимчивости и набожности. А Рембрандт предлагал им неприукрашенную малоприятную действительность, грубоватое почвенничество, которое все больше казалось странностью, если не закоснелым чудачеством. В середине XVII века было создано Общество Аполлона и Апеллеса с целью внедрить в голландскую культуру лучшие и наиболее изысканные элементы классицизма и очистить ее от простонародной грубоватости. Создание общества было отмечено банкетом, на котором Рембрандт, естественно, не присутствовал.
Смотрите, что он делает с одним из символов голландской породистости и процветания – коровой. На картинах светских художников вроде Альберта Кёйпа, откормленные коровы служат стильным аксессуаром породистых всадников на ухоженных жеребцах. Коровы щиплют траву, послеполуденное небо приобретает золотистую лучезарность. Пасторальная сцена полна прилизанного очарования и радует душу землевладельца. А теперь посмотрите на быка, написанного Рембрандтом: художник превращает его в сырое мясо, он, подобно мяснику, вскрывает тушу мастихином, выставляя на обозрение ребра, сухожилия и свисающие жировые массы. Ноги животного-мученика связаны и вывернуты, вся туша измазана кровью. «Ешьте мою плоть!» – бросает нам в лицо зарезанный. Нидерландские художники и за сто лет до Рембрандта изображали лавки мясников, но не с такой кровожадностью. Похоже, Рембрандт находил злорадное удовольствие в том, чтобы ткнуть преуспевающих сограждан носом в неприукрашенную реальность. Они, понятно, свой нос воротили.
Туша быка (фрагмент). 1655. Холст, масло.
Лувр, Париж
Однако у Рембрандта оставались преданные поклонники как среди заказчиков, так и поэтов, восхвалявших его бескомпромиссный натурализм. В моде были пейзажи, полные утонченной величественности, с беспечными всадниками под безоблачным небесным куполом. Рембрандт упрямо писал пасмурные зимние сценки с широкими юбками, сабо и собаками на пробирающем до костей морозе, словно на дворе все еще были 1620-е годы. Ню считалось приличным, если женщины принимали поэтические итальянизированные позы, Рембрандт же изображал их в «антипозах», с полусвалившимися чепцами и полуспущенными юбками – так что это были просто полуголые голландки, пытающиеся согреться у родного очага. Художники любили позировать на автопортретах в джентльменском платье – он изображает себя в грубой коричневой блузе, с руками, вызывающе засунутыми за пояс. Одежда на нем довольно поношенная, а взгляд спрашивает, какое нам до этого дело.
И все же Рембрандт не стремился нарываться на неприятности. Долги росли, закладные на дом вовремя не оплачивались, и поправить это можно было только хорошими гонорарами. Но как минимум однажды – на картине, заказанной сицилийским коллекционером синьором Руффо, – Рембрандт передал смешанные чувства художника, находящегося под покровительством патрона. Это был «Аристотель с бюстом Гомера» (с. 180). Сверкающая золотая цепь написана такими густыми мазками затвердевшей желтой и белой краски, что изображение становится выпуклым; с цепи свисает медальон с портретом Александра Македонского, покровителя Аристотеля. Цепь, конечно, знак высокой чести, но вместе с тем и оковы, требующие выполнения обязательств. Неудивительно, что Аристотель глядит на слепого Гомера с двойственным, немного грустным выражением. Ведь Гомера, согласно легенде, тоже с презрением отвергали, так что он был вынужден просить милостыню и выжил только потому, что ему разрешили преподавать. Проступок Гомера якобы заключался в том, что его эпическая поэзия обращалась к чувствам с грубой прямотой и потому оскорбляла слух. Идея картины выражена в прикосновениях. Одной рукой Аристотель перебирает звенья цепи, символа своих проблем, другой касается головы Гомера, центра художественного воображения его кумира. Техника художника, пастозные мазки густой краски на рукаве одеяния говорят о том, что он хотел написать картину в «гомеровском стиле», сделать ее физически ощутимой, воздействовать на чувства зрителя.
Картина противопоставляет грубую музыку архаики утонченной изысканности классицизма. Рембрандт послал сицилийскому коллекционеру второй вариант работы, где слепой Гомер, окутанный трагическим золотым ореолом, обращается к ученикам; его невидящие глаза черны, а рот приоткрыт, что очень напоминает автопортрет художника, написанный в самом начале его творческого пути. Руффо отказался платить за картину на том основании, что она якобы не закончена. Рембрандт с возмущением написал в ответ, что, судя по всему, в Мессине не имеют представления о том, что такое искусство. Кто действительно был слеп, так это заказчики и критики.
VII
Разорение надвигалось медленно, но неотвратимо. К середине 1650-х годов Рембрандт лишился расположения сильных мира сего. Долговые расписки переходили от терпеливых и снисходительных друзей к нетерпеливым и безжалостным кредиторам. Многие высокопоставленные лица в Амстердаме хотели получить свои деньги, пока еще была надежда вернуть их. В глазах общества он был несговорчивым и ненадежным старомодным художником, пережившим свой талант и, как выразился один из высокомерных критиков после смерти Рембрандта, пишущим словно не красками, а жидким навозом. Не в состоянии платить по закладным за дом, Рембрандт надеялся на какое-то спасительное чудо, но чуда не произошло. В 1656 году он окончательно увяз в долгах и был вынужден пройти унизительную процедуру банкротства и передать свою собственность кредиторам, которые имели право продавать ее на аукционе.
Аристотель с бюстом Гомера. 1653. Холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Так под стук молотка аукциониста Рембрандт постепенно распростился со всем, что имел, кроме своего таланта. Было распродано не только семейное имущество – мебель, серебро, зеркала, кровати, стулья и комоды, как и редкости его «антикварного кабинета», – но и коллекция произведений искусства, собиравшаяся годами, те гравюры, рисунки и картины, которые помогали ему сформировать его манеру: «Товия» его давно умершего учителя Питера Ластмана, картины его старого лейденского друга и соперника Яна Ливенса, рисунки Мантеньи, гравюры Лукаса ван Лейдена. Рембрандт лишился произведений тех художников, кому наследовал в своем искусстве. К тому же выручить за коллекцию удалось лишь долю ее реальной стоимости.
Аукционы неуклонно продолжались в течение всего 1657 года, и становилось ясно, что вырученные средства не покроют долгов художника. Наступила очередь дома на улице Святого Антония. В начале 1658 года он тоже был продан с аукциона за две тысячи гульденов, что было меньше суммы, некогда уплаченной за него Рембрандтом. 22 февраля Рембрандту вручили часть этих денег, и он, не сходя с места, передал их одному из кредиторов. Вся семья, включая сына Саскии Титуса, Хендрикье и их с Рембрандтом дочь Корнелию, переехала в небольшой домик на улице Розенграхт. Все финансовые операции, в том числе и связанные с работой Рембрандта, были возложены на Хендрикье и Титуса, потому что самому художнику, как банкроту, было запрещено официально вести дела.
И как же он изображает себя на автопортрете в этот унизительный момент? – В блестящем облачении короля, взошедшего на трон (с. 183). Он нависает над нами всем корпусом, величественный, как могучий джинн, появившийся из бутылки и едва уместившийся в тесном пространстве картины. С надменной насмешкой художник смотрит на нас, людишек, вообразивших, будто что-то понимают в искусстве. В своей мощной руке он держит трость с серебряным набалдашником, похожую на муштабель, какого никто никогда не использовал и даже представить себе не мог. Скорее это даже жезл фельдмаршала, волшебная палочка мага или скипетр короля. Никак нельзя сказать, что перед нами человек приниженный и разоренный. Слои густой краски отягощают фигуру художника, словно королевские регалии, именно краска здесь владеет положением. Сама манера, в которой автопортрет написан, делает его жестом категорической неуступчивости.
Но в Амстердаме Рембрандт больше не пользовался авторитетом. Самая престижная и выгодная работа – картины для украшения новой ратуши – была поручена его бывшим ученикам и помощникам Фердинанду Болю и Говерту Флинку, а не их старому учителю, непредсказуемому ретрограду Рембрандту. В ратуше он появлялся только для того, чтобы посетить коллегию по делам о несостоятельности, куда надо было войти через дверь с назидательной резьбой, изображавшей крыс, копошащихся в пустых ящиках и ворохе недействительных кредитных билетов.
Здание ратуши, с его строгими классическими формами, служило примером морального наставления, одновременно самодовольным и предупреждающим. Старая ратуша, помещения которой гнездились за старомодным фасадом под щипцовой крышей, была всего лишь готическим пережитком прежнего маленького провинциального Амстердама. Но теперь город стал центром мира – по крайней мере, в экономическом отношении, – хозяином чрезвычайно успешной торговой империи, вобравшей в себя территорию от Нью-Амстердама на Гудзоне до новозеландских островов Антиподов, которая была исследована, захвачена и защищена непобедимым флотом. В 1648 году, когда Соединенные провинции Нидерландов заключили мир с Испанией, вместо старого здания ратуши было решено построить новое, более соответствующее появившемуся у города ощущению собственного величия. Провидение, похоже, одобрило это решение, так как старая ратуша через четыре года сгорела. Рембрандту гораздо больше нравились готические руины, чем образец новоклассической гигантомании, и он зарисовал развалины вскоре после пожара (с. 186). Изображать новую ратушу он не хотел.
Автопортрет. 1658. Холст, масло.
Коллекция Фрика, Нью-Йорк
Фасад новой ратуши был хвастлив. «Дева мира» оптимистически осеняла оливковой ветвью Дам – центральную площадь Амстердама, на фронтоне были высечены фигуры с подношениями городу от четырех континентов. На каждой стене каждого помещения ратуши скульптурные рельефы и живопись на сюжеты из Библии и античной мифологии предупреждали о вреде продажности, самодовольства и гордыни. В помещении, где судьи выносили преступникам смертный приговор, находился скульптурный рельеф, изображавший римского консула Луция Юния Брута, который приказал казнить собственных сыновей за участие в заговоре против республики. Говерт Флинк, набивший руку на сюжетах такого рода, написал картину, где Маний Курий Дентат, одетый с предельной простотой, отвергает золото, предлагаемое разряженными самнитами в качестве взятки, и швыряет в них гигантских размеров репу; другой работой Флинка была «Молитва Соломона» для зала заседаний городского совета. Апеллес Флинк, как он был прозван поденщиками на ниве поэзии в честь выдающегося художника античной Греции, был тем живописцем, кто вполне удовлетворял желание голландцев видеть картины с четко очерченными и ярко раскрашенными фигурами, расположившимися в красивых позах на фоне величественных архитектурных сооружений, – картины, которые не уступали бы итальянским. За «Соломона» он получил королевский гонорар в полторы тысячи гульденов – больше, чем Рембрандт за какую-либо из своих работ, не считая «Ночного дозора». Флинк был признанным мастером официального стиля.
Неудивительно поэтому, что украшение кольцевой галереи парадного Зала бюргеров новой ратуши восьмью картинами было заказано Флинку. Картины, как предполагалось, должны были повествовать о восстании батавов против Рима, основываясь на сочинениях римского историка Тацита, напоминая жителям Амстердама и других голландских городов, во-первых, о том, что все империи преходящи, а во-вторых, о том, что они берут свое происхождение от этого славного восстания. Если ратуша Амстердама мыслилась как соперник Версаля, дворец империи без короля, то посвященные батавам полотна должны были прославлять «истинную республиканскую свободу», за которую выступали городские олигархи. Вождь батавов воин-ветеран Клавдий Цивилис сражался в рядах римских войск, но перешел на сторону своего угнетенного народа; его необходимо было изобразить идеальным республиканским героем, то есть положительным, решительным и трезвомыслящим гражданином, а не напыщенным правителем королевской крови. Ожидалось, что замысел художника и исполнение будут величественны, сдержанны и благородны.
Единственной проблемой было оставленное Тацитом описание самого Клавдия Цивилиса и события, которому предстояло быть отраженным на центральном полотне всего цикла, – принесения восставшими клятвы верности во время ночного празднества в священной роще. Дело в том, что вождь был слеп на один глаз, потерянный в битве, а во время принесения клятвы батавы, как пишет Тацит, «варварски пьянствовали». Понятно, что их потомки из амстердамской элиты не хотели быть отождествленными с пьяницами. Но эскиз, сделанный надежным Флинком (с. 190), был вполне благопристоен и передавал значительность момента. Предъявлявшееся искусству требование избегать изображения неприглядных деталей внешности героя Флинк удовлетворил, нарисовав Цивилиса с тюрбаном на голове в профиль. Он наполовину обнажен, так что видны его героический торс и мускулистые икры. Правая рука вытянута в сторону другого заговорщика в шлеме (также переметнувшегося от римлян), – в братской клятве сражаться за свободу и быть готовым умереть за нее. В роще вокруг них столпились исключительно респектабельные фигуры; коленопреклоненная служанка наливает в сосуд жидкость для возлияний. Все классически элегантно, как и требовалось отцам города.
Геррит Беркхейде. Ратуша на площади Дам в Амстердаме. 1672. Холст, масло.
Галерея новых мастеров, Дрезден
Но 2 февраля 1660 года Флинк умер, и ситуация в корне переменилась. Цикл, посвященный батавам, сократился до четырех картин, по одной на каждый люнет в углах галереи. За неимением другого Апеллеса власти решили распределить заказ между четырьмя художниками, одним из которых был давний коллега Рембрандта из Лейдена Ян Ливенс, вернувшийся в Голландию после работы в Англии на Стюартов, а затем в Антверпене. Что же касается кульминационного момента принесения клятвы, то после полутора лет раздумий и нерешительности заказ, против всех ожиданий, отдали Рембрандту ван Рейну.
Теперь мы уже никогда не узнаем, почему было принято это ответственное решение, с какими сомнениями и оговорками. Возможно, это было связано с изменением состава городского совета. Но каковы бы ни были причины, Рембрандт не упустил этот шанс. Он был благодарен, но не настолько, чтобы радоваться тому, что стал дублером собственного бывшего ученика. Если заказчики рассчитывали, что Рембрандт разработает тему, исходя из рисунка Флинка, они жестоко заблуждались. Художник же, чье благополучие и вся жизнь зависели от этого заказа, должно быть, вспомнил другую картину, написанную некогда для городских властей, «Ночной дозор», при работе над которой он пошел против принятых правил – и выиграл. А почему? Потому что, как бы ни был он неортодоксален, ему и самому не были чужды высокие идеи, выраженные в картине, а именно прославление боевого духа горожан. Отбросив сковывавшие его ограничения, он создал современную инсценировку эпоса борьбы за свободу. И теперь он собирался написать ее более древний вариант.
Руины старой ратуши. 1652. Рисунок пером.
Дом-музей Рембрандта, Амстердам
Рембрандт, конечно, сознавал, что само пространство холста требует чего-то монументального и что сумасшедшая динамика, пронизывающая все в «Ночном дозоре», в данном случае будет неуместна. Здесь требовалось создать торжественно-величественный центр с фигурой вождя. Но эту фокальную точку надо было окружить вырвавшейся на свободу бурлящей энергией мятежного духа, так живо описанной Тацитом. Рембрандту пришли на ум две модели решения этой задачи, заимствованные из двух противоположных историко-географических точек художественного канона: даже утрата коллекции не стала этому препятствием – все хранилось в его памяти. Первой из них была, конечно, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, с которой, как известно, Рембрандт был знаком по копии и в которой вокруг спокойного центра со Спасителем наблюдается разнообразное оживление – как благочестивого характера, так и чисто человеческого. Художника нисколько не смущал легкий запашок богохульства, которым отдавало его намерение почерпнуть вдохновение в таком источнике. Разве не был Цивилис тоже спасителем в своем роде? А Рембрандт был известным специалистом по оживлению библейских фигур, которые, казалось, явились на его полотна прямо с улиц родного города. Вторая модель, которая, возможно, вспомнилась ему, была чисто голландской – пирушки ополченцев. Сам он таких групповых портретов не писал, но мог вообразить, что присущий им дух единства в разгулье и в следовании серьезной патриотической цели восходит по прямой линии к первому ночному банкету в лесу.
Рембрандт не был книжным червем, но всегда, по-видимому, изучал тексты, которые хотел интерпретировать на холсте, так что в данном случае он, по всей вероятности, обратился за вдохновением к Тациту. И наверное, именно восхищение римского историка силой варварского духа, против воли им ощущавшееся, убедило Рембрандта больше, чем все остальное, что он был тем человеком, который должен сделать эту работу. Данное Тацитом описание «варварской церемонии» принесения клятвы, на взгляд Рембрандта, совершенно не соответствовало степенной жестикуляции на рисунке Флинка. Его воображению рисовалось нечто более дикое и энергичное – скрещенные мечи, наполненный вином кубок.
Как и всегда, создавая лучшие свои работы, Рембрандт поставил себя на место зрителя и попытался, подобно Караваджо, вообразить ощущения человека, увидевшего это огромное полотно высоко на стене. Оно оказывалось довольно далеко от зрителя, к тому же в галерее было темновато, и это, на первый взгляд, создавало проблемы. Но художник решил использовать особенности архитектуры в качестве союзника для усиления художественного воздействия картины. Он усадит заговорщиков за стол не в роще, а в большом и высоком зале с арками, открывающимися в лес, и ветви с листьями будут проникать в зал сквозь окна, символизируя возрожденную свободу. На переднем плане к столу будут подниматься ступени, создавая впечатление, что по ним можно взойти и присоединиться к пирующим. Проходя по полутемной галерее, люди увидят высоко впереди манящее золотистое сияние. Ночная сцена на картине, приковывающая к себе взгляд зрителей, перенесет их сквозь столетия в 69-й год нашей эры. По примеру фигур на флангах, торжественно восходящих по ступеням, взгляд проследует вверх и достигнет конечной цели, сердца композиции – заливающего стол сияния, света рождения свободы Голландии.
Можно назвать точный момент, когда блестящий замысел окончательно сложился в голове Рембрандта, – октябрь 1661 года: именно тогда он сделал быстрый набросок картины на обратной стороне карточки, приглашающей на похороны. К несчастью, этот клочок бумаги – единственное дошедшее до нас изображение, благодаря которому мы можем судить о замысле самого грандиозного шедевра Рембрандта во всей полноте.
По сохранившемуся остатку картины невозможно оценить композиционную магию первоначального варианта. Когда огромное полотно вернули Рембрандту, он обкорнал его и переработал, не без успеха постаравшись придать выжившему фрагменту бо́льшую самостоятельность. Однако того, что мы можем видеть, вполне достаточно, чтобы оценить удивительную – и фатальную – дерзость художника. Желание передать дикий порыв к свободе определило выбор действующих лиц. Вместо торжественного и респектабельного собрания вождей и военачальников, изображенного на рисунке Флинка и на ранних гравюрах на тот же сюжет, Рембрандт собрал до странности пеструю компанию в помещении, которое, на взгляд представителей высшего амстердамского общества, удручающе напоминало логово разбойников. Компания включает смуглых сыновей Востока (один из них, с золотой цепью, выглядит для моего еврейского глаза очень знакомо), ухмыляющегося старика с некрасиво раскрытым ртом, целиком отдавшегося процессу питья, священнослужителя, похожего на друида, и молодого человека с великолепными усами. И самая неподобающая фигура среди них – Клавдий Цивилис, главарь бандитов с рубцом вместо глаза, который не спрятан, как полагается, с обратной стороны повернутого в профиль лица, а агрессивно выставлен напоказ. Это не человек, а гора с лицом-утесом, и наш взгляд должен долго взбираться на него, тем более что высота возрастает за счет водруженной на его голову тиары. В середине ее венца Рембрандт изобразил матово-золотистый круг, своего рода третий глаз, орган воображения.
И позой, и костюмом Цивилис, который отягощен щедрыми слоями густой краски, увешан драгоценностями и укутан в шелка и золото, конечно, напоминает автопортрет Рембрандта четырехлетней давности, где он выглядел господином всего окружающего, вызывающе обозревавшим свои владения. Теперь Рембрандт становится Цивилисом, излучающим харизматическую энергию. Тело, борода и лицо самого Цивилиса, а также образы других персонажей едва намечены резкими, беглыми ударами кистью, и сама эта яростная манера живописи звучит словно полный вдохновения вызов. С помощью этой удивительной живописной манеры, не имевшей прецедентов в истории искусства и повторенной лишь двести лет спустя, Рембрандт совершает идеологический акт, а идеология его сводится к тому, чего хотели от него (как он, очевидно, полагал) заказчики, – к выражению варварского стремления к свободе. Как за тридцать лет до этого в картине «Художник в мастерской» он проявил свои иллюзионистские способности, изобразив кусок отвалившейся штукатурки, так и в «Клавдии Цивилисе» он достигает, вопреки сомнениям скептиков, высшей ступени мастерства в изображении искусного кубка, одновременно филигранного и прозрачного, – кубка, наполненного эликсиром свободы.
Здесь, как и в «Ночном дозоре», царит какофония: звон стали, клятвы, крики кровожадного веселья, рокот прорывающейся сквозь этот шум отрыжки. Это дикарский вариант пирушки ополченцев, бурный и внушающий трепет, торжествующий и устрашающий, завораживающий и отталкивающий, изощренный и примитивный. Это хриплый гимн свободе в ее элементарном выражении, гимн, бьющий наотмашь, пронзающий, размазывающий по стене. Картина тщательно продумана, но вместе с тем дышит пламенной страстью племени. Хотя надо всем доминирует человек-гора в центре, утрированная примитивность всех остальных фигур, как благочестивого вида, так и бандитского, открыто возвеличивает простонародное происхождение голландцев. Вот какими вы были, бросает картина им в лицо, и такими должны быть всегда. То, что кажется вам таким важным, – эта ратуша с ее гектарами мрамора и весь великий имперский город – может уйти под воду так же быстро, как и появилось. Но если вы будете верны самим себе, то сохраните столь дорогую вам свободу.
За тридцать лет до этого молодой Рембрандт провел по краю картины, над которой трудится изображенный им художник, огненную черту, лучезарное воплощение его идеи. В «Клавдии Цивилисе» такая же огненная черта, повернутая на девяносто градусов, сверкает на краю стола. Это самый яркий из скрытых источников света в живописи Рембрандта: не светильник, но растворенное в воздухе золото, излучающее сияние, огонь необузданной свободы, отбрасывающий отблеск на лица заговорщиков и преобразующий их своим светом.
Говерт Флинк. Клятва Клавдия Цивилиса. 1659. Рисунок пером.
Кунстхалле, Гамбург
Эскиз к «Заговору батавов». Ок. 1661. Перо, кисть, бистр.
Государственное графическое собрание, Мюнхен
Рембрандт создал для ратуши республиканский алтарный образ, величайший групповой портрет, какой только можно представить. Но градоначальники хотели видеть себя и своих предков не такими. Они, разумеется, называли себя приверженцами независимости от испанских, французских и английских королей и даже от зазнавшихся принцев Оранских, но были олигархами, а не демократами, и если уж так получилось, что им был полезен повстанческий миф, то надо было подточить ему клыки, чтобы он не укусил их самих. Поэтому у них, естественно, возникли возражения против этой пороховой бочки под видом картины: она слишком откровенно прославляла вождя, тогда как джентльмены-олигархи хотели избавиться от опеки со стороны принца-губернатора Оранского; изображение персонажей грубыми варварами никак не соответствовало их представлениям о собственном величии. Оправившись от вызванного картиной шока, они решили, что она недостойна такого почетного места.
VIII
Реабилитация Рембрандта не состоялась. Это очень печально по многим причинам, и то, что это было несчастьем для самого художника, – лишь одна из них. Ибо тот факт, что «Клавдий Цивилис» не был принят современниками, стал препятствием на пути обновления всей живописи. Рембрандт освободил ее от удушающих условностей классицизма – стиля, призванного доставлять удовольствие культурной элите. Появление на его полотне обыкновенных людей, как и сама неистовая органика повествования, превратили живопись в нечто такое, чем жители Амстердама, будь у них такая возможность, могли бы гордиться и в чем могли бы разглядеть самих себя – по крайней мере, в не меньшей степени, чем в замысловатом «Ночном дозоре». Поклонники Рембрандта в XIX веке, при всем своем романтизме, были не совсем не правы, утверждая, что его искусство неотделимо от повседневной жизни и общечеловеческих ценностей. И когда в конце концов Гойя и Делакруа все-таки обновили историческую живопись, то смогли это сделать отчасти потому, что за ними стоял их бог Рембрандт.
Таким образом, что-то закончилось, толком так и не начавшись. Но не творческий путь Рембрандта. Ему были оставлены еще семь лет жизни, в течение которых он, несмотря на бесконечные горести, дождем сыпавшиеся на него, – смерть Хендрикье, а затем Титуса и его жены Маддалены, – создал целый ряд провидческих работ, революционизировавших живопись и показывавших, какой она может быть и что может сделать. И хотя он так и не снискал расположения властителей города, еще оставались поклонники его грубого, приземленного стиля, и некоторые из них были богаты и влиятельны. В 1661–1662 годах, еще не закончив картину «Клавдий Цивилис», он работал над двумя заказами, которые пережили ее и напоминали ее по своему характеру. Его последний групповой портрет, «Чиновники гильдии драпировщиков», должен был висеть высоко на стене в зале гильдии, и это заставило Рембрандта вернуться к расчетам, которые он делал для ратуши. Фигуры расположились вокруг стола, зритель смотрел снизу вверх на оживленную группу авторитетных специалистов. Это был в некотором роде тот же «Клавдий Цивилис», только без его неистового размаха. И хотя правящая верхушка Амстердама изгнала его из своего дома, знатные лица из династии Трипов, для которой он написал портреты матриарха и ее дочери в конце 1630-х годов, заказали ему портрет супружеской четы для украшения их эффектного сдвоенного дома на улице Кловенирсбургваль. Примечательно, что это была не молодая пара богачей, а почтенный патриарх Якоб де Геер и его жена Маргарета, так что Рембрандт мог свободно применить свою способность создавать величественные полотна в темных тонах и изобразил одеяние Якоба в виде целого водоворота темно-коричневой краски. Среди портретов в Лондонской национальной галерее они выглядят, как и сам художник, грубо обтесанными неуклюжими призраками, что случайно забрели сюда из теперь уже далекого, героически безыскусственного прошлого Голландии.
Заговор батавов, возглавляемый Клавдием Цивилисом. 1661–1662.
Национальная галерея, Стокгольм
Когда в октябре 1669 года Рембрандт умер, среди его непроданных и, очевидно, незаконченных работ была картина «Симеон во храме». Пророчица Анна приносит младенца Христа к первосвященнику, который надеялся, что не умрет, не увидав перед этим Спасителя. Рембрандт изобразил старца с закрытыми глазами – может быть, слепого, но на лице его свет, исходящий от младенца, свет священной истины. Симеон умирает, узрев истину. Господа из амстердамской ратуши, к сожалению, так ее и не узрели. В Национальной галерее Стокгольма «Симеон» висит рядом с изуродованным «Клавдием Цивилисом», самой непобедимой руиной в истории европейской живописи. Но, в конце концов, и сам Рембрандт, снова и снова изучая в зеркале свое лицо, не терял веры в трагическую силу руин. Глядя на то, что осталось от «Цивилиса», не должны терять эту веру и мы.
Давид Приукрашивание революции
I
Если искусство может сделать нас счастливыми, в силах ли оно также сделать нас лучше? Если оно способно привести в восторг или довести до слез, должно ли оно также побуждать нас стать достойными гражданами? Может ли современное светское искусство обладать преобразующей силой религиозных шедевров, способностью излечивать души – не от греха, а от эгоизма? Должна ли сила искусства подчиняться искусству силы?
На все эти вопросы Жак Луи Давид отвечал непреклонным «да» – по крайней мере, в самый важный период своей жизни, в тот момент, когда во Франции происходили революционные преобразования. Тогда он верил, что искусство – если оно правильное – может превратить свою публику в высокоморальное сообщество. Герои, жертвы и мученики, проходившие парадом по его картинам, бросали страстный призыв присоединяться к ним. Вступай в наш мир, говорили они, в мир величия и славы, и ты покончишь с бессмысленностью одинокого индивидуального существования и попадешь в храм гражданской добродетели. Давид понимал, что искусство будет обладать подобным магнетизмом только в том случае, если станет чем-то несравненно большим, нежели средством развлечения. Оно должно рассказывать берущие за душу истории, потрясать, очаровывать, вселять бодрость и иногда устрашать. Оно должно менять жизнь каждого человека и тем самым всю человеческую историю. Преисполнившись уверенности в этих истинах и реализуя их в художественных образах со страстью, предельно контролируемой, Жак Луи Давид стал зачинателем современной наглядной агитации.
Одна из его картин в своей тщательно взвешенной страстности превосходила все другие. Желая увековечить память о зарезанном мученике якобинской революции, художник с театральным пафосом назвал картину «Марату, испускающему последний вздох» (с. 238). Эта работа и сейчас изумляет и вместе с тем глубоко тревожит, в ней воплотилась, пусть ненадолго, вера Давида в миссионерские способности современных икон. Некогда перед его «Маратом» люди вздыхали, рыдали и падали в обморок, как перед образом Спасителя. Это полотно до сих пор остается самым действенным политическим фетишем, когда-либо сотворенным кистью художника.
II
Себе самому Давид казался новым человеком, представителем обновленной нации. Но в определенном отношении миссия, которой он себя посвятил, была стара как мир: улучшение человеческой морали. Именно этой цели живопись и служила в течение долгих веков, когда ее главным патроном была церковь. В переводе с греческого «икона» означает «подобие», и именно путем бесконечного воспроизведения Страстей Христовых, чудес и мучений церковь надеялась побудить грешников к покаянию. Таким же наставником добродетели видел себя и Давид. Созерцание образов великих людей и исторических моментов очищения человечества (или, по крайней мере, его французской части) от скверны старого режима представлялось ему уроком перевоспитания масс. Простой народ в то время был в подавляющем большинстве безграмотен, и это держало его в рабстве. Образы истины должны были как громом поражать невежественных или угнетенных людей, даруя им свободу.
Человек живет ради великих моментов, а они создаются для человека. В 1766 году в семнадцатилетнем возрасте Давид был принят учеником в Королевскую академию живописи и скульптуры. В это время художники и их патроны стали сомневаться в справедливости старых представлений о том, что искусство должно отвлекать человека от земных тягот, развлекать его и возбуждать. Франция только что проиграла злополучную войну с Британией, ее владения в Канаде и Индии перешли к ее старому врагу за Ла-Маншем. Для критиков королевского двора и самого Людовика XV, при котором произошли все эти несчастья (высказывавшихся, правда, только шепотом, поскольку Бастилия еще функционировала вовсю), монарх стал олицетворением праздного роскошества и потакания своим капризам. Его любимый художник Франсуа Буше достиг совершенства в том, что он делал, но делал он это для забавы, и его картины, такие как «Мадемуазель О’Мёрфи» (1751, с. 201), стыдливо-игриво изображали дамские прелести. Цветы – подобно тем, что валяются на полу, – были сорваны, однако все еще благоухали. Картина была служанкой удовольствия, но служила, как и сама девушка, для развлечения избранных.
Автопортрет. 1791. Холст, масло.
Галерея Уффици, Флоренция
И вот впервые художники, вроде Буше, специализировавшиеся на соблазнительных пастушках и нежных божественных созданиях, резвящихся в пенистых волнах, стали подвергаться огню критики за потворство сибаритским наклонностям элиты. Аморальные картинки в пастельных тонах, по мнению их хулителей, были лживы и отвлекали внимание от более важных вопросов. У Буше, писал философ и художественный критик Дени Дидро, «есть все, кроме правды, [ибо]… где же можно узреть пастушков, одетых столь роскошно и элегантно? Кому это удалось свести их всех в одном месте среди равнины, под арками моста, вдали от городов и весей – всех этих женщин, мужчин, детей, быков, коров, баранов, собак…? … Чувствуешь всю… бессмысленность [этого] и все же не можешь оторвать глаз от картины… Этот порок так приятен…!» Дидро упрекает Буше в том, что при всем своем непревзойденном мастерстве «он словно создан для того, чтобы кружить головы художникам и светским людям… [которым] чужды подлинный вкус, правда, серьезные мысли, строгое искусство».
Таким образом, судьба искусства, его деградация до легковесной умелости стала к этому времени общественной и даже национальной проблемой, и в конце долгого правления Людовика XV его любовница и распорядительница искусств мадам де Помпадур попросила, чтобы для нее написали картину, которая была бы не просто сладкой конфеткой. Возникла потребность в более полнокровном, серьезном, мужественном искусстве, которое вернуло бы аристократам боевой дух их доблестных предков, подсунуло бы им седло вместо подушки и восстановило бы мощь нации.
В Королевской академии и в печати с новой силой разгорелись старые дебаты о том, кто из двух живших и творивших более ста лет назад художников показал, какой живопись должна быть. Одни отдавали свой голос за Никола Пуссена, воплощение классической строгости, чьи картины на библейские и античные темы были полны духовного достоинства и благородства. Его персонажи, казалось, испытывали те же чувства и произносили те же речи, что и герои великих трагедий Расина и Корнеля. Его линии были четкими, краски приглушенными, так что отдельные яркие вспышки света производили сильный эффект. Природа на его полотнах была грозной и величественной. Все это приводило зрителей в восторженное состояние.
Противостоявшим ему божеством живописи был Питер Пауль Рубенс. Если в работах Пуссена чувствовалась каменная твердость, то в работах Рубенса – живая плоть. Пуссен рокотал, Рубенс пел, Пуссен был строг и аскетичен, Рубенс роскошен и сладострастен. Пуссен был сдержан в цвете, картины Рубенса переливались всеми цветами радуги. Композиции Пуссена подчинялись правилам геометрии, Рубенс соблазнял зрителя струящимися волнистыми линиями и сочными телесами. В то время как последователи Пуссена были не слишком плодотворны, сторонники Рубенса, вдохновленные тонким любовным лиризмом Жана Антуана Ватто, выдавали продукцию неустанно. Загородные замки и городские особняки знати изобиловали нежными пасторалями и сценами эротических игр, созданными такими художниками, как Жан Оноре Фрагонар, братья Лагрене и, разумеется, всегда готовый угодить этой клиентуре Буше.
Франсуа Буше. Мадемуазель О’Мёрфи. 1751. Холст, масло.
Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн
Последнему как-то в начале 1760-х годов представили росшего без отца мальчика по имени Жак Луи Давид. Буше был дальним родственником его матери, звавшейся «вдовой Давид» после того, как ее муж, торговец скобяными изделиями, был застрелен на дуэли, когда Жаку Луи было всего девять лет. Два добросердечных дядюшки, занимавшиеся архитектурой и строительством, взяли на себя заботу о будущем их племянника. Они послали его в лучшие учебные заведения в расчете, что он приобретет какую-нибудь разумную профессию – юриста, архитектора, – которая обеспечит ему продвижение по служебной лестнице. Но мальчик, увы, интересовался только живописью, правда, как дядюшки не могли не признать, был исключительно одаренным в этом отношении. Буше был настроен благосклонно, но отказался взять его в ученики, сославшись на то, что учеников у него и без того много, а он слишком стар, чтобы брать еще одного. Однако он предложил Давиду приходить к нему время от времени для того, чтобы понять секрет мягкой теплоты, наполнявшей картины маэстро.
Но вовсе не мягкая теплота принесла славу Давиду. Перед величайшими из его полотен пробегает холодок по спине. Правда, при желании и Давид мог создать для страждущего человечества что-нибудь не менее утешительное, чем любой другой художник. В начале творческого пути он был не прочь заняться украшением жилища знаменитой балерины мадемуазель Гимар и написал ее портрет в образе музы танца Терпсихоры, весь в розовых и зеленовато-голубых пастельных тонах. Пока не появился Энгр, Давид был самым выдающимся французским портретистом. Отточить мастерство изображения людей ему во многом помогла голландская жанровая живопись, образцов которой во Франции второй половины XVIII века хватало с избытком. В 1780-е годы, потрясая публику трагическими сценами убийств и жертвоприношений, он в то же время писал небольшие яркие портреты своих маленьких детей.
Однако мастером, к которому Буше направил Давида, был Жозеф Мари Вьен, которого привлекали не столько радости домашнего очага, сколько древние камни. Сам он считал себя знатоком античной классики, хотя не чурался того, чтобы использовать ее как антураж легких эротических сцен для украшения гостиных. Его статус классициста был удостоверен всесторонне: он бывал в Риме, гулял по Форуму, проводил время за чтением текстов, способствовавших воссозданию античной торжественности. На его книжных полках стояли «Мысли о подражании греческим произведениям живописи и скульптуры» (1755) историка искусства Винкельмана и богато иллюстрированные тома, посвященные недавним раскопкам в Помпеях и Геркулануме. В тот период, когда в его мастерской появился Давид, Вьен любил изображать на своих картинах колонны с каннелюрами и классические костюмы, списанные с древнеримских рельефов.
У молодого ученика был сосредоточенный и задумчивый вид, подававший надежду на его предрасположенность к классической серьезности. Не прибавила живости лицу молодого человека и глубокая рана с левой стороны, полученная Давидом во время состязаний по фехтованию. От раны навсегда остался след в виде мясистого утолщения, искривившего его рот, так что казалось, что Давид откусил слишком большой кусок персика. Хотя во Франции XVIII века удивить кого-либо физическим уродством было трудно, перекошенный рот Давида вызывал у окружающих чувство неловкости. В то время как раз вошла в моду так называемая «наука» физиогномика, то есть определение характера человека по его лицу. Впоследствии враждебно настроенные по отношению к художнику англичане прозвали его «толстым Давидом с раздутой щекой». Но хуже было то, что он жил в золотой век салонного красноречия. Остроумная блестящая беседа завоевывала друзей и врагов, открывала или перекрывала путь наверх, создавала или губила репутацию. А Давид так заикался, что зачастую его трудно было понять. Непринужденный светский разговор не давался ему, и он заявлял, что это занятие для фривольных бездельников. Он предпочитал создавать произведения искусства, в которых величественные фигуры говорили бы за него с благоговейной торжественностью Цицерона.
В 1774 году умер Людовик XV, оплакиваемый немногими. При его внуке, наследовавшем трон, официальная атмосфера стала более серьезной. Людовик XVI, судя по всему, не слишком разбирался в искусстве и не особенно интересовался им – по крайней мере, гораздо меньше, чем охотой, часами и замка́ми. Но он внял чьему-то мудрому совету и поставил заведовать строительством (а стало быть, и искусством) графа д’Анживийе. Граф относился к той части дворянства, которую волновали общественные вопросы; он выступал за реформы и всем сердцем желал возрождения Франции через обращение к истории и классицизму. Д’Анживийе считал, что назначение искусства – не доставлять удовольствие, а просвещать. В связи с этим расположенная в Лувре Королевская академия, в которую был принят Давид, становилась не просто школой мастерства, но и школой общественной морали.
Осуществление этой просветительской программы происходило прежде всего в Риме и в Салоне Карре в Лувре, где начиная с 1748 года Академия устраивала выставки современной живописи. Молодой художник мог рассчитывать на успех только по прохождении курса обучения в Риме. Именно там, штудируя образцы классической скульптуры, он имел возможность постичь основные принципы создания гармоничной формы, усвоить достижения античных и ренессансных классиков и проникнуться серьезным отношением к искусству. И тогда по возвращении во Францию, как надеялся д’Анживийе, он будет с такой же серьезностью относиться и к собственной работе, обратившись к темам из отечественной и греко-римской истории.
Самые удачные картины будут выставляться в Салоне, где в течение месяца, с конца августа по конец сентября, их увидят десятки тысяч посетителей, и не только представители высшего общества, но и обыкновенные люди, для которых билеты будут вполне доступны по стоимости. Современники описывают наплыв зрителей в Лувре, где грубые рыночные торговки толклись вперемешку с преуспевающими адвокатами, церковниками и знатными вельможами. Таким образом, в Париже было создано нечто абсолютно новое для мира искусства – публика. Именно она поставляла зрителей, для которых творил Давид, его добропорядочных граждан.
III
Но это произошло не сразу. Сначала Давид должен был утвердиться. В своих ранних опытах он был преисполнен серьезных намерений, но еще не уверен в себе. Темы его картин были возвышенны: сцены у смертного одра в окружении римской архитектуры (колонн и арок). Такие сюжеты пользовались особой популярностью, поскольку были связаны с жертвенностью и слезами. Из них Давид выбрал самую знаменитую – медленное самоубийство римского философа Сенеки, совершенное по приказу его бывшего ученика, вероломного императора Нерона. Подобные сюжеты, намекающие на невежество и жестокость правителей, позволяли либерально мыслящим дворянам обмениваться понимающими кивками, не боясь оказаться в Бастилии. Но версия, предложенная Давидом, «Смерть Сенеки», представляла собой разыгранную среди обильных драпировок сцену из мелодрамы с участием целой толпы действующих лиц, в том числе полуобнажившихся неизвестно с какой целью женщин. Художник так старался изобразить запредельный трагизм, что получилась лишь напыщенная театральная жестикуляция без искреннего чувства.
Смерть Сенеки. 1773. Холст, масло.
Музей Пти Пале (Музей изящных искусств), Париж
Давид, конечно, был способен на большее, но в ту пору его еще нельзя было выделить из толпы молодых художников, стремившихся заполучить «Римскую премию», – то есть отправиться к вечному источнику вдохновения и стать новым Пуссеном. Давид смог добиться вожделенного приза только к двадцати шести годам, когда его уже нельзя было считать вундеркиндом. Впоследствии он говорил, что пребывание среди древних руин (особенно помпейских) было подобно излечению от катаракты. Но пять лет, проведенных во Французской королевской академии, руководимой его учителем Вьеном, были заполнены утомительной работой. Он без особого вдохновения писал обязательные академические этюды обнаженных фигур и копировал невообразимое количество фризов с похоронными процессиями. К лучшим работам, созданным им в Риме, принадлежали зарисовки сельской местности, церквей, коров. Возможно, авторитет древнеримского искусства и истории не только вдохновлял его, но и подавлял. Древние руины хранили память о погибшей империи, и если теперь для возрождения погрязших в праздности новых империй требовались республиканская энергия и суровость, то могли ли художники стать источником этой энергии? Каким образом он мог проявить себя в деле обновления общества? Как пишут современники Давида, приближаясь к тридцатилетнему возрасту, он находился в угнетенном состоянии духа. «Если эта меланхолия продлится, – писал обеспокоенный Вьен, – то я первый посоветую ему вернуться [во Францию]».
Но Давид обладал такой блестящей техникой, что просто не мог остаться невостребованным. Алтарная картина, написанная им для церкви в Марселе, показывает, что он подбирает мастеров прошлого себе в учителя. Тут и несомненное влияние Караваджо, и «Про́клятая душа» Бернини, и Мадонна Рафаэля, и святые Рубенса, и прокаженные Пуссена – все они сошлись на одном большом полотне. Это был джекпот! Работа имела громкий успех. Конный портрет польского графа (кивок Ван Дейку) ослепляет нарочитой виртуозностью в деталях, среди которых особенно выделяются прекрасно выписанные щетки над копытами лошади. Но картину, написанную им в 1781 году, все, включая даже несносного Дидро, называют образцом той живописи, которую Франция ждала, – монументальной и разрывающей сердце. Когда «Велизарий, просящий подаяние» предстал перед публикой, Салон чуть не утонул в слезах.
Велизарий, просящий подаяние. 1781. Холст, масло.
Музей изобразительных искусств, Лилль
Андромаха, оплакивающая Гектора. 1783. Дерево, масло.
Национальная школа изящных искусств, Париж
Этой картиной художник продемонстрировал, что не равнодушен к политике: намек на сходство между историей несправедливо обвиненного в военных неудачах римского генерала Велизария и нашумевшим делом французского военачальника уже звучал в написанном ранее романе. Император Юстиниан отвернулся от своего верного генерала, и Велизарию пришлось просить милостыню на улицах. Во Франции таким же козлом отпущения в связи с поражением в Индии стал граф Лалли-Толендаль, который провел два года в тюрьме, а затем был казнен. В романе Жана Франсуа Мармонтеля «Велизарий» (1767) аналогия между двумя пострадавшими от несправедливого суда просматривалась так явственно, что книга была запрещена. Но затронутый вопрос остался открытым. Обвинение, брошенное Давидом, было еще более недвусмысленным и опасным. Слепой ветеран, собирающий подаяние в свой шлем на фоне темных классических колонн, и помогающий ему ангелоподобный ребенок стопроцентно гарантировали потоки слез. Самого зла, породившего это несчастье, на картине представлено не было, но не оставалось сомнений, что имя ему – бессердечие властителей. Для полноты мелодраматического эффекта Давид добавил еще одну демонстративную деталь – солдата, узнавшего своего старого военачальника и в ужасе воздевшего руки. Тут было все, что требовалось для успеха: пуссеновская сдержанность в рисунке и красках, невинность юности, доброта и сострадание женщины, чувство оскорбленного патриотизма, гнев против несправедливости, древний храм, обелиск, голые ступни, огрубевшие руки и нежные сердца. Дидро был тронут и заявил, что у молодого художника есть главное: de l’âme, душа. Хотя наибольшей похвалы в тот год добился Франсуа Гийом Менажо со своей «Смертью Леонардо на руках у Франциска I», картина Давида была оценена достаточно высоко для того, чтобы предоставить художнику мастерскую в Лувре как полноправному члену Королевской академии.
Клятва Горациев. 1784. Холст, масло.
Лувр, Париж
Фрагмент с кормилицей и двумя сыновьями Горациев
Надежды художника возросли, и они оправдывались. В 1783 году Давид приступил к серии портретов мертвых героев, увенчанной портретом убитого ровно десять лет спустя Марата. А первым из них был труп троянского героя Гектора, с завидным прессом и бицепсами, оплакиваемый его прекрасной вдовой на картине «Андромаха, оплакивающая Гектора» (с. 207). За два года, прошедших после возвращения из Рима, Давид подобрал беспроигрышный набор элементов: шлем с плюмажем (который в данном случае был лошадиным хвостом, так что родители, пекущиеся о классическом образовании своего отпрыска, могли проверить его на знание различных деталей из «Илиады»), красавица-героиня с очами, возведенными горе, ребенок в слезах, ищущий утешения у матери. Фокус был в том, чтобы перелицевать античный сюжет (который сам по себе легко мог стать очередной скучной лекцией по классическому наследию), придав ему форму захватывающей мыльной оперы из семейной жизни, способной в слезливые 1780-е найти путь к сердцу зрителя. Давид не менее успешно справлялся с семейными портретами, чем с каменными сооружениями и стальным оружием, и в своих работах неизменно придерживался единства патриотических подвигов и внутрисемейных пертурбаций на всем пути к созданию неувядаемых революционных шедевров.
Д’Анживийе обратил внимание на его достижения. К Салону 1785 года королевский двор заказал Давиду картину на сюжет из истории семейства Горациев. Более удачного заказа для него и быть не могло. Для работы над ним он опять отправился в Рим. Римский род Горациев и враждующий с ним клан Куриациев решают избежать поголовной резни и провести вместо этого схватку, выдвинув по три воина с каждой стороны. Чей представитель останется последним в живых, тот род и будет победителем. Гораций-отец из патриотических чувств жертвует своими сыновьями. Но эта история о суровой непреклонности осложняется нежной любовной линией. Камилла, одна из сестер-римлянок, помолвлена с одним из Куриациев. Когда после схватки ей приносят тело ее убитого жениха, она открыто скорбит о нем, и ее единственный оставшийся в живых брат закалывает ее за это предательское мягкосердечие. Его обвиняют в убийстве, но отец выступает в его защиту, говоря, что сын выполнял свой патриотический долг. Сохранился написанный Давидом этюд, на котором отец закрывает своим телом нераскаявшегося сына, а рядом на ступенях лежит тело его убитой дочери. По всей вероятности, таков был первоначальный замысел картины. Но затем художник решил изобразить более ранний эпизод этой истории, когда отец, схватив рукой обнаженные лезвия мечей, благословляет сыновей драться до последней капли крови за родину.
Картина – манифест братской преданности и единства мужчин-патриотов. Трое юношей сливаются в одну фигуру, тот, что посредине, крепко обхватил рукой закованную в латы талию брата, мускулистые ноги выдвинуты вперед в решительном шаге, руки вытянуты в клятве верности отцу и отечеству. На плечи патриарха наброшена накидка цвета крови – яркое пятно, оживляющее строгую композицию. Действие происходит в небольшом пространстве, напоминающем театральную сцену, и разворачивается на «раз-два-три» как менуэт ярости и смерти (балет на эту тему действительно уже существовал): три арки, три брата, три меча и три женщины, скорбящие, наподобие Ниобы на античных фризах. В голубом с золотом платье на стуле, покрытом кроваво-красной материей, сидит Сабина из рода Куриациев, вышедшая замуж за одного из Горациев. Она горюет о неизбежной гибели мужа, или брата, или обоих. Рядом с ней Камилла в целомудренно-белой одежде, предчувствующая смерть жениха. Обе женщины поставлены в ситуацию, где они поневоле испытывают противоречивые чувства, разрывающие их сердце. Третья женщина – служанка, она держит двух маленьких мальчиков, заслоняя от одного из них воинственное зрелище, но другой – по всей вероятности, будущая жертва патриотизма – наблюдает за происходящим широко раскрытыми глазами. Пока Давид писал «Клятву Горациев», его жена родила их второго сына, так что маленькие мальчики владели мыслями художника и подпитывали его патриотические чувства.
Публика никогда еще не видела ничего подобного – это была революция на холсте задолго до того, как художник ввязался в революцию, развернувшуюся в стране. Он и сам понимал, что создал нечто исключительное. Его друзья и ученики в Риме уже подняли рекламную шумиху. Время от времени кого-нибудь допускали в мастерскую взглянуть на великое произведение. Отправляя своих «Горациев» в Салон, Давид знал, что опоздал к назначенному сроку и превысил предельную величину полотна, установленную заказчиком. Тем не менее он потребовал, чтобы в Салоне картину повесили на самом видном месте, и его требование удовлетворили. Все это, конечно, еще не делало его революционером за четыре года до взятия Бастилии, но уже свидетельствовало о явном недостатке верноподданических чувств. Чувствовалось, что, несмотря на всевозможные блага, которыми осыпали Давида, он обращается в своем творчестве не к правительству и не ко двору. Как-никак в Салоне 1785 года, где «Клятва Горациев» затмила все прочие работы, побывало шестьдесят тысяч человек. С этих пор Давид пишет картины для сообщества, именуемого «Нацией».
IV
«Клятва Горациев» была трубным гласом, призывающим к оружию, но в 1785 году еще нельзя было с уверенностью предсказать грядущие политические баталии и тем более гражданскую войну. Все изменилось год спустя, когда после катастрофического бюджетного кризиса, вызванного Войной за независимость США, было созвано совещание, чтобы установить величину налогов, которая могла бы предотвратить полный финансовый крах. Представители аристократической элиты, из которых состояло это «собрание нотаблей», не возражали против отмены положения об освобождении их от налогов, но взамен хотели участвовать в управлении государством. Они требовали создания самостоятельного законодательного органа и выборов.
Образованные в результате выборов Генеральные штаты, собравшиеся в Версале весной 1789 года, пошли гораздо дальше, чем рассчитывали аристократы, отменив их привилегии, титулы и само их сословие. Вместо дворянства, духовенства и «третьего сословия» теперь существовала единая Нация. Спустя два года охваченный революционной горячкой Давид изобразил этот поворотный момент истории. По указу короля представители «третьего сословия» были изгнаны из зала заседаний Генеральных штатов, и тогда они вместе с перебежчиками из двух других социальных групп собрались во главе с мэром Парижа Жаном Сильвеном Байи в зале для игры в мяч, назвали себя Национальным собранием и поклялись добиваться конституции. Богатое воображение Давида нарисовало сцену, в буквальном смысле слова насыщенную электричеством (с. 224): сквозь окно видна молния, ударяющая в крышу королевской часовни; мощный порыв ветра выворачивает зонтики и раздувает политические страсти; он проносится по просторному помещению как ураган, наполняя его светом и свежим воздухом, дыханием общественных перемен.
Все это, однако, имело место лишь два года спустя, а в период до образования Генеральных штатов Давид еще не был огнедышащим радикалом. Он был состоятелен и знаменит, его принимали в культурных кругах с самыми утонченными запросами. Для семейства Трюден, устраивавшего приемы в своем блестящем парижском салоне, он написал картину, пробуждавшую в зрителях благородные и печальные чувства, – еще одно смертное ложе с современным подтекстом. Сократ, обвиненный в неуважительном отношении к официальной религии и развращении афинской молодежи, собирается выпить чашу цикуты. «Смерть Сократа», написанная в приглушенных тонах, представляет собой еще одну театрализованную драму, разворачивающуюся в тесном пространстве. Умирающий Сократ высказывает свои последние мысли (яд действует медленно), однако речь и тишина гармонично уравновешены – Платон, сгорбившийся в ногах постели, погружен в горькие размышления.
Теперь Давид меньше зависел от монаршей милости, поскольку стал любимцем богатых, либерально настроенных аристократов. Один из них, знаменитый ученый-химик Антуан Лавуазье, заплатил ему колоссальную сумму в семь тысяч ливров за свой портрет с женой (с. 215). Художник смотрел сквозь пальцы на то, что Лавуазье был также одним из членов «Генерального откупа», имевших в своем распоряжении целую армию, с помощью которой они собирали королевские налоги и снимали жирные сливки для собственного употребления. Но ведь был и другой Лавуазье: ученый-либерал и славный человек, тративший немало времени и средств на борьбу с малярией в своих загородных поместьях. Давид был явно покорен сестрами Антуана, а его жена Мария-Анна училась у него живописи. Художник изобразил их как современных, романтически влюбленных друг в друга супругов, а Марию-Анну, вышедшую за Лавуазье в возрасте тринадцати лет, и как незаменимого помощника мужа – она была автором рисунков в его работах и переводила для него тексты с английского языка. Одета супружеская чета элегантно и в соответствии с модой, но отнюдь не вычурно: у него темные чулки, она в изящном муслиновом платье. Лучше всего их характеризует слово «естественность». Длинные вьющиеся волосы Марии-Анны выбиваются из-под напудренного парика, рука ее непринужденно лежит на плече мужа. Оба являют образец благородного достоинства, но лишены какой-либо церемонности; именно такие славные люди и должны управлять новой Францией, говорит портрет.
Смерть Сократа. 1787. Холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Антуан Лоран Лавуазье и его жена. 1788. Холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Однако, вместо того чтобы передать власть таким славным людям, революция их уничтожала. Выборы в Генеральные штаты открыли ящик Пандоры и выпустили на свободу неуемные амбиции. Урожай в тот год был катастрофически низким, цены на хлеб подскочили до небес. Население надеялось, что собрание народных избранников, покончив с привилегиями и несправедливостями, как-нибудь все наладит и всех накормит. Но этого, разумеется, не случилось. Весной и летом 1789 года значительная часть французов, особенно в городах, голодала. Это породило параноидальные настроения, послужившие пусковым механизмом насилия. Кто-то должен был ответить за непрекращающиеся невзгоды – те, кто лишь притворялся, что поддерживает революцию, а на деле только и думал, как бы задушить ее. Во главе списка виновников был, естественно, весь версальский двор. Людовик XVI в конце концов признал решение, клятвенно принятое в зале для игры в мяч, преобразовать Генеральные штаты, в которых сословия заседали по отдельности, в единое Национальное собрание. Но парижская пресса, вырвавшаяся из-под власти цензуры, подозревала (не без оснований), что королева Мария-Антуанетта, ставшая символом порочности, вступила вместе с братьями короля и собственным братом, императором Австрии, в заговор с целью разогнать Национальное собрание силой оружия. Увольнение министра, признавшего собрание единственным правомочным законодательным органом, послужило искрой, поджегшей бочку с порохом.
В событиях, развернувшихся 12 июля 1789 года, порох и в самом деле фигурировал. У гарнизона Дома инвалидов имелись пушки и боеприпасы, и по городу разнесся слух, что уполномоченный по боеприпасам – не кто иной, как Лавуазье, – перевозит орудия в древнюю восьмибашенную крепость Бастилию, откуда простреливался район Фобур-Сент-Антуан, сердце революционного Парижа. Среди колоннад и садов Пале-Рояля, оазиса свободы, где шарлатаны и ловкачи всех мастей, проститутки, памфлетисты и горлопаны обитали на расстоянии брошенного камня от Лувра, молодой провинциальный адвокат Камиль Демулен, взобравшись на столик торговца лимонадом, прокричал, что увольнение министра – это объявление войны Национальному собранию и всему народу. Теперь королевские войска пройдут по Парижу, уничтожая всех подряд, а пушки и порох в их распоряжении уже имеются. Единственное спасение – вооружиться и нанести упреждающий удар.
Последовали два дня перестрелок и кровавых стычек, и в результате Национальная гвардия под командованием маркиза де Лафайета взяла город в свои руки. Кульминационным моментом был штурм Бастилии 14 июля. Благодаря широко распространявшимся писаниям нескольких поколений узников крепости, попавших туда за оскорбление короля или правительства, Бастилия стала символом деспотизма, но в тот момент в ней содержалось всего восемь заключенных. Охраняли крепость и имевшийся там порох семьдесят восемь швейцарских гвардейцев и ветеранов. Когда они были окружены, комендант Бастилии Бернар де Лонэ попытался договориться о мирной капитуляции. Но все произошло так, как обычно бывает в подобных случаях: всеобщая неразбериха, выстрел, произведенный неизвестно кем, паника, гнев и обвинения в вероломном обмане, пролитая кровь и неудержимая атака. К концу дня Бастилия была взята, де Лонэ отправили под конвоем в городскую ратушу, но на одной из улиц по пути ему отрезали голову ножом. Лафайет, Национальная гвардия и аморфная масса, называвшаяся «народом», бурлившая, разгневанная и раздираемая подозрениями, стали полными хозяевами великого города. Когда курьер доставил эту весть королю в Версаль, тот задал ставший знаменитым вопрос: «Это что, бунт?»
«Нет, сир, – ответили ему, – это революция».
V
Это была революция, изменившая весь мир. До нее слово «революция», происходящее от латинского revolutio, «поворот назад», сохраняло свое первоначальное значение и в социальном отношении подразумевало возвращение к предыдущему, более справедливому или менее деспотическому общественному устройству. Историки описывали английскую «Славную революцию» как восстановление прав, попранных абсолютистской властью короля Якова II. Вожди американской революции тоже заявляли, что борются за свободу, искони присущую человеку и подавленную британской тиранией. Но в 1789 году у людей было ощущение, что все происходившее до тех пор перечеркнуто и история начинается заново. В августе либералы «благородного» происхождения, вроде Лафайета и Мирабо, стяжали себе славу тем, что отказались от своих стародавних привилегий и получили взамен истинно благородный титул Гражданина.
Если уж было решено, что Нация должна возродиться и существовать на прочных основаниях, то надо было привить гражданское самосознание людям, которые не имели понятия о том, что такое общественная жизнь, и уж тем более никогда не имели возможности в ней участвовать. Старые обычаи королевского двора, дворянства и церкви стали не только ненужными, но и опасными для новой жизни. Им надо было противопоставить новые символы национального единства и братства граждан, и прежде всего, естественно, трехцветное знамя. В неспокойные дни и месяцы после падения Бастилии лучшим ответом на вопрос, который могли с подозрением задать на улице: «Вы за Нацию?» – был трехцветный шарф или кокарда. От этих знаков лояльности порой зависела жизнь. В ноябре 1789 года, когда прибывшая из Парижа революционная толпа наводнила Версаль, Лафайет, стремясь обеспечить безопасность королевской семьи, велел им завернуться в трехцветные флаги и нацепить кокарды, а затем сопроводил их в столицу, чтобы «вернуть их в лоно народной жизни».
Ликторы приносят Бруту тела его сыновей. 1789. Холст, масло.
Лувр, Париж
Какое же место в этом бурном круговороте событий занимал гражданин Давид? Документальных свидетельств о его деятельности в это время не сохранилось. Речей он не произносил – мешали заикание и деформированная щека. Но на письме высказался по поводу ноябрьского унижения королевы в Версале, заметив, что «надо было разрубить тушу на куски». Известность ему принесла «Клятва Горациев», которая ретроспективно воспринималась как революционный призыв к оружию; он выступил как реформатор, обвиняя Королевскую академию в том, что она служит бастионом старого порядка. Жены нескольких художников явились как-то в Национальное собрание, чтобы пожертвовать Нации свои драгоценности, и, разумеется, среди них была супруга Давида.
Однако в августе 1789 года приближалось открытие первого революционного Салона, и Давиду надо было как-то объясниться в связи с некоторыми весьма компрометирующими его работами и заказчиками. Одно из двух полотен, которые он собирался выставить в Салоне, было написано для самого младшего и наиболее реакционно настроенного брата короля, графа дʼАртуа, который (как говорили, усмехаясь) был задушевным другом королевы, а также играл главную роль в попытке организации заговора против Национального собрания. Эта приторно-эротическая картина называлась «Парис и Елена» и изображала момент скорее подростковой, нежели серьезной любви. Идеальная греческая грудь Елены просвечивает сквозь прозрачную сорочку, мужские достоинства светловолосого розовогубого Париса едва скрыты красной лентой, которой повязана его лира. Однако еще большую опасность представлял портрет супругов Лавуазье, поскольку Антуана, управляющего пороховым делом, чуть не линчевали во время бунта 6 августа. Когда толпа с ликованием разгромила здание «Генерального откупа», портрет, как и сами модели, внезапно исчез в неизвестном направлении. Четыре года спустя, в период террора, супругов арестовали. Антуану отрубили голову, жене его сохранили жизнь. Давид был одним из членов комитета, подписавших смертный приговор. Всякое братство имеет свои пределы.
Однако тот факт, что картина, показанная в Салоне 1789 года, «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей» также была королевским заказом, не имел особого значения. Сюжет относился к годам основания Римской республики. Консул Луций Юний Брут (которого не следует путать с более поздним Марком Брутом, убийцей Цезаря) обнаружил, что его сыновья участвуют в заговоре с целью восстановления власти дискредитировавшей себя и свергнутой династии Тарквиниев. Принципиальность гражданина возобладала над голосом крови, и Брут приказал казнить собственных детей. На заднем плане картины видны их обезглавленные тела с кроваво-красными ленточками на ногах – словно стенографической записью постигшей их судьбы.
Эта мрачная история демонстрирует даже большую неумолимость, чем была проявлена Горациями: вместе с шеями сыновей была перерублена их связь с отцом. Разрыв семейных связей из политических соображений, преобладание патриотического долга над слабостью чувств подчеркивается строгой тосканской колонной, отделяющей Брута от женской половины семьи и повторяющей еще более решительно тему гендерного противостояния, заявленную в «Клятве Горациев» и ставшую лейтмотивом практически всего творчества художника. Достоинство картины в том, что автор не дает однозначной оценки изображаемым событиям и его сомнения передаются зрителям. (Через несколько лет подобная неопределенность позиции могла бы привести художника на гильотину.) Брут и ликторы находятся в тени, охваченные ужасом женщины ярко освещены. Брут непреклонен, он отвернулся от тел сыновей, убитых по его приказу, и погружен в мрачное раздумье. На трагический конфликт, разрывающий его сердце, намекает также его поза: правая ступня лежит поверх левой, как у пророка Исайи на фреске Микеланджело в Сикстинской капелле.
В то время как страдание Брута загнано внутрь, фигуры его жены и двух дочерей, в отличие от женщин в «Клятве Горациев», не бездвижны: эти женщины не раздавлены горем, а выражают свои чувства открыто, подобно героиням греческих трагедий (или – зачем далеко ходить – крамольной пьесы Вольтера о Бруте, поставленной за год до этого). Одна из сестер потеряла сознание, другая закрывает лицо руками, чтобы не видеть жуткого зрелища. Если в «Клятве Горациев» центральным композиционным элементом была рука отца, то теперь эту роль выполняет поднятая в жалобном жесте рука матери принесенных в жертву сыновей. На нее падает целый поток света, в то время как каменная статуя восседающей на троне неумолимой Кибелы, Великой Матери, которой поклонялась Римская республика и которую правильнее было бы назвать Матерью Смерти, находится в тени и разделяет отца и сыновей, естественные чувства и гражданский долг.
Хотя эта драма разорванных связей растолкована художником очень выразительно, чтобы окончательно доконать зрителя, он добавляет еще одну наглядную деталь. На столике, покрытом красной, как лужа крови, скатертью, помещен скромный натюрморт – корзинка с принадлежностями для шитья, символ домашнего очага, семейной жизни, женских занятий и женской заботы. Но в центре корзинки торчат ножницы, написанные со свойственным Давиду мастерством и угрожающе поблескивающие. Некоторые из зрителей – например, Максимилиан Робеспьер или Жорж Дантон, окончившие лицеи, служившие рассадниками классической учености, сразу могли узнать этот символический атрибут парки Атропы, перерезающей нить жизни. Французский термин «натюрморт», буквально означающий «мертвая природа», в данном случае был буквален, как никогда.
Несмотря на некоторую двусмысленность, эту картину можно считать заявлением художника о своей лояльности, особенно если учесть, что выставлена она была в то время, когда Национальное собрание разделывалось со старой Францией. Писал картину Давид еще до образования Генеральных штатов и взятия Бастилии и впоследствии сознавал, что драматические революционные события изменили звучание этой работы. Удивительно то, что «Брут», подобно «Горациям», был написан по заказу короля. Но теперь работа воспринималась как обвинение монархической власти, представленной безнадежно коррумпированным, не признающим законов деспотическим семейством Тарквиниев, «злодеев за сценой», которые были косвенными виновниками семейной трагедии. И это было только начало.
VI
Заостряя внимание на разрыве всех связей, «Брут» оказался трагически пророческим. Франция была на пороге гражданской войны, когда целые провинции и крупные города, вроде Лиона, восставали с оружием в руках против парижских властей. Но в первые годы революции все были вдохновлены идеей объединения. Несмотря на то что революционные нововведения превращали в изгоев целые группы населения – к примеру, священнослужителей, – фактически лишая их гражданства, красноречивые выступления ораторов и публикации журналистов создавали обманчивое впечатление, что воцарилась всеобщая любовь, люди семьями танцевали вокруг Древа свободы и обменивались поцелуями под трехцветным знаменем. Сознательные граждане считали своим патриотическим долгом употреблять вместо безличного «вы» более интимное «ты», обращаясь ко всем подряд, а не только, как прежде, к детям, членам семьи, своим любовникам и собакам.
Два видных гражданина служили революции каждый на своем поприще. Жан Поль Марат, несостоявшийся ученый, врач, специалист по накачиванию аэростатов горячим воздухом, переключившийся на накаливание атмосферы в обществе, разрабатывал в своей типографии богатый пласт революционной паранойи. Его стали называть L’Ami du Peuple, Друг Народа, – по названию его газеты, в которой он, соответственно, обличал «врагов народа». В эту категорию попадали «ненастоящие» граждане, прячущиеся под масками и за закрытыми дверями, нераскаявшиеся друзья старого режима (включая, разумеется, волчицу-королеву и ее жирного двуличного супруга), которые, вступив в сговор с европейскими деспотами, выжидали удобного момента, чтобы начать войну с революцией; к ним же относились аристократы, вроде Лафайета и Мирабо, лишь притворявшиеся, что поддерживают революцию, а на самом деле действовавшие заодно с королевским двором, а также бесчисленные священники и лжепатриоты, которых ради спасения родины необходимо было разоблачить. Патриотический долг заключался в том, чтобы обличать врагов, нейтральная позиция была преступлением.
Если Марат усердно занимался прополкой революционных рядов, то Жак Луи Давид сколачивал их. В марте 1790 года по пути на церемонию принесения революционной клятвы в Бретани он начал делать наброски для картины «Клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789 года», которая должна была увековечить событие, давшее старт революции и определившее судьбу абсолютной монархии. Один из видных политических деятелей того времени, Эдмон Дюбуа-Крансе, выступая в Якобинском клубе, заимствовавшем название у якобинского (доминиканского) монастыря, где встречались вожди революции, заявил, что в этот день было покончено с многовековыми ошибками. Этот пример, сказал он, «освободит всю вселенную». Подобная риторика была характерна для революционеров. Затем Дюбуа-Крансе предложил якобинцам заказать Давиду, «французскому патриоту, чей гений способствовал революции», огромное полотно 9 на 6 метров, которое будет вывешено в здании Национального собрания и сохранит этот поворотный момент истории для потомков. Помимо гигантской картины, Давид должен был сделать такой же рисунок; выгравированный и размноженный в количестве трех тысяч экземпляров он будет распространен по всей Франции. Это изображение станет иконой французской новой зари.
У Давида, по всей вероятности, возникло ощущение, что история идет по стопам искусства. Депутаты Национального собрания уже приносили клятву, вытягивая руки по примеру Горациев на его картине, а теперь его просили изобразить это еще раз. Искусство воспроизводило историю, которая имитировала искусство. Уже от одного этого его патриотическая голова могла пойти кругом. Возможно, он и понимал, что это полотно, где все фигуры, обнявшись, устремлены к эпицентру событий, зачитыванию клятвы Жаном Байи, будет колоссальным очковтирательством, выдающим желаемое за действительное и игнорирующим трещины, которые ежедневно вскрывались в революционном ядре. Но Давид давил в себе эти сомнения. Если даже противоречия между монархистами и так называемыми республиканцами, умеренными и воинственными революционерами обостряются, то тем более важно дать французам образец, вокруг которого они могли бы сплотиться.
Клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789 года. 1791. Перо, кисть, чернила.
Версальский дворец, Париж
Эскиз к «Клятве в зале для игры в мяч» с написанными лицами революционеров (слева направо: Дюбуа-Крансе, Жерар, Мирабо, Барнав). 1791. Перо, чернила, акварель.
Версальский дворец, Париж
Картина должна была выполнить много задач. Во-первых, стать эпическим полотном, имеющим символическое значение, – поэтому мы видим на ней грозу, вывернутые наизнанку зонты и трех священнослужителей в центре, которые представляли монашеские ордена, католических приходских священников и протестантов и все звались теперь просто «конституционным духовенством». Во-вторых, она должна была отображать союз молодости и старости (отсюда фигура знаменитого восьмидесятилетнего Папаши Жерара, который был на самом деле зажиточным бретонским фермером, любившим одеваться как простой крестьянин) и союз политиков и народа (отсюда зрители на галереях и в окнах, национальные гвардейцы и дети, моделью для которых, похоже, послужило потомство самого художника). В-третьих, это была первая картина Давида на сюжет из современной истории, и потому ее главные персонажи должны были иметь сходство с реальными лицами, дабы родители и учителя по всей Франции могли указать на героев этого великого дня, просвещая несведущих, нерадивых или заблуждающихся. «Смотри, – могли бы сказать они, – вот прославленный оратор Мирабо бросает вызов от лица всех собравшихся прихвостням королевской власти. Вот нахмурившийся в гордом спокойствии мудрый теоретик аббат Эммануэль Сийес, чей памфлет „Что такое третье сословие?“ дал толчок важнейшему процессу превращения простолюдинов в граждан. Вот мэр Байи возвышается на своем столе. А вот в правом нижнем углу с презрением скрестил руки на груди нечестивый депутат Мартен дʼОш – единственный из всех собравшихся, кто отказался принести клятву».
При этом надо было, чтобы картина не только служила репортажем на злободневную тему, но и не уступала по своему монументальному величию и благородству полотнам Давида, посвященным древнеримской эпохе. Начал работу художник довольно оригинально, изобразив всех персонажей обнаженными и придав реальным прототипам идеальные формы. Фигура, превратившаяся затем в Максимилиана Робеспьера, провинциального адвоката, ставшего идеологом якобинского террора, была первоначально римским солдатом – или, может быть, гладиатором, – у которого из всего облачения имелся только шлем. В порыве подчеркнуто страстной искренности Робеспьер сжимает руками грудь. Приукрашены были и все остальные, подчас довольно неосмотрительно. Так, Давид наделил депутата из Гренобля Антуана Барнава необыкновенно красивым профилем, а рябому лицу Мирабо, отличавшемуся харизматическим уродством, придал черты обворожительного льва и добавил к ним мощные плечи и ягодицы Геркулеса; вскоре после этого якобинцы заклеймили обоих как предателей, вступивших в сговор с роялистами, и порочных приспешников злобствующей королевы.
Таким образом, многие герои, игравшие выдающуюся роль на эскизах Давида, были разоблачены как злодеи, ложные друзья, а то и прямые враги революции прежде, чем он успел завершить картину. Художник был в замешательстве. Мало того что полотно такого масштаба само по себе требовало больше времени на подготовку и исполнение, чем какие-либо из его предыдущих работ, так вдобавок к этому Марат со своими якобинцами раскрывали один заговор за другим. Из осторожности Давид решил сбавить обороты и не спешить с завершением картины.
Возможно, из-за этой чехарды с кадровыми перестановками в «Клятве в зале для игры в мяч» самая эффектная часть та, где отсутствуют какие-либо фигуры. Центр представляет собой огромную гулкую пустоту между полом и галереями, точку схода, в которой незримо материализуется идея произведения. Давид хочет подчеркнуть, что это пространство пронизано ветром, светом и героическим шумом и что в этой стихии стремительно и непреодолимо рождается Свобода. Так что «Клятва в зале для игры в мяч» является в первую очередь изображением освободительной атмосферы.
Тем не менее картина уже в ходе ее создания превращалась в политический анахронизм, ибо движущей силой революционного порыва становились паранойя и голод, сменявшие вспыхнувшее поначалу чувство всеобщего братства. Вместо протянутых к единому центру рук при принесении клятвы теперь в одном направлении были вытянуты обвинительные персты. Объединительная революция Лафайета превратилась в разделительную революцию Марата и Робеспьера. Следует признать, что не все обвинения в предательстве были беспочвенными. Мария-Антуанетта действительно писала своему брату, австрийскому императору Леопольду, умоляя его вызволить ее и ее мужа из плена Национального собрания и толпы – даже путем вторжения во Францию, если потребуется. Демонизация королевской четы стала выглядеть более оправданно после того, как их задержали в Варенне при неумелой попытке пересечь границу и вернули в Париж, уже как заключенных.
Примечательно, что даже после этого Давид, как и вся Франция, не отказался от идеи ограниченной конституционной монархии. Король Людовик принес присягу на верность новой конституции в Законодательном собрании. Давид согласился написать портрет короля, знакомящего своего сына с этой конституцией. Впоследствии художник с негодованием отвергал предположение, что и в марте 1792 года все еще собирался работать на Людовика, и уверял, что ответил на его предложение: «Автор „Брута“ рожден не для того, чтобы писать портреты королей». Однако целых шесть набросков будущего портрета (с. 242) доказывают, что он лгал. Тем не менее в определенный момент политическая ситуация потребовала, чтобы он отказался от этой работы. Война, которой желала Мария-Антуанетта, началась-таки весной 1792 года, и в условиях, когда у Франции было немного шансов в борьбе с профессиональными армиями и наемниками прусского короля и австрийского императора, королю с королевой все труднее было опровергать обвинения в том, что они играют роль пятой колонны. Летом 1792 года Париж наводнили национальные гвардейцы из Марселя, распевавшие сочиненную на Восточном фронте песню, называвшуюся первоначально «Военным маршем Рейнской армии»:
Allons, enfants de la patrie. Le jour de glorie est arrivé… Вставайте, сыны Отечества. Настал день славы…10 августа день славы стал днем кровавого побоища, когда швейцарские гвардейцы, охранявшие королевскую семью во дворце Тюильри, были истреблены, король с королевой (называвшиеся теперь просто семьей Капет) брошены в тюрьму ожидать приговора. В сентябре монархия была упразднена, а страна провозглашена Французской республикой, единой и неделимой.
VII
Вместе с преобразованием Франции менялся и Жак Луи Давид. Он всегда считал, что служение обществу заставляет человека проявлять свои лучшие качества, и потому был оптимальным революционным материалом. Но он не стремился выдвигаться на первый план – возможно, из-за своего косноязычия. В период 1789–1792 годов он позиционировал себя прежде всего как художник-гражданин, выступающий против «феодальной зависимости» от Академии художеств (которая между тем под руководством дʼАнживийе воздавала художникам, в том числе и Давиду, по способностям; Давида она обеспечивала выгодными заказами и осыпала прочими благами). Но не исключено, что перспектива преданного служения делу революции заставляла его, как и миллионы французов, колебаться между приятным возбуждением и тревожными сомнениями. А что, если все пойдет не так, как надо? Что, если он окажется на стороне побежденных? В 1791 году, в период работы над обреченной «Клятвой в зале для игры в мяч», Давид написал первый из двух автопортретов (с. 199), на котором перед нами предстает революционер как свободная природная сила, человек-вихрь. Если обычно полотна Давида отличались гладкостью и завершенностью, то здесь мазки расчетливо беспорядочны и так же растрепаны, как волосы художника. У Давида напряженный взгляд, как будто его оторвали от лихорадочной работы, выполнения некоего опасного задания, и он, как и вся Франция, находится в состоянии бдительного нервозного ожидания и заряжен бурлящей, но не сфокусированной романтической энергией. В нем немного осталось от сдержанного безмятежного неоклассициста.
Обстановка в Якобинском клубе кровавой осенью 1792 года, когда Давид слушал, как Дантон яростно поносит банду тиранов, ведущих атаку на осажденную цитадель свободы, также была далеко не безмятежной. Все чувствовали, что Родина в опасности. Пруссаки были на полпути к Парижу, а противостояла им неопытная, состоявшая в основном из новобранцев армия. Провозглашение республики, арест «Луи Капета» и его жены и облава на всех как-то связанных с «феодальным» режимом означали, в глазах знающего античную историю Давида, что Рубикон перейден. Пути назад не было, компромисс с «тиранами» был немыслим. Война шла не на жизнь, а на смерть. Когда толпы, включая детей, пели «Марсельезу»: «Тираны дикою толпой / В наш вольный край вступили!», «там ваших бьют сынов», они верили каждому слову. Оборонять город было некому, кроме революционных гвардейцев с пиками и мушкетами. Со страниц «Друга народа» Марат пламенно предупреждал о том, что даже в самом Конвенте есть лжепатриоты, предатели и шпионы и их необходимо разоблачить, изгнать, арестовать и уничтожить. Некоторые враги уже находились в тюрьме – прежние аристократы, священники и политические проходимцы, только и ждавшие, чтобы пруссаки освободили их и позволили расправиться с верными республиканцами. С ними надо покончить прежде, чем это случится. И в третью неделю сентября двери тюремных камер были раскрыты, заключенные безжалостно уничтожены. Марат рассматривал это как необходимую меру политического оздоровления общества.
Предусмотрительность, да и революционная принципиальность требовали скорейшего суда над бывшим королем, пока он не стал центром притяжения для тех французов, которые не поддерживали революцию, а его освобождение не стало неуклонным стремлением внешнего врага. Давид сделал свой выбор, был избран депутатом Конвента от Парижа и занял свое место на «горе» – возвышении, с которого Робеспьер с Сен-Жюстом и их сторонники обращались ко всем остальным, объявляя суд над королем фарсом и настаивая на его казни без всяких проволочек, поскольку сама его родословная делала его биологически неспособным стать гражданином. Он представляет собой пагубную аномалию, которую необходимо искоренить, заявляли они. Когда дело дошло до голосования, Давид высказался вместе с другими за признание вины его бывшего патрона в многочисленных преступлениях против народа и за смертный приговор. Этот решающий момент неразрывно связал его с политикой. Его заикание не имело значения. Напротив, на красноречивых ораторов стали смотреть с подозрением, а железной логикой и холодной лаконичностью Робеспьера восхищались.
Сам Давид и его талант теперь безраздельно принадлежали Республике. Он был загружен важной работой. Некоторые заблудшие души еще не избавились от тяги к старым монархическим и церковным ритуалам, и художник должен был предложить людям зрелища и образы, которые пробудили бы в них преданность новой власти. Он уже имел представление о том, как живопись может служить проявлению верноподданических чувств. Революционные солдаты, дети в школах и все прочие клялись в верности делу революции, поднимая руку в древнеримском салюте, как его Горации. Короткая стрижка без всяких следов пудры, продемонстрированная его Брутом (и скопированная с римского бюста, имевшегося у художника дома), официально санкционировалась как патриотическая мужская прическа (невзирая на неискоренимую приверженность Робеспьера к напудренному и украшенному лентами парику). Давиду приходилось устраивать политические шоу еще до создания Республики – так, он организовал перенос тела Вольтера из церкви в недавно достроенный Пантеон героев. А зимой 1793 года нож убийцы поставил перед ним новую ответственную задачу.
Один из самых ярых якобинцев, Мишель Лепелетье, настойчиво требовавший казни короля, был убит в кафе Пале-Рояля бывшим гвардейским офицером. Он был избран жертвой, несомненно, по той причине, что, будучи по происхождению аристократом, не только отрекся от своей касты, но и неотступно преследовал ее представителей. Лепелетье немедленно стал первым республиканским святым мучеником, который узрел свет и избавился от пережитков «феодального эгоизма» (одно из излюбленных выражений того времени) ради безупречной жизни честного гражданина.
На Давида была возложена миссия публичной канонизации Лепелетье. Он должен был забальзамировать тело и уложить его, придав ему республиканскую позу, чтобы толпы могли благоговейно пройти цепочкой мимо него. А затем это событие – как и само тело – надо было увековечить на большом полотне, вселяющем в людей революционный дух и одновременно предостерегающем, а затем распространить его массовым тиражом в виде гравюр. Давид специализировался на изображении смертного ложа начиная со «Смерти Сенеки». Теперь у него появился шанс развернуться вовсю. Лепелетье, который был, как показывает его прижизненный портрет, одним из самых безобразных внешне якобинцев, с огромным крючковатым носом и выпученными глазами, превратился, естественно, в эталон классической красоты. Согласно неоклассической философии, которой придерживался Давид, искусство должно исправлять случайные промашки природы и заменять их идеальными формами. И тогда внутренняя красота Лепелетье – его мужество, его добродетели – преобразует его черты в облик республиканского героя. Заколотому и растерзанному телу погибшего был придан более или менее приличный вид (смертельную рану, однако, выставили на всеобщее обозрение), после чего его отвезли на Вандомскую площадь и уложили на пьедестал, где прежде стояла конная статуя Людовика XIV. Давиду сразу полюбилась его новая должность шоумена-наставника в Единой и Неделимой Республике. В картину «Убитый Лепелетье» он находчиво добавил выразительный штрих: острый дамоклов меч, в прямом смысле подвешенный на нитке над распростертым телом Великого Мученика.
VIII
Давид жил теперь в мире, поделенном на героев и злодеев (в определенном смысле он всегда жил в нем). Но дело в том, что во время революции (и в особенности такой, как эта) очень трудно понять, кто есть кто. В темницах (и в повозках для осужденных на казнь) было полно людей, которые еще вчера являлись безупречными патриотами, а сегодня оказались предателями. Давида смущало то, что многие из самых гнусных двуличных депутатов выступали в его «Клятве в зале для игры в мяч» как герои. К ним относились, например, Байи и Барнав, кончившие свою жизнь на гильотине. Только Робеспьера и Марата вроде бы не в чем было упрекнуть; последнего художник изобразил на эскизе к картине усердно записывающим речи на галерее.
После казни короля разразилась тотальная война за власть как в самом Конвенте, так и в тех регионах страны, где установленный якобинцами порядок воспринимали лишь как фанатичное стремление к диктатуре, поддерживаемой карательными действиями. Робеспьер и его сподвижники говорили, что предпринимаемые ими меры (например, оттягивание принятия конституции) объясняются чрезвычайным положением, оппозиция же считала, что это расчетливая политика новой тирании. К лету 1793 года почти половина департаментов Франции была охвачена вооруженными восстаниями и мятежами против якобинского парижского режима. Депутаты Конвента, голосовавшие за помилование короля, теперь были вынуждены бороться с якобинцами за республиканские идеалы. Лидеры оппозиции в Конвенте были в большинстве своем выходцами из Жиронды, департамента, центром которого был Бордо, и назывались поэтому жирондистами. Но они выступали за децентрализованную власть, предоставление автономии провинциям, а Давид был парижанином с ног до головы.
Они нанесли первый (и последний) упреждающий удар, избрав мишенью самого ненавистного и опасного для них человека, Марата. Он тоже стал депутатом и ради безопасности Республики постоянно требовал приносить в жертву те или иные (в основном, жирондистские) головы. Но их атака бумерангом ударила по ним самим. Марат был арестован и подвергнут суду, во время которого выставил себя «мучеником», страдающим за свободу прессы, жертвой предателей, «шарлатанов» и (разумеется) «эгоистов», пытающихся заткнуть рот журналисту, раскрывающему их преступные замыслы. Он был оправдан и вместе с другими якобинцами, включая Давида, с которым Марат подружился, постарался извлечь максимум пользы из своей победы, устроив помпезный спектакль в Клубе Кордельеров с возложением венка из роз на его голову. Два месяца спустя он сумел более основательно отомстить своим неопытным обвинителям. Произошел трехдневный государственный переворот, во время которого целая армия воинствующих граждан из пригородов Парижа направила стволы пушек на здание Собрания, и в результате жирондисты вместе с другими «умеренными» были изгнаны из Конвента. Вместо конституционного правления во Франции установилось «революционное правление» с особыми трибуналами, наделенными властью производить аресты, допрашивать подозреваемых, выслушивать обвинителей и выносить приговоры. Выступления адвокатов с защитой обвиняемых не предусматривались. Враги Республики как внутри страны, так и за ее пределами не могли рассчитывать на пощаду. Гильотина работала с возрастающей скоростью. Пребывающий в эйфории и недостижимый для врагов Марат продолжал повышать ставку в кровавой игре, говоря, что для обеспечения полной безопасности Родины необходимо снять не сотни, а тысячи голов.
Некоторые видели в этом серьезную угрозу. Шарлотта Корде дʼАрмон из мелкопоместной дворянской семьи, жившей в городе Кан в Нормандии, была умной образованной девушкой, воспитанной на трагедиях своего предка Пьера Корнеля, герои которых совершали мучительные акты самопожертвования ради высокой цели. Она даже собиралась написать драму в таком же духе. Подобно очень многим французам, ненавидевшим якобинцев, Шарлотта причисляла себя к республиканцам, но считала, что Робеспьер и его сторонники не столько отстаивают республиканские свободы, сколько подавляют их. Она горячо поддерживала позицию канского муниципалитета, осудившего стремление «утопающих в крови и золоте» парижских якобинцев подчинить своей диктатуре французские провинции. А когда в Кане гильотинировали священника, соборовавшего ее мать, как «упрямца», не пожелавшего принести присягу Республике, Шарлотта была потрясена до глубины души. Последней каплей, по-видимому, послужил арест и заключение в тюрьму Консьержери жирондистов. С одним из них, красивым и обаятельным Шарлем Барбару, она встречалась во время его приезда в Кан. Неизбежная казнь жирондистов стала для Шарлотты личной трагедией. К тому же она слышала своими ушами призывы местных политиков расправиться с этим чудовищем Маратом, испытывавшим омерзительную ненасытную жажду крови. «Для спасения Республики надо уничтожить Марата», – говорили они. И Шарлотта прониклась убеждением, что это ее патриотический долг.
9 июля Шарлотта отправилась дилижансом в Париж. Между тем ее будущая жертва пребывала в мучениях. Стояло знойное лето, а Марат болел псориазом, и в жару его кожа шелушилась и страшно чесалась. Но, несмотря на страдания, он не прекращал свою патриотическую обличительную деятельность. В его доме на рю де Кордельер за ним ухаживала его любовница Симона Эврар, делавшая ему каолиновые примочки. Когда жара становилась невыносимой, Марат забирался в ванну, имевшую форму башмака, и с пропитанной уксусом повязкой на голове продолжал писать на стоявшем рядом ящике, заменявшем письменный стол. На стене ванной была нарисована колоннада, висела карта Франции и два скрещенных пистолета; под ними то ли для вдохновления, то ли для предупреждения была сделана крупными буквами надпись LA MORT («Смерть»).
Анатоль Девож. Убитый Лепелетье. Ок. 1793. Рисунок с картины Давида.
Музей изящных искусств, Дижон
Там и застал Марата Давид 12 июля, когда пришел на рю де Кордельер нанести ему братский визит. Возможно, художника и журналиста объединяла не только преданность воинствующему якобинству. Оба имели физические недостатки и болезненно воспринимали насмешки по этому поводу со стороны ненавидевших их врагов. Оба пережили конфликт с представителями старого академизма. Академия наук отвергла экспериментальную работу Марата об огненных флюидах, превратив его из соискателя ученой степени в своего врага. Давиду, прежде чем он добился признания, пришлось, как он считал, преодолеть фаворитизм, который господствовал в Королевской академии художеств. Удивительно, но оба в самый канун революции работали на брата короля графа дʼАртуа: Марат в качестве медика, следившего за здоровьем графских гвардейцев, Давид как художник, написавший для графа «мягкое порно» – «Париса и Елену». (Хотя вряд ли они любили вспоминать об этом в своих разговорах.) Марат охотился на предателей, Давид собирался сотрудничать с политической полицией и стать членом Комитета общественной безопасности, который подписывал смертные приговоры и отправлял осужденных на гильотину. Давиду импонировала также театральность поведения Марата – его нарочитая простоватость, поза Друга Народа, то, как он вызывающе выпячивал свое знаменитое уродство, появляясь на публике в старом и грязном горностаевом воротнике. Один из жирондистов сравнил его с жабой. Когда в Конвенте жирондисты нападали на Марата, он приставлял пистолет к виску, притворяясь, что хочет вышибить себе мозги. Давиду это страшно нравилось. Это было словно взято с какой-нибудь из его картин.
Неудивительно поэтому, что он был одним из двух депутатов, которых Конвент послал домой к Другу Народа справиться о его здоровье, так как обострение его болезни не позволяло ему посещать заседания. Давида провели в ванную, где, как он доложил Конвенту, Марат, «как всегда, неутомимо излагал на бумаге свои мысли о безопасности Родины». В разговоре с ним Давид выразил надежду, что достойный гражданин скоро поправится, и тот ответил с характерной для него резкостью, что лишний десяток лет жизни его не заботит и что его единственное желание – сказать на смертном одре, что «Республика спасена».
Однако как раз этого ему не довелось сделать. За день до этой аудиенции в ванной в Париж прибыла Шарлотта Корде. Несмотря на изматывающую жару, в городе царило предпраздничное настроение, все готовились ко Дню взятия Бастилии. 12 июля Шарлотта гуляла в садах Пале-Рояля, где ровно за четыре года до этого началась революция. Колонны были увиты лентами и увешаны флагами, повсюду были пропагандистские плакаты с созданными Давидом символами, призванными вдохновлять публику. Литературные поденщики и проститутки наводняли сады по-прежнему, но писакам приходилось строго придерживаться проякобинской линии, а проституткам притворяться белошвейками. Скобяными изделиями под арками Пале-Рояля тоже, разумеется, торговали, и Шарлотта приобрела там кухонный нож с длинной ручкой, а также черную шляпу и зеленые ленты. В 1789 году зеленый цвет считался символом революции, весеннего возрождения свободы. Теперь старые лозунги могли быть небезопасны, но Шарлотту беспокоили другие проблемы.
Она собиралась заколоть Марата прямо в Конвенте, и известие о его болезни несколько выбило ее из колеи, но не сбило с намеченного курса. Приходилось перенести выполнение задуманного к нему домой, только и всего. Вечером она написала прощальное письмо отцу и еще одно своему наставнику-жирондисту Барбару, объяснив ему, что чувствует себя обязанной убить Марата, дабы остались живы многие другие. Позорным преступлением с ее стороны было бы не делать ничего, писала она. Третье письмо с просьбой принять ее она отправила самому Марату. Приманкой было обещание рассказать ему о врагах революции в Кане. Подробное объяснение своего поступка и свидетельство о крещении она зашила за подкладку платья.
На следующее утро она явилась в дом Марата с письмом в руках, однако бдительная Симона Эврар не впустила ее. Шарлотта побродила по улицам, не зная, как поступить, но в конце концов решилась на вторую попытку. На этот раз она пришла в тот вечерний час, когда Марату доставляли пищу и газеты с новостями (что для него было одно и то же). В дверях она представила Симоне письмо и объяснила вымышленную цель прихода. Симона все же колебалась, но тут донесся голос из ванной: «Впусти ее».
Они беседовали с четверть часа. Затем Марату потребовалась новая примочка, и Симона вышла приготовить ее. Убийца осталась наедине со своей жертвой. Шарлотта прочла приготовленный ею список «изменников Родины», на что Марат удовлетворенно пробурчал: «Очень хорошо, через неделю они все будут гильотинированы». Это послужило сигналом. Шарлотта выхватила нож из складок платья и успела нанести один решающий удар в область ключицы, который перерезал сонную артерию. Кровь фонтаном брызнула в ванну. На крики Марата прибежали его помощники и Симона, кинулись за жгутами, но было уже поздно. Последовала короткая потасовка. Один из помощников швырнул в Шарлотту стул, другой повалил на пол. Но она и не собиралась бежать. Новость быстро распространилась в густонаселенном квартале приверженцев якобинства, и, когда Шарлотту везли в тюрьму Аббэ, толпа угрожающе гудела. Одна из женщин прокричала, что хотела бы разрезать это чудовище на кусочки и съесть их все. В тюрьме Шарлотта, чувствуя, что настал ее звездный час, договорилась, чтобы написали ее предсмертный портрет. На эшафот она взошла в алом платье, избрав цвет убийц и изменников родины. Шел дождь, и платье облепляло ее. Женщины плевали на Шарлотту, когда она проходила мимо, но некий молодой писатель, не зараженный якобинской идеологией, вспоминал впоследствии, что у Шарлотты был необыкновенный вид, заставивший его влюбиться в нее, и он целую неделю не мог избавиться от этого чувства.
IX
Когда весть об убийстве достигла Конвента, зал разразился криками и рыданиями. Депутаты выступали с элегическими речами и панегириками погибшему, заимствованными у авторов трагедий. После успеха Давида с похоронами Лепелетье и портретом этого республиканского мученика, висевшим в зале Конвента, не оставалось сомнений, что его призовут опять. Так и случилось. Депутат Жиро, указывая на портрет, воскликнул: «Давид, где ты?.. Для тебя есть новая работа». – «Я выполню ее», – ответил Давид. Еще бы он отказался.
Работа над организацией похорон и портретом Марата должна была стать практически повторением того, что Давид делал после убийства Лепелетье. Но тут выявилось серьезное осложнение, связанное со временем года. Лепелетье забальзамировали и выставили на всеобщее обозрение среди зимы, а теперь стояло необыкновенно жаркое лето, какого не помнили старожилы. Тело Марата было далеко не в лучшем состоянии. Еще до того, как бальзамировщик и пять его помощников приступили к делу, кожа Марата стала приобретать пугающий зеленый оттенок. Надо было принимать срочные меры. Пришлось перерезать одну из подъязычных мышц, чтобы язык не вывешивался наружу, и существенно обесцветить лицо. Не смогли полностью закрыть глаза Друга Народа, и в результате он действительно имел вид притаившейся жабы, оправдывая прозвище, данное жирондистами. В течение трех дней тело было выставлено в секуляризированной церкви Кордельеров на таком же высоком римском пьедестале, какое использовалось при прощании с Лепелетье; на углах его горели четыре высокие свечи. Давид не мог придать Марату сидячее положение, в каком он был при их последней встрече, но хотел, чтобы люди видели руку, которая тогда продолжала писать для них. Однако из-за трупного окоченения и это оказалось невозможным, так что пришлось прикрепить к телу руку от другого трупа. Результат вышел не очень удачным – как-то утром, к всеобщей досаде, руку обнаружили на полу. Она отделилась от тела, но продолжала держать перо. Затем состоялось факельное шествие по улицам, была прочитана республиканская проповедь, во время которой Марата сравнивали с Иисусом, после чего тело, за исключением сердца, захоронили в саду Кордельеров, а сердце в порфировой урне подвесили на шелковом шнуре над головами скорбящей публики, и оно раскачивалось, наподобие perpetuum mobile революции.
Давид очень хорошо понимал, что, несмотря на заоблачный пафос погребального обряда, одним консервированием останков не обойтись. В своих прощальных речах во время похорон многие якобинцы говорили, что достойным ответом на преступление убийцы, целью которого было стереть Марата с лица земли, явится увековечивание его – не только в памяти людей, но и на холсте. Давид должен создать образ мученика Марата, который станет вечной иконой Республики.
Никогда еще перед ним не стояло столь ответственной задачи – и не в последнюю очередь потому, что картина должна была оказывать на публику двоякое и, по существу, противоречивое действие. С одной стороны, она должна была утешать и успокаивать, с другой – возбуждать и вдохновлять. Прежде всего, Марата надо было представить как неоклассического квазибиблейского героя, чье лицо и фигура, исключительно за счет его внутренней добродетели, отражали бы высшие гуманистические идеалы. При создании картины Давид поработал над телом еще более старательно, чем перед церемонией прощания, и вместо жуткой шелушащейся плоти перед нами предстает изваяние из нетленного мрамора, республиканская «Пьета»; его ангельская бледность резко контрастирует с кроваво-красной водой в ванне (это одно из немногих живописных изображений крови, где ее цвет передан с вызывающей дрожь точностью). Судя по всему, Давид тщательно продумал вопрос о том, под каким углом должна быть наклонена голова Марата, чтобы его черты выглядели наилучшим образом. Все болезненное тщательно затушевано. О свирепом псориазе Марата говорит только небольшое покраснение на его руке, а глубокая рваная рана, нанесенная Шарлоттой Корде, преобразована в аккуратный надрез, вроде тех, какие изображают на теле Христа, alter ego Марата. Подобно Спасителю, предшествовавшему ему, мученик Марат славился своей добровольной бедностью («Он умер, отдавая последнюю корку хлеба бедным», – говорил Давид в Конвенте), обличением богатых и властвующих и неукротимой решимостью высказываться откровенно.
Но картина должна была не только увековечить память Марата, но и напоминать о текущих событиях. Представляя свое произведение в Конвенте, Давид сказал, что своим мысленным взором он видел, «как вокруг него собираются мать, сирота, вдова, солдат… – все, кого он защищал, не жалея своей жизни». Самым важным для художника было, чтобы зрители благодаря картине поняли, как Марат жил и как было совершено это злодейское убийство, «увидели, как перо, наводившее ужас на предателей, выпадает из его рук». Подобно «Клятве в зале для игры в мяч», новое творение художника сочетало пропаганду идеи и описание события, то есть пыталось примирить два вечно противоборствующих представления о том, что искусство должно делать: отражать действительность или вдохновлять, демонстрируя идеал. Давид полагал, что революционное искусство, как и революционная политика, должно совмещать и то и другое – помогать людям в их реальной жизни и вместе с тем ориентировать на высшие республиканские идеалы: свободу, равенство, братство.
В отличие от работы над «Клятвой для игры в мяч», Давид мог опираться на собственные воспоминания об изображаемой им сцене, он видел эту ванну, импровизированный стол, гусиное перо. К тому же количество персонажей в данном случае было предельно сокращено, – правда, нельзя все же утверждать, что до одного-единственного человека, ибо художник задумал это полотно (как и картину о Бруте) как драму борьбы противоположных сил, добра и зла. Опираясь на свой опыт мастера натюрморта, он постарался, как мог, подчеркнуть разницу между добродетельным гусиным пером и злодейским ножом Шарлотты Корде. Ручка ножа была изготовлена из черного дерева, но Давид заменил его слоновой костью, на которой капли крови сверкали особенно ярко.
Давид, похоже, предпочитал передавать исторические события через семейные отношения, и потому на картине незримо присутствуют две женщины. Шарлотту Корде представляет письмо-приманка, запачканное кровью Марата (с. 238), в котором говорится: «Я очень несчастна, и этого достаточно, чтобы заслужить Ваше участие». На самом деле в письме, с помощью которого Шарлотта проникла к Марату, этих слов не было, она пробудила его интерес обещанием дать информацию о предателях, но для создания образа святого мученика удобнее было изобразить его как жертву собственной щедрости, а не оголтелого охотника за предателями, каким он был. Этому извращенному существу, монстру в женском платье, позорящему свой пол, надо было противопоставить Настоящую Женщину, вдову и мать, исполненную патриотических чувств, готовую жертвовать собой и притом плодовитую. (Перед казнью Шарлотту по указанию суда подвергли медицинскому обследованию, желая показать, что она была не только убийцей, но и проституткой, однако врач был вынужден констатировать, что приговоренная умрет непорочной девой.) Поэтому на самодельном столе Марата, напоминающем в одно и то же время и гроб, и надгробие, лежит также письмо от вдовы французского солдата, погибшего в бою, матери пятерых детей, которой обожествленный Друг Народа уже выдал определенное количество республиканских ассигнаций в виде пенсии.
Смерть Марата. 1793. Холст, масло.
Королевский музей изящных искусств, Брюссель
Таким образом, добро и зло были зафиксированы, урок революционной добродетели преподан. Но художник хотел, чтобы образ Марата вышел за рамки сиюминутной детализации и остался жить вечно. И ему действительно каким-то образом удалось, сохранив подробности, характерные для данного момента, изобразить его как судьбоносный не только для Франции, но и для всего человечества. Там, где это было возможно, он устранил все лишнее. Не осталось ни карты Франции, ни перекрещенных пистолетов, ни тем более написанного на стене огромными буквами девиза LA MORT. Вместо этого Давид со всей возможной деликатностью (подобно Рембрандту, он мог писать не только грубо и жестко, но и тонко, легко) наложил такой тонкий слой краски, что стена, кажется, тает в воздухе, открывая бесконечное пространство, вечность, к которой Марат-мученик теперь принадлежал. А самодельный письменный стол одновременно приближает зрителя к Слуге Народа, новому Иисусу, и создает барьер между ними. Давид хочет сказать, что Марат, подобно первому Спасителю, существует в одно и то же время и как часть каждого из нас, и самостоятельно, как обычный гражданин, – и как бессмертное революционное божество. Давид скрупулезно и любовно выписывает текстуру древесины, отдавая дань апостольской простоте павшего героя и словно говоря ему прощальное товарищеское слово. Подпись художника и революционная дата, поставленные рядом с именем Марата, – это такой же демонстративный братский жест, как руки Горациев-сыновей, обнимающих друг друга за талию.
Х
По прошествии двух с лишним веков трудно представить, что значила эта картина для французов на втором году Республики, – и не в последнюю очередь потому, что при всей своей сенсационности культ Марата длился не очень долго. Ныне картина упрятана в плохо освещенном углу современной пристройки Королевского музея изящных искусств в Брюсселе. Будоражащая живописность священной бледности Марата и зеленого сукна, покрывающего ванну, а также несравненная реалистичность кровавой воды блекнут в безжалостной полумгле, так что рассыпа́вшиеся картине комплименты, восхвалявшие ее магию и способность околдовывать зрителя, теперь кажутся сомнительными. Но стоило телевизионным софитам озарить полотно холодным светом, как величественный монстр словно прорычал из своего темного убежища и предстал во всей своей гипнотической силе. И это не риторическая фигура. Картина издает какое-то неземное гудение, а густые мазки, кажется, вибрируют, и, если достаточно долго не отводить от них взгляда, призрак зарезанного святого начинает раскачиваться, вылезает из ограничивающей его рамы и плавает в воздухе. Вы скажете, это безумие? Безусловно. Но почему бы вам не сесть в поезд «Евростар» и не проверить самим?
Какая-то межпланетная аура этой треклятой картины захватывает тебя, и необходимо немалое волевое усилие, чтобы стряхнуть колдовство, ущипнуть себя и проговорить несколько раз: «Этого не может быть… Этого не может быть…» Разумеется, не может. Это просто преображение параноика, для которого не было большей радости, чем разоблачить и затащить на эшафот не только явных предателей, но и всех несчастных, которые остались от старого режима и, как ему казалось, преследовали его лично и притесняли Францию, – старых придворных с трясущимися щеками, изнуренных бывших фавориток Людовика XV, художников, которые совершили ошибку, служа двору и дворянству, и, в отличие от Давида, не сумели вовремя эту ошибку осознать; адвокатов, гвардейских офицеров, аббатов, монахинь, моряков, актеров и бесчисленных обывателей, по неосторожности провозгласивших в таверне тост в честь короля, а также бродяг, проституток, цветочниц, сапожников, могильщиков, конюхов, грумов – всех и вся, чьим единственным преступлением было происхождение, неучастие в революционных действиях, пассивность, чувство самосохранения, изменническая неспособность понять, что жизнь – это политика.
Давид написал картину за три месяца – удивительно короткий срок для произведения столь феноменальных достоинств, особенно если учесть, что художник параллельно с этим планировал и организовывал грандиозные трескучие революционные празднества, призванные заменить церковные обряды. 14 октября картина была выставлена на обозрение во дворе Лувра (в котором у Давида была своя мастерская, как и при бывшем короле). Два дня спустя Марию-Антуанетту провезли по рю де Риволи к месту казни. Повозка проезжала мимо домов с балконами, откуда женщины плевали бывшей королеве на голову. Она не обращала на это внимания. Наблюдая за ее проездом, Давид сделал мгновенный набросок женщины, которая в большей степени, чем ее муж, стала в глазах публики олицетворением всех пороков монархии: расточительности, потакания своим прихотям, спесивости, похоти. Революционная пропаганда описывала Марию-Антуанетту как злобную ненасытную Мессалину, полупроститутку и полугарпию; прокурор во время суда над нею утверждал, что она учила своего маленького сына причинять вред своему организму, чтобы ослабить его и не подвергаться республиканскому перевоспитанию. Давид умел рисовать карикатуры – он изображал в сатирическом ключе англичан и их короля Георга III, – но сделанный им в это утро набросок не был шаржированным, он был одновременно и лучше и хуже, чем карикатура. Это было полной противоположностью канонизации Марата, холодным и бесстрастным изображением изможденной развалины, в которую превратилась бывшая красавица. В рисунке проглядывает злорадство, но он также отдает Марии-Антуанетте должное, показывая, с каким достоинством и вызовом она держится.
Представляя «Смерть Марата» в Конвенте месяц спустя, Давид, презрев свое заикание, произнес речь. «Все граждане, весь народ мечтает снова увидеть своего верного друга. „Давид, – кричат люди, – возьми кисть, отомсти за нашего друга, за Марата!“ Я услыхал глас народа. Я подчинился ему». Речь была встречена восторженными аплодисментами, картину повесили напротив портрета Лепелетье. Постановили отпечатать тысячу репродукций для всех департаментов Франции, а останки Марата, по предложению Давида, захоронить в Пантеоне рядом с могилой Вольтера.
Людовик XVI показывает конституцию своему сыну, дофину (эскиз). 1792. Карандаш.
Лувр, Париж
Королева Мария-Антуанетта в пути на казнь. 1793. Бумага, перо, тушь.
Национальная библиотека, Париж
К этому моменту революция превратилась в военную диктатуру. Робеспьер заявлял, что в связи с убийством Марата и необходимостью подавлять мятежи в южных и западных провинциях надо установить во Франции не конституционное, а «революционное» правление. Иначе говоря, защита свободы требовала создания военно-полицейского государства. Республиканская конституция, в соответствии с которой действовал Конвент, была отменена «до наступления мира». Страной правил исполнительный Комитет общественного спасения, установивший драконовские порядки и присвоивший такие неограниченные права реквизировать собственность, проводить мобилизацию и карать, какие и не снились монархам. «Закон о подозрительных» лишал людей, представших перед Революционным трибуналом, права на какую-либо защиту. Расследовал их дела и выносил свое суждение Комитет общественной безопасности. Жак Луи Давид был членом этого комитета.
Многие из его знакомых по прежней жизни – супруги Лавуазье, художник Юбер Робер, Барнав и другие – предстали перед комитетом и были осуждены. Робер (который выступил впоследствии с обвинениями против Давида после его падения и специализировался на изображении руин, в том числе сносившейся Бастилии), оказавшись в тюрьме, сделал ряд очень красивых меланхолических набросков, описывавших жизнь за решеткой. Но у Давида, ставшего одним из ближайших помощников самого Робеспьера и фактически комиссаром по культуре перерождающейся Франции, были теперь более важные дела, нежели занятия живописью. Правда, он создал еще один назидательный образ мученика – портрет тринадцатилетнего Жозефа Бара́, убитого роялистами во время Вандейского мятежа. Когда мятежники приказали мальчику отдать им лошадей, Бара крикнул в ответ: «Хрена вам, а не лошадей, долбаные ублюдки!» – но Робеспьер с Давидом отредактировали это высказывание, перефразировав его как «Да здравствует Республика!». Давид внес также живописно-редакторские поправки, изобразив Бара в виде юной обнаженной фигуры непонятного пола, устремленной, подобно Марату, куда-то в вечность.
Теперь в задачу Давида входило придать надлежащую форму всей жизни республиканцев, от колыбели до могилы. Он создал inter alia[11] костюмы для республиканских судей и законодателей, исполинскую статую Геракла, олицетворяющую французский народ, и занавес оперного театра, изобразив на нем того же Геракла на колеснице, за которой шествуют разнообразные мученики, включая Марата. Кроме того, он организовал четыре всенародных праздника. Для праздника Единства он создал четыре скульптурные группы. Одна из них находилась на месте Бастилии и включала «Фонтан возрождения» в виде фигуры египтянки, из чьих пышных грудей бил фонтан чистого молока свободы. Самым помпезным был праздник Верховного Существа, во время которого Робеспьер поджигал картонную фигуру «Атеизма», и, когда она сгорала, взорам открывалась статуя «Разума». На Марсовом поле, в том месте, где сейчас стоит Эйфелева башня, двести тысяч зрителей наблюдали за тем, как Робеспьер поднимается на сооруженную Давидом «Гору» под пение сводных хоров девственниц. Копии «Смерти Марата» между тем распространялись в покоренных провинциях Франции. Горячие сторонники республики давали имя Марата своим детям, города переименовывались в честь погибшего Друга Народа.
В конце концов Давид пал жертвой своей ретивости. Искусственность все более претенциозных праздничных церемоний, доходившая чуть ли не до мании величия, стала раздражать наиболее прагматично мыслящих членов Комитета общественного спасения, особенно в связи с надвигающейся европейской войной. Они считали, что Робеспьер и его клика, в которую, безусловно, входил и Давид, злоупотребляют чрезвычайными мерами, уничтожая всех, кто, по их мнению, прохладно относится к мессианской диктатуре и кого они подозревают в недостатке лояльности.
С неизбежностью наступил день, когда Робеспьеру был нанесен упреждающий удар и он, не веря своим ушам, услышал в Конвенте в свой адрес фатальный обвинительный приговор hors de la loi («вне закона»), который он сам столько раз выносил другим. Давид, словно громом пораженный, поднялся на ноги и, заикаясь, произнес фразу, подсказанную его картиной «Смерть Сократа», которую он написал для обезглавленного впоследствии месье Трюдена. «Робеспьер! – воскликнул он. – Если ты выпьешь эту чашу с цикутой, я выпью ее вместе с тобой».
Но разумеется, цикуту он не выпил. На следующий день Робеспьер ошеломленно выслушал в Конвенте обвинения, а затем вместе с его ближайшими помощниками был арестован и препровожден в тюрьму, где пытался покончить с собой, но прострелил лишь челюсть. Давид в этот день блистал своим отсутствием, сославшись на недомогание. Ему удалось избежать гильотины, и он не слышал, как кричал Робеспьер, когда палач сорвал кровавую повязку с его челюсти, чтобы она не мешала лезвию аккуратно проделать свою работу.
Враги Давида оживились. Через пять дней после казни Робеспьера Конвент заклеймил его как «тирана искусств» и предателя. Он попытался произнести, заикаясь, какие-то слова в свою защиту, но никто не мог разобрать их. Видели только, что холодный пот насквозь пропитал его рубашку и капал на пол. Все забытые страхи вновь охватили его. Сначала он содержался в здании, где некогда заседали Генеральные откупщики и где у Лавуазье был свой кабинет. Затем его перевели в Люксембургский дворец, в котором незадолго до этого вместе с другими вершил суд граф дʼАртуа. И там с травмированным душевно мастером театрализованных революционных празднеств свершилось очередное перерождение, заставившее его покончить с политикой. На допросах он, естественно, признавал себя виновным лишь в наивности, заявляя, что его сбили с пути истинного злые и хитрые люди, чей деспотический характер он не сумел распознать. «Сердце мое было чисто, – говорил он, – только голова работала плохо». Да, он был членом Комитета общественной безопасности, потому что видел в этом свой патриотический долг, но прилагал все усилия к тому, чтобы спасти от гильотины невиновных – в том числе и некоторых художников, ныне обвиняющих его. Однако хорошим оратором он так и не стал и потому более красноречиво высказал свое оправдательное слово в виде еще одного автопортрета, на котором выглядел страдающим честным человеком.
Автопортрет. 1794. Холст, масло.
Лувр, Париж
Чувствуется, что художник писал расчетливо и вместе с тем инстинктивно. Он в смятении смотрит в зеркало. «Вы не можете судить меня более сурово, чем я сам виню себя», – говорит портрет. Его «упелянд» – популярное у якобинцев просторное одеяние с широким воротником – распахнут на груди, словно демонстрируя открытое сердце Давида, исполненное благих намерений. Честный взгляд на самого себя заставляет художника изобразить мясистую выпуклость на щеке и слегка перекошенный рот, но только слегка, чтобы это не выглядело как кривая двусмысленная ухмылка. Самое же удивительное в этом автопортрете 1794 года, что Давид словно поворачивает время вспять. На нем художник выглядит значительно моложе, чем на более раннем автопортрете, написанном в 1791 году. Некоторые историки искусства даже сомневались в правильности датировки картины. Но сомневались они зря. Просто, глядя в зеркало, художник силой желания преобразился в того человека, каким он был до террора, – более молодого и невинного, еще не прошедшего революционную перековку.
В молодости Давид добился успеха, утверждая, что цель искусства – служить обществу и проповедовать высокую мораль, теперь же он делает упор на независимости искусства. Глядя из окна своей темницы, он пишет абсолютно свободный от всякой политики маленький осенний пейзаж, тюремную пастораль «Вид Люксембургского сада» (1794). Считая, что он вновь стал просто художником, в первый и единственный раз Давид изображает себя с палитрой и кистью, которые сберегла для него многострадальная жена Шарлотта. Весной, когда Давид был на вершине власти и славы, между супругами, по всей вероятности, произошла размолвка по поводу его голосования за смерть короля и по вопросу о том, должно ли искусство быть средством политической пропаганды. Разыгравшуюся сцену можно было, наверное, сравнить с какой-нибудь картиной Давида из римской истории: введенная в заблуждение чувствительная мягкосердечная женщина, напрасно взывающая к суровому, фанатически верящему в свою непогрешимость республиканцу. Хорошо еще, что Давид не приговорил жену к смерти, а всего лишь развелся с ней, поскольку введенные революцией законы разрешали это. Детей разделили, как в «Горациях» и «Бруте», по признаку пола: Давид взял себе сыновей, дочерей оставил жене. Но теперь он вдруг вспомнил о радостях семейной жизни. Шарлотта с помощью друзей передала ему в тюрьму кисти и холсты и пыталась говорить с ним через зарешеченное окно. Получив хороший урок, Брут оттаял, как оно и следовало ожидать.
Мадам Эмили Серизиа и ее сын. 1795. Дерево, масло.
Лувр, Париж
Искусство оказалось успешным защитником в суде. Дважды заключенный в тюрьму и дважды выпущенный из нее, Давид в конце концов избежал наказания, которому он подвергал других. Картины, написанные им в 1795 году, свидетельствуют, каждая по-своему, о том, что он внезапно признал приоритет человеческих чувств над политическими соображениями, живописи над идеологией, семейных уз над общественным долгом. Портреты свояченицы и ее мужа, мадам и месье Серизиа, в имении которых он восстанавливал душевное равновесие после перенесенных потрясений, проникнуты теплыми родственными чувствами. Месье Серизиа одет в костюм для верховой езды, непременная дань республиканским символам отдана лишь в виде скромной кокарды, едва заметной на элегантной шляпе. Розовощекая мадам Эмили Серизиа держит букет диких цветов, рядом с ней ее румяный малыш.
Все связи, разорванные в «Горациях» и «Бруте» между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, были покаянно восстановлены. Родственные отношения возобладали над гражданскими чувствами. Идея очередного гигантского полотна на историческую тему, «Сабинянки останавливают бой римлян с сабинами», выставленного для публичного обозрения за плату, прямо противоположна тому, о чем говорили трагические римские картины. Героинями новой работы являются матери-сабинянки, вклинившиеся в ряды сражающихся римлян и сабинов. Они выставляют своих голеньких детей, зачатых от римлян – поневоле или же нет, – прямо в центр боя. Ангельские личики и пухленькие зады в одном ряду с обнаженной грудью матерей образуют заслон взаимной ярости двух групп мужчин – и на этот раз побеждают. Две сестры, позировавшие Давиду для образов главных героинь, перепугали художника, когда без всякой просьбы с его стороны стали вдруг раздеваться, чтобы показать ему, что у них есть чем остановить военные действия. И они были правы. Наверное, впервые красавица одержала верх над чудовищем. Еще долго после этого красавицы не сходили с полотен Давида.
Сабинянки останавливают бой римлян с сабинами. 1794–1799. Холст, масло.
Лувр, Париж
Но это не значило, что у него выработался иммунитет против посягательств власти на искусство. Четыре следующих года неослабевающей политической и вооруженной борьбы, символически изображенной в его «Сабинянках», убедили Давида, как и многих других французов, в том, что стране необходима твердая рука. Давид на деле доказал свою готовность воспевать эту руку, крепко ухватившуюся за поводья власти, изобразив нового героя, который, повторив подвиги Шарлеманя и Ганнибала, пересек Альпы («Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар 20 мая 1800 года», с. 251).
Некоторые гигантские полотна, посвященные Наполеону, представляют собой лишь бледное подражание шедеврам старых мастеров и невольно свидетельствуют о том, что сам жанр устарел. «Раздача орлов» – это подобострастная надгробная песнь славным победам военизированной империи. Наполеоновские маршалы повторяют жесты Горациев и депутатов в зале для игры в мяч, но думают лишь о собственной славе и кричащих пышных нарядах, а придворный художник Бонапарта раболепно пытается придать этому зрелищу блеск.
XI
Таким образом, карьера Давида как живописца-пропагандиста закончилась низкопробной пародией на самого себя. Художник, сочинивший целую историю, чтобы опровергнуть обвинение в том, что он собирался работать над портретом Людовика XVI, был счастлив писать Наполеона снова и снова. Но ему пришлось заплатить за свою услужливость. Когда в 1814 году потерпевший поражение император был сослан на Эльбу, правительство восстановленной монархии во главе с Людовиком XVIII решило дать амнистию даже тем, кто, подобно Давиду, голосовал за смерть Людовика XVI. Но «Сто дней», во время которых казалось, что бежавший с Эльбы Наполеон вернется к власти, изменили ситуацию. Два сына Давида служили в армии императора; Наполеон самолично нанес художнику визит и наградил его орденом Почетного легиона. После Ватерлоо уже никто не собирался прощать старые грехи. В 1816 году Давид вместе с другими, совершившими ту же ошибку, был изгнан из Франции на все четыре стороны.
Следующие девять лет он провел в Брюсселе, где чувствовал себя как большая рыба в маленьком пруду. Он писал то превосходные, то довольно посредственные портреты, а также картины, приукрашивавшие историю и настолько фантастические, что даже сейчас они поражают своим бредовым содержанием. Он вращался в кругу своих учеников, иногда к нему заезжал какой-нибудь поклонник из Парижа, но в целом он уже принадлежал прошлому. Когда 29 сентября 1825 года Давид умер, его забальзамировали (более успешно, чем он Марата). Гипсовый слепок руки художника положили в гроб вместе с палитрой и кистями, сердце поместили в агатовую урну. За катафалком, влекомым шестеркой лошадей, шли ученики, которые несли транспаранты с названиями наиболее знаменитых картин Давида, – среди них, само собой, не было злополучных посмертных портретов Лепелетье и Марата, которые в тот момент находились во владении художника.
Власти периода Реставрации не дали разрешения перевезти останки Давида во Францию. В стране, судьбе которой было посвящено все творчество художника, не нашлось участка земли для его захоронения. Но родные получили разрешение привезти в Париж на продажу его картины, имевшиеся у семьи. Была устроена выставка, на которой демонстрировались они все, кроме «Смерти Марата». Она все еще считалась слишком взрывоопасной. Картина хранилась в доме одного из сыновей Давида, и посетители допускались к ней только по предварительной договоренности и с разрешения полиции. Но люди и не стремились ее увидеть. Она была парией.
Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар 20 мая 1800 года. Ок. 1800–1801. Холст, масло.
Национальный музей дворца Мальмезон, Рюэй-Мальмезон
Однако портрет другого зарезанного революционера, Лепелетье, оказался востребованным. Его пожелала купить его дочь Сюзанна Лепелетье, и пожелала этого так сильно, что была готова уплатить за портрет ошеломляющую сумму в сто тысяч франков, тогда как большинство работ Давида шли по цене пять-семь тысяч или даже несколько сотен франков. Сюзанна Лепелетье руководствовалась не любовью к отцу или искусству. Она стала пламенной роялисткой и стремилась стереть все позорные следы революционного прошлого ее отца. Сюзанна была поклонницей творчества Давида (однажды она даже позировала ему для портрета), но «чудесной силе» портрета ее отца она сделала весьма сомнительный комплимент, скрывая его от посторонних глаз всю жизнь, а перед смертью уничтожив в огне. Поскольку даже гравюрные доски были обезображены Сюзанной до неузнаваемости, единственным свидетельством того, как выглядел портрет Лепелетье кисти Давида, служат его самые ранние рисованные и гравированные копии.
У Марата же не было детей, которые могли бы вернуть к жизни или уничтожить его икону. Поэтому она осталась в ссылке, как сирота, от которой отказалась ее мать-родина. Но зато спустя несколько поколений она породила целый ряд знаменитых и пугающих икон, мумифицированных марксистов – Ленина, Мао, Че, чьи простертые фигуры и священные черты оказались способны превратить в культ жестокую утопию. Это сравнение, однако, оказывает Давиду плохую услугу, ибо, в отличие от восковых фигур мастеров политической диалектики, его посмертный портрет Марата и ныне сохраняет способность поражать, волновать и тревожить. Вопреки проповедуемой им идее, добавляющей еще одну страницу в летопись человеческой лжи, он удивительно, убийственно прекрасен.
Тёрнер Буйство стихий на холсте
I
Тёрнер был, похоже, не в своем уме. Это подтверждено авторитетным мнением короля Георга V: «Тёрнер был ненормальным. Моя бабка всегда это говорила». Поэтому в мае 1840 года, когда его бабка королева Виктория открывала 72-ю выставку Королевской академии художеств в только что построенной Национальной галерее, она вряд ли стала бы проталкиваться к четырем картинам Тёрнера. На выставке было девять сотен других работ, и ей, должно быть, больше хотелось посмотреть на собственный портрет кисти сэра Дэвида Уилки, вполне заслуживавшего доверия, или на полотна других любимцев публики, вроде Кларксона Стенфилда, который, по общему признанию, был лучшим маринистом поколения, без устали живописавшим несравненные облака, гонимые ветром над морскими просторами.
Однако известно, что слабостью королевы были собаки, и можно не сомневаться насчет того, какая картина на выставке 1840 года вызвала улыбку на монаршем лице, появлявшуюся в те дни довольно часто. Это наверняка был последний перл Эдвина Ландсира «Суд присяжных, или На страже закона». На картине был изображен пудель в роли лорд-канцлера, и рецензенты вполне ожидаемо шутили, что работа оставляет такое приятное впечатление, как будто лорд-канцлер дал тебе лапу. Шутки шутками, но хор похвал в адрес Ландсира был очень дружным. Один из критиков вполне серьезно назвал картину «шедевром собачьей выразительности». «Какая эффектная легкость кисти в сочетании с замечательной проработкой деталей, какое правдоподобие! – восхищался другой критик на страницах газеты „Экзаминер“. – В изображении мистера Ландсира собачье племя выглядит несравненно интереснее человеческого!.. Это само совершенство по исполнению, по замыслу, по колориту, по вкусу и по изяществу». Ландсир в одночасье стал любимым художником королевы, олицетворением современного английского искусства.
Обращала на себя внимание еще одна картина, относительно которой критики также сошлись во мнениях – на этот раз отрицательных. Уже название работы Тёрнера «Невольничий корабль. Работорговцы бросают за борт мертвых и умирающих, надвигается тайфун» вызывало насмешки и было спародировано в «Панче» как «Тайфун сражается с самумом над норвежским водоворотом Мальстрем, корабль в огне, затмение, лунная радуга». Вымученные шутки по адресу Тёрнера, в которых часто обыгрывались несчастные случаи, происходившие на кухне с банками горчицы и томатной пасты, заполняли колонки газет, выражая презрение к тому издевательству над искусством, каким, на их взгляд, являлось уродство, представленное Тёрнером на выставке. Рвется в небесные выси и позорно проваливается в смехотворную несуразность – таков был общий приговор. «Прискорбно, когда такой талант растрачивает себя на вопиющее надругательство над природой!» Критикам казалось, что это безобразие было одновременно проявлением старческого маразма и ребячества, что Тёрнер собирался вернуть живопись к «младенческой школе». (Эта точка зрения предвосхищала ту одержимость, с какой критики столетие спустя обвиняли абстрактное искусство в мошенничестве, сумасшествии и инфантилизме.) Когда влиятельный журнал «Арт юнион», рупор новой британской живописи, назвал Тёрнера «сумасшедшим, делающим удивительные вещи между приступами, низвергающими его до уровня тех существ, которым от природы не дано разума», он наносил художнику даже большее оскорбление, чем намеревался, так как его мать Мэри умерла в Вифлеемской психиатрической больнице (Бедламе), куда ее поместили муж и сын.
Эдвин Ландсир. Суд присяжных, или На страже закона. 1840. Холст, масло.
Чатсуорт-хаус, Дербишир
Невольничий корабль. Работорговцы бросают за борт мертвых и умирающих, надвигается тайфун. 1840. Холст, масло.
Музей изящных искусств, Бостон
Но критикам было не до церемоний. Его преподобие Джон Иглз, публиковавший статьи в «Блэквудз мэгэзин» под псевдонимом Обозреватель, хвастал тем, что получил каперское свидетельство, дававшее ему право «сжигать, топить и уничтожать… экстравагантные выходки» Тёрнера, и полагал, что старина Тёрнер стал угрозой существованию британской живописи. «В настоящее время он причиняет искусству больше вреда, чем принес пользы своим талантом, когда был в здравом уме», – предупреждал Иглз, объясняя, что сбитые с толку впечатлительные юнцы могут поверить, будто неряшливое размазывание краски по холсту – это поэтическая живописная манера. С ним соглашался критик из «Таймса»: «Пытаясь поразить всех своей техникой, Тёрнер создает отвратительный абсурд, и просто удивительно, что Академия позволила осквернить ее стены этим нелепым экспериментаторством». Все сошлись на том, что для Академии художеств, для публики, для национального вкуса и прежде всего для самого художника было бы «благодеянием», если бы удалось «уговорить его убрать его странные фокусы» с выставки.
Тот факт, что навязчивой идеей Тёрнера в 1840 году было обличение жестокостей рабства, делало его жуткие театральные эффекты еще более беспардонными, ибо добропорядочные и выдающиеся личности в бакенбардах, прогуливавшиеся по залам Академии, были теми же самыми добропорядочными и выдающимися личностями, которые за два года до этого поздравляли себя с тем, что добились отмены рабства в Британской империи (правда, первоначальный законопроект был принят еще в 1833 году). Одновременно с выставкой в Академии в Лондоне проходили два съезда аболиционистов. Одному из них, организованному Обществом по уничтожению работорговли Томаса Фауэлла Бакстона, удалось заполучить в почетные председатели самого принца Альберта. Речь на съезде была его первым публичным выступлением после женитьбы на королеве, и потому некоторые считали возмутительным, что Тёрнеру взбрело в голову откликнуться на это торжественное событие своей бредовой мазней.
Но, слава богу, на выставке была еще одна картина, посвященная беззаконию рабства и написанная французским художником Франсуа Огюстом Биаром, которая, по общему согласию критиков, подходила к рассмотрению этого уродливого явления со всей ответственностью. Вместо фонтана алых брызг зрители видели причал, на котором теснились скованные попарно африканцы. Строптивых негров избивали плетьми, других подтаскивали в цепях к покупателю в соломенной шляпе, раскинувшемуся в ленивой позе. Чтобы сцена не показалась зрителю слишком скучно-назидательной, ее оживляла фигура полуобнаженной темнокожей красавицы, с унылой покорностью ожидавшей своей участи. «Микеланджело Титмарш», он же Уильям Мейкпис Теккерей, назвал живопись Тёрнера абсурдом и восхвалял Биара: «Он задевает сердце сильнее, чем сто тысяч трактатов, отчетов или проповедей… картина должна висеть в Национальной галерее рядом с работами Хогарта». «Нам показывали ужасные зрелища эпидемий, бедствий и голода, но никогда еще мы не видели полотна, пробуждающего более глубокое и искреннее сострадание», – писал другой критик, имея в виду работу Биара. Он выразил пожелание, чтобы с картины сделали гравюру, распечатали ее массовым тиражом и распространили в первую очередь среди американцев, которых давно уже пора было пристыдить. Когда члены Общества по уничтожению работорговли решили преподнести главе и основателю общества какую-нибудь картину в подарок, они, естественно, выбрали полотно Биара. И теперь оно висит в Уилберфорс-хаусе в Кингстоне-на-Халле, а «Невольничий корабль» Тёрнера – в Бостоне.
Франсуа Огюст Биар. Работорговля. 1835. Холст, масло.
Уилберфорс-хаус, Гулль
II
Задевало ли это Тёрнера? – Как это могло его не задевать? «Невозможно было более остро реагировать на нетерпимую газетную критику, – писал друг художника преподобный Г. С. Триммер. – Она доводила его почти до слез, и, хотя он знал цену этим отзывам, он был готов чуть ли не повеситься из-за них». На этот раз критические стрелы, по-видимому, особенно сильно ранили его. Тёрнер вложил в «Невольничий корабль» весь свой поэтический дар, изобразив взрыв кроваво-красного цвета, глубокую даль пространства, симфонию динамичных форм. И шквал насмешек тем труднее было перенести, что он обрушился на него всего через год после его самого громкого успеха. «Последний рейс корабля „Отважный“» приветствовался с энтузиазмом практически всеми. Эта картина сразу стала (и, согласно результатам общественного опроса, остается до сих пор) одной из самых любимых в Британии. Так почему же одна работа имела такой громкий успех и у публики, и у критиков, а другая с треском провалилась?
Последний рейс корабля «Отважный». 1839. Холст, масло.
Национальная галерея, Лондон
У них больше общего, чем кажется на первый взгляд. Обе описывают эпизоды из истории британского флота. В обеих затронута тема жизни и смерти. На обеих действие разворачивается на фоне пылающего заката. Но на этом сходство кончается. «Последний рейс» должен был внушать уверенность, «Невольничий корабль» – вывести из равновесия. Да и сам Тёрнер воспринимал их по-разному, называя «Последний рейс» своей любимой старой работой и не испытывая теплых чувств по отношению к «Невольничьему кораблю». «Последний рейс» – это прощальное слово славной странице британской истории, одновременно ласковое и горькое. Почетный ветеран Трафальгарской битвы, написанный в блеклых тонах, напоминающих цвет старого пергамента, с прямыми мачтами и свернутыми парусами имеет вид, какого у него никогда не было, но гордо возвышается над водами Темзы как призрак героического прошлого. Он медленно поднимается по реке, оставляя за собой лишь легкую рябь на поверхности воды. Покрытый копотью темный буксир резко выделяется на его фоне, он прокладывает путь против течения как пыхтящее чудище наступающей эпохи железа и пара. Некоторым викторианцам – прежде всего Томасу Карлейлю – паровые двигатели казались чудищами, шипящими у врат ада. Если Британия пойдет этим путем, считали они, в ней воцарятся обывательский практицизм и безнравственная погоня за деньгами. Но Тёрнер так не думал. Промышленная революция была свершившимся фактом, за техникой было будущее. Поэтому «Последний рейс „Отважного“» – это успокоительное средство, призванное снять тревогу, возникающую в век перемен. И это соответствует распространенному представлению (например, Эдмунда Бёрка) о том, что секрет английской истории заключается в мистическом браке прошлого, настоящего и будущего. Согласно этому представлению, всякий британец должен чтить прошлое, но не быть в плену у него, строить будущее, но не опьяняться самим процессом. Чувствуя напряжение между тем, что прошло, и тем, что сменяет его, надо не позволить этому напряжению разорвать тебя надвое.
В противоположность этому, трудно было найти что-нибудь менее умиротворяющее и утешительное, чем «Невольничий корабль», это кошмарное апокалиптическое видение, от которого бросает в холодный пот; отдельные части его не согласуются друг с другом, море изображено неправдоподобно, действие фантастично. Если «Последний рейс» был колыбельной, то «Невольничий корабль» – крик в опиумном бреду. Но эта картина гибели – более глубокая и значительная работа, чем прославление победы. Она была попыткой осуществления важнейшего для Тёрнера замысла создать работу, посвященную современной британской истории, которая не регистрировала бы события механически, а стала бы их поэтическим переосмыслением, горячо взывающим к нравственному чувству и не уступающим по своей силе творениям Мильтона, Шекспира или Рембрандта.
На мой взгляд, это предельное выражение таланта Тёрнера. Не убоявшись риска, художник решился создать эпическое полотно, затрагивающее вопросы морали, но был не готов к худшей из возможных реакций британского общественного мнения – замешательству и подшучиванию. Тяжелым переживаниям публика предпочла безупречно выписанного пуделя. И потому «Невольничий корабль» (как до него «Клавдий Цивилис» Рембрандта и «Марат» Давида) стал еще одним сиротой в истории искусства, брошенным ребенком, отправленным в ссылку – на этот раз в Массачусетс.
Но еще более странно, что почти все самые значительные исторические полотна Тёрнера недоступны английской публике. Например, чтобы увидеть два знаменательных полотна, изображающих пожар в английском парламенте 1834 года, нужно отправиться в Кливленд, Огайо (где заодно можно посетить Зал славы рок-н-ролла) и в Филадельфию. Незаконченное, но впечатляющее «Бедствие на море» (или, точнее, «Крушение „Амфитриты“»), начатое в 1835 году, и отличающаяся яркой кинематографичностью «Трафальгарская битва» по непостижимой причине заперты от публики в запасниках галереи Тейт Модерн. Только «Поле Ватерлоо» можно увидеть в Тейт Британии – и то, если знаешь, где искать, потому что висит оно в общей галерее живописи романтического направления, а не в галерее Клор вместе с остальными работами Тёрнера. Похоже, что критики и хранители музеев все еще считают исторические полотна Тёрнера, мастера трагических кровавых сцен, не вполне удачными. «Черт с ними, с трупами, покажите нам Гранд-канал!»
III
И это очень жаль, потому что сам Тёрнер считал себя в первую очередь художником-патриотом и гордился тем, что, как и Шекспир, родился 23 апреля – в День святого Георгия, небесного покровителя Англии. Теперь же он известен прежде всего как автор картин «Последний рейс корабля „Отважный“» и «Дождь, пар и скорость» (1844), а также расплывчатых венецианских пейзажей. Но самого его больше всего увлекали эпические сказания о славных событиях английской истории и привлекали места, где эти события разворачивались. Когда художнику удавалось сочетать историю с географией – как, например, в картине «Замок Долбадерн» (с. 263), написанной в 1800 году для представления в Королевскую академию при принятии его в качестве ассоциированного члена, – его работы были полны подлинного драматизма. В действительности Долбадерн представлял собой одну из множества замшелых руин. Расположенный на территории национального парка Сноудония, замок стоял на пологом холме на берегу озера и был окружен настоящими могучими горами с крутыми склонами, на фоне которых выглядел не так уж эффектно. Но кусок обнаженной гранитной скалы заставлял Тёрнера представить, что здесь разыгрывались события, воспетые древними бардами. Под впечатлением от готской легенды о принце Уэльса Оуайне Гохе, заточенном в этой крепости, художник ради большей живописности очень вольно обошелся с топографией местности. Он убрал принижающие замок горные пики, превратил пригорок в скалу с обрывистыми склонами, затем для усиления выразительности поместил источник света позади скалы с замком и проткнул их темный силуэт одиноко светящимся окошком. Грубые очертания замка резко выделяются на фоне неба, словно окаменевшее олицетворение самого Оуайна Гоха. Чтобы его замысел был понятен всем, Тёрнер внес в каталог несколько стихотворных строк собственного сочинения, выражающих тоску по утраченной свободе. В дальнейшем сочинение сопроводительных стихов к работам, имевшим для него особое значение, вошло у него в привычку.
Замок Долбадерн. 1800. Холст, масло.
Королевская академия искусств, Лондон
Театральность была отнюдь не чужда ему. Ведь он все-таки был кокни, балагур с лондонской Мейден-лейн, а его отец изготавливал парики и делал прически как для самодеятельных актеров, так и для признанных. Хотя Тёрнер говорил, что не очень любит театр, вряд ли он обходил стороной вечный карнавал площади Ковент-Гарден, с его пестрой толпой из лавочников и проституток, искателей приключений и танцоров, всевозможных чудаков и шарлатанов, нищих и простодушных зевак. Люди «из общества» искали там развлечений, и артисты самого разного профиля были рады потешить господ своим искусством. В «Сидровом погребке» на Мейден-лейн, прямо напротив дома Тёрнеров, выступал со своими знаменитыми шекспировскими декламациями Ричард Порсон, а представления в театре «Ковент-Гарден» или прямо на улице обеспечивали Тёрнера впечатлениями от жизненной карусели, которые он зачастую переносил на холст. Его знаменитая картина «Пакетбот „Дорт“» (1818) могла бы являть собой эталон залитого роскошным сиянием безмятежного морского пейзажа, но само судно – лохань, набитая колоритной публикой. Это отправившаяся в плавание компания Фальстафа; море им по колено, у них шишки-носы, головы-картофелины, раскормленные туловища и мясистые зады. Идиллическое видение водной глади со скользящими над ней птицами нарушает раздувшийся кочан капусты, покачивающийся на волнах. В отличие от таких художников, как Хогарт или Роулендсон, у Тёрнера не было пристрастия к живописанию мельтешения толпы. Но при этом он никогда не забывал о том, что существует среди глазеющей публики, и, возможно, подыгрывал ей. Говоря по правде, он и сам любил поглазеть.
Творческий путь Тёрнера начался – как и все, зародившееся на Ковент-Гарден, – с театра. Его первым учителем живописи был Томас Малтон, изготавливавший оперные декорации и делавший также архитектурные чертежи. Эта комбинация как нельзя больше подходила Тёрнеру. С одной стороны, он научился у Малтона четкости линий и математической точности пропорций, с другой – вдохнул воздух дымно-зеркального мира сцены. Но художником бедствий эпического масштаба его сделал – правда, косвенно – уроженец Эльзаса Филип де Лутербург, которому удавалось каким-то образом быть одновременно респектабельным академиком и известным в эпоху регентства театральным декоратором и инженером, малевавшим задники и декорации и изобретавшим механические приспособления, которые погружали огорошенных зрителей в пахнущие серой каверны в глубинах земли или переносили их на чарующие атоллы Таити. Всевозможные катаклизмы – снежные лавины и извержения вулканов, эпидемии чумы и разверзнувшийся ад, крушения судов и массовая резня – были для Лутербурга хлебом насущным.
Вид на Радли-холл с северо-запада. 1789. Перо, чернила, акварель.
Галерея Тейт, Лондон
По протекции импресарио катастроф Лутербурга шестнадцатилетний Тёрнер попал в 1791 году в «Пантеон», оперно-драматический театр на Оксфорд-стрит, где стал писать декорации. К несчастью, через пять месяцев после этого на сцене произошла не предусмотренная постановщиками катастрофа, и вспыхнувший пожар стер здание с лица земли. Тёрнер, разумеется, поспешил зарисовать дымящиеся развалины. Работу он потерял, но зато имел на руках акварель, которую можно было продать, – лондонская публика обожала пожары и крушения.
Тёрнер со своим Стариком (который не только родил его, но и был его первым наставником) понимали, что та же публика, которая охала и ахала, наблюдая бутафорские апокалиптические сцены в «Пантеоне», не меньше любила и мирные зрелища, особенно ландшафты своей страны. В годы, последовавшие за поражением в Америке (Тёрнер родился спустя неделю после того, как в апреле 1775 года в Лексингтоне и Конкорде прогремели «залпы, эхом разнесшиеся по всей планете»), британцы нуждались в утешительном созерцании своих сельских прелестей. Естественную историю предпочитали всему остальному. На рынке искусств пользовались спросом пейзажи и виды памятников, утверждавших незыблемость доброй старой Англии, – замков и церквей, дворцов и загородных поместий, так что предприимчивым художникам-гравёрам было где развернуться. И подросток Тёрнер наловчился так быстро и умело рисовать эскизы, что вскоре мог делать это во сне.
Джон Роберт Козенс. Грот в Кампанье. Ок. 1780. Акварель.
Бирмингемский музей и художественная галерея
Он был вполне доволен жизнью. Уехав на время из страдавшего от эпидемий Лондона, он бродил по тропинкам вдоль каналов и живых изгородей. Очевидно испугавшись, что их отпрыск подхватит в городе какую-нибудь заразу – тем более что его сестра умерла в пятилетнем возрасте, – родители Тёрнера решили отослать его к дядюшке-мяснику в Брентфорд. Оказавшись на берегах Темзы, Тёрнер на всю жизнь полюбил эту реку. Забрасывая удочку, он выуживал идиллические образы английской глубинки. Некоторое время он прожил также в Бристоле у друзей отца, семьи Наррауэй, занимавшейся варкой клея и выделкой кожи. Там он завел еще одну полезную привычку – отправляться летом на длительные загородные прогулки. Тёрнер превращался в одного из странников, шагавших по обочинам дорог с палкой на плече, на которую был прицеплен узелок с самым необходимым: акварельными красками, кистями, чистой рубашкой и буханкой хлеба. Он бродил, как предписывала новая романтическая мода, любовался, лежа в траве, плывущими в небе облаками, а затем рисовал их. Небеса тех мест были первой естественной средой, подарившей Тёрнеру возможность выразить свое влечение к игре природных стихий, и, когда он приступил к работе над своими знаменитыми историческими полотнами, именно в изображенных им небесах разыгрывались самые прекрасные или жестокие драмы.
Эскизы, заполнявшие целые папки, были хороши и давали его отцу надежду на будущее. Он вывесил эти эскизы в окне и на стенах своей цирюльни, чтобы знатные люди, которых он стриг, брил и пудрил, могли оценить талант его отпрыска. И, что было еще важнее, работы показывали, что Тёрнер вполне достоин быть принятым на обучение в Королевскую академию. Там он станет выставлять свои акварельные пейзажи в течение всей второй половины 1790-х годов.
Несмотря на то что он попал в мир Академии на удивление рано, подразумевалось, что в случае успеха он должен будет угождать богатым заказчикам, как это приходилось делать Гейнсборо в молодости. Заказчики хотели, чтобы искусство подтверждало их хороший вкус, проявляющийся, в первую очередь, в убранстве их домов и благоустройстве парков, и оно не только отражало жизнь привилегированных классов, но и формировало ее. Поместья проектировались согласно предпочтениям ландшафтных архитекторов Хамфри Рептона и «Умелого Брауна», которые разбивали парки по образцу пейзажей французского художника XVII века Клода Лоррена. Хозяева поместий могли любоваться из окна гостиной стадами своих породистых овец или пасущихся на лугу оленей. Но их дома, перестроенные Робертом Адамом, Джеймсом Уайеттом или Джеймсом Джиббсом в палладианском стиле, отличались от тех, что были запечатлены у Лоррена, и этот пробел должны были заполнить художники. Работы молодого Тёрнера вполне отвечали запросам заказчиков – например, «Вид на Радли-холл», демонстрировавший на каждом из фасадов ожидаемо искусную отделку из известняка с пилястрами у подъемных окон в обрамлении тенистых дубов. Эти произведения служили своего рода визитными карточками.
Тёрнер мог бы жить в свое удовольствие, поддерживая amour propre[12] лендлордов и поднимаясь по ступенькам академической иерархии. Но году в 1794-м, когда Тёрнеру было примерно 19 лет, его направили в рисовальную «академию» доктора Томаса Монро на Бедфорд-сквер, и все в его жизни изменилось. Томас Монро, врач и художник-любитель, был знакомым Тёрнеров и лечил мать художника Мэри Тёрнер, которая не могла находиться дома из-за серьезной психической болезни. У него была частная клиника для душевнобольных в Хакни; кроме того, он работал главным врачом-консультантом в Вифлеемской психиатрической больнице, куда в 1799 году Тёрнер вместе с отцом пристроили мать. Когда к Монро прибыл молодой Тёрнер, одним из пациентов доктора был художник Джон Роберт Козенс, и Монро волей-неволей стал хранителем его работ. Трудно найти в Англии художника, который писал бы более поразительные, ни на что не похожие картины. Никто другой не умел с таким мастерством передать ощущение возвышенного, создать эстетику экстаза, потрясения, ужаса. Стены его ущелий обрывались в бесконечность, горные пики парили в облаках. В этом не было ничего необыкновенного, но Козенс, применяя технику размывки, добивался впечатления чего-то сверхъестественного. Он наносил тонкий слой краски на бумагу, бумага поглощала ее и, казалось, растворялась в каком-то мистическом сиянии. Оригинальность Козенса как рисовальщика доходила до извращенности. Он специализировался на оптических иллюзиях, заставляя зрителя заглядывать в темные пещеры и ямы, где все было в буквальном смысле перевернуто вверх дном. Стены старинных итальянских зданий на его картинах выглядели как зубчатые доисторические скалы, и казалось, что вот-вот какие-нибудь хищные птицы с когтистыми лапами сорвутся с этих скал и нападут на тебя.
Озеро Баттермер с видом на Кромакуотер, Камберленд. Ливень. 1798. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Монро, очевидно, понимал всю уникальность акварелей Козенса, так как подрядил двух своих наиболее одаренных протеже, Тёрнера и Томаса Гёртина, тоже блестящего акварелиста, сделать их копии. Платой за труды были устрицы к ужину и общение с уникальным гением. Гёртин делал копии карандашом, а Тёрнер акварельными красками, которыми он к тому времени научился пользоваться очень изобретательно. Этот опыт помог ему понять, каким образом Козенсу удается заставить свои акварели – обычно самый сдержанный вид живописи – звучать с такой необыкновенной драматической силой. Сильно разведенные акварельные краски позволяли художнику делать то, чего невозможно было достичь (по крайней мере, в то время) с помощью масляных; в его экспериментах с цветовыми пятнами и размывкой спонтанно возникало цветовое излучение, создающее определенную атмосферу. В результате получались произведения живописи, никак не предназначенные для альбомов, – это были эпические акварельные полотна большой величины, дерзкие по замыслу. По сравнению с ними масляные краски на грандиозных академических холстах выглядели слишком тусклыми и темными и казались запекшимися, удушливыми и бесстрастными.
Козенс был своего рода призраком, обитавшим в «академии» Монро, вдали от художественного сообщества, но его пример не сделал Тёрнера тогда – а может быть, и вообще не сделал – нелюдимым. По натуре он был скорее конформистом, не склонным к сознательному бунтарству. Когда его пригласили ознакомиться с впечатляющей коллекцией картин Джошуа Рейнолдса, он с благодарностью принял приглашение, и, хотя его творчество отвергало практически все, что отстаивал Рейнолдс, Тёрнер всегда относился к старшему коллеге с уважительным восхищением и считал себя его учеником (в противоположность, например, Уильяму Блейку, написавшему на своем экземпляре «Речей» Рейнолдса, что «этот человек родился, чтобы уничтожить искусство»).
Тёрнер отличался от Рейнолдса прежде всего интенсивностью его поэтического восприятия мира. Когда он бродил, делал наброски и писал картины в Уэльсе и на севере Англии, глубоко укоренившийся в нем романтический импульс стирал все штампы академического рисования. Он разыскивал сугубо поэтические уголки: испещренные островками мха рощи, заброшенные аббатства, вроде Ллантони или Тинтерна, под сводами которых порхали летучие мыши. Его воображением владели трагические истории, жалобные песнопения потерпевших поражение. Его глаз с жадностью улавливал мерцающий лунный свет, зубчатые силуэты горных гребней и стремительные потоки, и художник запечатлевал их карандашом или кистью. И хотя Тёрнер всегда великодушно заявлял, что умер бы с голоду, если бы Гёртин не скончался преждевременно, на самом деле он обладал уникальным даром превращать эти британские божественные явления – особенно с помощью акварельных красок – в чудеса, которые можно было унести в папке. Под его руками радуга над озером Баттермер становилась не просто диковинной частью пейзажа, а величественным зрелищем.
Скалы были усеяны художниками-романтиками, но только эскизы Тёрнера мгновенно захватывали зрителя благодаря тому, что, игнорируя всю массу деталей, он передавал непосредственное впечатление, производимое пронизывавшим пейзаж светом. Тёрнер следовал свободной экспериментальной манере Козенса с кляксами, пятнами, штрихпунктирными линиями и пустыми участками. Он тер и скоблил лист бумаги, мочил его, наносил на него краску, позволяя ей растекаться по листу, затем снова смачивал водой, тер мокрой губкой или тряпкой и смотрел, что получится. Получалось изображение, на котором не было видно следов всех этих экспериментов, а оставались лишь потоки света, от которых волосы вставали дыбом. Он уже научился воспроизводить ту «мистическую оболочку цвета», о которой впоследствии говорил в своем восхищенном отзыве о Рембрандте.
Примерно к этому времени относится единственный автопортрет Тёрнера, написанный им в зрелом возрасте, на котором он бесхитростно льстит себе, выпрямляя крючковатый, как у тукана, нос и скрашивая недостатки, вроде выкаченных, как при базедовой болезни, глаз и слабого подбородка. Вместо маленького носатого кокни ростом сто шестьдесят пять сантиметров перед нами щеголь эпохи регентства с глубоко посаженными темно-серыми глазами; на лице лежит тень творческого раздумья, высокий воротник и жилет сизого цвета – вершина портняжного искусства. Художнику явно нравится то, что он видит на автопортрете, – почему бы и нет? Денег хватало, перед ним открывались прекрасные перспективы, так что ничто не мешало новому ассоциативному члену Королевской академии переехать с Мейден-лейн в фешенебельный Вест-Энд, сняв дом на Харли-стрит, 64. В 1804 году, через три дня после того, как его мать умерла в Бедламе, он открыл в своем новом доме галерею, где выставил свои работы (многие сочли это преждевременным для художника, которому не исполнилось еще и тридцати лет), и переселил в тот же дом отца, чтобы он присматривал за ней. И в скором времени его Старик стал его доверенным слугой. Он готовил грунтовку и грунтовал холсты, смешивал краски и ревностно блюл интересы семьи.
Автопортрет (фрагмент). Ок. 1798. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Хотя Тёрнер и его отец были преданы друг другу, художник давал понять, что, по его мнению, семейная жизнь и искусство – вещи плохо совместимые. Он неоднократно говорил, что его дети – это его картины. Правда, у него были две незаконнорожденные дочери, Эвелина и Джорджиана, от его любовницы Сары Дэнби, певицы и вдовы его друга-музыканта, щеголявшей в экстравагантном тюрбане. Он тщательно скрывал свою связь с Сарой, хотя она жила буквально за углом, около вокзала Марилебон. Сотни его эротических рисунков, из которых одни были безотчетным выражением послевкусия полового акта, другие воспроизводили анатомию женских половых органов, свидетельствуют о том, что к сексу Тёрнер относился не менее трепетно, чем к радуге над озером Баттермер.
IV
Важнейшим достоинством Тёрнера было его умение драматизировать изображаемое с помощью освещения, и в этом с ним не может сравниться никто из английских художников. Но драматическая игра света и красок никогда не была для него эстетической самоцелью. Он стремился воспроизвести в красках великие исторические события, написать картины, которые были бы современным аналогом работ Пуссена, полных трагического величия и ужаса, – он видел их в Лувре в 1802 году, когда пересек Ла-Манш во время краткого перерыва между Наполеоновскими войнами. Время требовало создания величественных полотен, считал он, так как в 1805 году над Британией нависли грозовые тучи. Не прекращались вооруженные стычки с Францией, в Булони стояла готовая к вторжению стотридцатитысячная армия. Тёрнер писал большие темные полотна, где на фоне классической архитектуры происходили всевозможные бедствия, ниспосланные неумолимым роком в наказание людям: «Пятая казнь египетская», «Десятая казнь египетская», «Разрушение Содома». Сверкают молнии, рушатся колонны, люди мечутся и в ужасе пытаются спастись бегством. Притом что Тёрнер почти семь лет учился в Академии рисунку с натуры и при желании мог безупречно изображать человеческие фигуры, люди на его исторических полотнах безжалостно стилизованы. Они похожи на беспозвоночных животных, их лица переданы очень условно, почти карикатурно. Художник всеми силами старается не допустить, чтобы они выглядели достойно, заняли видное место в композиции. Все, чему его учили в Академии на занятиях по классическому рисунку, отброшено: никаких героических обнаженных фигур, люди превращены в тряпичных кукол, которых с ухмылкой треплют силы исторической судьбы. При этом Тёрнер оставляет за зрителем право решать, является ли это заслуженным наказанием французов с их кичливым современным фараоном, или же постигшие карфагенян несчастья вот-вот обрушатся и на самодовольных британцев.
Он всегда и во всем придерживался двух мнений и разрывался между противоположными чувствами – светлым и мрачным, апокалиптическим и безмятежным. Некоторые из знакомых Тёрнера отзывались о нем как о весельчаке, с удовольствием принимающем участие в детских шалостях, другим он представлялся угрюмым, замкнутым человеком, окутанным непроницаемым покровом беспросветного пессимизма. Возможно, и то и другое было верно. Чтобы повысить подверженное перепадам настроение, Тёрнер, подобно многим его соотечественникам, часто уезжал в провинцию, куда вроде бы еще не проникли современные проблемы. В 1805 году он снимал виллу в Айлворте, на берегу реки, и ежедневно плавал на лодке по Темзе, запечатлевая подернутые дымкой пейзажи старой Англии акварельными красками и маслом (на маленьких холстах или плитках красного дерева). Это были самые изящные из его работ, миражи, проникнутые чуть ли не дурманящей безмятежностью. Ивы склоняются к воде, мошки жужжат, доносится запах купыря. Никакие бури не обрушивают на человека ударов божественного возмездия, самое страшное, что может здесь случиться, – моросящий дождик из туч, которые вскоре уплывают поливать беркширские равнины. Вниз по течению медленно движется баржа, почти не нарушая зеркальной глади воды. За рекой простираются золотые поля созревающей пшеницы, которые отбрасывают яркий отблеск на дальний голубой горизонт. Над головой, разумеется, большая радуга, соединяющая мостом два берега реки. Тёрнер, несомненно, был неравнодушен к радуге, знамению божественного завета, небесному шоу со световыми эффектами, где свет, преломленный призмой (в нем всегда было немало от ученого-оптика), распадается на полосы цвета в его наиболее чистом и интенсивном виде. Все эксперименты Тёрнера с цветом, побудившие потомков причислить его к первым модернистам, берут начало от радуги.
Разрушение Содома. Ок. 1805. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Пейзаж с рекой и радугой в окрестностях Айлворта. 1805. Акварель.
Галерея Тейт, Лондон
Даже когда Трафальгарская битва заставила его вновь обратиться к эпическому жанру, он придумал необычный способ отметить победу и подвиги «Виктори». Захваченный не меньше других всеобщим поклонением Нельсону, Тёрнер отправился на речку Медуэй, по которой тело адмирала, законсервированное в бочке с ромом (чтобы не испортилось), переправляли к месту торжественного захоронения в Лондоне. Масса самых разных художников, в том числе и друзей Тёрнера, принялись увековечивать Трафальгарскую битву – как из патриотических побуждений, так и в надежде сорвать куш на популярной теме. Тёрнер был твердо убежден, что важно собрать как можно больше свидетельств исторического события, и проделал всю подготовительную работу на палубе пострадавшего флагмана, зарисовывая шканцы и беседуя с офицерами и матросами. Но, приступив вплотную к работе над картиной, он отбросил всю собранную информацию. Вместо того чтобы воспроизвести битву с документальной точностью, разъясняя, где «Виктори», где «Отважный», а где французский флагман, он кинул зрителя в самую гущу сражения со всем его хаосом и неразберихой; вся сцена тонет в дыму, и понять, что к чему, очень трудно. Естественно, художника осыпали за это упреками.
Трафальгарская битва, вид с вантов бизань-мачты по правому борту корабля «Виктори». 1806–1808. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Для него это было возвращением в театр, где главное – непосредственное восприятие. Но Тёрнер не стал выхватывать какой-либо момент битвы и запечатлевать его навечно, а вместил в один момент всю битву. Все происходит одновременно: скрежет ломающейся деревянной обшивки, треск обрушившейся с мачт парусины, гром мушкетных залпов. Среди этого пробивающего барабанные перепонки грохота глаз невольно ищет худощавую фигуру подстреленного и умирающего Нельсона, которого бережно укладывают на палубу. Сама невесомость его тела лишь усиливает героический пафос момента. Хотя временным саваном павшему адмиралу служит трофейный французский флаг, трудно вообразить более шаблонный героический образ. Уже название картины говорит о том, что это вид с бизань-мачты «Виктори», и зрителей, смотревших на «Трафальгарскую битву» Тёрнера, наверное, пробирала дрожь, когда они сознавали, что примерно с этой же точки должен был прицеливаться стрелок, пославший смертельную пулю в адмирала. Несмотря на бравурный тон картины, из-за всего этого беспорядочного нагромождения форм и смешения победителей и побежденных у зрителя кружится голова.
V
Не все соглашались, что изображение битвы должно быть таким же беспорядочным и сумбурным кровавым месивом, как и сама битва. По мнению хранителей академического огня, верно было прямо противоположное. Искусство должно повествовать о событиях четко и ясно. И с этой точки зрения «Трафальгарская битва» Тёрнера была полным провалом. Жало критики, по-видимому, чувствительно уязвило художника, и он в течение двух лет переделывал картину, но она тем не менее не находила признания и тем более покупателя.
Однако в 1808 году некий коллекционер увидел «Трафальгарскую битву», повторно выставленную в частной галерее Тёрнера, и решил, что языки пламени и клубы дыма – как раз то, что ему нужно. Уолтер Фоукс не был заурядным лендлордом, обладающим шестью тысячами гектаров земли. Вряд ли в Йоркшире было много землевладельцев, в чьем парке паслись зебры. И вряд ли многие столпы Сельскохозяйственного общества в Отли поддерживали сомнительное знакомство с радикалами. В Вестминстерской школе Фоукс сошелся с Фрэнсисом Бёрдеттом, который стал впоследствии членом парламента и одним из самых энергичных сторонников радикальной парламентской реформы. После того как в 1808 году Фоукс купил у Тёрнера «„Виктори“ в трех видах», они тоже быстро подружились. Фоукс к тому моменту уже давно занял твердую политическую позицию. Он дважды выставлял свою кандидатуру в парламент в качестве вига-реформатора, выступая в предвыборной гонке против твердолобого ультратори Генри Ласеля, и в 1806 году обошел его. Хотя его пребывание в палате общин было недолгим, во время председательства Чарльза Джеймса Фокса, героя всех радикалов, Фоукс успел вместе с другими принять закон, покончивший с работорговлей в Британской империи. (Так или иначе, его привлек бы к этой кампании Уильям Уилберфорс, еще один член парламента от того же округа, где по недоразумению избрали двух кандидатов из трех.)
В 1812 году Уолтер Фоукс существенно расширил свою скандальную известность. Когда его друга Бёрдетта (унаследовавшего к этому времени титул баронета) посадили в Тауэр, обвинив в разжигании двухнедельных беспорядков в Лондоне, Фоукс горячо выступил в его защиту в таверне «Корона и якорь», обличая «тяжелейшие правонарушения», творимые «старой коррумпированной верхушкой», и призывая к созданию системы справедливого представительства. Но, подобно Бёрдетту (а также, возможно, и Тёрнеру), Фоукс не видел противоречия между твердой патриотической позицией (он затеял кампанию по созданию добровольческой конной милиции) и своими реформаторскими устремлениями и считал, что одно дополняет другое. Быть общественным деятелем-патриотом значило бороться со «старой коррумпированной системой» – синекурами, «гнилыми местечками» (обезлюдевшими избирательными округами, где фактически не было избирателей) и «карманными округами» (преподносившими место в парламенте в дар власть имущим). Как и другие радикалы, он полагал, что пропаганда подобных взглядов не подготавливает в Британии якобинскую революцию французского типа, а предупреждает ее.
Все это не значит, что Тёрнер тоже был воинствующим радикалом и что все фигуры на его картинах представляют собой армию страдальцев, лишенных гражданских прав, и взывают к нашему сочувствию. В отличие от Давида или Пикассо периода 1937 года, Тёрнер высказывался о политике с осторожностью – впрочем, как и почти обо всем остальном. Среди тех, кто оказывал ему покровительство, были люди с разных концов политического спектра – от консерватора графа Эгремонта до неистового сторонника рабства сквайра Джека Фуллера. Но вместе с тем трудно найти другого человека – не считая отца художника и двух его любовниц (Сары Дэнби и, намного позже, Софии Бут), – с кем он сошелся бы так же близко, как с Фоуксом. Ни у кого не было такого количества произведений Тёрнера, как у Фоукса: к концу его жизни их насчитывалось двести штук. Тёрнер преподносил Фоуксу симпатичные акварели с изображением его поместья Фарнли-холл под Лидсом и часто наезжал в Фарнли, причем вовсе не в роли столичной знаменитости, снизошедшей до провинциального общества. Тёрнер и Фоукс стали в известной степени задушевными друзьями; художник наслаждался ролью доброго эксцентричного заезжего дядюшки одиннадцати детей Фоукса. Он был в Фарнли душой общества, неизменно сопровождал Уолтера в его верховых прогулках и во время охоты и охотно откликался на прозвище Овертёрнер, которое заслужил, перевернув двуколку, которой управлял, как обычно, на отчаянной скорости.
Ричмонд-хилл в день рождения принца-регента. 1819. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Поэтому невозможно себе представить, чтобы Фоукс и Тёрнер совсем не обсуждали животрепещущих вопросов, волновавших в то время всю Англию. Известен тот немаловажный факт (который тем не менее обычно оставляют без внимания), что они совместно трудились над одним проектом, получившим чрезвычайно широкий политический и исторический резонанс. Фоукс был членом и одним из основателей Хамденского клуба, названного в честь Джона Хамдена, непримиримого противника Карла I в судьбоносном конфликте XVII века между короной и парламентом. Если человек вступал в этот клуб радикалов, значит об осторожничанье и соблюдении нейтралитета уже не было речи. Фоуксу досталась по наследству коллекция памятных вещей, в том числе различного оружия. Он назвал ее «ферфаксианой» в честь знаменитого парламентария-йоркширца и генерала и хотел опубликовать книгу с описанием коллекции. Тёрнер согласился снабдить книгу иллюстрациями.
Участие в этом проекте не означало, что Тёрнер стал ярым республиканцем. Слишком часто его действия выдавали его желание получить признание короны. На картине со сборщиками турнепса около Слау художник изображает вдали Виндзорский замок, который покровительственно высится на заднем плане, всем своим видом показывая, что Георг III, добрый старый Фермер Джордж, благословляет корнеплоды на победу. Десять лет спустя Тёрнер изобразил собственный дом на Темзе в тот момент, когда в Ричмонд-хилле на холме под государственным флагом разворачивается празднество с пикником и игрой в крикет по случаю дня рождения принца Уэльского (который совпадал с днем рождения художника) (с. 278). «Это я Англия! – вопиет картина. – Сделайте меня рыцарем!» Ноль внимания. Когда Георг IV отправился с государственным визитом в Эдинбург, туда же поспешил и Тёрнер. Он не отходил от королевской резиденции, делая эскизы гуашью, пока ему не поручили закончить второй вариант «Трафальгарской битвы» для Сент-Джеймсского дворца. Картина была принята без восторга. Брат короля герцог Кларенский, в то время морской офицер, а впоследствии король Вильгельм IV, оскорбленно обронил, что художник ничего не смыслит в военных кораблях.
После того как королевская семья отвергла Тёрнера, ничто не могло остановить его в проявлении других, более свойственных его натуре наклонностей – чувств патриота-вига, так же преданного реформистским идеалам, как и Фоукс. После смерти Фоукса в 1825 году почти все сюжетные картины и рисунки Тёрнера были посвящены злобе дня, начиная с описания предвыборной кампании, во время которой победил Элторп, один из вигов, возглавлявших борьбу за парламентскую реформу, и кончая кульминацией всего его творчества, драмой «Невольничьего корабля».
В Фарнли Тёрнер сделал то, чего не делал больше нигде (за исключением Петуорта), – пригласил другого человека стать участником создания картины. Художник дважды привлекал к своей работе Хоки, второго сына Фоукса (ставшего впоследствии наследником отца, после того как его старший брат утопился). Как-то за завтраком Фоукс попросил Тёрнера сделать рисунок, который давал бы представление о размерах крупнейших кораблей Королевского военно-морского флота. «Пошли, Хоки, – обратился Тёрнер к пятнадцатилетнему мальчику. – Попробуем что-нибудь сделать для твоего папы». Все утро Хоки просидел рядом с Тёрнером, наблюдая за тем, как тот заново изобретает старый жанр акварельного морского пейзажа. Художнику пришла в голову идея, как удовлетворить просьбу Фоукса передать большие масштабы корабля: изобразить многоярусный борт судна первого класса с рядами сверкающих орудий, поместив точку обзора на ватерлинии («Фрегат первого класса, пополняющий запасы», с. 281). Но мальчика ошеломило прежде всего то, как Тёрнер приступил к выполнению задачи: «Для начала он вылил сырую краску на бумагу, чтобы она пропиталась ею, а затем стал в каком-то исступлении тереть, скоблить и царапать, так что результатом был сущий хаос. Но постепенно, словно по волшебству, стали проступать очертания прекрасного корабля со всеми его изящными деталями, а к ланчу готовый рисунок с триумфом был представлен».
Фрегат первого класса, пополняющий запасы. Ок. 1818. Акварель.
Художественная галерея Сесила Хиггинса, Бедфорд
За восемь лет до этого, в 1810 году, тот же Хоки был свидетелем первых шагов Тёрнера в создании самой грандиозной и самой успешной из всех предыдущих его работ на историческую тему. Появление на свет полотна «Снежный шторм: Ганнибал и его армия переходят Альпы» (с. 283) было не столько данью памяти Пуссену или Лоррену, сколько результатом плохой погоды в Йоркшире – и картина только выиграла от этого. Возможно, идею подсказал также «Ганнибал» Джона Роберта Козенса, сохранившийся лишь в виде неоконченного эскиза. Но когда Тёрнер увидел, что над Варфдейлом собирается гроза, он вывел мальчика на улицу, чтобы тот понаблюдал, как надвигается огромная темная туча, а сам стал зарисовывать ее. Закончив набросок, он сказал: «Ну вот, Хоки, через пару лет ты снова увидишь эту картину, она будет называться „Ганнибал переходит через Альпы“». Благодаря этому естественному сложившемуся в Фарнли-холле союзу давних художественных впечатлений и непосредственных наблюдений над природой в подходе Тёрнера к исторической теме произошел перелом. Уважение к живописцам-классикам с их выверенными композициями и светом всегда заставляло Тёрнера невольно оглядываться на них при изображении эпидемий и потопов в духе Пуссена. Но если раньше буйство стихий было просто природным явлением, то теперь на холстах Тёрнера оно стало создавать историю. Шквал над Варфдейлом превращается в катастрофу космического масштаба, и большая черная воронка рассеивает воинские ряды, засасывая в свой водоворот тысячи людей.
Карфагенских воинов, с трудом прокладывающих дорогу через Альпы, грабят и убивают обитающие в горах дикари. Воины воздевают руки, то ли взывая к небесам, то ли прославляя своего полководца Ганнибала. Но главное действующее лицо драмы – вихрь, налетевший, как некая гигантская хищная птица. И среди всего этого светопреставления в небе висит тусклый охренный диск солнца, написанный так густо, что он возвышается почти на сантиметр над поверхностью холста, напоминая диск краски из набора акварели. Это солнце юга, но раздувшееся, как чирей, насмешка над латинскими претензиями Ганнибала. В сопроводительном каталоге Тёрнер опубликовал поэму «Обманчивость надежды», демонстрируя, что слово и визуальный образ неразрывно связаны друг с другом. Вы подходите к низко повешенной картине, видите отчаянно жестикулирующих воинов, мародеров и убийц, смотрите на мертвенно-бледный оранжевый диск и читаете следующие строки:
…и приблизился вождь, посмотрел с надеждой на низкое бледное солнце, Но этот неистовый несчастливый год Ограждает Италию белёной штормовой завесой.Не бог весть какие стихи, особенно «белёная завеса», напоминающая занавеску после прачечной, но бывает и хуже; во всяком случае, вы оказываетесь в фантастическом театре, где ваши чувства судорожно ищут точку опоры.
Снежный шторм: Ганнибал и его армия переходят Альпы. 1812. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
«Ганнибал» был сенсацией со всех точек зрения. Знатные люди с трудом могли пробраться сквозь толпу к картине. Большинство зрителей видели в ней скорее эпизод из современной истории, нежели из древней. Это был как-никак 1812-й год, когда великая наполеоновская армия терпела бедствия в российских снегах. Возможно, Тёрнер хотел также намекнуть, что нечто подобное может случиться с правителями Британии, если они зарвутся. Но этот предупреждающий подтекст до восхищенных зрителей не доходил, они воспринимали картину исключительно в контексте судьбы Наполеона. Да и сам Ганнибал на картине сократился до смехотворно крошечной фигуры на горизонте, сидящей верхом на слоне, который скорее похож на навозного жука, – примечательный ответ на конный портрет Наполеона кисти Давида, изображавший императора как нового завоевателя альпийских вершин.
Однако Тёрнер был скептиком, во всем видевшим два возможных исхода. Когда новый мост через Темзу был назван мостом Ватерлоо, а культ Нельсона сменился культом Веллингтона, Тёрнер в 1817 году решил осмотреть поле боя. Как всегда, он проделал большую подготовительную работу, заполняя альбомы множеством исторических деталей: столько-то тысяч погибло на этом месте, столько-то на том. Но затем, даже более бестрепетно, чем при создании «Трафальгарской битвы», он отбросил все общепринятые методы. Он не хотел доходчиво обрисовать какой-нибудь момент сражения – лучше всего решающий, – как это обычно делали художники-баталисты, в том числе и его друг Джордж Джонс, получивший первую премию на конкурсе картин о Ватерлоо (например, показать, как ряды доблестных воинов в алой форме, окруженные ватными облачками ружейного дыма, отражают атаку французских стрелков). Вместо этого Тёрнер изобразил ковер из трупов. Батальный жанр требовал, чтобы зритель четко различал противоборствующие стороны. У Тёрнера невозможно различить, где кто. Ни знамен, ни разноцветных мундиров разных полков, ни неукротимого Железного Герцога Веллингтона с его старшими и младшими офицерами – только несчастные женщины с детьми, разыскивающие при слабых вспышках далеких ракет останки своих близких. Одна из женщин в отчаянии обвивает руками труп своего возлюбленного. Это один из самых волнующих эпизодов во всей живописи Тёрнера, на который никто не обратил особого внимания. Один из критиков «Экзаминера» – возможно, Уильям Хэзлитт – назвал картину «покойницкой честолюбивых устремлений», адом, который дымится битумными испарениями. Даже Гойя не решался при жизни обнародовать свои беспощадные «Бедствия войны» (1810–1820). Но это было заявление Тёрнера о его несогласии с общепринятой точкой зрения, выставленное рядом с его удивительной картиной «Пакетбот „Дорт“» (1818), посвященной памяти Альберта Кёйпа. Это было живописное предварение романа «Война и мир».
Поле Ватерлоо. 1818. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Поле Ватерлоо (фрагмент)
Обе картины стали результатом поездки художника в Нидерланды после окончания продолжительных войн, плодами его мучительных раздумий. «Пакетбот „Дорт“» так же проникнут ностальгией по утраченному золотому веку Европы с его живописью, как и залитые заходящим солнцем пейзажи Кёйпа; он воспроизводит атмосферу эпохи человеческой комедии. А рядом с ним «Поле Ватерлоо» – человеческая трагедия, показывающая, как дела обстоят теперь.
Демонстрация подобной картины в 1818 году сама по себе была вызывающим жестом. Процветающий британский истеблишмент продолжал праздновать победу и прославлять герцога Веллингтона, не желая задумываться о реформах и о том, как покончить с голодом и нищетой. Через год последовало манчестерское «Питерлоо». Фоукс, разумеется, выступил вместе с другими с гневным протестом против этого злодеяния. Однако, купив у Тёрнера солнечный «Пакетбот „Дорт“», он не стал приобретать погруженное во мрак «Поле Ватерлоо». Тёрнер тем не менее продолжал уверенно придавать новое направление английской исторической живописи, где главной темой оказывались жертвы.
VI
Когда Тёрнеру перевалило за сорок, он представлял собой своеобразную смесь оппортуниста с индивидуалистом. Он не делал секрета из того, что наслаждается обеспеченной жизнью, но успел приобрести репутацию прижимистого человека. Он владел недвижимостью в нескольких местах. В наследство от дяди ему достались два дома в Ваппинге, которые он объединил, переоборудовав в таверну. Он купил дом на углу улицы Королевы Анны и Харли-стрит и устроил там частную галерею с верхним светом. Кроме того, на Темзе, в районе Туикнема, у него была построенная по его проекту вилла Сэндиком-лодж, в которой поселился его отец. Поначалу художник настаивал на том, чтобы отец ежедневно совершал семнадцатикилометровую прогулку в центр города и присматривал за галереей. Со временем Старик нашел торговца, который доставлял на своей повозке овощи в город и за глоток джина позволял Тёрнеру-старшему ездить на куче лука и моркови. Впоследствии его сменила в должности хранителя галереи племянница Сары Дэнби Ханна, ворчливая старая карга с какой-то кожной болезнью, из-за которой постоянно куталась в фланелевый платок. В результате галерея Тёрнера не пользовалась большой популярностью у публики даже до того, как стала разваливаться от старости. Однако самого художника все это устраивало, – возможно, потому, что он все чаще бывал в плохом настроении.
Галерею постепенно заполняли великие «поэтические новшества», которые не раскупались, даже если были повсеместно приняты благосклонно, как, например, работы 1815 года «Дидона, основательница Карфагена» и «Переправа через ручей» – сияющая пастораль в стиле Клода Лоррена, перенесенная на английскую почву. Там же находились и большие эпические полотна – «Трафальгарская битва», «Поле Ватерлоо», «Ганнибал», которые то ли были оставлены Тёрнером для себя, то ли тоже не находили покупателей. Бывали моменты, когда ему, наверное, казалось, что он никогда не добьется признания, – и это были не беспочвенные опасения. С одной стороны, его упрекали за «дикую несдержанность» его манеры. С другой стороны, те же критики, и среди них первый сэр Джордж Бомонт, которые, казалось, поставили себе задачей не допустить, чтобы кто-нибудь покупал работы Тёрнера, называли его искусство невыразительной стилизацией почитаемых ими старых мастеров, в особенности несравненного Лоррена. Бомонт писал, что у Тёрнера слабая кисть, «как у старика».
Однако в технике акварели его первенство признавалось всеми. 1819 год оказался триумфальным. Уолтер Фоукс устроил в своем доме на Гросвенор-плейс выставку принадлежавших ему акварелей. Были представлены разные художники, но ядро выставки составляли шестьдесят шедевров Тёрнера, который также придумал обложку каталога выставки и открыто радовался своему триумфу. Он приходил на выставку ежедневно, и его приземистую фигуру в цилиндре и засаленном рединготе, полы которого подметали пол, нельзя было спутать ни с какой другой. «Когда он стоял, опершись о стол в Большом зале, или медленно и неуклюже прокладывал себе путь сквозь толпу, то приковывал к себе взгляды, как какой-нибудь римский генерал, сошедший с одной из его картин».
Большинство выставленных у Фоукса акварелей Тёрнера производили сильное впечатление. Многие из них – скалы на Рейне, альпийские ледники, французские гавани – были написаны во время заграничных поездок художника после Наполеоновских войн. С них вполне можно было сделать гравюры, тем более что недавно стали использовать стальные доски, что позволило изготавливать гораздо больше копий. Но новые акварели Тёрнера все больше отличались от обычных романтических пейзажей. Это были его первые эксперименты с «началами цвета», которые в то время еще рано было выставлять где бы то ни было, и уж тем более на Гросвенор-плейс с ее дипломатическими представительствами. Хотя современные художники-абстракционисты видят в этих бесформенных прозрачных цветных полосах истоки собственного творчества, сам Тёрнер просто экспериментировал с пятнами, мазками и размывкой, а конечной его целью была все-таки фигуративная композиция.
Нельзя недооценивать абсолютную творческую новизну акварели «Цветная размывка. Подмалевок» (с. 288). Вряд ли случаен тот факт, что первые из этих рисунков относятся к 1819 году, когда Тёрнер впервые посетил Венецию, где разница между формой с четкими границами и ее неустойчивым отражением почти стирается. Уже давно стало тривиальным суждение, что все имеющее вполне определенную ценность – власть, мораль, камни, деньги – словно рассыпается и растворяется в радужной влажности этого города. По-видимому, как раз в это время творчество Тёрнера сделало важнейший поворот в сторону искусства, которое не просто отражало бы окружающий материальный мир, а показывало бы, как человек видит его. Подобно тем недолговечным, но наводящим на размышления следам, которые оставались, когда Тёрнер позволял краске свободно растекаться, оставлять разводы и расцветать на влажной бумаге, это искусство было не механической копией жизни, а таинственной параллельной вселенной. Художник с помощью воды, бумаги и кистей словно отмыкал дверь, отделявшую этот воображаемый поэтический текучий мир от материального мира, который лишь поверхностно отражал его. Кажется, сам цвет создает эффект насыщенной смыслами аморфности. В одной из своих лекций 1811 года, формально посвященной проблемам перспективы, Тёрнер прекрасно высказался относительно Рембрандта, отметив, что иногда было бы «кощунством вспарывать мистическую оболочку цвета, пытаясь отыскать форму». Это в полной мере относится и к его собственной манере. Он считал, что независимая жизнеспособность света и цвета – это плод не только поэтического воображения, но и научной мысли.
Цветная размывка. Подмалевок. 1819.
Из альбома зарисовок «Озеро Комо и Венеция». Галерея Тейт, Лондон
Начиная с Ньютона, традиционная теория оптики постулировала, что свет, проходя через призму, распадается на четко разграниченные цветовые полосы. Тёрнер же, вслед за немецким энциклопедистом Гёте, полагал, что при прохождении через воздух или воду (а мы всегда воспринимаем цвет через одну из этих сред) цветовые полосы размываются по краям, частично смешиваются и образуют промежуточные зоны, нечто вроде визуальных мелизмов. Но чем сильнее было это ощущение (а к концу жизни оно бывало у Тёрнера очень сильным), тем больше он расходился со вкусами викторианцев, ценивших в первую очередь надежные факты. Это был мир мер и весов, болтов и гаек, мир техники, который не признавал никаких сентиментальных неопределенностей. С точки зрения практического ума пар – это не поэтическая пелена, а сила, приводящая в действие поршни и качающая доходы. Неудивительно, что некий джентльмен, купивший ошеломляющую картину Тёрнера «Остров Стаффа, пещера Фингала» через пятнадцать лет после того, как она была написана, жаловался на нечеткость изображения: Тёрнер раздул целую бурю из облака пара, темная струя которого выползает, как змея, из трубы парохода и поглощается громоздящимися тучами. Пещера и скалы погружены в струящийся пар и представлены грубыми вертикальными штрихами-царапинами краски. Снаружи все – обрушивающийся с небес дождь, воющий ветер, бьющийся о скалы прибой – тонет в разыгравшейся буре. Всё, кроме одинокой белой морской птицы, стремительно несущейся над вздымающимися черными валами. Никто и никогда не изображал бурю таким образом. На жалобы покупателя Тёрнер, учитывая обстоятельства, ответил мягко: «Нечеткость – мой конек».
Остров Стаффа, пещера Фингала. 1832. Холст, масло.
Йельский центр британского искусства, коллекция Пола Меллона
VII
В 1820-е годы Тёрнер много ездил по Европе, умудряясь с удивительной регулярностью попадать в транспортные аварии. Наиболее эффектная из них произошла в 1829 году, когда экипаж перевернулся на снежном склоне горы Монтсени. На эскизе, названном «Пассажиры», путешественники отогреваются у очага, а сам художник в цилиндре зарисовывает их. Но всякий раз Тёрнер возвращался в Англию с мыслью создать очередное эпическое полотно. Он побывал на могиле Вергилия в Позиллипо под Неаполем, прочел «Энеиду», вынашивал замыслы, связанные с Гомером, Шекспиром и Байроном. Холсты маленького размера и альбомы его раздражали, хотя он понимал, что за их счет он содержит свои дома. Изображая реки и гавани, он окутывал их покровом золотистого света, словно это были не ландшафты Вестфалии или рейнской долины, а волшебные края из сказок братьев Гримм или Новалиса. Он старался найти способ отразить на картинах поэтическое видение мира, а не создать просто «иллюстрацию к классикам». Как передать маслом ту свободу чувств, которую он выражал в своих акварелях? Как сделать свет главным героем эпических полотен?
Или, может быть, даже не свет, а его отсутствие? Его интересовала слепота – самая разная. На картине «Улисс насмехается над Полифемом» (1829) циклоп Полифем поднимается как огромная, вырастающая из земли скала, держась дрожащими руками за лицо с выколотым единственным глазом, а по фосфоресцирующим водам уплывает корабль Улисса с моряками и воинами, которые хохочут над простодушной жертвой. Но ничтожными выглядят победители, а не побежденный; они висят на мачтах и ползают по палубе, как муравьи, прилипшие к сахарной палочке, как отвратительная масса кишащих липких насекомых.
В Риме Тёрнер написал картину, бросающую еще более резкий вызов общепринятым вкусам, – «Регул, отправляющийся в поход из Рима». Римский военачальник Регул был захвачен в плен карфагенянами и послан в Рим с предложением условий обмена пленными. Рим отверг условия, и по возвращении Регула в Карфаген его наказывают за неудачу дипломатической миссии, отрезав веки и заставляя смотреть на солнце, пока он не слепнет. Солнце выступает как разрушитель, а человек, поклонявшийся солнцу, становится его жертвой. Тёрнер изображает трагический путь, который предстоит пройти Регулу, в виде убийственно сверкающего солнечного луча. Годы спустя он стал переделывать картину в присутствии публики и шокировал ее, окуная мастихин в свинцовые белила и набрасываясь с ним на полотно снова и снова, пока блеск солнца на холсте не стал действительно ослепляющим, каким бывает настоящее солнце, если смотреть на него слишком долго. Казалось, Тёрнер писал теперь, глядя на мир внутренним взором. Все зрители отмечали, что Карфаген напоминает типичный пейзаж Клода Лоррена. Но они не поняли, что невыносимый блеск был ослеплением Лоррена, его отвержением. В Риме этого тоже не поняли. В Германии издали карикатуры на Тёрнера с подписью: «Какать на холст и заниматься живописью – не одно и то же».
Регул, отправляющийся в поход из Рима. 1828–1837. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Тема пути, озаренного безжалостным светом, одиссеи человеческой жизни, занимала его все больше. Близких людей становилось все меньше. Перед своей смертью в 1825 году Уолтер Фоукс залез в такие долги, что Тёрнеру пришлось выручать своего бывшего патрона. «Прощай, auld lang syne[13]», – печально написал Тёрнер и никогда уже больше не ездил в Фарнли-холл. Еще через четыре года умер его Старик, которому было за восемьдесят. Его похоронили возле церкви Святого Петра на Ковент-Гарден, откуда рукой подать до Мейден-лейн. Через неделю после похорон Тёрнер написал собственное завещание, позаботившись в нем о Саре Дэнби и двух дочерях. Его стали одолевать мысли о смерти. До сих пор он никогда не жаловался на здоровье, а теперь начал терять вес, с трудом дышал и испытывал боли в суставах. Чтобы снять боль, он принимал страмоний (настойку дурмана), наркотик, из-за которого его и без того активное сверх меры воображение отправлялось в межпланетные полеты. По ночам ему стали сниться кошмары, вроде парящего в пространстве зверя апокалипсиса, изображенного в «Смерти на бледном коне» (с. 293). Но даже этот готический фантом не означал конца света. Скелет недвижно лежит на спине коня. Смерть мертва, а Билли Тёрнер продолжает жить и живописать.
Но именно потому, что Тёрнер чувствовал себя теперь, по его словам, «в тысячу раз ближе к вечности», он нашел наконец тему, которая позволила ему создать свои самые знаменитые эпические полотна. Это была тема повторяющихся циклов жизни, смерти и возрождения – но не классических героев, а целых государств и наций. Даже начав работать на нового патрона, сменившего Фоукса и обеспечивавшего существование художника, сказочно богатого 3-го графа Эгремонта, жившего в поместье Петуорт в Сассексе, Тёрнер не мог избавиться от поэтической меланхолии, и она окрашивала все его работы. На первый взгляд, старый граф, которому перевалило за семьдесят, был тем человеком, какой и был нужен Тёрнеру, – непринужденным и покладистым, с радостью принимавшим у себя художников и предоставлявшим им для работы старую библиотеку на верхнем этаже. Богач знатного происхождения, питавший уважение к своим предкам (также присутствовавшим в доме на портретах кисти Ван Дейка), Эгремонт заботился об экономическом процветании страны и техническом прогрессе и построил на свои средства новый железный мост в Брайтоне. Дом его напоминал дворец, художественная коллекция не уступала иным музеям, парк был спланирован «Умелым Брауном». Службу у графа Тёрнер начал с видов поместья, которые Эгремонт хотел разместить на горизонтальных панелях Резного зала, где он обедал с гостями.
Смерть на бледном коне. 1825–1830. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Желание хозяина надо было, конечно, выполнить, что Тёрнер и делал – с некоторыми оговорками. Когда он показал Эгремонту эскизы пейзажей, стало ясно, что по крайней мере один из них представляет собой не совсем то, что ожидал получить граф. Предполагалось, что это будет портрет хозяина на прогулке с собаками в парке. Казалось бы, чего проще? Тем более что за семнадцать лет до этого Тёрнер написал подобную классическую идиллию с палладианским домом, «Росистое утро». Но теперь у художника не было настроения создавать что-либо росистое и тем более классическое. Он хотел писать то, что представало перед его внутренним зрением, виде́ние, а не открывшуюся перед ним сцену. Удлиненная форма резного обрамления на стенных панелях Гринлинга Гиббонса позволяла осуществить это намерение, и он, воспользовавшись этим, дерзко заполнил благородный прямоугольный формат причудливо искаженными панорамными видами, словно скопированными непосредственно с сетчатки глаза. На первый взгляд все кажется противоестественно вытянутым, уходящим куда-то вдаль. Тёрнер оставил это таинственное растянутое пространство практически пустым. На террасе стоит стул, за ним виднеется часть раздуваемой ветром легкой занавески. Граф же, важнейшее лицо в Сассексе, представлен в виде хрупкой одинокой фигуры, освещенной сзади. Пустынность прекрасного вида недвусмысленно намекала на человеческую недолговечность. Тёрнер, конечно, понимал, что этот номер не пройдет. Жизнерадостное добродушие любого аристократа имеет пределы. Так что художник переделал картину по устраивавшему хозяина рецепту, и она была помещена на предназначенное ей место. Но Тёрнер все-таки ухитрился внести романтическую струю в другой пейзаж, предназначавшийся для декорации Резного зала. На картине, изображающей большую черную барку, движущуюся по сверкающей полосе света, якобы означающей в данном случае Чичестерский канал, художник изобразил самого себя сидящим в маленькой рыбацкой лодке, в своей потрепанной шляпе и куртке. Таким образом, транспортное судно Эгремонта изображено на картине, но не совсем так, как он рассчитывал.
Канал в Чичестере. Ок. 1828. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Этюд к «Падению прославленного дома (Петуорт)». 1830-е. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Тёрнер написал в Петуорте еще много работ, изящно передававших неуловимый характер чувственного опыта и испытывавших на прочность аристократическое терпение. Среди них была серия гуашей, изготовленных за рекордное время и с удивительной экономией средств – иногда лишь отдельными легкими прикосновениями кисти к бумаге, оставлявшими едва заметный намек на цвет; эти гуаши, как предполагалось, регистрировали (с восхитительной небрежностью) отдельные моменты повседневной жизни дома. Многие из них – чистый Теккерей (он же Микеланджело Титмарш), как правило, критиковавший Тёрнера и изредка восхищавшийся им, или Троллоп – в их визуальном переложении. На этих гуашах можно увидеть игру в биллиард в беломраморном зале или в триктрак у камина. Длинноногий викарий, держа руки за спиной и слегка наклонившись в сторону компании, собравшейся в Белой библиотеке, отогревает озябшее седалище у очага. В комнатке, смежной с Резным залом (чтобы их вид не мешал обедающим наслаждаться едой), наигрывают какую-то мелодию музыканты. Одним словом, в Петуорте не осталось ничего, что скрылось бы от взгляда Тёрнера, – порой к досаде тех, кого он запечатлел на своих рисунках. Живущая в доме давняя любовница графа Элизабет Айлив была художницей, но в изображении Тёрнера отношения прочих художников с хозяевами также часто выглядели довольно двусмысленно: первые позволяли последним глазеть на себя и свои работы, восхищаться ими или снисходительно хвалить. Иногда можно видеть, что им это нравится, но не всегда. На одном из многозначительных рисунков на диване стоит прислоненная к подушкам картина, по-видимому представляющая самого Тёрнера, а рядом сидит какой-то его поклонник, явно чувствующий себя не в своей тарелке из-за неспособности ее оценить.
Порой, запечатлевая по желанию хозяина дома бесконечную череду величественных залов, Тёрнер позволял себе удивительные вольности. Мечтательная праздность жизни в Петуорте явно возбуждала его. То, что Эгремонт коллекционирует любовниц с таким же увлечением, как и произведения искусства, было общеизвестно. И от гуашей Тёрнера исходит легкое, но несомненное эротическое амбре. Среди них есть даже «Парадная кровать в Петуорте», чей розовый шелковый полог связан узлом, напоминающим объятия, а на простыни падают косые лучи солнца. Мужчина в черном расслабленно развалился в кресле, женщина в розовом слушает его, повернув голову в его сторону. Грудь ее приоткрыта значительно больше, чем предусматривал покрой платьев имперского стиля. Будуарные сцены беззастенчиво фиксируют происходящие в них невинные и не очень невинные события. Мелькают полуголые фигуры, залезающие в постель или вылезающие из нее, одевающиеся или раздевающиеся; есть по крайней мере одна пустая кровать со смятыми простынями и алым пологом – эротика в духе Матисса, появившаяся на сто лет раньше срока.
В какой-то момент Тёрнер выходит далеко за рамки бесстрастного описания утонченной жизни Петуорта. (Хотя Эгремонт радушно поощрял пренебрежение ко всяким церемониям, он был вполне способен без долгих рассуждений выселить гостя, который принимал Петуорт за «какой-нибудь отель».) Это был примерно 1830-й год, по всей стране происходили ожесточенные бунты, порой со смертельным исходом, спровоцированные движением рабочих, которые требовали покончить с социальной и политической несправедливостью. Виги-оппозиционеры предупредили короля, что в случае, если он не согласится на парламентскую реформу, в Англии может разразиться такая же революция, какая смела династию Бурбонов во Франции. Король, как говорят, хотел ответить им: «Только через мой труп», но некоторые из его советников предупредили его, что и эта возможность не исключается. Господству протестантов-тори приходил конец. «Католическое возрождение» было ознаменовано принятием билля, позволявшего католикам избираться в парламент и занимать важные государственные посты, хотя против этого категорически возражали и король, и герцог Веллингтон, бывший в то время премьер-министром.
Тёрнер чувствует, что наступает конец старой игры, и это становится темой его творчества. Он посещает Петуорт в последний раз, чтобы стереть его с лица земли. Поразительный «Этюд к „Падению прославленного дома (Петуорт)“», написанный, возможно, после смерти Эгремонта в 1837 году (а может быть, и раньше) и неоконченный, изображает, в круговороте красной и золотой красок, гроб графа, стоящий в Мраморной галерее (с. 295). Дом выглядит так, будто в нем бесчинствовала целая армия мародеров. Разгром полнейший; пол усыпан осколками и обломками; от коллекции ничего не осталось, кроме ниши, в которой стояла статуя: только по ней и можно определить, что это Мраморная галерея. Но кто же совершил этот акт вандализма? Ответом является характерная для разбушевавшегося позднего Тёрнера деталь, ставшая с тех пор его своеобразной подписью: ангел-разрушитель в виде вихря интенсивного белого света, в котором кружатся бумаги знаменитого дома; он ворвался наподобие циклона через виднеющуюся в глубине помещения арку (которой в действительности не было), разметав все на своем пути. Фоукс и его ферфаксиана были все-таки живы.
VIII
Ничто не возбуждало пыхтящего, мучимого недомоганиями Тёрнера в 1830-е годы так сильно, как зрелище очистительного разрушения. Да ведь и начался его творческий путь с зарисовки дымящихся руин «Пантеона» на Оксфорд-стрит, а теперь, в 1834 году, ему вместе со всем Лондоном выпал шанс наблюдать такой большой пожар, какого, вероятно, никто никогда не видел. Пожар начался вечером 16 октября в подвальном помещении палаты общин. Спустя несколько часов практически весь Вестминстерский дворец был объят пламенем. Тёрнер сразу же присоединился к гигантской толпе, заполонившей Суррейскую набережную. Но для него это было недостаточно близко, так что он нанял лодку и, качаясь на волнах около Вестминстерского моста среди пляшущих отблесков пожара вместе с целой флотилией других лодок, лихорадочно делал наброски карандашом. Здание парламента горело всю ночь, а наутро художник ухитрился проникнуть на задымленный двор часовни Святого Стефана и побеседовать с пожарными и другими очевидцами пожара, подобно тому как он интервьюировал когда-то участников Трафальгарской битвы и Ватерлоо.
Но Тёрнер, разумеется, не собирался готовить «видеорепортаж» событий – он предоставил это занятие журналистам «Лондон иластрейтед ньюс». Художник, со свойственной ему тягой к апокалиптическим мотивам, немедленно представил себе пожар парламента как эпизод современного Священного Писания. В течение нескольких предыдущих лет произошло крушение старой политической системы. Правительство вигов приняло Билль о реформе и Закон об отмене рабства, но население продолжало выражать недовольство – не в последнюю очередь в связи с драконовским Законом о бедных, учредившим работные дома, в которых царили настолько отталкивающие порядки, что безработные предпочитали избегать их. Представители рабочего движения и радикальные газеты провозгласили пожар парламента наказанием, ниспосланным Богом за несправедливость существующего режима.
Пожар в палате лордов и палате общин 16 октября 1834 года. 1835. Холст, масло.
Художественный музей Филадельфии
Независимо от того, считал Тёрнер пожар актом божественного возмездия или не считал, в его живописи это событие стало знамением времени. Он не спешил писать картину и всю зиму 1834/35 года собирал свои наброски, заметки и мысли. А приступив к работе, он превратил сам процесс ее в перформанс. Тёрнер устроил свой спектакль в феврале 1835 года, накануне открытия выставки в Британском институте. Институт был бастионом высокого аристократического стиля, противостоявшим Королевской академии, в которой заправляли сами художники. Джентльмены из высшего общества собирались показать профессионалам, что требовалось Британии, – в первую очередь пиетет к старым мастерам и традиционной живописи.
Тёрнер решил развести свой маленький пожар в этой джентльменской цитадели. Уже то, что на его картине изображалось разрушение парламента, было неприятным уколом аристократическому самолюбию, ибо все помнили опубликованное в прессе, в том числе и в журнале «Джентльменз мэгэзин», сообщение о том, что толпа зевак разразилась аплодисментами, когда рухнуло пылающее здание палаты лордов. А на картине Тёрнера мы видим к тому же всю эту непочтительную толпу – сгрудившихся на набережных и мостах, в лодках и на плотах сотен и тысяч мужчин, женщин и детей, чьи кукольные личики освещены пламенем пожара. Тёрнер не был Карлом Марксом, но он был первым членом Королевской академии, который изобразил современную ему толпу, охваченную единым порывом. Он поступил так, как подлинные джентльмены, занимающиеся искусством, поступать не должны, – сделал главным действующим лицом народные массы.
При этом писал он картину совершенно отталкивающим образом: царапал холст руками, плевал на него и растирал плевок, шел в лобовую атаку на полотно с мастихином наперевес. Благовоспитанным критикам становилось дурно. Им не следовало приходить в Британский институт в этот день, ибо в этой первой работе, посвященной пожару парламента, Тёрнер превзошел самого себя. День или даже два-три накануне открытия выставки отводились художникам для того, чтобы они могли внести последние поправки, и Тёрнер беззастенчиво воспользовался этим обстоятельством, чтобы затмить всех своих конкурентов. Его картина висела рядом с «Открытием моста Ватерлоо» Констебла, и Тёрнеру достаточно было поставить на своем холсте ярко-красное пятно, чтобы краски на полотне его соперника померкли. «Да, здесь, несомненно, наследил Тёрнер», – пошутил Констебл, увидев результат.
Накануне открытия выставки Тёрнер устроил целое невиданное дотоле представление со своей картиной «Пожар в палате лордов и палате общин 16 октября 1834 года». Когда он в январе 1835 года впервые представил полотно в Британский институт, его еще трудно было назвать картиной, это были просто «нанесенные на холст мазки краски, не имеющие ни формы, ни перспективы, сущий хаос до Сотворения мира». Но как-то утром в феврале этот коренастый чудак, в цилиндре и неопрятном сюртуке, явился в институт с небольшим ящиком красок, растворителем и набором акварельных лепешек, ибо, помимо всего прочего, он грешил тем, что на картину, написанную маслом, наносил последние штрихи акварелью! Присутствовавший при этом художник-жанрист Э. В. Риппинджил писал, что «этот колдун, демонстрировавший свои трюки публично, привлекал всеобщее внимание и вызывал интерес». Он продолжал заниматься своим делом и тогда, когда вокруг него собрались люди, так что к толпе на холсте прибавилась толпа зрителей, наблюдавших, как он пишет их самих. Так он трудился не останавливаясь три часа подряд, лишь обращаясь время от времени к художнику Уильяму Этти, бедняге, которому не посчастливилось располагаться рядом с ним. То, что он делал, с точки зрения большинства собравшихся, было совсем не похоже на работу живописца. Неожиданно он стал раскатывать на холсте небольшой кусок какого-то прозрачного материала. «Что это он там прилепляет?» – изумился Риппинджил, разговаривавший с другим художником, сэром Огастесом Уоллом Кэлкоттом. «Ни за какие коврижки не стал бы спрашивать его об этом», – отозвался Кэлкотт.
Возможно, последним и особенно эффектным жестом Тёрнера было добавление лаконичного «НЕТ», написанного на плакате одного из зрителей на Вестминстерском мосту. «Нет» – чему? Закону о бедных? Неизвестно. Так же и Тёрнер не пожелал ничего объяснять и, закончив работу, молча вышел, даже не оглянувшись на остальных.
Зарево «Пожара в парламенте», представленного в Британском институте, как и другого «пожара парламента», написанного для Королевской академии, освещало политическую обстановку, предсказывая наступление новой эры. И поэтому, хотя дело происходит ночью, небо на картинах имеет ослепительно-голубой цвет ляпис-лазури и усыпано бледными звездами, как в предрассветный час. Неудивительно, что целые толпы, которым конца-краю не видно, – не только из Лондона, но со всей страны – приглашены в свидетели этой священной метаморфозы, крещения огнем новой Британии. Но Тёрнер показывает, что, несмотря на разрушение этого оплота власти и старых привилегий, два архитектурных сооружения – Вестминстерское аббатство и Дворцовый зал – чудесным образом остались не тронутыми бушующим огнем. Ибо действительно произошло чудо: ветер переменился и, в отличие от дома политиков, два достойных храма, дом Бога и дом Справедливости, были спасены.
Уильям Пэррот. Дж. М. У. Тёрнер накануне открытия выставки в Королевской академии. 1846. Холст, масло.
Университет Рединга, Беркшир
А раз это чудо, то и передать его надо было магическим способом. Взмахнув своей волшебной палочкой, Тёрнер превращает Вестминстерский мост, под которым он болтался на волнах во время пожара, в сверкающую алебастровую стену. А затем профессор Королевской академии, который, по идее, должен был учить студентов правилам перспективы, сжигает все правила вместе с традиционной живописью, и дальний конец моста преобразуется в струю расплавленного золота, перекрывающую реку. Свет, пламя и вода сливаются в одно целое, так что перед толпами на мосту и на набережных, как и перед толпой, наблюдающей за работой художника над полотном, предстает священное фосфоресцирующее видение. И со второй картиной, написанной в мае для Королевской академии, Тёрнер также обошелся очень вольно, нарушив городскую топографию и существенно увеличив реальную ширину Темзы. Показывая вид на этот раз с моста Ватерлоо, художник превратил реку в огромную чашу с водой, в которой отражается закрученное спиралью пламя пожара. Один из авторов литературного журнала «Атенеум», хмыкнув по поводу экстравагантности картины, заметил, что предпочел бы «точность топографической съемки».
IX
По мере того как полотна Тёрнера становились все более грандиозными, фантастическими и нарушавшими общепринятые правила, агрессивный сарказм звучал в них все отчетливее. Критика ответила новым залпом острот о кухонных происшествиях. Некогда сэр Джордж Бомонт обвинял Тёрнера в том, что он открывает «школу белизны» в живописи, теперь стали говорить, что у него «желтая лихорадка» (поводом была его «Терраса в Мортлейке», 1827, где Темза тонула в персиково-золотом сиянии). Еще в Петуорте его убеждали, что невозможно написать портрет на желтом фоне, на что он ответил в 1830 году поразительным романтическим кивком Рембрандту, «Джессикой» (из «Венецианского купца»), чьи восхитительные плечи и голова не уступают никаким другим, изображавшимся в девятнадцатом столетии. Но ее встретили хохотом и вполне предсказуемыми шутками насчет банки с горчицей, из которой женщина якобы высовывается. Уильям Вордсворт подхватил кулинарную тему, сказав: «Похоже на то, будто художник объелся сырой печенки и ему стало худо».
Словно провоцируя критиков на дальнейшие атаки, Тёрнер написал в 1836 году сверкающий, как драгоценный камень, венецианский пейзаж, назвав его «Джульетта и ее кормилица», которых на картине не сразу и заметишь. Критики, как и рассчитывал художник, хором завопили: «Это же не тот город!» Его преподобие Джон Иглз писал в журнале «Блэквудз мэгэзин»: «Такое впечатление, что бедную Джульетту окунули в патоку, чтобы она выглядела послаще, и боишься, как бы мучнистая архитектура не рассыпалась и не запачкала ее юбку». Семнадцатилетний Джон Рёскин, сын виноторговца, промышлявшего на Херн-хилл, впервые слушавший Тёрнера в Академии еще за четыре года до этого, был возмущен тем, что филистер Иглз призывал «топить, жечь и крушить» экстравагантные работы Тёрнера. Рёскин сочинил стихи, восхвалявшие «мощное шекспировское воображение» своего любимого художника. Подражая манере Тёрнера в своей поэзии в прозе, Рёскин пишет: «Шпили прославленного города возвышаются расплывчато ярко в живой дымке, как пирамиды бледного пламени с некоего неохватного алтаря… Это словно голос масс, возникающих перед глазами…» Подобные подростковые опусы, конечно, умиляют отцов, но и настораживают их. Рёскин-старший посоветовал своему отпрыску показать стихотворение Тёрнеру, прежде чем посылать его в какой-нибудь журнал. Тёрнер был тронут, хотя и несколько обеспокоен пылкостью своего юного поклонника, поблагодарил его за энтузиазм и за доброе слово, однако объяснил, что никогда не отвечает на нападки критиков, так как это ни к чему хорошему не приводит. А что касается «Джульетты», то ее купил новый патрон Тёрнера, шотландец Хью Манро, преданно поддерживавший художника все последние годы его жизни. Стихотворение Рёскина не было опубликовано, но Тёрнер вряд ли не почувствовал, что юный поэт побуждает его своим сумасбродным и прекрасным жестом поверить, что «железный век» требует от художников живописной поэзии, а не легковесных приглаженных пейзажей и картин с животными или Плантагенетами в трико.
Тёрнер продолжал мечтать и все чаще делал это, глядя на волны. Он все чаще удирал из Лондона, этого осиного гнезда, оставляя галерею на улице Королевы Анны на попечение угрюмой Ханны Дэнби, под чьим присмотром галерея продолжала успешно разваливаться. Дождь просачивался сквозь растрескавшиеся стекла на потолке. Шесть кошек Ханны кувыркались на полу среди законченных и незаконченных картин. Тёрнер жил теперь у другой вдовы, Софии Бут, которая содержала в Маргите на кентском побережье пансион, а затем, там же, и Тёрнера. Ему пошел седьмой десяток, но, судя по тому, что он разразился еще одной серией эротических рисунков, сексуального аппетита он не утратил.
Маргит был для него не только любовным гнездышком и убежищем от критических нападок. Он бродил среди скал, глядел на волны, перекатывавшие гальку, и погружался в историю. Тёрнер всегда стремился к живописности и чисто внешней привлекательности своих работ гораздо меньше, чем другие бесчисленные художники-маринисты, заполнявшие галереи морскими пейзажами в псевдоголландском стиле, на которых военные корабли мчались на раздутых парусах и рыбачьи суденышки бултыхались среди штормовых волн. Голландские маринисты нравились Тёрнеру, и в честь одного из тех, кому он поклонялся, Якоба ван Рейсдала, он изобрел свой «Порт Рейсдал», который представлял собой всего-навсего изображение серо-коричневой воды, плещущей под порывами ветра. Но он инстинктивно чувствовал связь между старой «владычицей морей» и новой, и, когда в 1830 году все со страхом заговорили о возможности новой английской революции, его естественным откликом была картина, посвященная высадке голландского правителя Вильгельма III в Торбее в 1688 году. Очевидно, море представлялось ему стихией, несущей свободу.
Бедствие на море (крушение «Амфитриты»). 1835. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Волны на его картинах были не такими, как у других художников. Море всегда привлекало его в предельно разбушевавшемся виде; он гордился тем, что умел достоверно воспроизвести гидравлику приливов и отливов и кружевную кромку прибоя, разбивавшегося о береговые скалы. Свои наблюдения, сделанные во время лодочных прогулок, он перенес на холсты, изображавшие кораблекрушения, – сюжет, который увлекал его все больше. В Маргите он думал не просто о крушениях тех или иных судов, море представлялось ему ареной бурь, в ходе которых будет решаться будущее империи.
В 1935 году, когда Тёрнер закончил «Пожар в парламенте», у него возник замысел еще одной волнующей драмы жизни и смерти. Дирекции Британского института, да и Королевской академии тоже, не хотелось бы, чтобы событие, изображенное на картине «Бедствие на море (крушение „Амфитриты“)», было описано Тёрнером. Но художника так потрясла эта история, что он не мог остаться в стороне. За два года до этого корабль «Амфитрита», перевозивший заключенных в Австралию (в данном случае только женщин и детей), сел на мель недалеко от Булони. Корабль дал крен, и французские власти предложили капитану и пассажирам убежище на своей территории, но тот боялся нарушить дисциплину и высадить заключенных на каком-либо берегу, кроме предписанного австралийского на другой стороне земного шара, и отклонил предложение. Команда спаслась, забравшись на мачты, а все сто двадцать пять подневольных пассажиров были смыты за борт и утонули.
Это была бы, наверное, одна из самых значительных картин Тёрнера – возможно, самая значительная, – если бы он закончил ее. Но даже в виде выполненного маслом эскиза она является шедевром, исполненным гневного трагизма. Вероятно, Тёрнер видел «Плот „Медузы“» Теодора Жерико в 1820 году, когда французский художник привозил свою картину в Британию. На полотне океанских размеров спасшиеся при кораблекрушении плывут на плоту среди гигантских волн и пытаются дать сигнал кораблю, появившемуся на горизонте. Но у Жерико персонажи, даже умершие, изображены в героическом ключе. А фигуры на эскизе Тёрнера – это жалкие обломки кораблекрушения, цепляющиеся за мачты или привязанные к ним. Лица их только намечены (уже начиная с «Ватерлоо», он изображал людей как тряпичных кукол с карикатурными чертами, что подчеркивало их беспомощность перед лицом трагического бедствия). Но среди этого безумного хаоса матери прижимают младенцев к груди; над водой, поглощающей свои жертвы, раздаются крики и плач. На фоне густого слоя краски в сердцевине кипящего водоворота – выразительная деталь – тонкая пленка вздыбленной воды, покрывающая сломанный полузатопленный рангоутный брус. Притом что эскиз являет зрелище абсолютного хаоса, вся композиция выстроена с таким расчетом, чтобы усилить ощущение трагедии, гибельности водоворота, который засасывает жертвы среди окутывающей их темноты.
Но Тёрнер так и не закончил «Крушение „Амфитриты“», никому не показывал его и не продавал, хотя картина осталась бы одной из самых выдающихся работ в истории английской живописи. Неизвестно, что ему помешало – соображения политического характера, неудовлетворенность собственным исполнением замысла, другие срочные заказы или необходимость завершить два варианта «Пожара парламента». Полтора столетия «Амфитрита» чахла, забытая всеми, и называлась просто «Бедствием на море», пока Сесилия Пауэлл не сообразила, что изображено на картине. Однако тема мучений и гибели на море продолжала подспудно существовать в воображении Тёрнера, и в 1840 году прозвучала с удвоенной силой, выраженная небесами цвета крови.
Х
«Крушение „Амфитриты“» должно было прозвучать словно пламенная обвинительная речь. Что же касается «Невольничьего корабля», то возникала опасность, что картина будет воспринята как совершенно неподобающее восхваление собственной добродетели. В 1838 году Британия покончила с рабством в своих владениях. В первоначальном виде закон был принят еще в 1833 году, но в течение установленного «переходного» периода на островах Карибского моря возникла чуть ли не революционная ситуация, заставившая ускорить введение закона в действие. В течение двух лет после того, как это произошло, движение против вопиющей несправедливости охватило весь мир. Повсюду – и особенно в Соединенных Штатах, а также испанских и португальских колониях, где рабство только расцветало в связи с хлопковым бумом, – аболиционисты смотрели на Британию как на маяк надежды. Работы аболиционистов широко публиковались; были переизданы классические труды еще здравствовавшего патриарха этого движения Томаса Кларксона «Очерк о торговле людьми и рабстве» (1786) и «История аболиционистского движения в Британии» (1836); в течение 1839 года «Таймс» опубликовала серию статей Томаса Фауэлла Бакстона, направленных против рабства.
Невольничий корабль. Работорговцы бросают за борт мертвых и умирающих, надвигается тайфун (фрагмент). 1840. Холст, масло.
Музей изящных искусств, Бостон
Тёрнер уже давно был привлечен к аболиционистскому движению Уолтером Фоуксом и, несомненно, читал все эти публикации. Одновременно с выставкой в Королевской академии в Лондоне проходили два аболиционистских съезда, и художник решил поддержать их доступными ему средствами. Замысел великого полотна родился у Тёрнера, по всей вероятности, под влиянием двух ужасающих фактов. Первый был, наверное, самым известным случаем бесчеловечного обращения с рабами, который был описан Кларксоном в его давней книге, теперь переизданной; он больше, чем что-либо иное, повлиял на кампанию против работорговли, развернувшуюся в 1790-е годы. В 1781 году капитан невольничьего судна «Зонг» Люк Коллингвуд в попытке получить сумму страхового платежа за рабов, якобы погибших во время плавания, решил выбросить закованных в кандалы африканцев в количестве ста тридцати двух человек в кишащие акулами воды Карибского моря, у берегов Ямайки. Он руководствовался чисто коммерческими интересами. «Живой груз» был застрахован, но страховщик не был обязан платить за доставленные мертвые тела – только за тех, кого можно было отнести к «дорожным потерям». Коллингвуд предпочел, чтобы сто тридцать два африканца считались оплачиваемыми потерями. Но лондонские страховщики отказались платить за них, судовладельцы подали в суд, и развернулась позорная тяжба, в ходе которой две стороны спорили, следует или нет платить страховку за недоставленный груз.
Но высказанная Тёрнером в красках проникновенная аллегорическая отповедь была также, несомненно, откликом и на более недавнее и не менее ужасное событие. По мнению некоторых аболиционистов, борьба с работорговлей лишь усугубляла положение рабов, вместо того чтобы облегчать его: работорговцы, преследуемые судами Африканской эскадры британского флота, жестоко расправлялись со своим живым товаром, выбрасывая невольников за борт, – во-первых, для того, чтобы ускорить ход облегченного корабля и уйти от преследователей, а во-вторых, чтобы избавиться от компрометирующего их груза на случай, если их настигнут. Командам судов Африканской эскадры выплачивали сумму, пропорциональную количеству освобожденных ими рабов, и ради увеличения этой суммы капитаны судов часто выжидали, пока невольничий корабль выйдет в море, вместо того чтобы захватить его во время стоянки в порту. Таким образом, они отчасти становились виновниками гибели выброшенных за борт рабов.
Неизвестно, выступал ли Тёрнер с открытым обвинением, как это делали другие, в том числе и Кларксон, но выбранный им сюжет картины и его воплощение на холсте было не менее острым выпадом против самодовольства британцев, чем неоконченное «Крушение „Амфитриты“». Разумеется, как и в случае с «Ватерлоо» и «Пожаром в парламенте», он не собирался делать репортаж о событиях. Он никогда не плавал в южных морях; его не интересовало, топили ли работорговцы рабов во время шторма или при спокойной погоде. Он хотел, подобно шекспировскому Просперо, вызвать бурю, кровавый тайфун возмездия и искупления.
Утро после кораблекрушения. Ок. 1841. Графитный карандаш, акварель, гуашь, сангина, скобление.
Фонд Самюэля Курто, художественная галерея Института Курто, Лондон
Поэтому невольничий корабль на его картине одновременно реален и нереален. У него низкая осадка быстроходных судов, позволяющая ему уйти от преследования. Но в данном случае он борется со штормом – похоже, безуспешно, так как его кливер сорван; как отметил историк искусства Джон Маккубри, он движется (если движется вообще) в самый эпицентр бури, а не от него. Это в некотором роде анти-«Отважный», преследуемый стихиями и людьми про́клятый корабль, который, подобно судну Старого моряка, плывет по океану во власти черного и кроваво-красного мистического рока. Чудовищная рыба на переднем плане справа, участвующая во всеобщем плотоядном пиршестве, попала сюда не из прибрежных вод Ямайки или Африки, а скорее с гравюр Питера Брейгеля Старшего. Большая рыба поедает маленьких рыб. Маленькие рыбы поедают людей. На картине царит сущий ад.
Необходимо понимать поэтическую условность изображенного, вроде плавающих цепей, вызвавших эпидемию насмешек у тех критиков, которые удосужились обратить внимание на картину Тёрнера. Как и в «Поле Ватерлоо», «Пожаре в парламенте» и «Крушении „Амфитриты“», Тёрнер прибегает к своего рода драматической стенографии, и жесты тонущих людей, нарисованных схематично, почти по-детски, производят гораздо более сильный и страшный эффект, чем это могли бы передать приемы, усвоенные во время семилетнего обучения художника в Академии. Правила сэра Джошуа Рейнолдса не допускали появления на картине фигуры, вроде перевернутой вверх ногами обнаженной африканки с беспомощно высунувшейся из воды жуткой ногой, в то время как ее раздувшееся тело, представленное в самом непристойном виде, уже затонуло. Подобно Гойе в «Бедствиях войны» (и в противоположность Биару с его полуобнаженными торсами африканцев), Тёрнер не пытается искупить непристойность красотой.
Тёрнер не обращал особого внимания и на уже привычные придирки морских волков (он и сам не был ягненком), говоривших, что волны не могут образовываться таким образом, или что такие валы не могут вздыматься во время тропического шторма, или еще что-нибудь в том же духе. Метеорологическая и гидрологическая точность тоже не имела для него значения. Ему важно было показать судно, борющееся с разъярившимися валами, которые уже почти разорвали его надвое, так что оно, потеряв управление, целиком захвачено вихрем судьбы, и представить это как событие библейского масштаба. Ничто на картине – и тем более огромный огненно-кровавый фейерверк в самом центре – не воздействовало бы на нас так сильно без расступившихся вод океана, не более правдоподобных, чем дорога, проложенная Иеговой по дну Красного моря для того, чтобы евреи могли спастись по ней. Подобная бездна не могла бы раскрыться без участия Бога, который вздымает и треплет волны, чтобы обрушить их на обреченный корабль, – об этом говорит и сверкающий в этом ущелье свет, несомненно принадлежащий карающему Провидению. Это такой же разрушительный свет, как и луч в «Регуле» (к которому Тёрнер как раз перед этим вернулся, чтобы добавить мастихином белизны, усиливающей эффект насилия), как и вихрь, врывающийся в Мраморную галерею Петуорта, где стоит гроб графа, а в круговороте пронизанной солнцем пыли мелькают остатки его драгоценной коллекции.
Но этот свет несет не только возмездие, но и искупление. В верхнем правом углу картины открывается, как на всех эпических полотнах Тёрнера, кусочек голубого неба, и тонущий грешник протягивает к нему руки как человек спасенный, а не осужденный на вечные муки. Этот жест повторял изображение на известной в то время медали, выбитой в ознаменование отмены рабства и имевшей хождение в либеральных кругах, в которых Тёрнер все еще вращался. Ему отчаянно хотелось, чтобы люди поняли, что «Невольничий корабль» замыкает круг затрагивающих нравственные первоосновы эпических полотен, начало которому за двадцать восемь лет до этого было положено «Ганнибалом». Об этом свидетельствует и тот факт, что, как и «Ганнибала», «Невольничий корабль» художник сопроводил строками своей поэмы «Обманчивость надежды». Судно, захваченное кровавым коловращением воды и неба, было – в отличие от людей – обречено.
Надежда, надежда, обманчивая надежда, Куда ты пропала ныне?XI
Спустя два года, в 1842-м, молодой шотландский художник и поклонник Тёрнера Уильям Лейтон Лейч зашел однажды в галерею на улице Королевы Анны. Его, естественно, сотрясала дрожь пилигрима, преисполненного благоговения перед святыней. Он увидел выставленные там работы величайшего мастера, которому поклонялся. Лейч слышал, что галерея Тёрнера находится в запущенном состоянии, но такого убожества он не ожидал. Даже попасть внутрь оказалось нелегкой задачей. Сначала дверь приоткрыла Ханна Дэнби, тоже наполовину развалина, обмотанная грязным тряпьем, и тут же захлопнула ее перед носом у гостя. Лишь со второй попытки ему удалось пройти. В галерее был зловещий, пропитанный сыростью полумрак, дождь просачивался сквозь дыры в потолочных панелях, так что Лейчу пришлось раскрыть зонтик. Некоторые холсты стояли на вращающихся мольбертах (Тёрнер любил работать над несколькими картинами одновременно), другие валялись прямо на полу. Все было в пыли и грязи. Шесть кошек Ханны точили когти о холсты и опорожнялись среди них. «Картина „Основательница Карфагена“ была вся в длинных трещинах, как тающая ледяная корка, в некоторых местах краска отслаивалась и сходила», – писал Лейч позже. И где-то среди этого варварского опустошения находился никому не нужный «Невольничий корабль». Но молодой человек не успел найти ни его, ни другие картины, которые хотел посмотреть, так как вдруг почувствовал, как что-то пушистое обвивает его шею. Мэнская бесхвостая кошка. Это было уже чересчур. Лейч бежал в смятении и замешательстве, думая, что его идолу, очевидно, пришел конец.
Но это был не конец. После провала на академической выставке Тёрнер поехал в Венецию зализывать раны и заниматься на свободе акварелью. Альбом за альбомом заполнялись этюдами, которые могли не бояться ни выставок, ни критиков; впоследствии художник доработал их, превратив в образцы самой поэтичной живописи, когда-либо существовавшей. Вернувшись в Британию, нисколько не обескураженный неласковым приемом, Тёрнер отправился в свободное творческое плавание. Он посетил студию Джона Мэйолла, где познакомился с фотографией и получил свой дагеротипный портрет. Тёрнера всегда интересовали технические новинки, и он, возможно, считал, что фотография запечатлевает внешний вид лучше, чем живопись, у которой своя задача – проникнуть в суть предмета. Его все больше привлекала бесформенность, которая может (или не может) материализоваться в пустоте. Там, в тумане, вырисовываются миражи, и некоторые из его наиболее экстатических работ пытаются воспроизвести первичные моменты творения; он выбирает для них круглую форму, как у радужной оболочки глаза, словно именно в ней (или за ней) возникают эти видения, эти монстры и ангелы.
Тёрнера всегда занимали драмы появления и исчезновения вещей, творения и распада – как предмет изображения и как выражение самого процесса творчества, – и он разыгрывал эти драмы на холсте, неистово орудуя кистью, мастихином, руками. Силой, вызывающей распад, часто был океан, разрушитель устремлений или удачи, насмешливо манящий из недостижимой дали. На каком-то далеком берегу стоит бездомный, но сохранивший свои имперские сапоги и шляпу Наполеон, а в абсурдной близости от него цепляется за скалу крохотный моллюск, навечно прикрепленный к своему дому. На другом берегу одинокий и измученный пес на подгибающихся от усталости лапах, единственный выживший пассажир затонувшего корабля, в отчаянии воет, глядя на обезлюдевшее колышущееся море («Утро после кораблекрушения», с. 311). Китобойные суда, перерабатывавшие самых больших в мире животных в ходкий промышленный товар, становятся беспомощными пленниками дрейфующего льда («Китобойные суда, затертые льдами…»). На многих последних морских пейзажах изображаются корабли, над которыми нависла опасность гибели. Спасательные средства – запущенные с берега сигнальные ракеты, буи или просто радуга – всегда имеются, но не служат гарантией спасения. Очевидно, таково было общее мироощущение Тёрнера.
Морской пейзаж с бакеном. Ок. 1840. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Но тут у руля спасательной шлюпки оказывается молодой Джон Рёскин. В 1840 году ему наконец удается познакомиться с объектом своего поклонения. «Все говорили о нем как о грубоватом, невоспитанном, неотесанном, вульгарном человеке. Я знал, что этого не может быть. И я убедился, что это довольно эксцентричный, проницательный человек, несомненно добродушный, но вспыльчивый, ненавидящий всякое притворство; он не стремится продемонстрировать свои умственные способности… но они проявляются в его взгляде и его высказываниях…» Рёскину было обидно, что этот глубоко мыслящий и поэтичный художник сталкивается с таким непримиримым непониманием, но он, как и его отец, не хотел действовать слишком покровительственно. Однако он невольно слышал, как Тёрнер бормочет услышанный им где-то колкий отзыв еще об одном его шедевре, написанном в свободной манере, «Метель. Пароход выходит из гавани»: «мыльная пена с известкой». Рёскину и самому казалось, что многие последние работы Тёрнера стали слабее по замыслу и его воплощению, но только не «Невольничий корабль». В 1843 году они с отцом пытались продать полотно вместе с другими работами, показанными на выставке 1840 года, в том числе картину «Ракеты и синие огни», которую сам Тёрнер, возможно, рассматривал как дополнение к «Невольничьему кораблю». Но не удалось продать ничего. Тогда Рёскин-старший купил «Невольничий корабль» сам и подарил его сыну на Новый, 1844 год.
Китобойные суда (приготавливающие ворвань), затертые дрейфующими льдами, пытаются выбраться на открытое пространство. 1846. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Эта картина изменила жизнь младшего Рёскина и сделала его еще более страстным поклонником Тёрнера. Тёрнер, с его дерзновенностью и оригинальностью, энергией и поэтическим воображением, презрением к поверхностному правдоподобию и способностью вскрыть кроющуюся в глубине истину, стал для Рёскина титаном-провидцем, маяком в гнетущую прозаическую эпоху. Он взял на себя роль популяризатора идей Тёрнера, разъясняющего непросвещенным его учение, стал его святым Павлом. Пытаясь найти слова, которые так сильно выражали бы бурю тёрнеровских красок, что покорили бы читателя, Рёскин произвел один из самых поразительных прозаических отрывков, написанных в XIX веке:
«Мрачные пурпурные и синие тени бурунов, взрезающих впадину, нависли среди ночной мглы с ее холодом и пустотой, надвигаясь, как призраки смерти, на преступный корабль, крутящийся среди морских молний; его тонкие мачты – это кровавые строки, написанные на фоне неба… и небо отмечено этим ужасным цветом…»
Метель. Пароход выходит из гавани. 1842. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Рёскин все-таки продал картину бостонскому музею к столетию со дня рождения художника, и она предстала перед зрителями, но они не увидели пурпурного цвета, потому что Рёскин с отцом, похоже, смыли краску в неудачной попытке очистить холст от грязи. Оставалось только поверить Рёскину на слово. Но перед этой относительно небольшой, очень странной ярко-алой картиной, представляющей собою смесь аллегории, фантазии и морского пейзажа, большинство зрителей почувствовали себя разочарованными и обманутыми Рёскином, так беззастенчиво перехвалившим и навязавшим им Тёрнера и в особенности эту его работу.
Когда надо было спасать «Невольничий корабль», Рёскин спас его, но теперь, возможно, пришло время спасать его от Рёскина. Оказавшись перед этой картиной, вовсе не обязательно вслед за Рёскином бормотать о «кроваво-красных морских просторах». Будет даже лучше, если вы не станете делать этого. Не стоит также знакомиться с картиной только в виде репродукции, вроде той, что помещена в этой книге. Потому что репродукция может лишь озадачить вас и оставить впечатление, что «Невольничий корабль» – всего лишь странная, проходная работа, в которой нет ни изящества «Последнего рейса», ни протомодернистской призрачности последних акварелей Тёрнера. Что действительно стоит сделать – так это поехать в Бостон, взобраться по винтовой лестнице Музея изящных искусств в крыло, построенное Лоуэллом, найти зал, отведенный XIX веку, – и там картина сразу же набросится на вас и, не жалея ваших зрительных нервов, взорвется на стене у вас перед глазами зрелищем бездонного водоворота посреди черного океана, дергающихся конечностей в кипящих волнах под вопящим кровавым небом с трогательным голубым пятнышком просвета. Ничего удивительного. Просто это самый великий пример слияния силы духа и поэтического видения во всем английском искусстве.
Ван Гог Живопись из головы
I
Май 1890 года – последняя весна в жизни Винсента Ван Гога. Казалось, все идет для художника как нельзя лучше. Он перестал быть изгоем. Художники, которыми Винсент восхищался, выражали ответное признание и предлагали обменяться полотнами. В Брюсселе картины Ван Гога выставляли в одном ряду с работами Сезанна, Ренуара и Тулуз-Лотрека. Одна из этих картин, «Красные виноградники в Арле» (1888), была даже продана за четыреста франков. Десять его полотен были представлены в Салоне Независимых. В газете «Меркюр де Франс» влиятельный молодой критик Альбер Орье превозносил Ван Гога до небес: он утверждал, что картины художника словно выстроены из «[сверкающих] хрустальных стен», – это уже был некоторый перебор даже для Винсента.
В Овере – небольшом городке в тридцати с лишним километрах от Парижа – Ван Гог работал как черт, выдавая по одной, а то и по две картины в день. Таким плодовитым, оригинальным и смелым он не был еще никогда. Семьдесят с лишним полотен, написанных в Овере, – фиксация эмоционального переживания повседневного опыта, переведенная на язык линии и цвета, – радикально изменили возможности живописи. Ван Гог ощущал бешеный прилив сил. Приступы психического расстройства, которые не далее как в апреле грозили совершенно разрушить здоровье Винсента, чудесным образом трансформировались в поток творческой энергии, и врачи психиатрической больницы в Провансе, где художник проходил курс лечения, официально объявили, что он выздоровел. «Я чувствую себя человеком, которого внезапно и полностью покинули ночные кошмары», – писал Винсент брату Тео. Друзья, на чьих глазах художник погружался в пучину саморазрушения, радовались не меньше. Увидев одну из картин Винсента, Гоген (обычно скупой на комплименты) восторженно писал: «Вопреки своей болезни тебе впервые удалось создать настолько гармоничную работу, не пожертвовав при этом ни чувством, ни внутренней теплотой, которых требует произведение искусства».
Именно гармонии Винсенту как раз и не хватало. Вследствие биполярного расстройства и эпилепсии восторг и экзальтация то и дело сменялись у него приступами отчаяния – бывали моменты, когда ему, по его же словам, не нужно было «слишком мучить себя, чтобы выразить печаль и предельное одиночество». Но в процессе работы меланхолия рассеивалась, как утренний туман. Матери и сестре Вил (Виллемине) Ван Гог писал, что совершенно «поглощен этим безбрежным простором с пшеничными полями, тянущимися до самых холмов, бескрайними, словно океан, нежный желтый, нежный светло-зеленый, нежный лиловый цвет пашни и заросший сорняками клочок земли… и все это под небом нежнейших оттенков голубого, белого, розового и фиолетового. Я нахожусь в состоянии почти слишком спокойном, именно в таком и надо все это писать».
Несколько недель спустя Ван Гог умер от пулевого ранения, которое сам же себе и нанес. Как и можно было ожидать, последние, самые сложные для интерпретации полотна, написанные в 1890 году, – «Грозовые тучи над пшеничным полем», «Корни» и «Вороны над пшеничным полем», – выполненные в необычном формате (двойные квадраты в метр шириной), рассматривались как предсмертные записки, воплощение отчаяния, в которое впал художник, видя свои неудачи на избранном поприще. Однако подобная интерпретация означает, что мы задним числом привносим в эти полотна дополнительные смыслы, трактуем их как «крики о помощи», уподобляя страдальческим стихам старшеклассника. Вороны злорадно парят над полыхающем на жаре полем, небо темнеет – бац, и художник умер. Живопись Ван Гога к этому моменту действительно становится до рискованного насыщенной. В последнем письме к Тео, которое так и не было отправлено, Винсент пишет, что работа угрожает его жизни. Но все это мало походит на суицидальное разочарование в своих возможностях; Ван Гог уже знал: его работы совершенно преобразили два важнейших для него жанра в живописи – пейзаж и портрет. Какая бы причина ни заставила художника спустить курок 27 июля 1890 года, она могла и не иметь никакой связи с его живописью – что, естественно, не делает факт самоубийства более или менее тягостным. Ван Гог вполне мог убить себя как раз в тот момент, когда достиг в своем творчестве наивысшей точки.
II
Чем же, по его мнению, должно было стать его искусство? Все просто: Винсент Ван Гог стремился создать картину, наполненную таким же провидческим сиянием, которое когда-то давало человеку христианство. Иисус, по его словам, был «величайшим из художников» и «работал над живой плотью». Винсент хотел, чтобы современное ему искусство стало благой вестью, источником света, способным утешить и искупить грехи через экстаз созерцания. Задачу искусства следовало бы в этом случае сравнить с миссией Спасителя – оно должно было быть интуитивно понятно сирым и убогим, нищим и безграмотным, сломленным жизнью в индустриальном обществе. Беспросветный изнуряющий труд простого человека, его жизнь, больше похожую на прозябание, надо было превратить в единение с природой, откровение бесконечности на грешной земле; искусство должно было приблизиться к человеку, стать частью повседневной жизни – как витражи и алтарные картины в старом мире веры. Подобно цветным стеклам, новое искусство должно было полыхать цветом, ибо цвет знаменовал собой присутствие божественного. Чистый цвет таил в себе гениальную в своей невинности энергию искусства, создаваемого детьми, а его воплощением призваны были стать восторженные штрихи, росчерки, завитки и спирали, выполненные мастерски и в то же время безыскусные: такие мазки, которые, как нам кажется, мы могли бы нанести и сами. Обостренное восприятие художника преобразовывалось для зрителя таким образом, чтобы мы могли приобщиться к этой вселенной напряженного чувствования и наблюдения. Современная живопись должна была превратиться в проявление дружбы, визуальное объятие. «Жму руку» – такими словами Винсент обычно заканчивал свои письма брату Тео. По сути, именно так он подписывал свои работы для всех нас.
III
Винсент мог бы и не подойти к порогу этой новой Церкви – Церкви Цвета для всех людей, – не будь он столькие годы узником старой. Не то чтобы Ван Гог с самого начала отрицал величие храма искусства или храма Христа. Напротив, он всегда страстно хотел, чтобы тот и другой вновь обрели силу нести в мир высшее откровение. Если одна Церковь не оправдывала ожиданий, он обращался к другой, всегда сохраняя в сердце тревожную надежду.
Отцовский дом был для Ван Гога местом, где благочестивое рвение уживалось с унылой мрачностью. Преподобный Теодор Ван Гог, пастор небольшой кальвинистской общины в деревне Грот-Зюндерт в голландской провинции Брабант, где основную часть населения составляли католики, сам был приверженцем религиозного движения, делавшего упор на простоту и природную спонтанность. Однако Винсенту с раннего детства внушали мысль, что, будучи старшим из семерых детей, он, зачатый всего три месяца спустя после смерти первенца Ван Гогов, умершего в младенчестве, навеки останется заменой, Винсентом Виллемом вторым. Каждое воскресенье семья собиралась на церковном погосте, чтобы помолиться за упокой души того, первого Винсента.
Был еще и третий Винсент, дядя Сент, и он был связан с искусством! (Равно как дядья Хейн и Кор.) Его слова оказалось достаточно, чтобы открыть для племянника двери гаагского филиала фирмы «Гупиль и Ко». Таким образом, живописец, сумевший за всю свою жизнь продать лишь одну картину, стал еще и первым современным художником, начавшим карьеру с торговли искусством. Может, это и не было такой уж случайностью. Винсент, как ни странно, никогда не имел ничего против использования произведений искусства для украшения интерьера, воспринимая дом как место, где можно укрыться от тягот рабочих будней. И все же у него были строгие критерии относительно того, каким должно быть убранство дома: оно должно напоминать о рае, подпитываться жизненной силой цветов и полей. То, что продавали у Гупиля, – обнаженные девушки с ямочками на щеках, резвящиеся на мелководье, коровы с тяжелым от молока выменем на заливных лугах – явно не подпадало под эти критерии.
До наступления на «изъеденные червями» традиции, как он их называл, оставались еще годы и годы. Пока же двадцатилетний юноша с волосами цвета спелой моркови научился так хорошо угождать сударям и сударыням, что его почти сразу перевели в лондонский филиал Гупиля; у фирмы было представительство на Саутгемптон-стрит в районе Ковент-Гарден (в двух шагах от места, где вырос великий британский живописец Уильям Тёрнер). Именно здесь, в свете газовых фонарей викторианского Лондона, куколка превратилась в бабочку – чопорный молодой голландец начал читать все без разбору, открыл для себя Шекспира, Джордж Элиот и Диккенса. Художник, которого принято считать менее всего склонным к умственной деятельности на фоне остальных представителей его поколения, любитель класть краску толстым слоем, на деле был эрудирован, как профессор. Письма Винсента брату переполнены вдумчивыми аналитическими выводами, часто подкрепленными недюжинной эрудицией, что позволяет говорить о Ван Гоге не как о существе инстинктивном, но как о человеке, имеющем привычку неустанно мыслить – и говорить – о поэзии, литературе, положении дел в мире.
Исполнившись воодушевления, он обнаружил в себе новую страсть. Безотрывно наблюдая за востроглазой, затянутой в корсет дочерью хозяйки дома, где он квартировал в Лондоне, Винсент влюбился – и влюбился серьезно. Тот факт, что Евгения Лойер была помолвлена с другим, его не останавливал; Ван Гог был убежден, что сможет покорить девушку одной только силой и искренностью своего чувства. Не получилось. Потрясенный отказом, Винсент съехал на другую квартиру.
И попал прямиком в объятия Христа, который всегда был где-то рядом. В трущобах Лондона времен премьер-министра Дизраэли, среди бродяг, пьяниц и проституток, Винсент мыслил себя миссионером, призванным прийти на помощь сирым и убогим. Он обратился к книгам Эмиля Золя, Виктора Гюго, продолжил знакомство с Элиот и Диккенсом и, наконец, прочел Джона Беньяна. Ван Гог сравнивал себя со странником, бредущим по каменистой дороге с посохом и фонарем, неся свет тем, кто прозябает во тьме. Первая проповедь, прочитанная им в Ричмонде, начиналась словами: «Это старая и славная вера в то, что наша жизнь – это путь паломника, что все мы странники на земле, но даже если это и так, мы не одиноки, ибо Отец наш с нами. Мы – паломники, и жизнь наша – долгая дорога с земли на небеса».
Работа в галерее «Гупиль», с ее бархатными портьерами и шикарными коврами, – что в Лондоне, что в Париже – совсем скоро стала приносить Винсенту одно расстройство: на самом деле Ван Гог презирал третьесортное искусство, предназначенное для покупателей-мещан. Он решил обратиться к униженным и оскорбленным, стосковавшимся по свету. Первой паствой Винсента стали мальчики в школе преподобного Стоукса в лондонском пригороде Рамсгейт – Ван Гог нанялся туда учителем французского, немецкого и математики. К письму, отправленному Тео из Рамсгейта, Винсент приложил рисунок мрачноватого здания школы в готическом стиле: «Я очень хотел бы, чтобы ты увидел, как, проходя узким коридорчиком, по темной лестнице, они поднимаются в столовую. Впрочем, в ней солнечно и уютно. Еще одно любопытное место – комната с прогнившим полом, где мальчики умываются, там стоят шесть тазов, на которые падает слабый свет, проникающий сквозь разбитые стекла окна… Мальчики посадили на твой рисунок масляное пятно, не сердись на них».
Вечный стажер Винсент не мог быть совсем уж безнадежен в роли учителя, ведь, когда преподобный Стоукс перевел школу в Айлворт, городок к востоку от Лондона, Ван Гог отправился с ним, на этот раз в качестве преподавателя библейской истории. Следующим этапом стали публичные проповеди, но высокомерные прихожане западных пригородов (где когда-то жил Тёрнер) не могли взять в толк, как им реагировать на нескладного, не слишком представительного молодого человека в старом пальто, говорившего с сильным голландским акцентом. Не помогали даже стихи Кристины Россетти, которые ради своих слушателей коверкал на своем ломаном английском Винсент:
– Вьется ль дорога вверх по горе? – Да, вверх и вокруг. – До ночи идти, коль встать на заре? – С утра до ночи, друг[14].Дальше была служба в книжной лавке в Дордрехте – уже на родине, в Нидерландах. Но Ван Гог нуждался в пастве, влачащей по-настоящему беспросветное существование. Если он искал современный промышленный ад, то Боринаж, область в Южной Бельгии, где добывали каменный уголь, был практически идеальным местом: кашель, болезни легких, грязные хибары в заваленных шлаком деревнях. Взяв свою старую потрепанную Библию, Винсент с усердием охотничьего пса прочесывал закопченные улочки, вдоль которых женщины тащили тяжелые мешки с угольным мусором для домашнего очага. Ван Гог делал все, что было в его силах, пытаясь донести до них хоть капельку надежды. Но не этого ожидало от него Евангелическое общество, выплачивавшее молодому проповеднику скромное жалованье. Когда шестимесячный испытательный срок подошел к концу, комитет протестантской церкви не стал возобновлять контракт: рвения у Винсента было в избытке, а вот красноречия явно не хватало. Но избавиться от Ван Гога – миссионера и проповедника – было не так легко. Без гроша в кармане, дурно одетый, Винсент слонялся по деревушке Кем бесприютным бродягой – средств к существованию у него было меньше, чем у тех, кому он проповедовал. Но он не был бы Винсентом, если бы местный инфернальный ландшафт не казался ему «живописным». И Ван Гог нашел способ выжить: он начал рисовать изнуренных шахтеров, медленно бредущих на работу по заснеженной тропинке. Выбора у них не было: терпеть, пока хватало сил. Винсент ощущал то же самое, жил такой же жизнью: «То тут, то там в обмен на рисунки мне удавалось раздобыть кусок хлеба… Но когда от моих десяти франков ничего не осталось, мне пришлось ночевать под открытым небом: однажды – в брошенной телеге, к утру совсем побелевшей от инея… в другой раз – в стогу сена».
Эти первые рисунки еще непрофессиональны, выполнены неуверенной рукой, но они помогли Винсенту прийти к главному решению. В свои двадцать семь лет Ван Гог задумал стать художником. До этого он даже кисть в руках не держал ни разу и понимал: без обучения ему не обойтись. Первые попытки получить образование были предприняты в Брюсселе, а в Боринаже Винсент вел разговоры об искусстве с протестантским священником, но предпочитал учиться самостоятельно – купил несколько книг о перспективе, сделал себе в помощь небольшую рамку с нитками крест-накрест, а затем вернулся в Брабант, чтобы пожить дома и еще раз попробовать себя в рисовании. На этот раз получилось намного удачнее: женщины на его рисунках сгибались под тяжестью мешков, над печальным болотом собирались груды насупленных туч, старики кидали связки хвороста в костер – поэтичные образы уныния и бесконечной усталости, созданные пером и тушью.
Совершенный неофит, даже незнакомый еще с кистями и красками, Винсент уже сформулировал принципы, придерживаться которых будет до самого финала короткой и стремительной художественной карьеры. Прежде всего, он верил, что искусство никогда не должно довольствоваться ублажением буржуазии, но восприниматься как проповедь, обращенная к обществу. Художники – и для Нидерландов это было особенно характерно – давно использовали в качестве тем для своих картин людей труда за работой и на отдыхе. Винсент же хотел не только изображать этих людей в качестве персонажей, но делать это для них самих. Однако воспринимать такое искусство простые труженики смогли бы лишь в том случае, если оно не только демонстрировало их нужду и убожество, но имело бы и иную, высшую цель (и это Ван Гог осознал далеко не сразу). Искусство было также призвано возродить ощущение детского удивления – удивления, которого взрослых лишала нищета. Таким образом, искусство должно было преуспеть там, где потерпели поражение традиционные церкви с их запретами и призывами к покаянию и покорности. Именно недоступность – далекий Иерусалим, который они предлагали в качестве утешения, – и требовала от новой Церкви явить перспективу спасения здесь и сейчас. Сам Винсент видел проявления божественного повсюду, даже в Боринаже – на перепачканном углем лице шахтера, в мозолистой руке, лепестках цветка, пробивающегося сквозь горы шлака. Художник, жаждущий запечатлеть все это, не мог оставаться утонченным эстетом. Он тоже должен был стать простым тружеником в своем роде, держаться поближе к забою, к ткацкому станку, к земле.
По иронии судьбы Ван Гога принято было воспринимать как чудаковатого любителя работать в полном одиночестве. Начало этой традиции положил Альбер Орье, автор первого печатного панегирика художнику, озаглавивший свою статью «Одинокие: Ван Гог». И точно, это как будто похоже на правду: в Арле, например, лучшие свои работы – фигуры одиноких сеятелей и жнецов в полях – он действительно создавал в уединении. Однако из всех основателей модернистского течения в живописи Ван Гог был самым последовательным и требовательным «плюралистом». Даже картины свои он задумывал как небольшие (или большие) семьи, раз за разом повторяя излюбленные сюжеты – сады, сбор урожая, лодки, подсолнухи, или, нарушая общепринятую последовательность, делал рисунки по мотивам уже готовых живописных полотен. Идеальным местом для восприятия его картин Ван Гогу представлялось обволакивающее пространство дома, где меланхолия покоилась бы на ложе чувственного блаженства.
Для достижения этого идеала Винсенту самому нужен был кто-то рядом, чтобы положить конец отчуждению, которое, по его мнению, сопровождало не только его, но и всех мужчин и женщин, вынужденных заботиться о себе в одиночку. Называя в своей проповеди всех людей путниками, бредущими долгой дорогой с земли на небеса, Ван Гог указывал, что одиночество утомительного пути скрашивает сознание присутствия «Отца нашего с нами» – как друга, вожака, помощника. Когда чувствуешь себя подавленным, Бог протягивает руку в сердечном пожатии – как сам Винсент сердечно пожимал руки тем, кого любил. А любил он практически всех. Ван Гог жаждал делиться любовью и в ответ получать ее от всех, кому открывал свое сердце в письмах, от Тео и товарищей-художников – Антона Раппарда и Эмиля Бернара; с ними он делился мечтами об артистическом братстве, похожем одновременно на общую мастерскую и на большую семью. Именно к нему он будет стремиться впоследствии, затевая социально-художественный эксперимент в Арле с Полем Гогеном. Того же он страстно желал добиться от всех тех женщин, с которыми так отчаянно мечтал разделить семейное гнездо.
Создать семью с Евгенией Лойер в Лондоне не удалось. Но дома, в Голландии, после возвращения из Боринажа и недолгих занятий в Брюссельской академии изящных искусств Винсент решил, что нашел свою половину в Амстердаме, – его избранницей была недавно овдовевшая кузина Кее Вос. Время и способ для ухаживания Ван Гог, как всегда, выбрал самые неподходящие. Винсент смотрел на предмет обожания глазами побитой собаки, задыхался от волнения, преследуя кузину из города в город, и пугал ее своими домогательствами. В ответ женщина предсказуемо произнесла «Nimmer!» – «Никогда!». Логично было бы предположить, что отказ положил конец ухаживаниям. Но она имела дело с Ван Гогом. «Nimmer» для него прозвучало лишь как проверка на силу чувства. Винсент успокаивал себя, вообразив, будто его возлюбленная уклонялась от ухаживаний, подчиняясь воле строгих опекунов, и не могла выразить свои истинные чувства. Влюбленному отказали от дома, но он таки вернулся и, держа ладонь над горящей свечой, заявил, что желает лишь видеть Кее столько времени, сколько сумеет продержать руку над пламенем.
Радикальные ухаживания закончились провалом. Изгнанный из Амстердама, в начале 1881 года Винсент переехал в Гаагу, где его на несколько недель приютил еще один терпеливый родственник – известный и преуспевающий художник Антон Мауве. Ван Гог – как всегда – отчаянно жаждал любви, но ему в очередной раз показалось, будто человек, которого он воспринимал как отца, пытается обуздать его страсти, и он взбунтовался (точно так же Винсент вел себя и с родным отцом). Хорошо было бы обзавестись собственной семьей и собственным домом, особенно если учесть, что, рассуждая в письмах брату (жилье и материалы теперь оплачивал Тео) о жажде любви, Винсент имел в виду любовь не только духовную. В этом его стремлении к уюту было что-то до умиления голландское: домашний очаг и вечера у пузатой печки, секс и штопанье носков. Когда годы спустя Ван Гогом завладеет навязчивая идея обустроить Желтый дом к приезду Гогена, он, как настоящий голландский хозяин, будет взбивать подушки и пытаться организовать уют – gezelligheid. Но истинный уют не был для Винсента чем-то будничным. Он даровал спасение.
Скорбь. 1882. Литография.
Музей Ван Гога в Амстердаме
Получись у него соединить это стремление с другой страстью – жаждой исцелить раны современного мира, – Ван Гог смог бы создать настоящий дом, пусть простой, но полный жизни и счастья. Поэтому он бежал от Мауве, с его пронизанной мещанской клаустрофобией жизнью, и предпочел одну из отверженных. Винсент много читал Эмиля Золя, и мысль, что обездоленные точно так же жаждут любви, как и он сам, стала для художника символом веры. Потрепанная жизнью проститутка Класина (Христина) Хорник по прозвищу Син, с болезненной пятилетней дочерью, еще одним ребенком на подходе и запущенной ангиной, оказалась идеальной кандидатурой, чтобы проверить, надолго ли хватит Винсенту его наивного оптимизма. Син, к которой судьба была неласкова, мало напоминала крепкую, здоровую хозяйку – huisvrouw, но именно поэтому могла послужить Ван Гогу отличным материалом для устройства семейной жизни. В кои-то веки рядом с Винсентом был человек, который в нем нуждался. Это должен был быть эксперимент по оказанию взаимной помощи: Син могла позировать для художника, а тот, в ответ, быть ей добрым мужем и отцом для ее детей. Винсент с нетерпением ждал, когда же Тео приедет полюбоваться семейным гнездом: «Дорогой Тео… Я весь в предвкушении твоего приезда: мне не терпится узнать, какое впечатление произведет на тебя Христина. В ней нет ничего особенного – обыкновенная женщина из народа, но я вижу в ней нечто возвышенное… тот, кто любит обыкновенного, простого человека и любим им, тот уже счастлив, что бы с ним ни происходило в жизни…»
Но, что удивительно, под пером и кистью Винсента Син действительно преображается, становясь воплощением благородной эмоции. И происходит это не вопреки, а именно благодаря тому, что она абсолютно не похожа даже на самую бесперспективную натурщицу. Подражая офортам своего кумира Рембрандта, Винсент пристально изучает потасканное тело подруги – щуплую нескладную фигуру с обвисшей грудью, костистое лицо и жидкие, свалявшиеся волосы. Образ, созданный им в «Скорби» (с. 329), материален и нематериален одновременно. На другом рисунке Син изображена с сигарой – ноги притянуты к груди, ее одеяние одновременно скрывает беременность и подчеркивает ее, превращая женщину в антимадонну, – в этом зачатии нет ничего непорочного. Можно понять, почему Ван Гог так трогательно ухватился за фразу французского историка и эссеиста Жюля Мишле о том, что, когда женщина любима, она не стареет.
Хижины, крытые дерном. 1883. Холст, масло.
Музей Ван Гога в Амстердаме
Увы, задача создать идеальный дом из самых неподходящих материалов оказалась непростой. У Син родился ребенок, но, как только она вышла из больницы, туда отправился сам Винсент – надо было лечить гонорею (заразился он, по всей вероятности, от своей возлюбленной). При всем этом ежемесячные дотации от Тео – брат занялся торговлей искусством сразу после того, как Винсент покинул это поприще, – позволили начинающему художнику перейти наконец от рисунка к живописи. Поразительный факт: в свои тридцать с лишним Ван Гог ни разу еще не брал в руки кисть. Тем не менее на начальной стадии он занялся отнюдь не акварельными пейзажами, которые можно было бы продавать, а выручку отдавать брату в уплату растущего долга. Вместо этого Винсент сразу же принялся писать маслом – на его первых этюдах, написанных густыми темными красками, крестьяне разбрасывают по полям навоз и режут торф. Под влиянием старых голландских мастеров плотными кроющими мазками он пишет «Вид на море в Схевенингене» (1882) с рыбачьей баркой и фигурами людей на берегу. Несмотря на непритязательность сюжетов первых работ начинающего художника, пугающе энергичная работа кистью и чудовищной толщины красочный слой лишали эти небольшие картины надежды обрести хотя бы мало-мальский успех у публики, привыкшей к совсем иной современной живописи.
Впрочем, Винсент никогда не довольствовался малым. Игры в семью с бывшей проституткой Син в роли матери семейства не могли утолить тоску художника по домашнему очагу. Он сообщил брату, что намерен жениться на Син: «Деньги – да, но жену и ребенка ты мне дать не можешь». Неудивительно, что подобный план не имел особого успеха ни у отца-пастора в Брабанте, ни у почтенного кузена-художника Мауве. Очень скоро и сама Син, большая любительница джина и сигар, начала сопротивляться удушающе настойчивому обожанию Винсента (как это происходило со всеми женщинами) и исчезла, растворившись во мраке сырых, освещенных тусклым светом газовых фонарей улиц – тех самых улиц, где Ван Гог ее подобрал.
IV
Каким мы видим Ван Гога в сентябре 1883 года? Художнику всего тридцать, но, по его собственному признанию в письме, морщины на лбу и в уголках глаз (Винсент улыбается и хмурится одинаково часто) добавляют ему десяток лет. Он уже чувствует, что ему не хватает времени, чтобы завершить нечто «исполненное истинной любви». К тому моменту не раз уже он переезжал с места на место и сменил не одну работу – торговал картинами, преподавал, проповедовал, чтобы наконец снова прийти к искусству – на сей раз в качестве художника. Теперь он мечтал научиться создавать искусство, которое бы учило и проповедовало, не скатываясь в занудное морализаторство и скучные нравоучения. Потерпев уже не один крах в попытке завязать романтические отношения, Винсент по-прежнему мечтал создать семью. Отчаявшись понять, как всего этого достичь, Ван Гог отправился в захолустную провинцию Дренте на северо-востоке страны, призывая друга Антона ван Раппарда и Тео поехать туда вместе с ним. В Дренте художник переносит на холст свое подавленное и раздраженное состояние: темные силуэты одиноких, кажущихся заброшенными лачуг на фоне низкого водянистого неба. Работы этого периода – компактные, но оттого не менее мощные микродрамы. Но и эти картины никто не покупал. И никто не хотел ехать к нему на север, так что Винсенту пришлось вернуться домой, в Нюэнен, куда отец к тому времени перевез семью. Не успел художник устроиться на новом месте, как между Теодорусом Ван Гогом и его непутевым старшим сыном начались громкие, неприятные ссоры: «Догадываюсь, что отец и мать инстинктивно (не буду утверждать, что сознательно) думают обо мне. Пустить меня в дом им страшно не меньше, чем большого лохматого пса, который вбегает в комнаты с мокрыми лапами… Он у всех будет вертеться под ногами. А еще он так громко лает. Короче говоря, этот пес – прескверная зверюга».
Ткач с ребенком в высоком стуле. 1884. Карандаш, перо, чернила, акварель.
Музей Ван Гога в Амстердаме
Тем не менее в Нюэнене Ван Гогу удается (отчасти, возможно, вследствие возникшего в семье напряжения) поработать над сюжетами из жизни ткачей и создать серию выдающихся рисунков с зимними деревьями, чьи голые ветки изгибаются и топорщатся на фоне неласкового неба. И вот в 1885 году это случилось: Винсент создал свой первый бесспорный шедевр. На творчество ему оставалось всего пять следующих лет.
«Едоки картофеля» (с. 334–335) – синтез всего, что Ван Гог успел прочувствовать и передумать об искусстве до этого момента. Он работал над картиной не спеша: всю зиму рисовал грубые, узловатые руки и шишковатые подбородки. По словам ученика и приятеля Винсента Антона Керссемакерса, художника влекли самые уродливые модели, рисуя которых он «подчеркивал расплющенные носы картошкой, выступающие скулы и торчащие уши». Какому-нибудь классицисту такой человеческий материал показался бы кошмаром, но Ван Гог сумел создать из него нечто поистине монументальное. Когда от набросков художник перешел к работе над картиной, он использовал ту же темную палитру, накладывая краски таким же толстым слоем, как на полотнах с лачугами. Но в «Едоках» рельефность и грубость живописной фактуры оправдана не только изобразительными целями. Художник пытается донести зрителю идею. Его посыл – критика показного буколического очарования, желтой сиены и красновато-коричневой умбры пасторалей, виденных им в запасниках фирмы Гупиля и на стенах в голландских гостиных. Все эти «земляные оттенки» составляли классический инструментарий живописи. У Ван Гога коричневый совсем иной – это настоящий цвет грязи, перегноя и почвы, того, из чего состоят и сами эти люди. Это еще и буровато-серый цвет «пыльной картофелины, разумеется неочищенной», объяснял Винсент. Вот уж поистине: человек есть то, что он ест.
Едоки картофеля. 1885. Холст, масло.
Музей Ван Гога в Амстердаме
Кажется, что картина не написана красками, а выкопана из земли, заляпана тяжелой, сырой глиной брабантских полей. «Я старался представить как можно более наглядно, что эти люди, поедающие свой картофель при свете лампы, еще недавно копали землю теми самыми руками, которые теперь протягивают к блюду, таким образом эта картина – о тяжелом труде и о том, что изображенные на ней честно заработали свою еду», – писал художник. Растворившись в своем материале, Ван Гог делает все возможное, чтобы писать, как если бы он сам был комом земли; кажется, что его кисть сама с усердием ваяет этот красочный рельеф. По сравнению с этой картиной все жалкие попытки художников XIX века переписать крестьянские сцены века XVII начинают вдруг казаться прогулкой буржуа в квартал трущоб. Эти крестьяне садятся за стол в благодати, их ужин, состоящий из одной картошки, – причастие тех, кто трудится, кофейник и блюдо с картофелем – ритуальные предметы этого священнодействия.
Ван Гог осознавал, что создал нечто действительно радикальное, и в восторженном порыве отослал «Едоков картофеля» брату в Париж, точно расписав, как следует повесить картину – на фоне цвета золота или меди. Но его энтузиазм не нашел отклика у Тео – младший брат увидел лишь очередную темную картину, продать которую в Париже, где все было таким… ярким, не представлялось возможности. Преданный своему нелегкому искусству, Ван Гог проигнорировал критику. Историк искусства Дебора Сильвермен отмечает, что Винсент очень дорожил коробкой с мотками разноцветной пряжи, – нюэненские ткачи произвели на художника столь сильное впечатление, что он мечтал сделать свою живопись похожей на грубую ткань, сотканную из тщательно подобранных цветных нитей. Короткие мазки, которым суждено было стать характерным приемом художника, действительно напоминают переплетение нитей на изнанке тканого полотна. Это работа ремесленника – как бы ни стремился Ван Гог причислить себя к пролетариям. Доктор в Амстердаме, глядя на руки Винсента, предположил, что перед ним кузнец, – догадка вызвала у художника приступ детского восторга. Темами его картин становятся до агрессивности безыскусные вещи: трубки, шляпы, столы.
В 1885 году череда семейных неурядиц выбивает Винсента из колеи – как это бывало всегда. В марте умирает Теодорус Ван Гог. Мучимый чувством вины за все прежние размолвки с отцом, вместо надгробной речи художник пишет раскрытую Библию. Преемник нюэненского пастора настоял, чтобы старший сын предшественника не смел появляться в родительском доме и в деревне. По мнению сестры Анны, присутствие Винсента приносило их матери ужасные страдания. Не обошлось и без очередного скандала: Винсент затеял интригу с тридцатидевятилетней соседкой семейства Ван Гог Марго Бегеманн. Впервые его страсть, как казалось, не была безответной, – возможно, именно поэтому Ван Гог из уважения к семейному благочестию разорвал отношения. Марго в попытке самоубийства приняла яд.
Оказавшись в эмоциональном тупике, Винсент пишет «Череп с зажженной сигаретой» и делает то же, что всегда делал в таких случаях, – отправляется в путь. На этот раз целью путешествия стал Антверпен, где Ван Гог снял дешевую комнату и потратил полученные от Тео дополнительные деньги на сомнительной полезности уроки в Академии художеств. Как бы то ни было, бельгийский портовый город подарил Винсенту два важнейших открытия: Рубенса и японские гравюры – и то и другое было наполнено цветом. Известная история о том, как Париж превратил голландскую лягушку в принца импрессионизма, не во всем противоречит действительности, но правды в ней мало. Еще в Голландии Ван Гог думал о том, как сделать свою живопись более светлой и динамичной, и знакомство с великолепной пышностью картин Рубенса лишь способствовало процессу. Хотя, по собственному признанию Винсента, «слышать цвет» тогда он еще не научился. Чтобы как следует освоить науку «слышать цвет», надо было ехать в Париж – мысль об этом посещала художника все чаще. Но на самом деле больше всего ему хотелось жить рядом с Тео, в художественной коммуне на двоих. Арт-дилер и художник, торговец и работник – идеал гармоничного сосуществования. В Париже Винсент смог бы спасти Тео от «холодной респектабельности», делавшей его равнодушным к живописи брата и всему по-настоящему важному.
V
Ван Гог прибыл в Париж как раз в тот момент, когда импрессионисты устроили свою последнюю значительную выставку, так что великолепие их прославленных работ просто не могло оставить художника равнодушным. Среди прочих он познакомился с Люсьеном Писсарро (сыном Камиля Писсарро) и пуантилистом Полем Синьяком. Какое-то время Винсент делал то, что должен был делать, – писал этюды на берегу реки в Аньере, освященном пейзажами импрессионистов. Главное, ухватить свет, поэтому все аньерские пейзажи пестрят мелкими штрихами, точками и пятнами тени: понедельник – день Писсарро. Увлек впечатлительного новичка и пуантилизм – приверженцы этого направления наносили на холст свои точки чистых цветов в строгом соответствии с научным методом, согласно которому с задачей смешивания цветов должен был справиться глаз зрителя. Так что вторник оказался днем Сёра. Все эти тщательно просчитанные манипуляции, однако, конфликтовали со склонностью Ван Гога к неукротимым движениям кисти и непосредственной трансляцией на полотно артистического импульса. И в том, что знакомство с парижским искусством так и не переросло из увлечения в настоящую любовь, нет ничего удивительного. Импрессионисты щедро сдабривали человеческое существование ароматной приправой солнечного света. Искусство же Ван Гога всегда будет наполнено силой, запахом, правдой реального мира – как и его собственная жизнь. В конечном итоге сама мысль о том, что живопись сводится к одной лишь игре света, утонченным сочетаниям цвета и искусным построениям формы, была ему отвратительна.
Жаворонок над пшеничным полем. 1887. Холст, масло.
Музей Ван Гога в Амстердаме
Именно поэтому некоторые картины Ван Гога воспринимаются как попытка творчески переосмыслить и придать глубины импрессионизму. Если Моне писал свои маки на лугу с высокой точки, заливая все пространство светом, уроженец «нижних земель» почти припадает к земле, обозревая пшеничное поле с парящим над ним жаворонком с уровня полевой мыши. Высокая трава служит фоном, а маки с трудом пробиваются сквозь зелень над стерней, придавая композиции ощущение пасторальной клаустрофобии – словно мы сами только что едва увернулись от серпа. Отгороженный от нас стеной бурной растительности парящий полет одинокого жаворонка выходит за границы привычного клише сельской идиллии, обретая значение побега в эмпиреи. Кто еще, кроме Ван Гога, смог бы превратить поздравительную открытку в драму духа?
Художник изобрел собственный метод передачи сверкающего света, выдавливая краску, произведенную промышленным способом, прямо на холст. Золотое правило импрессионистов состояло в следующем: как бы ни писалась картина – паутинкой, как у Моне, или бусинками, нанизанными на нити, как у Сёра, – надо было достичь такого эффекта, будто цвет обнаруживает себя сам собой, в результате непроизвольного оптического спазма – в момент, когда зажмуриваешь глаза от солнца, а потом снова их открываешь; впоследствии Марсель Дюшан назовет это «содроганием сетчатки». Ни в коем случае нельзя было оставлять следы черновой работы художника – того, как он шлепал краску на холст, растирал ее по поверхности, соскабливал мастихином.
Портрет папаши Танги. 1887. Холст, масло.
Коллекция Ставроса Ниархоса, Париж
Женщина (Августина Сегатори) в кафе «Тамбурин». 1887. Холст, масло.
Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды
Но Винсент с его тягой к дружеской теплоте не мог делать вид, что его рука не касалась полотна. Самобытный стиль Ван Гога – характерные штрихи, короткие, резкие мазки – отличался крайней индивидуальностью, агрессивностью и прямолинейностью. Каждый мазок был посланием; у зрителя должно было возникать ощущение, будто художник отошел от холста лишь секунду назад. Ощущение близости, ощущение, будто стоишь рядом с художником, пока он работает, составляло для Винсента главную ценность. Так он налаживал контакт со смотрящими на его полотна. И даже когда Ван Гог купает нас в прелести и изяществе, как в своих парижских работах, следы его кисти намеренно грубы – свиная щетина оставляет на холсте жирные мазки, картина ворчит и покрывается потом, становясь автобиографией и исповедью, заставляя нас отойти с дороги.
Подсолнухи. 1887. Холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Портрет папаши Танги (с. 340) – исчерпывающее свидетельство того, как много было у этих двух людей точек соприкосновения в личном, профессиональном и даже политическом смысле. Танги поставлял Ван Гогу краски и прочие материалы – он, как и герои «Едоков картофеля», состоит из того, чем занимается. Перед нами ходячий магазин художественных принадлежностей. Танги и Ван Гог разделяли пристрастие к японской ксилографии, поэтому фоном для портрета логичным образом послужили гравюры из личной коллекции Винсента; хозяин магазина застыл перед ними в позе Будды с парижских бульваров. При этом Жюльен Танги в молодости активно участвовал в политике, был социалистом, воплощением тех же политических взглядов, которых придерживался сам Ван Гог и от которых получал выгоду, имея возможность покупать у Танги краски в кредит на льготных условиях. Внимание зрителя привлекают исчерченные узловатыми венами руки маршана и крестьянская шляпа, более всего подходящая для работы в поле.
Ван Гог остро нуждался в любой помощи со стороны Танги, ведь работы по-прежнему не продавались. Теперь, когда по заданию брата его палитра стала ярче, Винсенту казалось, что Тео не прикладывает достаточно усилий для демонстрации и продажи его картин, и художник взял дело в свои руки. Он организовал несколько выставок гравюр из своей коллекции в ресторане «Дю Шале» и кафе «Тамбурин», хозяйкой которого была Августина Сегатори (с. 341), – с ней Винсента связывали близкие отношения.
Пара башмаков. 1887. Холст, масло.
Музей изобразительных искусств, Балтимор
На одной из выставок рядом с японскими гравюрами Винсент повесил две необычные картины – на обеих были запечатлены нарочито будничные предметы: пара башмаков, подбитых сапожными гвоздями, и срезанные подсолнухи. Правда, никто из тех, кто видел эти полотна, ни за что не спутал бы их с очаровательными камерными натюрмортами – изображениями «мертвой природы». На картинах Ван Гога эта природа была очень даже живой. Башмаки были символическим автопортретом странника, по-прежнему в одиночку бредущего по долгой дороге между землей и небом, – только теперь, отказавшись от традиционной религии, Винсент искал рай не в небесах, а на земле, где он был так необходим. Что же до срезанных подсолнухов, то они не имели ничего общего с декоративными и сдержанными цветочными композициями. Эти цветы были мало похожи на растения и больше напоминали инопланетных пришельцев, чей летательный аппарат с горящей звезды совершил вынужденную посадку на Земле. Выложенные перед зрителем массивные подсолнухи таили в себе неизведанное могущество, их крупные черные семена лопались от избытка жизненной силы. Вместе эти две картины свидетельствовали об упорстве, с которым художник готов был идти в поисках света и вдохновения. Подсолнух по-французски называется tournesol – «поворачивающийся за солнцем»; для северянина Ван Гога солнце как источник жизни, как сила дикой природы постепенно вытеснило христианского Бога, а значит, палящее золото неизбежно должно было увлечь Винсента за собой.
VI
В феврале 1888 года, в разгар зимы, Винсент сел в поезд, отправлявшийся в Прованс. Поступок неожиданный – даже по меркам привычного Ван Гогу кочевого образа жизни. Художник два года прожил с Тео, и последний верил, что карьера старшего брата вот-вот пойдет вверх. Если интерес к работам Винсента проявили коллеги-художники, могли прийти и покупатели. Но даже готовность Тео помочь брату имела свои границы. Невротические перепады настроения и поведения – от надоедливого стремления постоянно благодарить до параноидальной подозрительности – могли показаться Тео невыносимыми, как это бывало со всеми, кто сближался с Винсентом. Кроме того, младший Ван Гог собирался жениться на очаровательной голландской девушке с ямочками на щеках – Йоханне Бонгер – и завести собственную семью. Братьям неизбежно пришлось бы подстраиваться друг под друга.
Скорый на гнев Винсент воспринял грядущую женитьбу брата как личное оскорбление. Но из зябкого сырого Парижа надо было уезжать – Ван Гога мучил кашель, болезни пригибали его к земле, а сознание часто туманили пары абсента. Он бежал не только от дурной погоды. Некоторых импрессионистов – бывших бунтарей – начинали обхаживать модные галереи, и теперь, чтобы казаться значительней, эти художники принялись скандалить между собой, отзываясь о Ван Гоге как о немытом чудаке, для которого натурщицы отказывались позировать даже за деньги, сумасброде на грани безумия. Винсент, со своей стороны, попал под очарование еще одного диковинного персонажа – очередной «игрушки» импрессионистов, возмутителя спокойствия, бывшего биржевого брокера, моряка и продавца холстов Поля Гогена.
Гогена терпели как любителя, разрешая ему находиться на периферии кружка избранных, которых он развлекал в качестве прирученного дикаря, наделенного способностью изготавливать затейливые экзотические деревянные короба и керамику в стиле клуазонизма. Чем больше Гоген нападал на буржуазию, тем развязней становился в его присутствии куда более застенчивый Винсент. Поль с энтузиазмом рассказывал об эзотерических тропиках, что для японофила Ван Гога характеризовало коллегу как истинного бунтаря и поэта. Винсент заслушивался историями о пребывании на Мартинике, где Гоген подхватил малярию и еще много других болезней. Купаясь в столь непривычном для него восхищении, Гоген отдал Ван Гогу одну из своих картин с темнокожими туземками. Для Винсента это означало, что они с Полем теперь связаны кровными узами, и в ответ он послал Гогену две работы, которые считал своей визитной карточкой, – стоптанные башмаки и подсолнухи, два символа странствий и тайн живого организма. Изображенные крупнее, чем в натуральную величину, они теперь возвещали о появлении выдающегося союза двух художников – Винсента и Поля.
Оба ненавидели парижское художественное сообщество – мир больших бульваров с их торговцами и критиками, тщеславием и злословием. Оба стремились туда, где нравы не были бы столь развращены, где товарищеская симпатия позволяла бы делиться опытом и жить в складчину на доходы от продажи работ. Проблема заключалась в том, что Гоген и Ван Гог по-разному понимали, куда именно надо ехать. Гоген отправился на запад, в бретонский Понт-Авен, забрав с собой Эмиля Бернара, ближайшего из друзей Винсента. Ван Гог же поспешил на юг: восхищенный насыщенными цветами Адольфа Монтичелли (Монтичелли умер в 1886 году, но Тео успел купить у него несколько работ), он хотел обрести то, что наполняло полотна марсельского художника таким сиянием. Страстный книгоман, Винсент начитался Джона Рёскина, который призывал создавать художественные коммуны творческого труда. Как и прежде, еще одним источником вдохновения послужила Япония – на этот раз в качестве образца для подражания Ван Гог выбрал буддийских монахов. На юге он планировал основать братство бескорыстных подвижников – эдакий дзен с заправкой из оливкового масла.
Когда же Винсент сошел с поезда и обнаружил, что Арль занесен снегом, это его обескуражило. Однако присутствия духа он не потерял, снял комнату в дешевой привокзальной гостинице и увидел то, что обещало ему неизбежность весеннего пробуждения, – заснеженное персиковое дерево, ветви которого были покрыты цветами. Ван Гог рисовал и писал это дерево, мечтая о садах, где на деревьях, несмотря на мороз, набухали почки. Наступил апрель с его оттепелями, и мечты стали реальностью: перед взглядом художника развернулось буйство цветущих деревьев – миндальных, абрикосовых, сливовых, – и он принялся переносить на холсты нежный танец бледных лепестков. Это был гимн возрождению. Вместе с солнцем вернулась и мечта о создании небольшой художественной коммуны на юге. Ван Гог снял двухэтажный домик на площади Ламартин и перекрасил его в ярко-желтый цвет. Денег на обстановку у Винсента не было, и он оставил его пока стоять пустым, а сам переехал в комнаты над привокзальным кафе. Но вера художника в Мастерскую на юге, центром которой должен был стать Желтый дом, была непоколебима. Первым делом Ван Гог написал Бернару в Бретань – тот не ответил. Но на самом деле Винсент хотел заполучить Гогена.
Гоген и Ван Гог не подходили друг другу во всех возможных смыслах. Различия не ограничивались несхожими темпераментами: светский циник Гоген намеренно вел себя заносчиво и развязно, составляя полную противоположность гиперэмоциональному, болезненно искреннему Ван Гогу. Расходились художники и в своем понимании философии искусства. Для мистика Гогена цель искусства состояла в том, чтобы оторваться от земной реальности и посредством сочетаний чистых цветов парить свободно, погружая смотрящего в блаженное состояние и даруя ему альтернативное сознание. «Используй свое воображение, – убеждал он Винсента, – пиши по памяти, не фиксируй то, что видишь прямо перед собой». Искусство должно уносить творца от того, что его окружает (кто вообще может захотеть остаться здесь?), перемещать его в тропики сознания в подобии наркотического дурмана. Гоген первым из художников стал активно пользоваться словом «абстракция». Именно в этом направлении, по его мнению, должно было развиваться искусство – в сторону чистых ощущений. «Зачем потеть над картиной, если можно увидеть ее во сне», – заявил он однажды с убийственной прямотой.
Сеятель на закате солнца. 1888. Холст, масло.
Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло
Ван Гог, напротив, считал невозможным обрести радость, не пролив пот. Живопись для него была не полетом одурманенного воображения художника, развалившегося в гамаке, но работой до кровавых мозолей, пока глаза не лопнут. Когда на город налетел обжигающий мистраль, Винсент, как гладиатор на арене, встретил его как соперника: преодолевая яростные порывы ветра, он привязал мольберт веревками к металлическим палкам и загнал опоры в твердую почву. Его искусство было земным – или ничем; оно корнями уходило в материю природного мира, а не стремилось от него оторваться. Если у Гогена цвета были плоскими, нарочито двухмерными и нереальными, краски Винсента поражали насыщенностью и грубой текстурой, похожей на ткань или растительные волокна. Гогена надо вдохнуть – и дать этим парам свободно циркулировать в сознании. Неплохо, правда? У Ван Гога перевариваешь мясистое жаркое из цвета и ждешь, когда просочится сок.
Это не значит, что Ван Гогу были совершенно чужды мистические озарения. Просто сила тяжести у его живописи была в другом месте. Гогену хочется воспарить, а Ван Гог пытается притянуть небеса вниз, чтобы их было не отличить от земли. Ведь она – единственный рай, который у нас есть, как начинал думать Винсент. Художники предыдущих поколений – даже те, перед кем он глубоко преклонялся, такие как лиричный певец крестьянской жизни Франсуа Милле, – по мнению Ван Гога, ошибались, когда привязывали искусство к почве так плотно, что она начинала давить на него своей тяжестью. И если у Милле в «Сеятеле» (1850) фигура крестьянина, обутого в грубые башмаки, монументальна, его герой заключает с землей союз, то вангоговский «Сеятель на закате солнца» (с. 347) словно парит над сияющим ковром, уподобляясь Христу, шествующему по водам. Работу над этим сюжетом художник окрестил «упражнением в композиции», раз за разом перерабатывая его в попытке достичь совершенной монументальности. В одном из вариантов он сменил цвет одежды сеятеля с белого на лиловый, чтобы фигура еще больше растворилась в разноцветном свечении. Перед нами сцена земного рая. Над полем, без всякого злого умысла, кружит пара ворон. Тяжелая нудная работа превращается в чудо плодородия под лучами божества-солнца, излучающего мощнейшее сияние; как отмечает Сильвермен, это акт священного совокупления – крестьянин оплодотворяет целый мир.
Свои картины, когда они были закончены, Ван Гог называл словом jouissance – по-французски «оргазм». Живопись была для него сродни эякуляции – выбросу эмоциональной энергии на холст. «Удовольствие, которое дарит нам прекрасная вещь, – писал он, – подобно обладанию женщиной, и есть миг бесконечности». Однако, сравнивая это состояние с оргазмом, Винсент имел в виду и некое подобие «ослепления», когда в момент полного экстаза все чувства отказывают и сознание оказывается одновременно парализованным и заряженным энергией. В «Сеятеле на закате солнца» все извергается потоками: семена, лучи солнца, поток густой краски, стекающей с кисти художника.
Так и слышишь насмешливую ремарку Гогена: «Что ж, именно за этим я и хожу в публичные дома». Но это и было причиной, по которой Ван Гог решил воздержаться от подобных сомнительных наслаждений в Арле – или, по крайней мере, сократить свои посещения местных борделей до одного раза в две недели. При обмене портретами Ван Гог изобразил себя в виде буддийского монаха, коротко остриженного, погруженного в себя бонзы на медитативном серовато-зеленом фоне; Гоген же на посвященном Ван Гогу автопортрете противостоит зрителю, его лицо словно высечено из дерева, как бюст африканского или перуанского воина. На стене за его спиной карикатурный портрет общего друга обоих художников Эмиля Бернара, под которым Гоген по-приятельски приписал слово «отверженные».
Голова Ван Гога была полна южного солнца, работал он продуктивно – писал по три больших полотна в неделю, как минимум, и никаких трудностей в совместном с Гогеном предприятии не предвидел. А после того как Тео купил несколько картин Поля, Винсент подключил брата к компании по привлечению Гогена на юг. Увы, это была любовь без взаимности. Винсент был известен резкими переменами в настроении, и это беспокоило Поля, равно как и всех остальных. Тем не менее летом 1888 года Гоген начал прислушиваться к предложениям Тео. Художник был болен, страдал от безденежья, да и бретонские дожди ему надоели. Тео пообещал оплачивать жилье и пансион в Арле, а также, возможно, покрыть расходы на билеты и покупку красок и прочих материалов. Кроме всего прочего, Гоген решил попробовать превратить безумную утопическую идею Ван Гога в коммерческое предприятие и самому его возглавить. К этому моменту Поль успел потерять достаточно денег, чтобы разбираться в подобных вопросах. Однако ехать в Прованс он не торопился – согласился отправиться в Арль в августе, а прибыл только к концу октября.
Ван Гог тем временем суетился, словно жених, с волнением ожидающий встречи с невестой. На присланные братом деньги он купил две кровати из разных пород дерева, зеркало и двенадцать стульев – в почти маниакальной уверенности, что Желтый дом станет пристанищем для небольшой коммуны. На первом этаже располагались две мастерские, одна из них также выполняла функцию кухни. В «гостевой спальне» Винсент повесил большие картины с подсолнухами в вазах: яркие оттенки желтого покрывали холсты густым влажным слоем, как будто сама толщина красочного слоя могла придать мечте о Мастерской на юге большую осязаемость. «Мне хочется, чтобы у меня был настоящий дом художника, совсем простой и непритязательный, но оформленный в абсолютно неповторимом стиле вплоть до последнего стула». Речь шла не просто о новой обстановке, Ван Гог обустраивал новую жизнь, сообщество двоих.
Потребность быть частью некоего двойственного союза находила выход и в живописной манере. Со времен Антверпена, где художник приобщился к цвету, Ван Гога занимали оптические оппозиции, они же дополнительные цвета – фиолетовый и желтый, красный и зеленый, – и то, как они играют с восприятием. Для Ван Гога эта игра, естественно, не могла сводиться к эстетике. Он по-прежнему оставался странником в поисках рая на земле, но знал, что на этом пути можно заблудиться и попасть в ад. На одном из его арльских полотен разворачивается битва между двумя мирами: плодородной и бесплодной землей, способностью к воспроизведению и саморазрушением, дружбой и одиночеством. Кто еще мог соединить эти полюса, если не эпилептик, страдающий биполярным расстройством?
Ночное кафе в Арле (площадь Ламартин). 1888. Акварель.
Собрание Ханлосер, Берн
Самым суровым воплощением опустошенности и одиночества стала картина «Ночное кафе в Арле (площадь Ламартин)», место, где все кричало об отчуждении, «где можно сойти с ума или совершить преступление». Цвета наталкиваются друг на друга, словно пьяницы, ищущие, с кем бы подраться, «…посредством контрастов, сталкивая нежно-розовый с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленый и веронез с желто-зеленым и резким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу преисподней… изобразить демоническую мощь кабака-западни». Это совершенная противоположность мечтам Ван Гога об общественной солидарности и взаимовыручке. Здесь человек одинок и ощущает себя неудачником. Зловещий отсвет газовых ламп окрашивает стены в цвет крови. За столами – сгорбленные фигуры пьяных завсегдатаев. Один из них держится за голову, словно его уже мучит похмелье. Даже стулья расставлены как попало, сообщая, что люди здесь проводят время каждый сам по себе и не собираются вечерами для дружеской беседы. На официанте пиджак желтушного цвета, усы и волосы у него зеленые. На бильярдном столе лежит кий – его натертый мелом кончик как сигнал болезни, поразившей общество, мрачная насмешка над процветающим в нем распутством.
Противоположностью ночному кафе и его обитателям служил дом с его уютом и теплом кухонного очага – французская версия голландского gezelligheid. В Арле воплощением счастливого семейства для Винсента стали Рулены. Жозеф Рулен, соль земли, патриот и убежденный республиканец, был всего лишь почтальоном, но созданная Ван Гогом симфония основных цветов и прямой взгляд на зрителя (с. 352) говорят о благородстве и честности этого человека; из простого государственного служащего он превращается в столп общества; почтовая форма сидит на нем не хуже адмиральского мундира, словно он только что вернулся из Тулона. Роскошные усы Рулена – недвусмысленный намек на мужскую силу их хозяина, и эта сила стоит на службе родины, ведь Рулены производят потомство для Франции. Мадам Августина Рулен («Колыбельная») на своем портрете тоже служит воплощением граждански осознанного материнства – женщина с пышной грудью качает одной рукой колыбель.
Винсент не мог насмотреться на Руленов: он написал портрет школьника Камиля и шестнадцатилетнего красавчика Армана в момент превращения из невинного ребенка в бесшабашного ухаря. На последнем портрете фон голубовато-зеленый – намек на прямолинейность и честность подростка. Броская желтая куртка с кантом дополнительного к нему синего цвета, черный жилет, белый шарф вокруг шеи и надетая набекрень шляпа придают юноше вид арльского уличного прощелыги, но развязность облика смягчает полоска едва наметившихся усов. Это картина, созданная истинным «родителем», художником, который (подобно Тёрнеру) считал картины своими детьми, создавая их с очевидной нежностью. Чем проще были люди, тем благороднее становились они в глазах Ван Гога. «Мне хотелось бы писать мужчин или женщин, придавая им что-то от вечности, которую некогда символизировал нимб, вечности, которую теперь мы находим в самом сиянии колорита».
Получается, Ван Гог пытался приблизить небеса к земле не только посредством своих пейзажей. Доброжелательные портреты членов семьи Рулен, его «Зуав» (1888) превратили обычных людей в богов и героев, и Арль, благодаря художнику, действительно кажется Элизиумом, «елисейскими полями» – именно так переводится название знаменитого городского променада Аликан. Ван Гог увлекся идеями Толстого (с которым, как это ни странно, его так многое роднило) о неотвратимости появления религии нового типа и скором пришествии чего-то «совершенно нового, безымянного, но такого, что будет, как когда-то христианство, утешать людей и делать их жизнь чуть легче». Грядущая революция в искусстве должна была отодвинуть политические революции на второй план.
Портрет Жозефа Рулена. 1889. Холст, масло.
Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло
Портрет Армана Рулена. 1889. Холст, масло.
Музей Фолькванг, Эссен
Колыбельная (Портрет Августины Рулен). 1889. Холст, масло.
Музей изящных искусств, Бостон
Теплой сентябрьской ночью Винсент отправился на берег Роны и испытал там момент Озарения. На картине «Звездная ночь над Роной» небо усеяно звездами, а газовые городские фонари светят с волшебной нежностью, отражаясь в воде. Свое ночное откровение художник превращает в доказательство того, что ему и так уже давным-давно известно, демонстрируя отсутствие границы между земным и небесным мирами. Арль сведен к тонкой полоске, едва отделяющей реку, чьи волны с плеском набегают на берег, от звездного неба. Пара средних лет стоит, держась за руки, и дружно смотрит вверх, на небеса; они, словно сеятель, шествуя по водам и ласково касаясь друг друга на пороге бесконечности, приглашают нас присоединиться к созерцанию чуда. Эти двое и небо над ними подводят Ван Гога к поразительному осознанию: мы должны увидеть, что эти люди чувствуют. То, что предстает нашему взгляду, – это их восторг, зафиксированный не в виде прозаичной заготовки типовой характеристики персонажей, но во всем непередаваемом и неизмеримом великолепии чувственного опьянения. Винсент наконец сумел перенести на холст «полноту сердца» (о стремлении достичь этого он так часто говорил). Оставалось совладать и с шумом в голове.
VII
Винсент уже начал думать, что Гоген не приедет, но тот таки прибыл в Арль, и его приезд положил конец бесконечному лету, полному восторженных видений. Город Полю не понравился – «все такое маленькое и злобное», – к тому же он имел привычку сначала обустроиться, проверить все кафе и публичные дома, а уж потом приступать к работе. Но Ван Гог дал Гогену ровно один день передышки и немедленно поспешил объявить о начале первой совместной «кампании». Разглядывая свою тесную комнатушку в убогом Желтом доме – пройти к себе он мог только через спальню Винсента, – Гоген ощутил неожиданный приступ клаустрофобии. Поначалу чувство, что их совместное существование оказалось ошибкой, сглаживалось тем, что Ван Гог относился к гостю с трепетным почтением, обращался с ним как с мэтром, от которого ждет совета (картина, работая над которой Ван Гог очевиднее всего руководствовался принципами Гогена, «Воспоминания о саде в Эттене» 1888 года – одна из наименее декоративных работ Винсента).
Винсент и Поль принялись вместе посещать кафе и танцзалы, бродить по полям и паркам. Поначалу идея дружеской конкуренции казалась Гогену забавной и даже стимулирующей в творческом смысле. Однако, как считает Дебора Сильвермен, результаты совместной работы неизменно указывали на непреодолимые творческие разногласия. У Винсента сюжет со сбором винограда превратился в сгусток лихорадочной энергии – по холсту рассыпаны маленькие суетливые фигурки, они нагибаются, поднимают корзины, тянутся за гроздьями и срывают их под лучами великого божества-солнца; кисть художника пребывает в беспокойном движении. Гоген интерпретирует этот же вид крестьянского труда в своей картине «На жаре» (1888), пронизанной ощущением полуденной дремоты. Здесь всего две фигуры, и одна из них – свинья. В центре – полуобнаженная женщина, она стоит спиной, руки по локоть испачканы виноградным соком. Женщина наклонилась вперед, обнажая тяжелые груди, словно призывая дотронуться до себя, как до животного, что и делает Гоген при помощи своей вальяжной кисти. Текстура обоих полотен вызывает ассоциации с тканью, но если у Винсента это беспорядочное переплетение цветной пряжи из его бесценной коробки, то картина Гогена, хоть и написана на грубом джутовом полотне, кажется одновременно шелковистой и бархатной, точно сотканной из снов.
Звездная ночь над Роной. 1888. Холст, масло.
Музей д’Орсе, Париж
К концу ноября Ван Гог, также на простом грубом джуте, написал два «портрета» стульев – своего и гогеновского. Это был еще один дружеский жест, попытка закрепить товарищеские отношения, даже притом, что Винсент видел, насколько разные они с Полем: в изображении кресла Гогена есть что-то ночное – газовый светильник и горящая свеча, вычурные изгибы ножек и подлокотников, раскрытые книги, как и полагается титану мысли, каким Винсент видел своего коллегу. Собственный стул Ван Гога утренний – солнце греет плетеное сиденье из соломы, где хозяина поджидает трубка и горсть табака. В контексте того, что происходило на тот момент в Желтом доме, не считать посыл Винсента невозможно – одна из этих двух картин могла быть написана в уединении после ссоры. Изображая «Стул Гогена» (1888), художник отдает предпочтение оттенкам красного и зеленого, провоцируя резкое столкновение дополнительных цветов.
Время шло, погода за окном и отношения в доме становились все более прохладными. Безжалостная серьезность Ван Гога вконец измотала Гогена, а маниакальный темп работы Винсента (по картине в день, как минимум) словно укорял гостя за выверенную размеренность его графика. Гоген уже не знал, что вызывает у него большую ненависть – льстивая преданность товарища или пугающие вспышки ярости, предвестники эпилепсии. К тому же Поль начал чувствовать то, о чем бы никогда не подумал в связи с Ван Гогом, – зависть. В какой-то мере избавиться от этой ревности (при всем скептическом отношении к очередной серии сияющих подсолнухов) Гогену удалось, когда он изобразил Ван Гога в образе художника, пишущего подсолнухи, – лицо его гротескно, тело неуклюже расплылось на стуле, как будто болезнь уже окончательно лишила его рассудка. Подсолнухи в версии Гогена, естественно, выглядят жалкими и увядшими. «Да, это я, – сказал Винсент Полю, взглянув на портрет, – но совершенно безумный». На самом деле, Ван Гог страдал от приступов эпилепсии и маниакальной депрессии – оба заболевания он унаследовал от родственников. Резкие спады настроения явно усугубляли и безрадостные новости от Тео – картины Винсента по-прежнему не имели успеха у покупателей. Абсент, как будто помогавший Ван Гогу снимать стресс, только усиливал мучения.
К середине декабря, не прожив в Арле и двух месяцев, Гоген понял, что пора бежать, по возможности не доводя Винсента до крайности. Но Ван Гог абсолютно точно знал, что произошло. «Думаю, Гоген немного разочаровался во мне», – написал он Тео и вновь ударился в болезненную самокритику. Каждая попытка обустроить собственное гнездо – с проституткой Син, с Тео в Париже, а теперь с Гогеном – непременно оканчивалась неудачей, так кого, кроме себя, следовало в этом винить? Винсент начинал ненавидеть неверного товарища за нежелание пробыть в Арле достаточно долго, чтобы подарить шанс на осуществление задуманному им грандиозному эксперименту дружеского сосуществования двоих коллег. В один из вечеров в припадке сожаления и ярости он метнул в Гогена стакан с абсентом.
Неделю спустя, перед самым Рождеством, художники сумели кое-как помириться – настолько, чтобы вместе съездить в Монпелье и посмотреть художественное собрание, открытое для посетителей всего несколько дней в году. Винсент и Поль много спорили об искусстве, а затем чувствовали себя, по признанию Ван Гога, «опустошенными, как разряженная электрическая батарея». Поездка же в Монпелье стала причиной по-настоящему серьезной ссоры, и камнем преткновения в атмосфере нарастающей вражды стал Делакруа. Винсент готов был пасть ниц перед произведениями французского романтика, Гогену же вся эта театральность и сантименты казались недостойными внимания, и он с расчетливой жестокостью сообщал Ван Гогу, что эти полотна оставили его совершенно равнодушным. Умелый фехтовальщик Гоген привез свои рапиры с собой в Арль, словно в любой момент был готов встать в стойку «к бою».
Еще через неделю, 23 декабря, Ван Гог вложил Гогену в руку обрывок газетной статьи об убийстве, совершенном при помощи ножа. Заголовок статьи гласил: «Убийца скрылся». В разъяснениях Поль не нуждался. Это он убил идею Мастерской на юге. В тот же вечер Гоген решил не возвращаться в Желтый дом и провел ночь в гостинице. Вернувшись утром домой, он обнаружил у дверей нескольких жандармов, а внутри дома пятна крови. Поля задержали в качестве подозреваемого, но вскоре все выяснилось: около полуночи Ван Гог заявился в один из арльских борделей, где был завсегдатаем, и передал проститутке по имени Рашель небольшой пакет. Внутри был большой кусок мочки уха. Девушка упала в обморок. (По прошествии нескольких месяцев, когда Ван Гогу разрешили выйти в город в сопровождении больничного санитара, Винсент, практически ничего не помнивший о происшедшем, решил нанести визит в бордель и попросить прощения за жуткий пакет. Видавшие виды работницы заведения успокоили его, сказали, что волноваться не стоит, ведь им по роду работы приходилось видать и не такое.)
Винсента с сильным кровотечением отправили в местную больницу, где один из ведущих врачей поставил ему диагноз «острый психоз на фоне бреда». Гоген вызвал из Парижа Тео, тот через несколько дней приехал, удостоверился, что брат в надежных руках, и отбыл в тот же день вечерним поездом. Тем же поездом уехал и Гоген – он не виделся с Винсентом со дня их последней стычки и не увидит его больше никогда. По истечении десяти дней после истории с ухом Ван Гога выпустили, и Винсент вернулся в Желтый дом, где какое-то время работал, пока из-за припадков опять не оказался в больнице. Когда же он вернулся снова в сопровождении своего друга почтальона Жозефа Рулена, то нашел дом опечатанным и под охраной полиции. Тридцать соседей подали мэру Арля петицию с просьбой выселить художника, как человека, чье психическое состояние угрожает окружающим людям. К сожалению, Ван Гог был вынужден в чем-то с ними согласиться. Мастерской на юге пришел конец.
VIII
Но это, естественно, не означало, что пришел конец и творчеству: лучшие свои работы Ван Гог создаст в ближайшие полтора года – именно столько ему еще оставалось прожить. Тут же возникает вопрос, бесконечно обсуждаемый в академической литературе, в романах и фильмах: было ли помешательство Винсента одновременно и условием его невероятной творческой оригинальности? В случае с Ван Гогом это, конечно, распространенное представление о страдающем гении, способном воспарить до высот «Звездной ночи», погрузившись в глубины сознания, чье безумие наделяет его зрением, недоступным простому, нормальному смертному. Первым фантазию о сумасшедшем провидце озвучил Орье; когда Тео с восторгом переслал статью критика брату, Винсент отреагировал с негодованием (пусть и немного по-детски): «Нет нужды объяснять тебе, что, по моему глубокому убеждению, описание в статье мало соответствует тому, как я работаю на самом деле».
И в арльской больнице, и позднее, в лечебнице Сен-Реми, куда он добровольно сдался в мае 1888 года, бывали моменты, когда Винсент был даже не вполне уверен, что является сумасшедшим, разве что в той степени, в какой можно назвать сумасшедшим эпилептика. Однако склонность к маниакальной депрессии прослеживалась у многих членов семьи, и довольно скоро Ван Гог смирился с неизбежностью периодических «приступов», которые, как он писал Тео, были делом «нешуточным». Но ни письма, отправленные им весной 1889 года, ни картины и рисунки не отмечены печатью помешательства.
Коридор в лечебнице Сен-Поль в Сен-Реми. 1889. Акварель.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Жизнь рядом с больными, по его признанию, отвлекала художника от собственного состояния и пугающей непредсказуемости припадков.
«Есть и такие, кто постоянно вопит и обычно пребывает в невменяемом состоянии, в то же время здесь есть место настоящей дружбе… Все мы тут отлично понимаем друг друга». В перерывах между приступами Ван Гог, судя по всему, обретал силу и ясность мысли. Так что феноменальное количество работ, выполненных им в больницах – сначала в Арле и особенно в Сен-Реми, – с их искаженными, разбухающими формами и извивами, закручивающимися в спираль звездами, камнями, застывающими в виде затейливых арабесок, вихрями мазков, колышущих кроны кипарисов, вряд ли можно счесть свидетельством ухода в безумие. На этих пейзажах действительно запечатлены битвы, происходившие в сознании художника. Но перед нами действительно сражение, а не отчаянное бегство, когда отступающий в бессилии хлещет кистью по холсту. Искусство Винсента – это искусство нападения, как ничто другое способное защитить осажденную крепость его самообладания. И у него получалось. «Страх перед жизнью ослабел», – писал он Тео и с каждой новой невероятной картиной чувствовал себя еще более энергичным, адекватным, а вовсе не изможденным и потерянным. Именно поэтому Поль Синьяк, приехавший навестить друга, мог сообщить Тео, что нашел Винсента в отличной форме – физической и психической.
Автопортрет. 1889. Холст, масло.
Музей д’Орсе, Париж
Это, вероятно, было все-таки преувеличением, равно как и то, что писал Ван Гог о последнем из тридцати восьми автопортретов (и явно величайшем из всех), называя его свидетельством своего спокойствия. Взгляд зрителя уносит в водоворот красочных извивов – они не только вихрем кружатся вокруг головы художника, словно предвестники мигрени, но и продолжаются на одежде, овивают брови и виски и торопятся дальше, по волнам приглаженных рыжих волос. Но Ван Гог не уходит беспомощно на дно этого водоворота. Лицо его выражает решимость, он подобен скале, о которую бьются бурлящие валы океана. И конечно, цвет (непередаваемый в репродукциях) – выбранный художником для своей «живописи действия» стальной серовато-голубой оттенок делает этот бешеный натиск не более, а скорее менее устрашающим. Цвет, наделенный воинственной силой, обрамляет подбородок, рыжую бороду и говорит о напряженной решимости бойца. Именно эта борьба между творчеством, дающим опору, и угрозой быть поглощенным волнами близящегося приступа окрашивает все шедевры, созданные в течение феноменально продуктивного последнего года жизни Ван Гога.
Кипарисы, пшеничные поля – все это уголки Прованса. Но так ли важно, какому уголку мира принадлежит пейзаж, если посредством его художник предлагает увидеть происходящее в его голове, а это отнюдь не место для беспечных прогулок под солнцем. Всякий, кто питает отвращение к исповедальным излияниям страдающего эго, кто верит, что главной темой искусства никогда не должен быть сам художник, вероятно, посчитает, что экспрессионизм, родоначальником которого считается Ван Гог, – худшее из всех направлений, которое могла избрать современная живопись. Однако миллионы и миллионы людей решились пожать протянутую им горячую грубую руку и ощутили эмоциональную и психологическую связь с художником. Нас не отталкивает груз эмоций, напротив, человеческая открытость Ван Гога, его безусловная уверенность в сочувствии и интересе с нашей стороны трогают нас за душу.
Так что если вы решились не отворачиваться, вас неизбежно захватит вихрь вангоговских красок. Во время своего пребывания в Арле Гоген писал одному из друзей, что более всего его отдаляет от Ван Гога пристрастие голландца накладывать краску невозможно густыми мазками, тогда как сам Поль ненавидел «неопрятную живопись», предпочитая писать плоскостями гладкого цвета без текстуры именно потому, что это позволяло возвыситься над нелепой театральностью эмоций и достичь некоего вселенского единения с бестелесной кармой.
Кипарисы. 1889. Холст, масло.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Пшеничное поле со жнецом на закате солнца. 1889. Холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам
Это разрыв между стремлением выйти за пределы своего тела и желанием Винсента – то близким к агонии, то полным безумного счастья желанием – принять в себя окружающий мир – порой, увы, в буквальном смысле. У Ван Гога бывали приступы поедания нечистот, копрофагии, правда сам он о них не помнил. В разгар приступа, терзаемый маниакальным предчувствием, что краска его вот-вот поглотит, художник нанес ответный удар – прежде чем его успели остановить санитары, он начал поглощать краски, проглатывая тюбики желтого хрома, кобальта и кармина и запивая все это скипидаром.
Бывали в Сен-Реми и минуты затишья. Когда Ван Гог не занимался живописью, он, по обыкновению с жадностью, поглощал книги, прежде всего Шекспира. Великий бард приводил его в такое возбужденное состояние, что Винсенту приходилось отвлекаться на созерцание чего-нибудь простого – стебля травинки или цветка, – иначе Винсент не мог успокоиться. В работах этого периода можно иногда уловить нотки печали и увядания, словно их автор проводил слишком много времени за чтением «Гамлета», «Ричарда II» и, конечно, «Короля Лира». Винсента стали мучить мысли о неизбежности смерти. Четырьмя годами ранее он писал о своей картине с изображением церкви в Нюэнене, где служил его отец: «Мне хотелось выразить, как обыденны смерть и погребение – столь же обыденны, как осенний листопад». Теперь же Ван Гог написал одинокую фигуру – своего двойника, – словно призрак из другого мира, бредущую среди падающих листьев по парку близ Сен-Реми: одной ногой человек стоит на тропинке, другой – на траве. На его отдаленность намекают изогнутые стволы деревьев, заслоняющие героя картины от нашего взгляда: он и принадлежит нашему миру, и не вхож в него. Смерти Ван Гог боялся меньше, нежели безумия. Временами смерть казалась ему всего лишь растворением конечного «я» в безбрежном изобилии природы – моментом экстаза и элегической грусти одновременно. Потому-то следы света, похожие на хвосты комет, превращаются в астральные щупальца и кружатся среди раскаленных добела звезд перед взором того, кто на них смотрит, затягивая его в кобальтовую тьму на той стороне. Самое волнующее и мрачное воплощение этой идеи – фигура жнеца в картине «Пшеничные поля со жнецом» (с. 363): океан пшеницы под таким же золотым, как и сама пшеница, небом заживо поглощает крестьянина – земля и небеса вновь сливаются в единое целое.
Поле яровой пшеницы на восходе. 1889. Холст, масло.
Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло
Грозовые тучи над пшеничным полем. 1890. Холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам
На фоне чувства абсолютного погружения в природу – до такой степени, что художник был готов оказаться погребенным в ней заживо, – Винсента обуяла тоска по северу. В мае 1889 года, во время лечения в арльской больнице, потерянный для мира Ван Гог признавался Тео, что ясно видит перед собой ту маленькую вселенную, которую оставил не так давно: приземистые брабантские церквушки под дождем и еще раньше – заросшие тропинки в Грот-Зюндерте. Если уж судьбой ему так и не было суждено создать дом для художников на юге, о котором он так мечтал, возможно, пришло время по-настоящему отправиться домой. Ван Гог написал несколько прекрасных вариантов «Воспоминаний о севере» (последовав, ради исключения, указаниям Гогена). На одном из этих полотен женщины в брабантских чепцах выкапывают из грядок репу на фоне полуразрушенных лачуг с поросшими мхом крышами. Винсент планировал написать новые версии «Едоков картофеля» и «Старой церковной башни» – работ, созданных им в Нюэнене; он возобновил задушевную переписку с младшей сестрой Вил и написал по фотографии портрет матери, заменив кальвинистскую угрюмость в ее глазах материнским теплом.
С Тео, как всегда, дело обстояло сложнее: их связывала братская любовь, но смешанная с подозрением. Раньше Винсент винил брата за неспособность как следует представить его работы и тем более их продать. Теперь же, когда о них заговорили в Париже и Брюсселе, он вдруг начал странным образом беспокоиться, что Тео демонстрирует его картины слишком часто! Еще Винсент боялся, что женитьба на Йоханне и предстоящее рождение ребенка ослабят братскую связь и подставят под угрозу постоянные финансовые поступления от Тео, на которые всегда можно было рассчитывать. Искренняя радость за брата, устроившего наконец свою семейную жизнь, боролась с дурными предчувствиями и чем-то похожим на мрачную зависть, которая на самом деле могла спровоцировать очередную серию крайне тяжелых приступов в феврале 1890 года. Выйдя из этого состояния, Винсент прислушался наконец к идее Писсарро насчет переезда в деревеньку Овер-сюр-Уаз, где больного мог бы взять под свою опеку знаменитый доктор Поль Гаше, гравер и живописец, коллекционер, специалист по лечению меланхолии и сторонник гомеопатической медицины. 4 мая, категорически отказавшись от предложения Тео взять кого-то себе в сопровождающие, Винсент сообщил брату о намерении сначала посетить Париж – навестить Тео и Йоханну, а затем на несколько недель отправиться в Овер. Ван Гог был совершенно уверен, что на севере развитие болезни можно будет остановить, а то и повернуть вспять: «Мне нужен воздух».
IX
Скорее всего, Йоханна Ван Гог ожидала приезда свояка, как минимум, со смешанными чувствами. Но, увидев Винсента на пороге квартиры 17 мая, молодая женщина была приятно удивлена.
«Я ждала увидеть больного, изможденного человека, но передо мной стоял крепкий, широкоплечий цветущий мужчина, с улыбкой на лице и крайне решительным видом». На протяжении двух дней Винсент согревался теплом семейного гнезда, с радостью наблюдая за малышом, которого (несмотря на протесты художника) назвали именем дяди. Затем Ван Гог отправился в галереи и по знакомым, успел влюбиться – самым невероятным образом – в картины символиста Пюви де Шаванна и навестил папашу Танги (у него хранилось несколько картин Винсента). Однако парижская суета начала действовать ему на нервы, и, узнав, что его имя упоминают наряду с Сезанном и Тулуз-Лотреком, Винсент тут же забеспокоился, что его могут неверно понять и он окажется слишком на виду.
Овер представлялся художнику идеальным противоядием против чувства тревоги, которое он сам же в себе и пробудил. 21 мая Винсент поселился в апартаментах над кафе Раву в центре Овера. Настроение у него моментально улучшилось, он испытал невероятный прилив творческой энергии – с восхищением смотрел, как ветер нежно колышет колосья пшеницы в полях, наслаждался обществом Гаше (правда, обеды из пяти перемен в доме доктора его, скорее, утомляли). Тот факт, что доктор и сам страдал от меланхолии, от которой должен был лечить пациентов, настолько впечатлил Винсента, что он изобразил Гаше охваченным сплином. Художник явно ощущал некое родство с доктором. На портрете Гаше сидит, подперев голову рукой, волосы у него такого же цвета, что и у Ван Гога, он с такой же печалью и задумчивостью смотрит вдаль, и все вокруг него, включая цветы наперстянки, отливает оттенками синего. Вот это Ван Гог умел; это ему нравилось!
Однако не все было так просто. Винсент хоть и написал несколько потрясающих портретов, включая потрет дочери Гаше, Маргариты, – девушка сидит за пианино, а ее платье струится полосками цинковых белил, выдавленных прямо из тюбика и расплющенных на полотне, так что материя торжественно ниспадает под тяжестью собственного веса. Увы, дом Гаше оказался, как и другие дома, слишком мал, чтобы вместить в себя Винсента Ван Гога с его вечно пылающими страстями. Он сорвался раз-другой, потом перестал посещать обеды из пяти перемен. Частые отъезды Гаше в Париж художник вполне мог расценить как попытку побега.
Размолвка с Гаше не заставила Винсента сбавить обороты. Летнее солнце согревало долину реки Уаза, в полях зрела пшеница. Ван Гог начал работу над серией картин нового для него формата: на прямоугольных холстах пропорцией полметра на метр. Размеры «широкоформатных» полотен идеально подходили для привычных упражнений в живописании величественных пейзажей с глубокой перспективой, позволяя превращать природный ландшафт в торжественную панораму, раскрывающуюся перед зрителем словно через окно поезда. Если вывесить эти полотна в один ряд единой серией, фрагменты пейзажа можно представить в качестве опоясывающего декоративного элемента, нечто вроде монументальных композиций Пюви де Шаванна, которые привели Ван Гога в такой восторг. В реальности же эти продолговатые пейзажи не были похожи на плоскостные «псевдоренессансные фрески» Пюви с их нарочитым архаизмом и деликатной красочной поверхностью и уж тем более не имели ничего общего с популярными на художественном рынке видами из окна железнодорожного вагона. Ощущение подступающей со всех сторон природы Ван Гог доводит до иллюзии полного погружения: стоит ему повысить точку зрения – и легкие словно наполняются воздухом, стоит выбрать низкий ракурс – и начинает казаться, что растительность тебя вот-вот задушит.
Именно в этот момент в истории искусства акт смотрения перестает быть просто оптической манипуляцией. С полем зрения происходит что-то завораживающе странное – начало этому было положено в ту неделю в Сен-Реми, когда было написано «Поле яровой пшеницы на восходе» (с. 364). Эта картина в буквальном смысле слова демонстрирует границу между двумя различными подходами к изображению – традиционным и модернистским. За стеной восходит солнце (или заходит ярко-желтая луна). Небо цвета сливок, голубые горы, деревенские дома. Но затем плоскость картины, точно лопасть винта, прорезает невысокая ограда. Перед ней – на поверхности, напоминающей луг, усеянный маками, – стягиваются в воронку пространство и глубина. Зелень поднимается стеной, разбивая перспективу, взгляд зрителя не находит опоры и с головокружительной скоростью мечется по полотну.
Подлесок с двумя фигурами. 1890. Холст, масло.
Музей изобразительных искусств в Цинциннати, штат Огайо
Прошло около шести недель, и ситуация усугубилась – или же, напротив, улучшилась. Невозможно не затеряться в зарослях «Подлеска с двумя фигурами» (с. 368–369) – стволы деревьев уходят вдаль параллельными рядами, что кажется чуть ли не школьным упражнением в перспективе. Но внимательному зрителю становится очевидно: точки схода здесь просто нет. Тропинки, видимые сквозь диагональные ряды деревьев, множат линии перспективы, от которых начинает кружиться голова, и все они ведут в никуда или, максимум, на какую-нибудь темную, скрытую от глаз поляну в глубине леса. Как и в «Поле яровой пшеницы», законы жанра вывернуты здесь наизнанку: точка максимальной оптической концентрации расположена на первом, а не на дальнем плане и отмечена ближайшим к нам стволом дерева. В центре этого хаотичного и галлюциногенного видения в духе «Алисы в Стране чудес» стоят две фигуры, женская и мужская, возможно символизирующие желание художника избавиться от одиночества. На первый взгляд кажется, что они движутся в сторону зрителя, но очертания фигур настолько размыты, что эти двое с таким же успехом могут и удаляться от нас или вообще идти в противоположные стороны, расходясь на узкой дорожке. Эмоциональный посыл, равно как и перспектива, затерялся среди частокола стволов.
Эти композиции разрушают все известные законы пейзажа, но задуманы настолько искусно и выполнены так блестяще, что просто не могут быть продуктом сознания, находящегося в процессе распада. Куда более вероятным представляется обратное: последние работы Ван Гога и технически, и концептуально сложны до такой степени, что для их создания Винсенту понадобилось сосредоточить все оставшиеся силы – при всей его сумасшедшей скорости. Художник обозревает разворачивающийся перед ним вид либо сверху, словно паря высоко в воздухе, либо выбирает точку, которую сам называл sousbois – из подлеска, откуда не видно неба, проникая в самое сердце природы с таким напором, что человеческое зрение, как это часто бывает в лесу, теряет способность оценить окружающее пространство.
Корни и стволы деревьев. 1890. Холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам
«Корни и стволы деревьев» вполне можно рассматривать как очередной внутренний ландшафт беспокойного разума его создателя: сплетения ветвей, удушающие, непроходимые дебри, узловатые отростки, пучки волокон, когтеобразные формы, больше похожие на части скелета, чем на фрагменты растений (все это напоминает трогательные в своей суровости рисунки зимних деревьев в Нюэнене, сделанные за шесть лет до Овера). Это поразительное полотно – один из величайших (и менее других отмеченный) шедевров раннего модернизма – еще и очередной эксперимент по перенесению на холст энергии, которой обладают линия и цвет сами по себе, и по передаче безграничной природной мощи. Аллюзии на традиции европейского пейзажа и отказ от них почти теряются в замысловатых переплетениях «Корней» (как потерялись они в частоколе стволов «Подлеска»). Уменьшенные древовидные формы борются за свет и пространство среди монструозных корневых отростков, словно гулливеры в стране великанов-бробдингнегцев, – может, Винсент, с его интересом к Японии и практикам дзен захотел найти в стране пшеничных полей подобие крохотных деревьев бонсай? Это вид одновременно и глазами ястреба, и глазами кролика. Цвета – пшенично-золотой и глинисто-коричневый – обманывают взгляд, обещая оказаться полем или холмом, но затем погружают все в хаос. Привычные эстетические маркеры – красота и уродство – теряют свой смысл. В «Корнях» живописные формы бьются о стекло нашего зрения, словно испытывая его на прочность. В остальных картинах, написанных в последние недели жизни Ван Гога в Овере, бескрайние поля, увиденные изнутри, – зеленые или золотые стебли колышущейся под ветром пшеницы, – словно занавес, заполняют собой все поле зрения. Бесконечность растительной материи обволакивает нас, она не имеет ни начала, ни конца. Небеса и земля окончательно спрессованы вместе; океан творения поглощает зрителя заживо.
X
Эти картины взрывают сознание, – вероятно, именно это Винсент хотел сказать в своем последнем, так и не отправленном послании к Тео, где писал, что рискует тем немногим, что осталось от его рассудка. Тем не менее, какими бы агрессивными с точки зрения композиции они ни были, это не симптом умственного истощения и сползания в суицидальный бред, но, скорее, свидетельство творческой гонки в попытке успеть за собственным фантастическим новаторством. Неудивительно, что в этот последний период Ван Гогу не хватало времени на рисунки. Сложно остаться равнодушным, глядя на его последние картины, – и не потому, что они кажутся нам чем-то вроде прощальной песни, но из-за мучительного ощущения крайнего одиночества; всю жизнь Винсент более всего боялся именно этого чувства. В разгар своей живописной революции Ван Гог сделал небольшой набросок: одинокая фигура, сидящая в рыбацкой лодке, рука покоится на штурвале, направляя лодку в океан. Если вспомнить, какой была живопись того времени и какие задачи ставила она перед собой, становится ясно, что Ван Гог действительно был таким одиноким моряком. (Пройдет еще почти десять лет, пока Сезанн не учинит сходный бунт против природы живописной репрезентации.) Орье оказался прав. Винсент действительно стал «одиноким». И мысль об этом повергала художника в ужас. Более всего ему сейчас были нужны те, на кого он мог положиться: друзья-единомышленники, любящие родственники.
И эти люди один за другим покидали его. Мастерская на юге была уже невозможна, и Гоген (по чьей вине отчасти это и произошло) заговорил о Мастерской в тропиках, где-нибудь подальше от Европы. Хуже всего было то, что Тео, недовольный своим положением в Париже и вынуждаемый искать новые источники заработка для содержания семьи, начал подумывать о возвращении в Голландию, возможно в Лейден, где к тому времени осели мать и сестры. Ван Гог воспринял эту перспективу особенно болезненно, ведь брат с женой и сыном только что одарили его своим визитом. Винсент тогда дал волю родственным чувствам и настаивал на необходимости показать малышу-племяннику всех деревенских животных, которых удалось найти. Возможно, именно тогда Тео впервые намекнул на возможный сценарий развития событий, повергнув Винсента в отчаяние. 6 июля он выехал в Париж почти наверняка с намерением отговорить брата от подобного шага. Поездка не помогла, отношения между братьями накалились, и Ван Гог вернулся в Овер в подавленном состоянии и страхе потерять источник жизнеобеспечения. Временами он патетически предсказывал приближение будущих (вполне, впрочем, вероятных) приступов болезни. Временами винил себя в том, что его содержание тяжкая обуза для брата, который и сам не мог похвастаться богатырским здоровьем и чьей первоочередной задачей теперь была забота о собственной семье. Но даже более Ван Гога шокировали и пугали вести о растущей популярности его искусства – серьезный успех мог обязать Винсента взять на себя хотя бы часть семейных расходов. Вот почему перспектива возможного триумфа приводила Ван Гога в ужас. Именно поэтому, а вовсе не из-за затруднений в работе над пшеничными полями на его картинах стали сгущаться мрачные тучи.
XI
На этой картине хотя бы есть небо – глоток свежего воздуха после удушающих «Корней». Но насколько в действительности темны были тучи, сгустившиеся над «пшеничным полем с воронами» (с. 374–375), остается неясным: на фоне цвета глубокого кобальта узелки черных туч, на бурю в духе Тёрнера мало похоже. Вороны, кажется, летят по направлению к нам, но художник лишь намечает их схематичными мазками, так что они вполне могут и удаляться – как непонятно ориентированные фигуры в лесной чаще. Ясно одно: последовательное разрушение пейзажных условностей, начатое Ван Гогом в «Поле яровой пшеницы на восходе», достигло своего апогея. На самом деле, художник в своих последних пейзажах отходит от буквального радикализма «Корней» (в конце концов, radix в переводе с латыни и означает «корень»), где отсутствие сюжета и неясность изображенного мотива заставляют нас рассматривать картину как конструкцию из красок и форм, которая транслирует ощущение природной мощи, никак ее при этом не описывая.
На первый взгляд полотно «Вороны над пшеничным полем» кажется более простым, оно не так агрессивно разделывается с нашими визуальными ожиданиями. Через поле проходит тропинка, создавая иллюзию расстояния, однако, если приглядеться, выясняется, что перспектива, видимо, отправилась за очередной порцией абсента в кафе Раву, – она опять вывернута наизнанку. За неимением точки схода, тропинка оказывается дорогой в никуда. Никуда не ведут и дороги на первом плане: расходящиеся в противоположные стороны, они, точно крылья, застыли в широком взмахе. И что это за прогалины темно-зеленого цвета? Изгороди? Поросшие травой канавы? Все наши предположения о том, как следует считывать визуальные знаки, оказываются неверными. Как будто стрелка на дорожном знаке, указывающая направление «вперед», вдруг повелевает нам оторваться от земли и взмыть в небеса.
Вороны над пшеничным полем. 1890. Холст, масло.
Музей Ван Гога, Амстердам
Перед нами не приглашение в глубину пространства, но, скорее, преграда, занавес; оптически нас не увлекает вперед, но втягивает в сверкающую стену густо наложенной краски. Именно это ощущение, что ты заживо поглощен и природой, и красочным слоем одновременно, и было целью Винсента Ван Гога с того самого момента, как он впервые взял в руку кисть на берегу моря в Схевенингене и в темных влажных болотах Дренте. Художник годами пытался воплотить идею полного растворения в животворном водовороте природы – пьянящая сила этого чувства должна была изгнать из современной жизни одиночество. Идея эта близка поразительному откровению Толстого о том, что смысл жизни есть не больше и не меньше как ежедневное ее проживание, осознание потока будней и возвышение его до точки величайшей радости. Увы, для несчастного Винсента величайшая радость порой ничем не отличалась от величайшей боли.
XII
Дальнейшее отнюдь не было молчанием. Из последних писем Ван Гога становится очевидно: мысль о предательстве Тео и Йоханны, страх перед необходимостью самостоятельно пробивать себе дорогу теперь, когда к нему пришло признание, – притом что он по-прежнему был подвержен припадкам эпилепсии и приступам маниакально-депрессивного психоза – все это заставило Винсента взять с собой 27 июля не кисти, но пистолет. Застрелиться из огнестрельного оружия было, видимо, непросто, и если он целился в сердце, то попасть в него не сумел. Ван Гог, прихрамывая, побрел обратно, в кафе Раву. Мадам Раву не удивилась – художник частенько прихрамывал. И лишь когда ей показалось, что пора постучаться-таки к нему в комнату и поинтересоваться его самочувствием, и в ответ на это прозвучали тихие стоны, а затем робкое признание, мол, ушел в поле и выстрелил в себя, женщина поняла, что произошло. «Не волнуйтесь, – произнес Винсент, – ничего серьезного».
Вместо того чтобы доставить художника в ближайшую больницу, послали за местным врачом – доктором Гаше, гомеопатом, адептом исцеления силой «положительных эмоций», и это оказалось роковой ошибкой. Вечером того же дня Хиршиг – еще один голландский художник, живший в Овере, уже стучал в дверь квартиры Тео на Монмартре. Прибыв в пансион Раву, он нашел брата сидящим на постели с трубкой. Какое-то время братья сидели и тихо беседовали, Тео был еще полон оптимизма и думал, что рана заживет. Но у Винсента началось заражение крови, он впал в бессознательное состояние и спустя два дня умер. 30 июля скромная похоронная процессия дошла по жаре до развилки в поле – того места, где Винсент Ван Гог совершил переворот в живописи. На похороны прибыли папаша Танги и Люсьен Писсарро – друзья, которые понимали, что художник покончил с собой как раз в тот момент, когда вся его жизнь начинала меняться к лучшему.
Тео тоже верил, что время Винсента наконец пришло. Но произошло это слишком поздно для обоих братьев. За несколько месяцев после смерти Винсента физическое и психическое здоровье Тео окончательно пришло в упадок. Пока были силы, младший брат отчаянно пытался осуществить все, что не удалось Винсенту при жизни: устроил выставку его картин в своей парижской квартире и предпринял шаги по созданию того самого братского сообщества художников, о котором так мечтал старший Ван Гог. 12 января 1891 года Тео скончался в Утрехте – со смерти Винсента не прошло и полугода. В 1914 году останки Тео были перенесены на деревенское кладбище в Овере и похоронены рядом с могилой брата, где их надгробные плиты соединены теперь ковром из плюща.
И правильно, что они лежат там, подальше от какой бы то ни было церкви, отделенные от холмистых полей лишь невысокой каменной стеной. Ибо чувство близости к земле, которое дарит нам ослепительная и материальная живопись Ван Гога, ощущение земли под ногтями, аромата цветов, осязаемой на ощупь текстуры волос и кожи и есть то, что, по убеждению художника, должно нас трогать в его искусстве. В отличие от мистика и эстета Гогена Ван Гог не мог выйти за пределы тела. Напротив, его картины пытаются заставить нас острее почувствовать собственные тела, яснее осознать свое место в круговороте природы.
Наследие, которое Ван Гог, с его упрямой привязанностью к материальной реальности жизни, оставил модернизму, оказалось, думаю, замечательно ему полезным. Оно уберегло современное искусство от полного ухода в абстракцию и самоповторы. Даже в те периоды, когда Ван Гог самым радикальным образом отрицал реалистичные цвет и форму, он продолжал настаивать на том, что является убежденным реалистом, чье творчество неразрывно связано с природой. Но он не хуже (а то и лучше) Тёрнера понимал, что реальность мира можно познавать не только посредством механизмов оптического восприятия. Ему казалось, что такой способ восприятия – когда образы, в отличие от привычных, видимых глазу картин, возникают непосредственно в сознании – доступен всем. Надо просто зафиксировать это внутреннее видение, озаренное эмоциональной полнотой жизни, проживаемой на пределе человеческих сил, и осознать вдруг, что бесконечность осуществляется здесь и сейчас.
Пикассо Современное искусство идет в политику
I
Зимой 1941 года Пабло Пикассо жил и работал в мансарде старого парижского дома по улице Гранд-Огюстен, в двух шагах от набережной Сены. Неласковый северный свет заливал крыши. На подоконниках ютились голуби. Что и говорить, в период немецкой оккупации жизнь Пикассо на левом берегу была даже более богемной, чем он мог бы желать. В квартире было холодно, электричество давали с перебоями. Согревали художника лишь старинная печка высотой от пола до потолка и очередная возлюбленная – Дора Маар. Его картины становились все более мрачными и однообразными: женщины с деформированными головами, с катящимися из глаз слезами, напоминающими стальные бусины или тонкие струйки крови; освежеванные овечьи головы. В придачу Пикассо зачем-то возомнил себя драматургом и начал писать сюрреалистические пьесы.
Среди работ, развешенных по стенам мастерской, одной явно не хватало: здесь не было «Герники», картины, сделавшей Пикассо самым знаменитым – или скандально известным – художником в мире (с. 414–415). Этот крик боли и ужаса перед варварским уничтожением беспомощных мирных жителей баскского городка бомбардировщиками люфтваффе весной 1937 года был немцам не очень-то по душе. Однако добраться до картины они не могли. В 1939 году «Гернику» спешно переправили в Нью-Йорк на борту лайнера «Нормандия» – как беженку, вместе со скрипачами и психиатрами из Вены и Берлина. Выставленная в Музее современного искусства, «Герника» стала не просто изображением ужаса, но пространством выражения морального возмущения, щитом, перед которым люди собирались, чтобы напомнить себе о том, что отделяет их от жестокости фашизма. Картина стала отличной провокацией.
Вызывающий и оскорбительный для нацистов объект оказался вне пределов досягаемости, и оккупационные власти делали все, чтобы максимально усложнить художнику жизнь, не прибегая разве что к аресту. Коллаборационисты поливали его грязью в вишистских газетах, обвиняя в надругательстве над благородным искусством живописи. Журналисты намекали на возможное еврейское происхождение Пикассо и на то, что он прячет евреев-художников. «Где Липшиц?» – орали ему головорезы из вишистской милиции, громя мастерскую. Но напугать художника было не так-то легко, и во время подобных налетов он держался вызывающе и независимо. Пикассо хранил у себя в мастерской открытки с репродукциями «Герники» и любил дарить их непрошеным гостям из гестапо и французской полиции, ехидно предлагая: «Возьмите на память!»
По рассказам, однажды Пикассо посетил немецкий офицер – громила и одновременно тайный поклонник художника. Взяв одну из открыток с «Герникой», офицер повернулся к Пикассо и угрожающе спросил: «Это ваша работа?» – «О нет, – ответил художник, – это ваша работа!» Остроумный и язвительный ответ, резкий, как удар хлыста. Но кто в действительности взял верх в этом легендарном диалоге? Не слишком искренне признавая различие между властью и живописью, художник на деле восторгался собственным поступком. Он знал: пока картина существует, мир будет помнить бомбардировку Герники как ужасное зверство. В этом отношении – даже притом, что «Герника» не помогла победить фашистов генерала Франко в Испании и не остановила ни одной бойни ни в одной из последующих войн, – искусство смогло, как минимум, послужить свидетельством обвинения. А что, если это лишь иллюзия, бальзам для больной совести на фоне продолжающихся зверств? Быть может, для искусства, особенно для современного искусства, честнее было бы отбросить лицемерие и продолжать заниматься тем, что у него лучше всего получается, – доставлять удовольствие?
На протяжении десяти лет, с конца 1930-х до 1940-х годов, Пикассо так не думал. И это само по себе удивительно, учитывая, как упрямствовал он в своем равнодушии к эмоциональным суждениям в искусстве. Целью искусства, говорил он применительно к кубизму, было «писать, и больше ничего». «Ни хорошее, ни дурное, ни полезное, ни бесполезное» не были заботой искусства. Даже за пять лет до появления на свет «Герники» Пикассо отвергал любые предположения, что искусство может полемизировать. «Я сосредоточусь на эстетике, – говорил он. – Я буду продолжать создавать искусство, не обременяя себя вопросом, делает ли оно жизнь более человечной».
Но «Герника» говорила, нет, кричала об обратном, о том, что для современного искусства нет большей обязанности, чем возродить из пепла чувство человечности. Принято было считать, что искусство – как традиционное, так и современное – призвано наделять нас свежим взглядом и давать возможность увидеть обыденное как необыкновенное. В 1930–1940-е годы обыденными стали массовые убийства. По крайней мере, именно так оно может показаться, если погружаешься в хаос газетных страниц или вглядываешься в дрожащие кадры кинохроники. Произведение искусства, по убеждению Пикассо, должно было сопротивляться предположению, будто мир устроен именно так и вечно таким останется. И это превращение Пабло Пикассо из лишенного морали эстета в моралиста – одно из самых невероятных преображений за всю историю искусства.
II
Друг и агент Пикассо Даниэль Анри Канвейлер как-то назвал художника «самым равнодушным к политике человеком из тех, кого я знаю». Однако в июле 1937 года, работая над «Герникой», Пикассо публично заявил, что вся его «жизнь как художника была не чем иным, как постоянной борьбой против реакции и смерти искусства». На самом деле все было несколько иначе. Бо́льшую часть своей карьеры он считал непременным условием творческой свободы современного искусства его разрыв с политикой, а не наоборот.
На рубеже XX века юный Пабло Пикассо (он родился в 1881 году) приехал в Париж из Барселоны, которая, по испанским стандартам, была настоящим рассадником экспериментаторства. Воинственно настроенному и пугающе талантливому коротышке-андалусийцу, равно как и большинству его одаренных современников, должно было казаться, что именно искусство, а не политика заставляет сердца биться чаще. В то время в Париже рушились все представления о смысле искусства. Поэзия переставала быть спрессованным ритмическим изложением наблюдений и чувств и тем более нарративом. Для друга Пикассо Гийома Аполлинера она становилась напряженным потоком звуков, символов и аллюзий, а ее исполнение значило больше, чем смысл. В руках Равеля и Сати музыка не была больше храмом симфонического звука, но превратилась в стремительную реку захватывающих ассоциаций. Подобно поэзии и музыке, живопись тоже отвергала прежние правила и ограничения: возвышенное повествование, назидательные герои, помещенные в живописный ландшафт, прямая линейная перспектива, описательные цвета.
Для ютившегося в мансарде на левом берегу молодого Пикассо, с его блестящими гладкими волосами и большим, похожим на кроличий носом, все это казалось, как он вспоминал впоследствии, пиршеством бесконечных возможностей. Он мог сразу и не понимать, что ему нужно от искусства, но наверняка знал, чего точно не нужно: избитых устаревших пантомим в духе великих старцев. Тогда, в начале века, принято было считать, что современное искусство делает современным отказ от исторического повествования, от напыщенных полотен, создававшихся для аристократов и богачей, королей и банкиров. Стены музеев, особенно в Испании, были увешаны панорамами сражений и гарцующими жеребцами – удобной ложью о власти и войне. Когда Диего Веласкес в XVII веке писал короля на коне, это был образ безграничной власти, абсолютного контроля, воплощенный в той непринужденности, с которой суверен правит своим скакуном, удерживая поводья одной рукой. Если государь способен справиться с Великим жеребцом, сообщала картина, то и государством может управлять хладнокровно и уверенно. Это был древнейший и непреходящий образ абсолютной власти.
Пикассо заставил банальность в буквальном смысле слезть с коня. Вместо короля в седле он написал обнаженного мальчика, который ведет неоседланного коня – на коне даже нет уздечки – сквозь пугающе безликий, первобытный край, начисто лишенный живописности (с. 386). Изящно удлиненные черты делают юношу похожим на кикладскую или древнегреческую статую юноши-атлета – куроса. Доисторическое, архаичное, обнаженное и элементарное заменяют собой исчерпавший себя исторический хлам. Картина выполнена в тонах серой пыли и терракоты – примитивных материалов, из которых некогда были созданы и жизнь, и искусство. Таким образом, работа Пикассо переносит нас в точку, где нет искусства – нет героев, историй, тем, выражений. С помощью жеста, исполненного скупой поэзии, художник минует века церемониальной живописи. Современность выходит прямиком из архаики, словно ничего достойного внимания в промежутке между ними не было.
Историю со счетов списали. На очереди красота, издревле служащая идеалом для определения самого искусства, совершенство, явленное в пропорциях обнаженного женского тела.
Автопортрет. 1906. Холст, масло.
Художественный музей Филадельфии, штат Пенсильвания
Минувшим со времен Ренессанса столетиям разглядывания классической обнаженной натуры и изысканного лепета насчет гармоничной формы Пикассо подводит итог парадом выстроившихся в ряд проституток – «Авиньонских девиц» (с. 389). Название картине, как позднее жаловался Пикассо, дал его друг, писатель Андре Сальмон, – сам художник именовал ее «Бордель Авиньон», по названию улицы Калле д’Авиньон, где находился бордель. Девушки разделись и потягиваются (высказывались предположения, что они выстроились для медицинского осмотра), и проходящий мимо мужчина уже не просто скользит взглядом по обнаженным телам на картине, а неожиданно для себя превращается в осознанного наблюдателя. Театральность сцены – две девушки тянут занавес – лишь добавляет напряжения этому противостоянию. Две центральные фигуры, чьи бедра укрыты простынями, дразнят наблюдателя, пародируя старых мастеров с их драпировочными хитростями. Головы двух других девушек, расположившихся чуть правее, словно высечены из дерева – напоминание об африканских масках, виденных Пикассо в этнографическом музее в марте 1907 года. Эти две уже окончательно отбросили деланую стыдливость. Это самки-воительницы. У той, что стоит в глубине, лицо с циклопическим черным глазом и рылообразным носом больше похоже на собачью морду. Вторая девица, на первом плане, присела на корточки, разведя бедра, но ее тело мы видим одновременно сзади, спереди и сбоку, а лицо, искаженное издевательской гримасой, неожиданно повернуто к зрителю. Изящество, послушная чувственность, фертильность, ласковость и сострадание – все, что принято ассоциировать с европейской обнаженной натурой, здесь отсутствует. Вместо этого привыкший обладать натыкается на обезоруживающий и свирепый ответный взгляд. Хочешь что-то купить? Отлично, покупай вот это! Но никто не покупал. Американец Лео Стайн, до этого регулярно приобретавший работы Пикассо, решил, что художник сошел с ума.
Мальчик, ведущий лошадь. 1905–1906. Холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Агент Пикассо Канвейлер повторял, что картина не закончена. Матисс посчитал ее шуткой и заявил, что при взгляде на нее почувствовал, будто глотнул бензина. Пикассо поставил полотно лицом к стене и семнадцать лет ждал, пока «Авиньонских девиц» не купят.
К 1909 году Пикассо был готов нанести последний удар. Жертвой должна была стать самая священная из коров, то, что для большинства посетителей музеев и галерей составляло смысл искусства, – подобие. Художники, как утверждал Пикассо, «должны изобретать натуру, а не копировать ее, как обезьяны». Если есть потребность в двухмерном дубликате окружающего мира, считали модернисты, то фотография всегда будет эффективнее живописи. С шестидесятых годов XIX века современное искусство сознательно определяло себя как постфотографическое, постоянно искало новые причины обратить на себя внимание, не ограничиваясь поверхностным отображением мира. До кубизма современная живопись уже заигрывала с этой идеей, пытаясь порвать вековую связь. Ван Гог, к примеру, изображая людей и предметы, подбирал цвета, следуя эмоциональному ощущению натуры, а не тому, что доступно в оптическом восприятии. Однако последний удар нанесли примерно в 1910 году Пикассо и его приятель Жорж Брак – под влиянием поздних экспериментов Поля Сезанна с разрушением цельной формы и дроблением ее на кристаллографические многогранники, одновременно изломанные и связанные между собой. Прощай сходство!
Отказ от сходства подразумевал уход либо в декоративное искусство, либо в скульптуру. Первый путь – его, например, избрал Матисс – вел к абстракции, переливающимся композициям плоских, сверкающих цветов, призванных заставить нас улыбнуться, а наши чувства – пуститься в пляс. Но Пикассо, чуждый сентиментальности и склонный более остальных современников к скульптурным формам, пошел иным путем, стремясь каким-то образом зафиксировать на полотне тактильные ощущения. Хотя художник говорил о своих экспериментах с кубизмом как об обращении к чисто композиционной живописи, он также настаивал, что его картины изображают нечто отличное от самих себя. Глубоко внутри по-кубистски изящно препарированных форм вибрировало сквозь время нечто основательное и реальное. Параллельная передача различных положений фигуры сразу в нескольких измерениях странным образом действительно передавала истинную ее суть. Цвета – только те, что привычны для архитектуры или инженерного дела: ржавые оттенки коричневого, пыльная охра, стальной серый; они должны были отвлечь зрителя от выставленных напоказ строительных лесов, на которые художник подвесил идею фундаментальной формы.
Кубисты шли на провокацию из самых лучших побуждений. Взрывая видимый облик предметов и людей, кубисты предлагали альтернативную реальность – реальность памяти или смещенного восприятия. Многие годы спустя Пикассо скажет: «Любая форма, передающая для нас ощущение реальности, – это форма, дальше всех отстоящая от реальности сетчатки; глаз художника открыт высшей реальности, его работы воскрешают ее в памяти». Вызванный в памяти образ друга, Даниэля Анри Канвейлера (1910) (с. 391), изначально представлял собой каскад из раздробленных граней и наползающих друг на друга плоскостей, но впоследствии – отчасти в ответ на просьбу Канвейлера дать зрителю какую-то визуальную опору – Пикассо добавил детали: сложенные руки, завиток волос, кусочек мочки уха. Предлагая зрителю собрать представление о модели из собственных отрывочных ассоциаций и воспоминаний, эта странно выстроенная физиогномия становилась приглашением к диалогу. Однако распознать ее как простую анатомию было пока невозможно, а уж с зрительным блаженством, которое предлагал Матисс, она просто не шла ни в какое сравнение.
Авиньонские девицы. 1907. Холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Но, с другой стороны, Пикассо и не собирался ублажать публику. Он явно наслаждался этой сложностью, возведенной в культ. Так и слышишь, как он фыркает: «Слишком сложно? Тяжелый случай». На какое-то время он решительно отказался от всего, что привлекало публику в живописи, – от красоты, эмоций, историй, цвета, изящества, сходства. И это художник, который тридцать лет спустя с помощью как минимум одной своей картины достигнет величайшего успеха в воздействии на массовое сознание.
III
С 1914 по 1918 год Париж жил в состоянии странной, ненастоящей войны: доносившиеся издалека раскаты орудий перемежались паническим страхом перед приходом немцев. Одни друзья Пикассо отправились на фронт – среди них были Брак и Аполлинер – и вернулись израненные и подавленные. С кем-то из друзей отношения кардинально изменились. Канвейлер, будучи гражданином Германии, второпях покинул Францию, не заплатив Пикассо причитающиеся художнику двадцать тысяч франков. Пикассо ему этого не простил.
Изломанный мир, каким он предстал после кровавой бойни, казалось, превратил кубистов в пророков. Какой толк от старых историй в траншее, полной замерзшей грязи? Так, значит, «прощай искусство»? Отнюдь. Распрощаться пришлось с пиитетом по отношению к музейному искусству. «В музеях… висят только неудавшиеся картины», – писал Пикассо. Массовые убийства, поражение и революция привели искусство к необходимости найти новую связь с народом, выступить в роли провозвестника эпохи масс. Воодушевлять бесправных на пассионарные поступки должен был теперь не пейзаж (и без того сведенный к Голгофе), но плакат и рекламный щит: простые, сильные образы. Но такое искусство создавалось в других местах, и питала его горечь поражения. В Германии неистовые цвета и гротескные лица источали ярость и отвращение к старому режиму с социальных и эстетических позиций. В революционной России резкие геометрические абстракции возвещали о научной незыблемости диалектического материализма по Марксу, а канонические герои пролетариата призывали рабочих послушно принести себя в жертву во имя родины.
Портрет Даниэля Анри Канвейлера. 1910. Холст, масло.
Чикагский институт искусств, штат Иллинойс. Дар миссис Гилберт У. Чэпмен в память о Чарльзе Б. Гудспиде
Тем не менее послевоенный Пикассо был, на первый взгляд, безмерно далек от политики. Его больше волновало, как собрать коллаж, а не как устроить революцию. Поэтому на наклеенных на холст или написанных красками кусочках газет никаких новостей не прочесть. Это всего лишь обрывки, знаки, «считываемые» не более, чем отверстия-эфы на скрипичной деке или узорчатое плетение на спинке стула. Однако, в отличие от «Авиньонских девиц» и заумных кубистических полотен, коллажи пользовались успехом у покупателей. Пикассо получил деньги и признание, женился на русской балерине Ольге и начал вести скорее буржуазную, нежели богемную жизнь в шикарной квартире на улице Боэси на правом берегу Сены. Иногда, с подачи Матисса, кубизм становился у него более декоративным, плоскостным, интенсивным по цвету. Но все чаще он выбирал даже не этот путь. Порой, к ужасу друзей-авангардистов, у Пикассо случался «рецидив» фигуративного рисунка, и он создавал портреты, близкие к неоклассицизму (возможно, более близкие, чем все остальное искусство XX века). Потом, под настроение, художник принимался за эксперименты с максимальным искажением натуры (так, что даже агрессия «Авиньонских девиц» начинала казаться приглушенной), исследуя казавшуюся ему неисчерпаемой тему физической любви.
Сидящая купальщица. 1930. Холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Девушка перед зеркалом. 1932. Холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Пикассо буквально зациклился на себе. В 1920-е годы странные политические убийства и всеобщая сумятица его вообще не интересовали – он лишь предавался изощренным размышлениям на тему своего призвания. Результатом стали многочисленные изображения Художника в Мастерской – подобного античному герою, бородатого, окруженного зеркалами и моделями, в особенности моделями, похожими на Мари-Терез Вальтер, податливую в его руках, словно воск. Девушка привлекла Пикассо сочетанием нордических черт и греческого профиля. В 1927 году, когда Мари-Терез было всего шестнадцать, художник приметил высокую блондинку со спортивным телом и классическим профилем неподалеку от универмага «Галери Лафайет». Медлить он не стал – подошел к Мари-Терез, сказал, что у нее «интересное лицо» и что хотел бы ее написать. «Я – Пикассо», – сообщил он ей под конец.
В экспериментах по изображению сексуального опыта Ольга и Мари-Терез стали для Пикассо противоположными полюсами. В зависимости от того, что преобладало в сознании художника – тоска или экстаз, – он подвергал их тела, словно сделанные из пластилина, самым неожиданным трансформациям, искусно комбинируя отдельные части этих тел. В работе «Женщина в кресле», написанной в 1927 году в Каннах (где у Пикассо с женой случилась череда болезненных ссор), мы видим безжалостно развернутый мольберт, с которого на нас смотрит напоминающая человеческую голову форма кислотно-желтого цвета с черными глазами по краям. Между глазами в улыбке щурится усеянная зубами вагина. Еще одна всепожирающая гарпия с острым, как кинжал, языком наползает на безмолвный силуэт художника, застрявшего в собственной раме на картине «Бюст женщины и автопортрет» (1929); пилообразные челюсти чудовища вот-вот сомкнутся на голове жертвы. Годом позднее в «Сидящей купальщице» Ольга мутирует в застывшего богомола с зубастым зевом. Брак явно становился Пикассо не в радость.
Сон (Мечта). 1932. Холст, масло.
Собрание супругов Ганц, Нью-Йорк
Однако пытки сменялись постелью, где художника ждала Мари-Терез. Для нее – никаких резких углов и линий, только прихотливые, чувственные переплетения и сверкающие цвета, особенно матиссовский багрянец. На одном из полотен, исполненном нежной и лукавой эротики «Сне», Пикассо усадил Мари-Терез в глубокое красное кресло: глаза ее закрыты, грудь выставлена на всеобщее обозрение, на накрашенных губах блуждает улыбка, девушка мечтательно предается ленивой мастурбации. Секс у нее буквально в мозгу. Эта картина из тех, что производят заявленный эффект, – она погружает нас в состояние дурманящего удовольствия. Здесь все просчитано, все призвано соблазнять и ни намека на неотвратимую опасность, уже нависшую над Испанией.
IV
Пабло Пикассо вырос в стране, которая была разделена надвое еще за полвека до начала гражданской войны. Одну Испанию – каталонскую Барселону, куда отец художника, учитель рисования из Малаги, перевез семью в 1895 году, – пронизывал дух современности. Торговый и светский город с готовностью воспринимал любые культурные эксперименты. Были и другие похожие районы – северная Страна Басков вокруг порта Бильбао, где развивалась промышленность, способная вести страну в будущее. Однако в центре страны, где жизнь была тяжелой и грубой, по-прежнему существовала вечная Испания монахинь и повозок с запряженными в них осликами, Испания соборов и гигантских поместий, неистовой религиозности и ежедневной борьбы за кусок хлеба. Эта Испания не собиралась ослаблять свою хватку. В XX веке главным стал вопрос: смогут ли две эти Испании ужиться вместе.
Выборы 1931 года – первые за шестьдесят лет – дали однозначный ответ: нет, не смогут. Поскольку новая Испания была сосредоточена в многонаселенных городах, она сумела собрать большинство, проголосовавшее за отмену монархии. Король Альфонсо XIII отправился в изгнание. Ожидалось, что наступит золотой век социальной справедливости и политических свобод. Однако восемь лет существования Испанской республики оказались долгим и мучительным испытанием как для ее защитников, так и для ее противников.
Проблема заключалась в том, что каждая из двух совершенно несовместимых друг с другом Испаний утверждала, будто она-то и является истинной нацией, и у каждой из сторон было одинаковое количество преданных избирателей – примерно по четыре с половиной миллиона. Ни одна из сторон не была готова ограничиться ролью политической оппозиции. Когда победил блок левых партий, Церковь и армия расценили это как поражение для всей страны. Когда же победила правая коалиция, профсоюзы организовали всеобщую забастовку. Будь каждая из сторон в состоянии воспринимать противников как соперников по политической борьбе, какая-то форма сосуществования еще была бы возможна, но об этом речи никогда не шло. Традиционалисты видели в социалистах (а их в республиканских правительствах было большинство) посланников Антихриста, готовых разрушить институты, составлявшие для них суть Испании: Церковь, Армию, Землю. Хуже того, республиканская демократия могла оказаться троянским конем, в чреве которого в страну мог проникнуть анархизм и коммунизм профсоюзов, а это, в свою очередь, ввергло бы саму христианскую нацию в пучину революции безбожников. Социал-демократы, со своей стороны, воспринимали консерваторов как оплот богатства, предрассудков и привилегий. В стране было слишком много монахов, слишком много офицеров и безземельных крестьян, едва способных себя прокормить. Если Испании и суждено было стать частью современного мира, все это надо было менять. Для обеих сторон спасение страны подразумевало уничтожение противника. Получается, что с самого начала история республики была беспощадной войной культур. В какой-то момент бойцы культурного фронта должны были взяться за оружие – это был лишь вопрос времени.
Пока оппоненты копили обиды и оружие, Пабло Пикассо, на протяжении трех десятилетий живший вдали от родины, вдруг страстно захотел домой. В каком-то смысле он никогда и не покидал Испанию. Многие из его ближайших друзей, Хайме Сабартес например, были выходцами из Испании. Ему были близки современные испанские поэты и драматурги, вроде Лорки, а звуки фламенко и воспоминания о боях быков никогда не оставляли его равнодушным. В самом начале 1930-х годов в чувственный нарциссизм Пикассо начинает закрадываться что-то мрачное и жестокое. Это что-то – трагическая тоска по родине, снедавшая художника. Столичный экспат, истинный парижанин начал видеть испанские сны, точнее, стал жертвой испанских кошмаров. И эти кошмары были совсем не похожи на выхолощенный кубизм и равнодушный сюрреализм, которые он мог включить с полоборота.
Пикассо явно совершал поворот в сторону испанского мастера, словно воплощавшего в своем творчестве афоризм Лорки: «Испания – единственная страна, где смерть стала национальным зрелищем». Лорка имел в виду корриду, но говорил здесь также и об истории. И арена для боя быков стала у Пикассо тем, чем она была для Гойи, – способом вновь подключиться к испанской памяти. Театр жестокости, который он разыгрывал со своими зубастыми суккубами, уже не был до такой степени сосредоточен на личности художника. Привычная кричащая палитра перекочевала в серию картин на тему боя быков (отправной точкой для всех работ серии послужила жуткая «Смерть тореадора» Гойи), где взгляду зрителя представали изуродованные лошади, бык в предсмертных судорогах и неожиданно обмякшее тело умирающего матадора в ослепительных одеждах, перекинутое через бычью спину (с. 399). Эти картины были совсем не похожи на расчетливые, замкнутые в собственном мирке полотна Пикассо, изображавшие мастерскую художника и его модель.
В 1934 году Пикассо пересек Пиренеи, посетил наконец корриду и насладился славой, которая ждала его на родине. Правда, ни одну сторону он пока не принял. Несмотря на все тревоги относительно будущего, испанское художественное сообщество разделилось по политическому принципу. «Мягкая конструкция с вареными бобами» («Предчувствие гражданской войны») Сальвадора Дали (1936) – страшное пророчество агонизирующей Иберии. Однако, оставаясь радикалом в искусстве, сюрреалист Дали в политике был глубоко консервативен. Когда пришло время выбирать, он принял сторону националистов во главе с Франко. Некоторые из правых интеллектуалов надеялись, что Пикассо поступит так же, и даже пытались с ним сблизиться. Художник эти попытки не поощрял, но и не отвергал.
Вернувшись в 1935 году в Париж, Пикассо продолжил все дальше отходить от «чистоты» современного искусства. В это же время в том же городе голландец Пит Мондриан создавал свои бескомпромиссные двухмерные решетки со вставками из основных цветов, пришпиленными к поверхности, воплощая стремление модернизма к искусству, освобожденному от времени и места, истории и смыслового наполнения; искусству, которое было бы исключительно самим собой и потому универсальным. У Пикассо идея обращения к универсальному выглядела совершенно иначе. Вместо отказа от мифа и памяти, серия «Сюита Воллара», законченная им в 1935 году, обращалась к самым древним слоям. Действующие лица ритуального жертвоприношения – быки и лошади – встречаются практически на каждом из офортов, но художник находится еще и в мире критского лабиринта, следуя за нитью архаического воспоминания в логово Минотавра, к роковому столкновению звериного бесстыдства и невинности. В этой серии одержимость художника эротизмом кровавой бойни проецируется на экран, на котором разыгрываются сцены из мифологии и истории. Порой Пикассо сам превращается в Минотавра, ведомого тестостероном получеловека-полубыка, иногда – просто косматого гуляку, но чаще – грубого насильника. Но из всех блужданий художника по лабиринту собственного воображения становится предельно ясно: отъявленный модернист решительно жаждет воскресить древние фетиши. Точно так же, как на картине «Мальчик, ведущий лошадь», написанной почти тридцатью годами ранее, интуитивно соединялись архаика и современность, древний ритуал, магия и аллегория становились теперь откликом на новые ужасы. «Звери вышли на свободу, – словно говорит нам Пикассо. – Я-то знаю, ведь я один из них».
Ближе к концу 1935 года, когда Испания уже балансировала на краю самоубийственной войны, все эти образы быков, минотавров, лошадей и тореадоров соединяются в офорте, исполненном силы, торжественности и мощи монумента, алтаря или классического фриза. Вслед за Гойей с его серией офортов «Тавромахия» Пикассо называет свою работу «Минотавромахией» (с. 401). На узкой сцене, судя по всему высеченной высоко в скале над морем, подобно храмам эгейской античности, разворачивается некое жертвенное действо. Однако зрители находятся не в амфитеатре, но в средиземноморском доме, наблюдая за происходящим из окна, где на подоконнике сидят голуби – точно такие же, какие сидели на улице Гранд-Огюстен. Сцена похожа на сон или воспоминание – в ней одновременно присутствует сексуальное начало и что-то от библейской мистерии; все застыло, но при этом возбуждает чувства. Из живота лошади, с разинутой в агонии пастью, вываливаются внутренности. На спине у нее полуобнаженная женщина-тореадор: она то ли спит и видит этот сон, то ли мертва. Пугающе мускулистый Минотавр приближается к ней, но его останавливает свет – огонек свечи в руке маленькой девочки, одетой в аккуратную школьную форму, с практичными туфельками на ногах и букетом цветов в другой руке. Она – символ девственной непорочности. Получается, зверя можно остановить силой света. Но в узком, заполненном фигурами пространстве проблема не находит разрешения. Как всякий кошмар, это видение действует угнетающе, подталкивая испуганное воображение к краю пропасти, а то и заставляя шагнуть в нее.
Все символические персонажи, которые потом появятся в «Гернике», – бык, пронзенная лошадь, дом, дающий убежище и одновременно в нем отказывающий, – вышли на сцену еще до того, как Пикассо открыто заявил о своей политической позиции. И когда настало время для монументального высказывания о свете, насилии и мученичестве, ни к каким партиям и их политическим платформам художнику обращаться было не нужно. Образы вышли из глубин его собственного сознания, из способности отождествить себя и с агрессором, и с жертвами. Вот почему воздействие «Герники» универсально – она напрямую связана со всеми нашими страхами.
V
Весной 1936 года Пикассо вновь отправился в Испанию: развалившись на заднем сиденье своей «испано-сюизы», художник купался в лучах славы. Но на этот раз надвигающаяся буря не обошла его стороной. Угроза военного переворота под эгидой ультракатолического национализма заставила многих близких Пикассо людей – Лорку, каталонского сюрреалиста Хуана (Жоана) Миро и архитектора Хосе (Жозепа) Луиса Серта – окончательно присягнуть Республике. Они знали, что с победой Фаланги – так называли себя испанские фашисты – свободе художественного творчества придет конец. Их мужество и чистота помыслов нашли отклик в Париже, где модернистское безразличие у Пикассо начало сменяться интересом к политике и истории. Но как создать то, что до сих пор казалось абсолютным логическим противоречием, то есть модернистское историческое полотно?
Повод не заставил себя ждать. В середине июля 1936 года генерал Франсиско Франко, невысокий человек с осанкой императора, утверждавший, что ради спасения Испании от социализма и атеизма готов, если потребуется, расстрелять полстраны, начал боевые действия, перебросив армию из Марокко морем в Испанию. Поддержку с воздуха обеспечили ВВС Третьего рейха, люфтваффе, а в состав армии, с помощью которой Франко впоследствии завоевал Испанию, входило сорок тысяч итальянских военных, предоставленных Муссолини. Фашисты и нацисты не скрывали желания использовать гражданскую войну в Испании в качестве пробного прогона своих будущих сражений с дегенеративными демократическими режимами и советским коммунизмом, и это делало конфликт неизбежным и придавало ему ожесточенный характер – еще и потому, что Сталин, со своей стороны, испытывал примерно те же чувства. Viva la muerte – «Да здравствует смерть» – боевой клич боевиков Франко говорил сам за себя. Расчет на то, что перед лицом столь неприкрытого вмешательства миротворцы в Британии и во Франции сподобятся лишь на невразумительные сетования, оказался удручающе точным. Созданная после Первой мировой войны для поддержания мира во всем мире Лига Наций за маской нейтралитета скрывала неспособность к действию. Было наложено эмбарго на поставки оружия для обеих сторон. Непосредственным результатом стала ликвидация препятствий для продвижения армии Франко – его войска, как и планировалось, быстрым маршем преодолели значительную часть территории Испании. Одна за другой пали Севилья, Кадис и Кордова; Мадрид, как ни странно, устоял – республиканская оборона остановила наступление Франко к югу от города.
Коррида: Смерть тореадора. 1933. Дерево, масло.
Музей Пикассо, Париж
В самой столице писатели и художники, вставшие на сторону Республики под звуки падающих бомб и снарядов, делали все, что было в их силах, для мобилизации сопротивления. Издавались коммюнике с призывами к неповиновению, сочинялись стихи, печатались плакаты для призыва в ряды сопротивления. И хотя никто и никогда не выигрывал войну с помощью плакатов и стихов, пропагандистские усилия сторонников Республики всколыхнули испанское землячество в Париже. Когда снаряд попал в здание музея Прадо, Пикассо воспринял это как личное оскорбление. Главному модернисту вдруг стало страшно за свои корни: Эль Греко, Сурбарана, Веласкеса и, конечно, Гойю, свидетеля «Бедствий войны». Так что когда Пикассо спросили, согласится ли он занять почетную должность директора Прадо, художник, не колеблясь, согласился. Для всего мира это был сигнал: Пикассо наконец-то принял сторону Республики. Как только решено было эвакуировать часть шедевров из Прадо на побережье Средиземного моря, Пикассо выступил в качестве консультанта при отборе картин. «Менины» (1656–1657) и «Сдача Бреды» (1634–1635) Веласкеса (последнее полотно также называют Las Lanzas, «Копья»), Махи (1797–1805) Гойи, одетая и раздетая, – все эти картины были отправлены на грузовиках по узкому коридору, пролегавшему по территории, удерживаемой республиканцами, в безопасную Валенсию. Пикассо с тревогой ждал новостей о прибытии шедевров на место. Его собственная судьба сплелась с судьбой родины.
Франсиско Гойя. Тавромахия. Офорт, лист 21: Трагический случай нападения быка на ряды зрителей на арене Мадрида и смерть бургомистра де Торрехо в 1801 г.
Опубликовано в 1816. Частная коллекция
На исходе 1936 года войска Франко оккупировали почти две трети территории Испании. Судьба Республики стала для Пикассо личным делом – ранее он и предположить бы не смог, до какой степени. Тяжелая осада превратила родной город художника – андалусийскую Малагу – в сплошные руины. Мать Пикассо оказалась в ловушке: Барселона, где она находилась, решительно поддержала Республику, наступление франкистов было неизбежно. Художника снедало беспокойство. Кроме всего прочего, он переживал непростой разрыв с первой женой, Ольгой Хохловой (стороны не скупились на взаимные обвинения), а Мари-Терез тем временем уже носила его ребенка. Творчески Пикассо был словно парализован. «Это было худшее время моей жизни», – признавался он впоследствии.
И тут в дверь его мастерской постучалась сама Испания в лице небольшой делегации, среди членов который был Серт, автор павильона Республики на Всемирной выставке, запланированной летом 1937 года в Париже. Остальные испанские художники, в том числе Миро, уже согласились создать работы для павильона, который должен был стать присягой верности осажденной Республике. Пикассо спросили, не хочет ли он что-то написать, что-нибудь внушительное и смелое, фреску во всю стену например, и максимально откровенно заявить о происходящем.
Минотавромахия. 1935. Офорт, граттаж (процарапывание).
Ульмский музей, Ульм, Германия
Пикассо взялся за заказ, хотя пока не понимал, что может сделать. В процессе обдумывания поставленной перед ним задачи художник на один-единственный день прервал текущую работу, чтобы внести свою лепту в общее дело. Между завтраком и ужином Пикассо сделал наброски для серии гравюр «Мечты и ложь генерала Франко» – гравюры можно было продать вместе или по отдельности, чтобы собрать деньги для Фонда помощи республиканцам. После всевозможных превращений Пикассо отказался от своей антипопулистской позиции, которую занимал с момента изобретения кубизма, – работа получилась жесткой, с элементами грязного сортирного юмора. Выполненная в жанре комикса серия «Мечты и ложь» высмеивает притязания Франко на роль рыцаря-крестоносца, спасителя Испании. Вместо новоявленного Эль Сида на быстром скакуне мы видим Франко верхом на комическом фаллосе. Пикассо также изобразил генерала в виде полипа, утыканного шипами, скользкого, похожего – по словам самого художника – на кучу дерьма; нечто отвратительное, вылезшее наружу из сточной канавы. Во всем этом есть что-то подростковое, особенно в том, как художник добавляет щепотку сюрреализма – на случай, если кто-то не понял: «торчащая во все стороны щетка из волос, срезанных с тонзур священников, он стоит голый в центре сковороды, и рот его забит жучиной массой из его же собственных слов». И далее в том же духе. Стать художником-героем Республики пока не получалось, Пикассо вернулся в мастерскую и вновь погрузился в живописные медитации на тему зеркал, моделей и Природы Образов. Возможно, какая-нибудь из этих картин и подошла бы для павильона? Но жизнь оказалась сильнее искусства.
VI
Герника – или Герника-Лумо на баскском языке – небольшой городок в двадцати четырех километрах от Бильбао с населением всего семь тысяч жителей, однако важность его для культуры и истории баскского народа намного превосходила его размеры. В центре Герники, на вершине небольшого холма, рос дуб праотцев – под ним, по рассказам самих басков, народ веками собирался, чтобы избрать своих законодателей или излить свои обиды.
Этот город был колыбелью национального самосознания басков – языка, истории и даже этнической принадлежности – всего того, что баски считали таким важным. Франко и его Фаланга выступали за прежний централизованный абсолютизм, нетерпимый к подобным региональным автономиям, так что с началом войны было сразу понятно, чью сторону займут баски, особенно после того, как республиканское правительство как раз и предложило им особую автономию. Первый президент автономного сообщества Страны Басков Хосе Агирре принес присягу в Гернике, поклявшись защищать родину до своей смерти.
К началу 1937 года стало ясно: грядут испытания. Армия фалангистов под предводительством генерала Эмилио Мола наступала с севера и приближалась к Бильбао – порту, через который получали продовольствие и оружие не только баски, но и все республиканские силы в регионе. Однако баски ушли в глухую оборону, яростно отстаивая свободу Эускади, как они называли свою родину, и Франко понимал: достаточно провести какую-нибудь карательную операцию в целях устрашения, чтобы заставить басков отказаться от сопротивления.
Мечты и ложь генерала Франко (первая часть серии). 1937. Офорт, акватинта.
Музей Пикассо, Париж
Все началось около четырех часов пополудни, в понедельник 26 апреля. В Гернике был базарный день, и жители города только-только отходили от сиесты – открывались магазины и банки, старики с длинными усами по баскской моде сидели за столиками уличных кафе, потягивая свой бренди, впитывая апрельское тепло. Небо было ясное. На синем фоне появилась маленькая точка, один-единственный самолет. Он несколько раз низко пролетел над рынком, домом собраний, дубом, а затем, зависнув над самой густонаселенной частью города, сбросил шесть бомб. Гернику тут же заволокло клубами дыма, показались языки пламени, а самолет вновь взмыл в безоблачное небо.
Спустя несколько минут еще три истребителя сбросили на город пятидесятикилограммовые бомбы, после чего одна за другой над городом пронеслись группы «хейнкелей» и «юнкерсов», сея хаос и разрушение, которые продолжались более часа. В страхе сгореть заживо в собственных домах жители Герники бросились в церкви, надеясь найти в них убежище, или побежали вниз по улочкам в поля и леса вокруг города. Немецкие летчики только этого и ждали – они выпускали из пулеметов очередь за очередью по беспомощным, отчаявшимся мирным жителям. На улицах начали скапливаться горы трупов.
Оставался еще один – последний удар. На третьем заходе «хейнкели» доставили груз из трех тысяч зажигательных бомб в алюминиевой оболочке, спроектированных таким образом, чтобы вызвать на земле максимально мощные возгорания и превратить город в огненную чашу. На превращение Герники в котел, наполненный пеплом, ушло три часа. Тысяча шестьсот сорок пять жителей – почти четверть населения – погибли сразу, тысячи получили чудовищные ранения. Один только дуб каким-то чудом уцелел среди пожара – обугленный, но не сломленный.
Для капитана первого истребителя-разведчика, по совместительству начальника штаба легиона «Кондор» полковника Вольфрама фон Рихтгофена акция прошла исключительно удачно. Наблюдая за языками пламени с ближайшего холма, куда его привезли для лучшего обзора, он объявил о полном успехе операции: бомбы были сброшены с хирургической точностью, гражданское население устрашено, как и было рассчитано заранее. Фон Рихтгофен прочел все правильные книги, особенно учебник по военной стратегии Дерцена, который двумя годами ранее предсказывал: «Если города разрушают огнем, если жертвами удушающих газов становятся женщины и дети… если от бомб погибает население городов, расположенных далеко от линии фронта… враг не сможет продолжать войну». Герника стала для люфтваффе первой репетицией того, что затем превратилось в стандартный набор оперативных мероприятий в небе над Варшавой, Роттердамом, Лондоном и в других местах. Никакой стратегической ценностью баскский город, естественно, не обладал, настоящей целью был Бильбао. Однако, по расчетам Рихтгофена, пламя от зажигательных бомб должно было просматриваться из порта. В Бильбао не могли не понять намек. Окрыленный победой полковник рапортовал: «Гернику буквально сровняли с землей; на улицах – воронки от бомб… просто потрясающе, идеальные условия для великой победы».
На самом деле еще кое-кто наблюдал, как ночное небо стало оранжевым, слышал взрывы и не мог понять, что происходит. Джордж Лоутер Стир, корреспондент британской газеты «Таймс», освещавший события баскской войны из Бильбао, сразу же отправился в Гернику. На въезде в город его остановил «ковер из живых угольков», похожий на реку лавы после извержения вулкана. Стоило журналисту проникнуть в Гернику, он сразу оценил масштабы разрушения: «От домов откалывались куски и, разбиваясь, падали на землю, жар от плавящихся останков опалял щеки и ел глаза». Стир поднял обломок зажигательной бомбы и сразу заметил немецкое клеймо и дату выпуска. А затем сфотографировал находку.
Для Джеффри Доусона, редактора «Таймс» в Лондоне, эта информация оказалась «неудобной» – Доусон был, скорее, склонен верить заявлениям Франко о том, что никакие иностранные бомбардировщики не совершают авианалеты в Испании. По версии генерала, ответственность за уничтожение города лежала на баскских социалистах – они якобы подожгли Гернику в попытке дискредитировать Фалангу. Тем не менее Доусон все равно дал добро на публикацию материалов Стира. Это был первый газетный репортаж о расчетливом уничтожении гражданского населения с воздуха. Два дня спустя, 30 апреля 1937 года, Пикассо прочел французский перевод статьи Стира в газете «Се суар».
«Сегодня, в два часа ночи, когда я приехал в Гернику, передо мной открылось ужасное зрелище: весь город был объят пламенем. Пламя отражалось в облаках дыма, которые видно за 15 километров от города. Всю ночь рушились дома, пока улицы не превратились в бесконечные непроходимые дебри. Многие из выживших отправились в дальний путь из Герники в Бильбао на старинных баскских телегах с крепкими колесами. Всю ночь волы тянули за собой повозки, доверху нагруженные всем, что удалось спасти от возгорания, на дороге было не протолкнуться».
Ночной ад, запечатленный на фотографии, сопровождавшей репортаж Стира, буквально впечатался в сознание Пикассо. Обретя тему для испанского павильона, художник представлял себе ночную бойню, хотя на самом деле все произошло во второй половине дня. Таким образом, с самого начала его картина и газетный репортаж словно бы соперничали между собой – кто даст более убедительную картину происшедшего, представит более глубокий уровень реальности. Правая пресса во Франции поторопилась заявить, будто коммунисты сами взорвали город, чтобы возложить вину на Франко. Так что Пикассо призвал всю свою художественную мощь, чтобы совершить самый серьезный шаг в своей жизни: рассказать правду. Он любил говорить, что искусство – это «ложь, которая заставляет искать правду», но в этом случае о выдумках и вранье и речи быть не могло.
Понятно, что правда художника не могла соперничать со свидетельством очевидца – репортажем Стира из Герники. Но если картине был уготован успех, она могла бы выйти за пределы обычной хроники. По замыслу Пикассо, должен был получиться кубизм с понятием о совести, притом что сам его изобретатель прежде отвергал рассуждения о морали как нечто совершенно чуждое искусству. Классические кубистские композиции 1910–1912 годов изображали предметы изнутри, показывали, что скрывалось под поверхностью. Разрыв связей с видимой формой был условием осознания глубинных ценностей. То, что Пикассо предстояло перевести на язык искусства весной 1937 года, само было актом разрушения, рядом с ним самые радикальные кубистские эксперименты казались лишь игрой ума. Перед художником стояла задача: перенести зрителя в расплавленное сердце места, где фрагментами служили кусочки не скрипки, но человеческих тел.
Превращение Пикассо из чистого модерниста в пропагандиста привело и к смене рабочих привычек: бывший затворник теперь работал напоказ, словно уже вышел на мировую сцену. К тому же у него появился соратник, агент по связям с общественностью и стремительная муза в одном сверкающем флаконе. Дора Маар, урожденная Теодора Маркович, фотограф-сюрреалист хорватского происхождения и первая из женщин Пикассо, оказавшаяся не просто послушным украшением, но спутницей, равной ему по интеллекту. Художник приметил ее в кафе на левом берегу – вряд ли он пропустил бы элегантную темноволосую женщину с волевым подбородком, которая сидела и втыкала нож в стол. Дора достала нож из своей сумочки, раздвинула пальцы одной руки, а другой принялась наносить быстрые удары ножом по столу между пальцами, но часто не попадала; затем она вновь натянула перчатки – на ткани выступила кровь. Вот что проделала хорватская сюрреалистка. Ошеломленный Пикассо был представлен Доре и попросил отдать ему окровавленную перчатку.
Надо ли объяснять, что роман с Дорой не означал, что Пикассо отказался от Мари-Терез, которая к этому моменту уже родила ему дочь Майю. Тем не менее он поселил предыдущую возлюбленную в пригороде Парижа и навещал мать с ребенком по выходным, тогда как Дора правила бал в мастерской, расположенной на двух последних этажах дома номер 7 по улице Гранд-Огюстен. Четко осознавая, что картина, за которую собирался взяться Пикассо, обеспечит ему место в истории, она решила документировать процесс, и художник, который до сих пор никому не позволял фотографировать себя за работой, дал согласие. Фотографии Доры стали уникальным свидетельством того, как создавалась «Герника».
Исключительная важность заказа только усложняла задачу. Прежде всего надо было решить проблему формы. Какие бы модернистские вольности Пикассо себе ни позволил, «Герника» должна была изобразить взрыв. Люди, дома, город должны были разлетаться на куски. Но если композиция рассыплется и превратится в непонятный хаос, она рискует стать бессвязной, а бессвязность – предвестник скуки.
Вторая проблема – место. Картина с названием «Герника» должна указывать на место и время события, как иначе? Но Пикассо никогда не стремился к тщательной документации. Никаких самолетов и бомб с немецкими крестами. Картина должна обращаться и к другим проявлениям бесчеловечной жестокости в прошлом и будущем – выработать универсальный символический язык. Надо было вернуться к репертуару театра жестокости, который он репетировал в своих кошмарах о корриде и в «Минотавромахии». При этом, оставаясь вневременной, картина должна была создавать ощущение, что изображенное на ней преступление совершено сегодня, быть новостью – пахнуть типографской краской только что напечатанной газеты, но без присущей новостям эфемерности: как фрагмент кинохроники, который повторяется снова и снова.
Пикассо настолько остро осознавал ситуацию как столкновение искусства с грубой силой, правды с ложью, добра со злом, что, будучи модернистом, обратился не только к собственному набору архетипов, но ко всей истории визуальных образов. Старые мастера – Рубенс и Гойя, христианские рукописные Апокалипсисы, античная скульптура – все они были призваны помочь художнику в его сверхчеловеческом начинании.
VII
1 мая 1937 года, спустя два дня после прочтения репортажа Стира, Пикассо начал работу. Под окнами мастерской на улице Гранд-Огюстен слышно было гудение первомайской демонстрации. Художник еще не до конца понимал, что надо делать, но четко знал: пора. Он начал с чистого выброса адреналина – карандашных набросков на голубой бумаге. Мысли опережали движение руки. Но уже в первый день стало понятно величие его замысла. Формат картины был задан размерами стены в павильоне, в то же время ориентирами служили зрелищные исторические полотна XIX века: работы Давида, посвященные Французской революции, «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» Гойи (1814) (с. 417), «Плот „Медузы“» Жерико (1818–1819). Действующие лица – раненая лошадь, огромный бык и человек со свечой – появляются на картине сразу. Вечером того же дня, словно в попытке освободиться от угнетающей серьезности начатой работы, Пикассо набрасывает рисунок лошади, какой ее мог бы увидеть ребенок, свободный от груза истории. Надолго эту игривость сохранить не удалось. Уже на следующий день изображения лошадей становятся картинами мучительных пыток – их шеи безжалостно вывернуты (как на некоторых из предыдущих картин Пикассо на тему корриды), языки обретают коническую форму и напоминают теперь острие копья, пронзившего животное насквозь, пасти с зубами в форме бутылочных пробок распахнуты в предчувствии смерти.
Два дня прошли в творческой лихорадке. А затем Пикассо вдруг прекратил работу. Взял и прекратил. Судя по всему, замысел картины не имел такой уж беспощадной силы над героем испанского искусства. День открытия Парижской выставки был уже не за горами, но Пикассо целую неделю вообще не работал над композицией. Вместо этого он отправился в деревню повидать Мари-Терез и ребенка. Воодушевленная этим визитом Мари-Терез сама отправилась в Париж, в мастерскую на Гранд-Огюстен. Закончилось это бешеной ссорой между двумя женщинами, за которыми Пикассо (вот негодяй!) наблюдал не без удовольствия в качестве арбитра, а малышка Майя тем временем размазывала краску своими пухлыми ручонками.
Ночной пожар в Гернике. 26–27 апреля 1937 года.
Фотография
Все стало только хуже – или лучше. В какой-то момент Пикассо посетила характерная для него в своей беззастенчивости идея трансформировать театрализованные муки собственной личной жизни в новообретенное политическое искусство. На подготовительных рисунках к «Гернике» появились женские головы, испещренные следами боли и кровавыми слезами. Играя с дочерью по выходным (а он это очень любил), художник прокручивал в сознании картины домашней трагедии. Вместо того чтобы наслаждаться игрой, он погружался в пучину страданий. В чреде образов впервые появляется мать с мертвым младенцем на руках, ее рот искажен гримасой отстраненного вопиющего горя. В серии набросков, выполненных в последующие дни, все время повторяется образ скорбящей матери с откинутой назад головой. Груди ее болезненно распухли, она уже не сможет вскормить мертвого младенца, безжизненно повисшего у нее на руке двухмерной картинкой. В финальной версии Пикассо приглушил этот образ, заменил распухшие груди на опавшие и свел лицо ребенка к рудиментарной маске. Этот шаг, как мне кажется, был ошибкой, он уводит от осязаемой, анатомической непосредственности трагедии и делает ее более схематичной, будто она уже стала частью памяти. Следом быстро появляются и другие образы домашней катастрофы – какие-то из них художник выудил из обширных запасов, собранных им в собственном мозгу (все годы, отданные авангарду, художник тщательно маскировал их, ссылаясь на освобождающую амнезию).
Пикассо пишет Гернику. 1937.
Фото Доры Маар. Архив Шарме, Париж
Убегающая женщина с воздетыми к небу руками, например, – прямая цитата из великого полотна Рубенса «Ужасы войны» (1637–1638), хранящегося во флорентийском палаццо Питти. Пикассо не мог не знать, что эта картина была написана художником, который воспринимал себя – и был официально назначен испанским двором – послом мира.
11 мая Пикассо приступил к работе на огромном холсте. Полотно почти восемь на три с половиной метра (близкое по размеру «Усекновению главы Иоанна Крестителя» Караваджо) оказалось слишком высоким, перпендикулярно его было не поставить из-за стропил, так что Дора и Пикассо прислонили его к стене под углом. Для работы над верхними фрагментами художник залезал на стремянку, с которой писал кистью, привязанной к палке. Работая над передним планом, он садился на корточки или устраивался прямо на полу. Но все эти неудобства его не смущали. Не вынимая сигарету изо рта, он отдался порыву безудержного созидания.
Лихорадочность трансформировалась в бешеную, кипучую энергию, исходящую от «Герники»: маниакальные, судорожные метания, тщетные попытки убежать от горящих зданий, погребальный костер из падающих и уже мертвых тел. При взгляде на картину невозможно не проникнуться ужасом безвыходности – черно-белая ночная панорама только усиливает воздействие, нещадно обостряя чувства и одновременно дезориентируя. Чтобы создать это ощущение хаоса и смятения, Пикассо вернулся к своему величайшему изобретению, поместив катастрофу в замкнутое кубистское пространство. Однако этот кубистский театр получился менее рассудочным и куда более эмоционально насыщенным. Вместо многомерной скульптуры, помещенной внутрь оптической головоломки, «Герника» использует беспорядочное нагромождение плоскостей как способ повествования, рождающего визуальный образ паники. Стены и окна не в состоянии выполнять свои функции; вывернутые наизнанку, они запирают в ловушки, встают на пути, создают препятствия и выставляют напоказ, вместо того чтобы скрывать и защищать. Пикассо-концептуалиста 1910 года такая мимикрия наверняка бы возмутила. Но в ситуации, когда собственная мать ощущала на себе все тяготы осажденной Барселоны, художник превратился в драматурга-моралиста. И массивные формы в «Гернике» рушатся на глазах, как если бы на них падали зажигательные бомбы.
Чем дальше художник работал над полотном, тем драматичнее оказывались изменения. «Когда начинаешь писать картину, часто делаешь любопытные открытия, – говорил Пикассо за два года до „Герники“. – Остерегайся их. Уничтожь написанное, перепиши несколько раз». Почти все внесенные изменения оказались пессимистичными. Жесты, исполненные надежды на спасение, – сжатый кулак социалиста, поднимающийся из горы тел, колос пшеницы, гигантский бык, сопротивляющийся хаосу, – превратились в свидетельства безжалостной трагедии. Бык съежился и превратился в бесстрастного наблюдателя, расположившегося над ужасающими фигурами матери с младенцем и рядом с лошадью, умирающей от гигантской ромбовидной раны в боку. На каком-то этапе Пикассо пробовал добавить оптимизма: в более ранних вариантах из дыры вылезал крохотный конь с крыльями Пегас – мифологический символ рождения искусства и поэзии. В классической мифологии крылатый конь испачкал копыта в крови горгоны Медузы после того, как ее обезглавил Персей. Пегас вознесся на гору Геликон, где от удара его копыта забил сверкающий прозрачный родник – источник муз, кровь очистилась, дав жизнь искусствам. Пикассо явно хотел показать, что из кровавой бойни может родиться нечто достойное – в этом случае само искусство. Симпатичная идея – вот почему, по мере того как трагедия впивалась своими когтями в полотно, художник от нее отказался. Дора Маар наносила на холст серые мазки, словно окутывая его дымом, а Пикассо вновь превратил вагину в пугающую глубокую черную дыру в самом центре картины.
Поверженный воин со сломанным мечом тоже сначала выглядел более величественным и сильным, на голове у него был шлем классического героя – как у Гектора. Затем Пикассо вспомнил иллюстрацию из одной средневековой испанской рукописной книги об Апокалипсисе и «перевернул» воина на спину – теперь он задыхался, широко разинув рот. Шея и рука кажутся отсеченными от тела, словно художник превратил фигуру в обломки расколотой статуи с разбитым торсом. Рядом с правой рукой он поместил еще один малоубедительный символ надежды – одинокую маргаритку, капельку жизни в вихре кровопролития; душераздирающий эффект усиливало еще и то, что цветок был нарисован словно бы рукой ребенка (жест безыскусной невинности, который так умело научился воспроизводить один из самых расчетливых и рациональных художников, сам в прошлом вундеркинд). Еще более удивительно то, что на раскрытой ладони воина, на сей раз больше похожей на плоть, чем на гипс, художник явно изобразил колотую рану – стигмат воскресшего Христа.
Хладнокровный модернист цитировал Евангелие. Но ведь это генерал Франко должен был представать в образе воина Христа. В этом-то как раз и был смысл: указать на ханжескую, лицемерную суть лидера Фаланги Каудильо. В голове у Пикассо сидел еще один образ, воплощающий агонию нации. Этот образ был знаком каждому испанцу, и сам художник, будучи директором Прадо, нес за него личную ответственность – это «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» Гойи (с. 417).
Этот шедевр тоже был ответом художника на жестокую бойню – только в случае Гойи то была реакция на казнь повстанцев, выступивших против наполеоновского вторжения. Как и в случае с Пикассо, выступление Гойи в качестве выразителя всеобщего гнева осложнялось неоднозначностью собственных политических пристрастий художника и его отношением к обеим Испаниям – старой и новой. Рассуждая с позиций разума, он был сторонником реформ – и это могло сближать его с теми, кто поддерживал французов и противился мракобесию и реакции испанского двора. При этом Гойя оставался по-своему традиционалистом и патриотом Испании и на этот раз однозначно встал на сторону жертв. Превратив лицо узника, лежащего на земле, в кровавое месиво и выстроив смертельную перспективу стволами ружей расстрельной команды – безликой машины для убийства, Гойя создал один из первых образов жестокости современного государства, полную противоположность приукрашенному классицизму в трактовке Жака Луи Давида.
Однако работа испанца Гойи насыщена символикой искупления и раскрашена в цвета надежды и спасения (мученик в центре картины облачен в папские цвета, желтый и белый). Герой умирает смертью Спасителя, широко раскинув руки, и на его раскрытой ладони видна та же рана-стигмат, что и на левой руке меченосца в «Гернике».
Эскиз к «Гернике». 1937. Карандаш.
Центр искусств королевы Софии, Мадрид
Герника (вторая стадия). 11 мая 1937. Фото Доры Маар.
Музей Пикассо, Париж. Воспроизведена в каталоге Зервоса, том IX, 1958
Пикассо позаимствовал у Гойи еще кое-что менее очевидное: как и «Герника», «Расстрел в ночь на 3 мая» – ночная трагедия. Эта деталь переворачивает с ног на голову сами условности искусства: свет из источника добра, первичного условия акта творчества, превращается в сообщника сил зла. В любом тексте о живописи свечение, сияние всегда отождествляются с красотой. Словосочетание «наполненный светом» давно превратилось в трюизм для описания шедевра, точно так же как про работы Караваджо и Рембрандта говорят, будто они излучают свет. Но страшная мысль Гойи о том, что современный свет может оказаться губительным приспешником мучителей и убийц, засела в воображении Пикассо. «Расстрел в ночь на 3 мая 1808 года» был для него рассказом о том, как грязные дела совершаются глубокой ночью, и фонарь в этой ситуации становился в буквальном смысле светом, позволяющим нам рассмотреть зло. А теперь взглянем на «Гернику»: искореженные тела валятся друг на друге, образуя подобие пирамиды – формы, предписанной академическими правилами композиции, с которыми Пикассо должен был познакомиться еще в детстве; вершина этой пирамиды устремлена к лампе, напоминающей глаз. Ее свечение с зазубренными краями похоже на вспышку солнца. Изначально высшая точка всей композиции была исполнена жизнеутверждающего героизма – это была вскинутая вверх рука с зажатым в кулаке стеблем цветка, освещенного сиянием солнца. Знал ли Пикассо, что этот жест мог быть истолкован слишком прямо – как коммунистическое приветствие в адрес республиканского правительства, которое сражалось не только против Фаланги, но и против почти столь же жестких попыток захвата со стороны сталинской Москвы? Вместо шаблонного образа товарищеской солидарности и сопротивления художник поместил в высшей точке пирамиды белый глаз, всевидящее око. Примерно в тот же момент, когда была изменена эта деталь, Пикассо сделал на удивление выразительный рисунок: голова быка подвергается атаке многочисленных глаз – крохотные монстры нападают на нее кишащим роем, исполненные гибельных устремлений мелкие сперматозоиды со зрачками-жалами так и метят в яблочко, прямо быку в глаз. Но в последний момент Пикассо – как это часто с ним происходило – посещает гениальная идея: он заменяет холодный, безжалостный зрачок на одинокую лампу, под безучастным светом которой корчится в предсмертных судорогах лошадь и продолжается вакханалия ужаса. На вопросы о символике «Герники» Пикассо впоследствии отвечал лаконично, старался не вчитывать лишние смыслы. Бык, по его словам, был просто быком, а лампа – просто лампой. И все равно трудно не думать о светоче тьмы у Гойи и о поисковом прожекторе прицеливающегося бомбардировщика, равно как и о других ярко подсвеченных бедствиях современного мира.
Герника. 1937. Холст, масло.
Центр искусств королевы Софии, Мадрид
Место Франко – ощетинившегося куска фекалий, скользкой морской гадины из серии «Мечты и ложь» – заняло нечто куда более зловещее в своей равнодушной безликости, наперекор чему тянется классически прекрасная рука со свечой. Это битва двух видов света: доброго и злого; искусство против электричества.
Картина была почти готова. Оставался один важный штрих. По всей мастерской валялись стопки газет. В карьере Пикассо газетная бумага играла центральную роль – художник нарезал ее для коллажей, использовал для самых тонких аллюзий, понятных лишь посвященным шуток о друзьях, намеков на свои романы или же просто ради визуального сигнала, в качестве ловкого художественного приема. Однако в процессе работы над «Герникой» он пользовался газетами как палитрой, так что их страницы покрывались черной и белой краской, превращаясь в палимпсесты наложенных на бумагу отметин. Но раз уж новости оказались покрыты краской (таким образом непреходящее искусство утверждало свое превосходство над эфемерностью журналистики), Пикассо хотел каким-то хитрым способом нанести новости поверх краски. Тогда они с Дорой вместе (единственный раз, когда произведения Пикассо коснулась чужая рука) покрыли круп умирающей лошади мелкими, заостренными нисходящими штрихами – они словно растворяли тело в море нечитаемой псевдопечати или же в гудении прожектора, создавая визуальный эквивалент звуковых помех. При этом все фигуры у Пикассо стремятся вверх, навеки оставляя новостной гул внизу.
Франсиско Гойя. Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года (фрагмент). 1808. Холст, масло.
Музей Прадо, Мадрид
К началу июня зазеленели каштаны, и Пикассо решил, что картина закончена. В мастерскую в доме 7 по улице Гранд-Огюстен были приглашены друзья – скульптор Генри Мур и поэт Поль Элюар. Но в последний момент, непосредственно перед передачей «Герники» в испанское посольство, у художника возникла странная идея – ее он взял из своих же коллажей двадцатилетней давности. Что, если испещренное световыми вспышками черно-белое изображение покажется слишком жестким? Может, заставить картину пролить немного крови? И Пикассо принялся наклеивать кусочки цветной бумаги, главным образом красной, на разные участки – на фигуру бегущей женщины, на мать, на горящий дом. А потом спросил друзей, что они по этому поводу думают.
«Мы ответили молчаливым нет, – вспоминал поэт Хосе Бергамин. – За нас ответили чистый белый, серый и черный цвета „Герники“. Постепенно эксперимент свелся к одному-единственному обрывку бумаги, красной кровавой слезе. Пикассо приставлял ее к глазам разных фигур на картине. С упрямством и какой-то детской проказливостью он не хотел совсем отказываться от этой идеи. Наконец слеза исчезла. А „Герника“ – белая, серая и черная – навеки останется бессмертным свидетельством искусства. Художник здесь возвещает свою самую чистую, самую неприкрытую и поэтическую правду».
Пикассо понимал это все и сам, без Бергамина. Он знал, что сумел совершить почти невозможное – создать вызывающе современное полотно, способное приблизить зрителя к извечной трагедии; кубистское нагромождение и одновременно классический монумент, где воющие от горя женщины обрамляют пирамиду смерти. Перед нами всего лишь краски и холст, черная и белая краски – и больше ничего, но что-то делает эту картину неподвластной времени, неубиваемой. Пресыщенные образами массовых убийств в XX веке, при взгляде на «Гернику» мы все равно ощущаем потрясение – и в этом заключается еще один секрет картины. Именно это и должны делать все великие произведения искусства – взрывать привычную нам повседневность. «Герника» борется со смертельно опасной человеческой привычкой – неприятием собственного времени, стремлением исключить зло и насилие из поля зрения, отмахнуться от зрелища кровавой бойни: мол, мы уже это видели, отстаньте, не мешайте получать удовольствие от искусства. «Герника» создавалась не для развлечения. Ее задача – разбередить рану, лишить нас сна. И это у нее получилось. И это победа Пикассо, победа искусства, победа человечества – во всех возможных смыслах.
VIII
Правда, в 1937 году так не казалось. Никто не сомневался в пользе «Герники», ведь шансов на выживание у Республики становилось все меньше. Непонятно было только, в силах ли картина что-либо изменить. Когда современное искусство в 1930-е годы хотело о чем-то веско заявить, оно, как правило, прибегало к нарочитому натурализму, слегка стилизованному, но без риска быть неправильно понятым. Пикассо, скорее всего, ждал либо всеобщего одобрения, либо всеобщего возмущения. В обоих случаях это означало бы, что его шедевр сделал свое дело.
Однако реакцией публики стало недоумение. После того как Пикассо передал картину испанским властям и получил за нее круглую сумму, заказчики лишь вежливо поблагодарили художника, и это был недвусмысленный намек. Когда «Гернику» повесили на первом этаже изящной модернистской коробки Серта, от «смешанных чувств» было не отделаться. Как и планировалось, полотно закрыло собой всю стену, однако крутая лестница с наружной стороны здания позволяла посетителям сразу проходить на верхний этаж, таким образом они либо вообще не видели картину, либо знакомились с ней в первый раз именно с той точки, которая автору полотна никогда не представлялась важной, – сверху, с позиции бомбардировщика!
Возможно, «Герника» оказалась не совсем той картиной, которую ожидали получить заказчики. Снаружи стены павильона были покрыты более традиционной наглядной агитацией в свойственной эпохе манере – плакатами, увеличенными фотографиями: народные герои, солдаты, крестьяне и дети, а также свидетельства благих дел – новенькие здания школ и больниц, построенных социал-демократическими правительствами Республики. Пикассо не изобразил для Республики ни мускулистых пролетариев, ни даже злодеев в военных сапогах. Но, как оказалось, ни стиль, ни символика были уже не важны. Ибо над стеклянной коробкой Серта возвышалось монструозное сооружение в неоклассическом стиле, спроектированное для Третьего рейха Альбертом Шпеером. Со смотровой площадки Эйфелевой башни, обращенной к Марсову полю, испанский павильон был вообще не виден. И к разочарованию заказчиков павильона, в картине Пикассо не было ничего, что бы однозначно указывало на фашистских агрессоров. Немцев «Герника» позабавила, и они списали ее со счетов как произведение, созданное душевнобольным. В Великобритании Энтони Блант, который к тому моменту работал на советские секретные службы, уже обозвал картину в журнале «Спектейтор» «частным случаем безумия», упражнением в самовлюбленном буржуазном обскурантизме. (Двадцать пять лет спустя он же напишет небольшую книжку, где назовет «Гернику» бесподобным шедевром современности и даже не упомянет о своем первом пренебрежительном отзыве.) Французские друзья и коллеги Пикассо либо ограничились скупой похвалой, либо просто промолчали. В конце концов, французский павильон получился ярким и жизнерадостным: Андре Дерен, Рауль Дюфи, Анри Матисс – все, что нужно для праздника на краю бездны, участники которого предпочитают по-страусиному спрятать голову в песок.
Сам Пикассо внешне никак не отреагировал на столь неоднозначный прием, оказанный его картине. Вместе с Дорой он отправился на Лазурный Берег, где собрал под солнцем всех своих старых друзей. Время от времени с другой стороны Пиреней доходили новости о постепенном уничтожении в Испании оставшихся оплотов Республики. Кольцо вокруг Барселоны стягивалось, и, когда «Гернику» снимали со стены павильона в связи с закрытием выставки, Пикассо узнал о падении Бильбао и сворачивании баскского сопротивления. Печальные известия не оставили его равнодушным – художник принял участие в организации походных кухонь, чтобы кормить сирот и беженцев, которых становилось все больше.
Плачущая женщина. 1937. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Среди тех, кто потерял дом, теперь оказалась и «Герника». Картина была собственностью испанского правительства, но, так как в военном отношении перспективы были слишком уж мрачные, о том, чтобы выслать ее в Испанию, и речи быть не могло. Франко по-прежнему настаивал на лживой версии, согласно которой баски сами разрушили свой древний город. Многие считали, что диктатору не терпится завладеть полотном, чтобы затем его уничтожить. Так началась сорокалетняя ссылка «Герники» при содействии Пикассо – автор хотел, чтобы его детище не застряло мертвым грузом в каком-нибудь музее, но превратилось в кочевого вестника демократии. Даже после полного поражения Республики художник пожелал, чтобы картина ездила по миру и призывала людей никогда не забывать о страшном преступлении.
Но большинству хотелось видеть совсем другое. Картина Пикассо прибыла в Лондон 29 сентября 1938 года – в тот же день, когда Невилл Чемберлен подписал Мюнхенские соглашения с Гитлером. Ведущие деятели культуры – противники политики умиротворения агрессора – Леонард и Вирджиния Вульф, Генри Мур, Эдвард Морган Форстер организовали выставку в галерее Нью Берлингтон. Но народу пришло мало, а оценка критиков оказалась крайне негативной. Энтони Блант в статье «Разоблачение Пикассо» вновь назвал картину «мошенническим трюком».
Вторая выставка в галерее Уайтчепел получилась совсем иной. Это была неприкрытая акция левых лейбористов – открыл выставку лидер партии Клемент Эттли; параллельно состоялся показ фильма о войне в Испании. Под «Герникой» выросла вторая пирамида – из обуви, пожертвованной для солдат-республиканцев. Но ботинки и сапоги не могли спасти республиканскую Испанию. В апреле 1939 года пала Барселона. Пока войска Франко медленно душили Каталонию, в какой-то момент умерла и мать Пикассо.
Художник как-то описывал процесс работы над картиной как великое опустошение, эмоциональное и психологическое опорожнение. Сейчас он действительно чувствовал себя опустошенным, оставалось лишь утешаться общением с Дорой, Мари-Терез и малышкой Майей. Пикассо, конечно, продолжал писать, но делал это без особого энтузиазма, избегая использовать те им же и придуманные новации, что всегда отличали самые оригинальные из его работ. На фоне созданного в этот «пустой» период выделяются две серии. Одна – «Плачущие женщины». Первую картину из этой серии Пикассо написал, заканчивая работу над «Герникой». Это голова Доры, выполненная в бледных, болезненных тонах. Лицо удерживает вместе каркас из черных линий, похожий на свинцовые перемычки в витражном окне, уподобляя Дору Маар рыдающей Мадонне, ни больше ни меньше. Неровные линии, расколотые глаза под абсурдно вычурной шляпой – настоящая неврологическая карта горя. После женщин головы продолжают преследовать воображение Пикассо. Следующая серия – бараньи черепа с выпотрошенными черепными коробками, образы мученичества и жестокого убийства, отсылающие к Рембрандту. Куча раздробленных костей и жил – вот чем заканчивается ритуальный поединок зверей.
Баранья голова. 1939. Холст, масло.
Музей Пикассо, Париж
Тем временем «Герника» продолжала свой путь на запад на лайнере «Нормандия»; через два года этот корабль переоборудуют для транспортировки войск. В Нью-Йорке картина была выставлена как часть ретроспективы Пикассо в Музее современного искусства (МоМА) вместе с «Авиньонскими девицами». Как и в Лондоне, мнения критиков разошлись: одни открыто издевались над художником, другие обвиняли его в приверженности коммунизму, третьи, модернисты, поддерживали Пикассо, но без восторгов. Однако молодое поколение художников – выходцы из Европы и американцы, находившиеся в отчаянном поиске своего пути, среди них Джексон Поллок и Виллем де Кунинг, – видело в «Гернике» источник невероятной энергии, получая от него дозу огня и ярости. Затем картина поехала дальше по стране, до самой Калифорнии, где с ее помощью удалось собрать немного денег для беженцев, хотя восхищались ею по-прежнему скорее из вежливости. Когда в Европе началась настоящая война, Пикассо с готовностью согласился оставить «Гернику» в Музее современного искусства не просто до конца военных действий, но до момента восстановления в Испании демократических институтов. Франко попытался было изъять картину за неуплату испанских налогов, но она так и осталась на 53-й улице, накапливая символическую силу с каждым новым преступлением гитлеровской военной машины.
Сам же Пикассо, по большому счету, выдохся. Вся энергия во время войны была истрачена на выживание. А затем, когда в 1944 году Париж освободили от немцев, на улицу Гранд-Огюстен потянулись толпы благоговейных паломников, жаждущих услышать историю создания «Герники». Пикассо, в целом, с радостью откликался на их просьбы, заново переживая беспокойные дни 1937 года, словно фельдмаршал, вспоминающий свою самую удачную кампанию, – ведь на самом деле так оно и было. Помимо этого, художник начал все чаще выступать с высокопарными заявлениями о политических обязательствах, стоящих перед каждым художником, правда эти заявления нередко служили заменой реальной работе, которая могла бы донести его мысль куда лучше. Одной из таких заявок на политическое высказывание стала картина «Склеп» – ответ на откровения о лагерях смерти – закономерное подобие обрушившейся «Герники», где черный и белый цвета размыты до призрачного, выцветшего серого, а расчлененные, похожие на эктоплазму фигуры тонут в обесцвеченной груде костей. Художник, который когда-то избегал любой политической рисовки, боясь, что она может стеснить его творческую мысль, теперь почти ничем другим, увы, не занимался. В октябре 1944 года он с гордостью заявил о своем вступлении в коммунистическую партию в редакции газеты французских коммунистов «Юманите» и провозгласил, что «искусство и свобода подобны огню Прометея – их необходимо украсть, чтобы использовать против установленного порядка». Именно в этот момент Пикассо заговорил об искусстве как об «оружии наступления и обороны, направленном против врага».
По мере того как Пикассо все более подчинял свои действия политике, его искусство все послушнее шагало в ногу с советской пропагандой, становясь еще более банальным и безликим, чем-то вроде визуального эквивалента речи на партийном съезде. Художник наладил серийное производство голубей и нравоучительных фресок на тему войны и мира. Крайней точкой морального падения стал портрет великого советского героя Сталина – образец отвратительного заискивания. Пикассо стал лицом тирании.
Когда же он наконец отказался от этой роли, то превратился в любимчика глянцевых журналов. В конце 1950-х годов Пикассо из партийного карьериста стал королем вечеринок – его без конца фотографировали в моряцкой рубахе и пляжных шортах: глаза художника по-прежнему блестели, загар становился все темнее, а жены с возрастом – все моложе. Он был все таким же озорным и хулиганистым, но уже каким-то не слишком интересным. Если исходить из количества созданных работ, последние годы жизни Пикассо можно считать победой жизненной энергии над возрастом; однако с точки зрения качества наблюдается скатывание в вульгарную банальность. При этом культ Пикассо только ширился, а отношение к мэтру становилось все более раболепным. Французский кинематографист Анри Жорж Клузо провел не один час, стоя за камерой и снимая, как орудовал кистью Пикассо. Получившийся в результате фильм режиссер назвал «Тайна Пикассо» (1956), но сделал он это как раз в тот момент, когда от этой тайны уже почти ничего не осталось.
IX
С другой стороны, даже когда огонь, питавший ее создателя, начал угасать, яростный посыл «Герники», проведшей десятки лет в ссылке на 53-й улице, не потерял своей силы. Послевоенная действительность с пугающим постоянством продолжала нести мирным жителям ужас и разрушение, так что грандиозное полотно не теряло актуальности. В период холодной войны и агрессии США во Вьетнаме картина стала символом способности современного искусства выражать человеческое негодование – и это в то время, когда корифеи художественной критики, вроде Клемента Гринберга, устанавливали законы, согласно которым цветная абстрактная живопись представляла собой чистейшую форму искусства, будучи исключительно сочетанием цвета и линий на плоской поверхности. Не отвечавшую этим критериям «Гернику», как и следовало ожидать, считали неудобной погрешностью и сбрасывали со счетов.
Однако «Герника» переросла подобную категоризацию, как пережила ее и вся современная живопись. Единственная работа, задуманная Пикассо как нечто большее, нежели акт искусства, парадоксальным образом дала современному искусству по обе стороны Атлантики тот новый стимул, которого ему так не хватало. Предметное содержание? Разрешается! Выражение эмоций? Вы еще спрашиваете! Исторические отсылки? Круто, попробуем! Немецким художникам моральный авторитет и живописная мощь «Герники» дали возможность вслух заявить о цинизме и ужасах своей недавней истории, тогда как писателям это очищение давалось с большим трудом, а журналистика (на какое-то время) погрузилась в прагматичную амнезию. В Америке «Герника» спасла современное искусство от зацикленности на самом себе, от грозившего стать проклятьем чрезмерного умничанья и от обязательства постоянно изобретать что-то новое.
Склеп. 1945. Холст, масло, уголь.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
«Герника» всегда была больше чем Искусство, ее не ограничить музейными стенами. Это одно из тех редких произведений, которые входят в плоть и кровь общей, элементарной культуры. Однако обретенная власть вынуждала вечно бороться с ее последствиями. Пикассо даже получил от этого удовольствие, когда с презрением отказал стареющему диктатору Франко, – тот, как ни странно, захотел вернуть картину в Испанию. Пикассо знал: даже если «Герника» проиграла сражение, она одержала победу в войне и дряхлому старику-фашисту, а с ним его ужасному режиму уготована смерть. Картина, напротив, должна была пережить диктатора и с возрождением свободы в Испании вернуться домой.
Где находится этот дом – вопрос остается открытым и по сей день. Баски настаивают на том, что картина должна находиться в Бильбао, в сердце Эускади, где и была нанесена эта страшная рана. Но в 1981 году «Герника» была перевезена в Мадрид и выставлена под усиленной охраной полиции, закрытая пуленепробиваемым стеклом; в 1995 году охрану сняли – теперь при встрече с публикой защитой картине оставалось лишь ее собственное беспримерное мужество.
И как раз в тот момент, когда можно было подумать, будто «Герника» превратилась в величественную реликвию, важную для своего времени, но не такую уж и нужную нам в нашем глобализированном мире, где все поддается цифровому увеличению, произошло событие, заставившее нас вспомнить о способности искусства совершать то, что в эпоху перенасыщения видеообразами и привыкания к массовым убийствам уже не под силу новостям. Убийства мирных граждан во имя правого дела стремительно набирали популярность – и сегодня у нас нет недостатка в страшных событиях, способных пробудить в этих старых черно-белых созданиях изначально заложенную в них безудержную мощь.
Произошло это в паре сотен метров от Музея королевы Софии, где висит «Герника», в районе вокзала Аточа. 11 марта 2004 года в разгар мадридского часа пик здесь взорвались три бомбы, заложенные исламскими террористами; убито сто девяносто два человека, ранено – две тысячи пятьдесят. Вокзал стал усыпальницей для беззащитных жертв. Но когда догорели свечи и завершились скорбные ритуалы, тысячи и тысячи людей устремились через дорогу, к «Гернике», чтобы еще раз увидеть эту изуродованную человеческую массу. Тогда, чтобы оценить творение Пикассо, им не нужны были никакие аудиогиды. Годом позже, в годовщину взрывов, я видел, как жители Мадрида после памятных мероприятий на вокзале вновь пошли к картине. На месте взрывов теперь была размещена небольшая видеоинсталляция, окруженная свечами. Слайды сменяли друг друга: кадр, ужас, щелчок, ужас, щелчок. Но этого было недостаточно. Слайд-шоу, скорее, погружало в оцепенение, оно не говорило с людьми. А «Герника» по-прежнему говорит. И когда она делает это, мы слышим страшный крик о кровавом убийстве.
Такая способность нарушать заведенный порядок может изрядно раздражать. В феврале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступал перед Советом Безопасности ООН относительно перспектив военного вторжения в Ирак. Пресс-конференция должна была проходить в коридоре, ведущем к залу Совета. Но в последний момент кто-то из присутствующих – то ли представители Госдепартамента, то ли журналисты – почувствовали, как что-то в этом пространстве вызывает у них некое неудобство: на стене висел гобелен – копия «Герники». О ужас. Горящие дома, кричащие женщины, мертвые младенцы. Вот незадача. Вызывающее изображение завесили стандартным ооновским задником небесно-голубого цвета, и конференция прошла, как и было задумано.
Если бы журналисты и помощники госсекретаря не поддались панике и задумались на минутку, они могли бы использовать «Гернику» в своих целях – сказать: «Вот, смотрите, что несет тирания – смерть, страдания, ужас». Но они не стали этого делать. Как ни крути, один вид этой картины в вечерних новостях мог травмировать людей, заставить их совершенно иначе воспринять сказанное. Лучше ее прикрыть.
По-моему, трудно придумать более убедительный довод в пользу силы искусства (и более сомнительный комплимент в его адрес). Даже если у вас самая сильная в мире страна, самые мощные средства массовой информации и вы можете посылать на борьбу с диктаторами целые армии, уничтожая тиранов в прямом эфире, не стоит спорить с шедеврами. По крайней мере, не с «Герникой».
Ротко Запредельная музыка в городе мерцающих огней
Марк Ротко в своей мастерской (фрагмент). 1952. Серебряно-желатиновая печать.
Фото – Кей Белл Рейналл. Архивы американского искусства, Смитсоновский институт, Вашингтон
I
Велика ли сила искусства? Способно ли оно заставить человека отказаться, например, от пищи, как это делают любовь, скорбь или страх? В состоянии ли оно резко затормозить неумолимый ход жизни, заглушить суетливый гул и обратиться непосредственно к нашим первичным эмоциям, таким как отчаяние, желание, восторг, ужас?
Долгие столетия в истории искусства существовало правило: если поднимаешь планку высоко, то, чтобы донести поэтический напор чувств, необходим сюжет или хотя бы выразительная фигура: Мадонна в слезах, сладострастно беззащитная обнаженная красавица, проникновенный автопортрет, герой, поверженный в пылу битвы. Даже наполненные светом пейзажи без фигур таили в себе намек на сентиментальные воспоминания о кратких мгновениях блаженства.
Марк Ротко, напротив, верил, что эта традиция себя исчерпала, что фигуративное искусство утратило способность обеспечивать внутреннюю связь с человеческой трагедией. Кого могла удивить пара стрел в боку у святого Себастьяна в век, когда людей десятками тысяч сжигали в газовых камерах? В мире творились невообразимые вещи, а культура в ответ на это гасила боль, удовлетворяя повседневные аппетиты человека и тем самым отвлекая его, – в этом художник видел главную проблему современной жизни, современного общества потребления. Проблема же современного искусства состояла в том, чтобы перебить эту неуемную беззаботность окружающей жизни и вернуть человека к пониманию безжалостной драмы его существования посредством самых традиционных материалов – красок и холста. Торжество фотографии только усугубляло ситуацию: уравнивание визуально зафиксированного образа с реальностью делало зрителя еще менее восприимчивым к сокровенной правде опыта. Только совершенно новый визуальный язык сильных чувств, считал Ротко, в состоянии вывести нас из морального ступора. И он решил подвергнуть себя – и весь Нью-Йорк – своеобразному испытанию.
Красное на темно-красном («Сигрэм», панель 2). 1959. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
В 1958 году Ротко взял заказ, который, как ему казалось, позволил бы внедрить его монументальные, полные драматизма полотна в самое логово зверя. «Сигрэм» (Seagram), канадская компания по производству крепкого алкоголя, пожелала дополнить изысканное, оформленное в модернистском стиле пространство ресторана «Времена года» (Four Seasons), расположенного на первом этаже манхэттенской штаб-квартиры компании, лучшими образчиками современного искусства. Работы Ротко планировалось разместить рядом с полотнами Пикассо и Джексона Поллока. Ротко согласился на заказ, но скорее как дуэлянт, поднявший брошенную ему перчатку. Он хорошо понимал, с чем придется сражаться. Сплетни, мода, блеск. Но в том-то и состояла суть. Ротко был на пике своих возможностей, и уж если предстояла битва высокой кухни и высокого искусства – по крайней мере, творимого им высокого искусства, – у палтуса в трюфельном соусе не было никаких шансов. В окружении полотен Ротко, разворачивая на коленях льняные салфетки, посетители ресторана вольно или невольно должны были преобразиться. В процессе обеда – между консоме и чашкой кофе – им предстояло погрузиться в глубины Человеческой Трагедии.
II
Но все получилось не совсем так, как было задумано. 25 февраля 1970 года «настенные росписи» для небоскреба «Сигрэм» были доставлены не в Нью-Йорк, а в галерею Тейт (сегодня она называется Тейт Британия), на набережную Темзы Миллбанк. За несколько часов до этого, в тот же день, тело Марка Ротко было найдено на полу его манхэттенской мастерской. Художник покончил с собой, перерезав вены на запястьях. После долгого пребывания в царстве мертвых, заключенном в пределах собственного сознания, Ротко обрел в Лондоне некое подобие личного мавзолея.
Именно поэтому весной того года автор этих строк не слишком торопился увидеть полотна из «Сигрэма». Тот факт, что их выставили в отдельной галерее внутри Тейт, отдавал каким-то уж слишком благоговейным почитанием: дань одному из великих грешников героической эпохи абстракции. Я же особого благоговения не испытывал, тем более в 1970 году; вечные истины меня тогда не заботили. Куда больший интерес вызывало искусство, близкое к игре, способное ухватить бурлящую живость момента и заставить ее всколыхнуть все вокруг. В Британии этим занимались (каждый по-своему) Ричард Гамильтон, Питер Блейк, Дэвид Хокни, Бриджет Райли, Патрик Колфилд; в Америке – Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Джеймс Розенквист и Рой Лихтенштейн. ТА-ДАМ! Мы все знали, что великие патриархи абстракции считали свои полотна преградой на пути потоков мусора, проникающих из поп-культуры, и мы ненавидели их за этот пуританизм. Наши художники не бежали в панике от массовой культуры, они заигрывали с ней и делали из нее искусство. Мысль о том, что надо явиться с повинной и пройти курс трансцендентальной коррекции, воспринималась как нечто омерзительное, вроде вынужденного похода в церковь. И то, что Ротко теперь присоединился к пантеону благородных абстракционистов с суицидальными наклонностями, только делало такую перспективу еще более леденящей кровь.
С другой стороны, в то утро мне очень хотелось посмотреть полотна Фрэнсиса Бэкона, и потому я направился в Тейт, прошагал по величественным коридорам крыла Дювин, случайно повернул не туда, куда собирался, и очутился перед работами Ротко. Это явно не была любовь с первого взгляда. В любом случае разглядеть их было не так-то просто – сам художник настаивал, чтобы его картины выставлялись при минимальном освещении. Но это, конечно, было крайне мудрое распоряжение. По мере того как взгляд покидал слепяще-белые стены и приспосабливался к бархатистому мраку, глаза погружались в абсолютно иной оптический мир. Ощущение было такое, словно находишься в кино, где главный герой заставил приглушить звук: ожидание в тумане. Что-то алое и багряное там, внутри картины, постоянно пульсировало, точно клапан в органе человеческого тела. Ротко говорил о своих полотнах, что они представляют собой «путешествие в неведомый мир, исследовать который способны лишь те, кто готов идти на риск». Чем дольше я смотрел на эти картины, тем сильнее ощущал, как черные колоннообразные формы непреодолимо затягивают меня внутрь мира, созданного художником. Я все еще не был уверен, что хочу в этом мире оказаться, но магия изображения не оставляла мне выбора – я должен был двигаться дальше по этому пути. И в конце могло ожидать удовольствие не из приятных.
III
Ротко с удивительным упорством утверждал, что не является абстракционистом, и это кажется абсурдом. Разве его полотна не представляют собой соединение цветоформ? На самом деле, по крайней мере так считал сам художник, просто выложить эти формы и на этом остановиться было бы недостаточно. Такой путь вел к скучному самоограничению и эстетическому нарциссизму. Темы важны, утверждал он, а главной темой его творчества (даже если смотрящий далеко не сразу мог разглядеть ее в нагромождениях цветных полей) стала вселенская трагедия человеческого бытия.
Марк Ротко, хотя и не участвовал ни в одной из войн, верил, что хранит их историю в своей крови. Он утверждал, будто помнит, как в Двинске – городе в царской России, где в 1903 году художник родился под именем Маркус Роткович (сегодня – латышский Даугавпилс), – казаки гоняли евреев по улицам. Одному из родственников, как гласило семейное предание, они даже отрубили голову. Маркус покинул Двинск в возрасте десяти лет, и, хотя половину населения города составляли евреи, никаких погромов там не было. Тем не менее в этом возрасте мальчик уже наверняка мог знать, что такое погром, и бояться происходившего с евреями в черте оседлости. Когда Маркусу исполнилось семь лет, его отец, аптекарь и книгочей Яков, уехал с двумя старшими сыновьями в США в поисках новой жизни (история обычная – мечтатель, совершенно неспособный зарабатывать деньги). К моменту, когда семья воссоединилась в Портленде, штат Орегон, в августе 1913 года, старший Роткович был уже серьезно болен – у него был рак толстой кишки. Семь месяцев спустя он умер. Мать Маркуса Анна (в Америке она взяла себе имя Кейт) осиротела дважды, лишившись и мужа, и родины. Когда Ротко наконец решил написать интимный семейный портрет – словно по примеру Шагала, – маленький клан на его картине вместе именно усилиями матери.
Годы спустя, когда успех уже позволял художнику держаться накоротке с журналистами, которые, как он считал, не были в состоянии понять, чем он на самом деле занимается, Ротко ушел в агрессивное молчание. «Молчание обладает невероятной точностью», – торжественно заявлял он, и, по сути, возразить на это было нечем. Однако бо́льшую часть своей жизни – и особенно в молодости – Ротко отнюдь не был похож на монаха-трапписта, давшего обет молчания, но являл собой куда более узнаваемый (по крайней мере, для меня) еврейский тип: был словоохотлив, энергичен, вспыльчив, серьезно интересовался литературой и историей. Ортодоксальный иудаизм, в традициях которого он был воспитан, казалось, никак не должен был повлиять на его будущее творчество, но, если ты в детстве прошел через хедер – традиционную еврейскую школу, – избавиться от этого опыта уже невозможно, как бы ты к этому ни стремился. Так было и с Маркусом. Он стал тем, кого на идиш с улыбкой и восхищением называли хухэм – мудрец-всезнайка. А что делать хухэму, если он не собирается стать раввином?
Тем, что на идиш обозначается як – трепать языком. В школе Линкольн Маркус был одним из лучших участников публичных дебатов и ходил слушать зажигательные речи «красной» анархистки Эммы Гольдман, которая в своих выступлениях крушила капитализм и восхваляла русскую революцию. Но помимо этого, он еще посещал занятия по сценическому искусству и задумывался о совсем иной карьере. Случалось ему и накладывать грим – совсем ненадолго, но настоящей драме еще только предстояло разыграться на его полотнах.
Выпускник Ротко был, естественно, кандидатом на получение стипендии и был зачислен в Йельский университет еще до того, как университеты Лиги плюща ввели квоты на поступление, решив, что среди их студентов оказалось слишком много умных евреев. Тем не менее он успел почувствовать, как жалят «осы». Если отчислить острых на язык сынов Авраама, «этих людей», было не так-то просто, можно было максимально усложнить их пребывание в университете. К концу года, проведенного в основном за изучением истории философии и психологии, студенту Ротковичу прекратили выплачивать стипендию. Маркус жил за пределами университетского кампуса, в Нью-Хейвене у родственников, и вместе с товарищем выпускал подпольную левацкую сатирическую газету Saturday Evening Pest – «Субботний вечерний вредитель», согласившись играть ту роль, которая была ему определена. В конце второго курса он бросил учебу.
Автопортрет. 1936. Холст, масло.
Собрание Кристофера Ротко
Противоядием против всей этой суматохи был Мантхэттен эпохи джаза, и Ротко не замедлил туда отправиться. Позднее он утверждал, что лишь хотел «побродить по городу, побездельничать и немножко поголодать», но осенью 1923 года главным магнитом для него были не буги-вуги и подпольные бары, а скорее Маркс и Моцарт. Когда именно в его организм попала бацилла искусства, сказать сложно. В Йеле Ротко еще держался от него в стороне, но стоило ему приехать в Нью-Йорк, как он тут же записался в класс рисования с натуры в Лиге студентов искусств. При этом – что немаловажно – он разрывался между мастерской и сценой. В 1924 году будущий художник, который впоследствии останется у всех в памяти (ошибочно) как высокомерный молчун, отправляется домой в Портленд, чтобы учиться актерскому мастерству в местной труппе. По признанию Ротко, именно в труппе Жозефины Диллон он впервые открыл для себя музыку, цвет и художественное оформление. Соедините все это с присущим ему интуитивным пониманием трагедии – и вы получите все качества, которые были необходимы молодому человеку, чтобы стать Марком Ротко.
Однако процесс становления занял тридцать лет, и это были годы борьбы, подчас борьбы мучительной. В 1925 году Ротко учился писать натюрморты у художника и преподавателя Макса Вебера. В моде тогда был Сезанн – от него было рукой подать до модернизма, и Роткович начал с натюрмортов, обнаженной натуры и пейзажей, причем некоторые из них (женщины с грудями-яблоками и ландшафтом между ног) были, по сути, вариациями на одну тему. Чтобы прокормить себя, Маркус подрабатывал бухгалтером у родственников (а чем еще он мог заняться?) в компании по производству одежды и рисовал карты и иллюстрации для «Иллюстрированной Библии» – инициатором проекта был молодой раввин Льюис Браун, с которым художник познакомился по дороге из Нью-Хейвена в Нью-Йорк. Когда книга была напечатана, Маркус решил, что его обделили – и славой одного из ее создателей, и гонораром. В свои двадцать четыре года подал в суд на ребе Брауна и издательство «Макмиллан». Дело дошло до апелляционного суда Нью-Йорка, где жаждущий крови молодой истец проиграл.
Без названия (Струнный квартет). 1935. Картон, масло.
Национальная галерея, Вашингтон
Однако теперь он стал полноправным участником манхэттенской художественной жизни – его стали принимать у себя Мильтон Эвери и его жена Салли. Каждую неделю Маркус приходил к ним в квартиру на Риверсайд-драйв и на занятиях в натурном классе снова и снова воспроизводил рыхлые, деформированные бледные фигуры, выдававшие подавленные сладострастные желания, – слегка придушенная форма манхэттенского экспрессионизма, художественные блуждания где-то между Сутиным, Бекманном и Бруклинским мостом. Но уже в 1928 году в галерее с многообещающим названием Opportunity – «Перспектива» Роткович выставляет свои картины рядом с работами Мильтона Эвери.
Годы спустя Ротко будет вспоминать о непростом периоде конца 1920-х – начала 1930-х годов с романтической ностальгией: «Тогда не было ни галерей, ни денег, ни критиков. Было только желание добиться успеха, а терять было нечего». Для молодого художника в поисках собственного места это время действительно было одновременно и трудным, и замечательным. Были и стены, в которые приходилось биться. Музея современного искусства еще не существовало; Метрополитен-музей с патрицианской спесью задирал нос перед модернизмом, а музей Уитни предпочитал такую американскую живопись, которую молодой Роткович презирал сильнее всего, – жанровую, провинциальную, изображающую забавные бытовые сценки и полную банальностей.
К тому времени у Ротко уже сложилось непростое отношение к Америке и американской живописи – он сохранит его до конца жизни. С одной стороны, художник осознавал, что является персонажем классической иммигрантской истории: когда он по-настоящему обратился к живописи, то сначала писал евреев – уличных торговцев, семейные портреты, музыкантов, играющих на скрипке и других струнных инструментах. Подобные картины с равным успехом можно было создавать в Двинске или Берлине и в районе Нижнего Ист-Сайда. Городская Америка была его Америкой, и он вибрировал в такт ее дребезжащей мелодии. Но на стенах галерей на Среднем Манхэттене чаще встречались изображения другой Америки: бескрайние небеса, плодоносные долины, величие багряных гор, свет Провидения над прериями. Об этой Америке Ротко знал мало, да и не хотел ничего знать. На раннем этапе у него было чувство, будто Америка должна дать миру искусство, которое было бы новым и важным в своей истории, но в то же время ему хотелось, чтобы это искусство вело серьезную игру, чтобы оно каким-то образом подключалось к универсальным идеям, над которыми он размышлял дни и ночи напролет, не выпуская изо рта сигарету. Но как бы могло выглядеть такое искусство – об этом он пока не имел ни малейшего представления.
Ротко начал преподавать изобразительное искусство в еврейской школе в Бруклине. Годы спустя, когда кое-кто из бывших учеников узнал, что их учитель стал знаменитым современным художником и воплощением неприкаянности, для многих из них это стало сюрпризом – они помнили своего «Ротки» совсем другим: открытым, отзывчивым, любителем поболтать. Можно предположить, что для Ротко детская непосредственность была естественным образом связана со сверкающими красками и спонтанными формами, которых он, со своей стороны, не собирался добиваться от учеников бесконечными упражнениями в рисунке. «Живопись – такой же естественный язык, как пение», – утверждал он.
Однако стоило Ротко в тридцатые годы начать писать самому, вместо искристого звука у него слишком часто выходило хриплое кваканье: темные нагромождения мелких предметов, вываленных на доску, визуальные записи полуночных разговоров с друзьями на тему. «Куда идет современное искусство». Работы этого периода крайне «многословны», будто на художника давит слишком тяжелое бремя самых разных и противоречивых влияний и ориентиров, – он совершает нечто вроде европейского турне по модернистским мотивам: темные свинцовые каркасы линий Жоржа Руо, тяжелые мазки Сутина, тревожность Мунка. Случались и удачи – например, «Струнный квартет» (1935), изломанные персонажи которого на столь любимом Ротко комковато-грязном фоне создают своеобразный печальный диссонанс. Тем не менее большинство полотен производили впечатление добросовестной вторичности. Ротко примерил на себя немецкий экспрессионизм, нашел, что тот ему не вполне по размеру, но все равно попробовал с ним поэкспериментировать. Работы начала 1930-х годов составляют полную противоположность радостным, пусть и неумелым, рисункам его учеников, полных ярких красок и свободы – всего, что Ротко, по его утверждению, так любил.
IV
Таким образом, к 1929 году, когда случился биржевой крах и наступила Великая депрессия, отчитаться за проведенные в Нью-Йорке десять лет Маркусу Ротковичу было особенно нечем. Он выставлялся, но продавать картины не очень-то получалось, а если и получалось, прожить на вырученные деньги было невозможно. Маркус женился на Эдит Сахар, неглупой и находчивой еврейской девушке, – с ней он познакомился в летнем лагере на озере Джордж в горах Адирондак, где участники осваивали диалектический материализм, Фрейда и кубизм, запивая это все некрепким кофе. Маркус никогда не был истинным обитателем богемного района Гринич-Виллидж, поэтому пара поселилась в доме без лифта и горячей воды на Среднем Манхэттене, где Эдит зарабатывала на хлеб созданием серебряных украшений, сочетая коммерчески привлекательный дизайн с элементами модернизма. Все это, естественно, не могло избавить художника от тревожного ощущения необходимости найти собственный путь.
Работа шла вовсю, Маркуса приглашали выставляться, но на его картинах это не отражалось: они были пронизаны мрачным унынием (и это не только результат экзистенциальной тревоги, свойственной жителю большого города). Что, если Маркус Роткович оказался одним из тех художников, которым проще составить манифест, чем создать что-то свое? В 1934 году он стал одним из двухсот основателей Союза художников (Artist’ Union). Год спустя он стал членом «Группы десяти» (The Ten) (в иудаизме 10 – минимальное число человек для совместной молитвы) и принялся агитировать за «эксперимент» против консерватизма музеев, школ и галерей. На самом деле в группе было девять участников, да и выставленные ими работы, несмотря на весь экспериментаторский пыл, новизной не поражали. Участникам группы было важнее выглядеть экспериментаторами, в зависимости от того, на что реагировал европейский культурный радар.
Без названия (Подземка). Ок. 1937. Холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон
Несмотря на все талмудические перебранки, свойственные левацким группировкам, взаимные обвинения и демарши, Роткович и его товарищи горели желанием создавать искусство, способное что-то рассказать про отчуждение, как им казалось, свойственное современной им американской жизни. Когда Рузвельт запустил свой Новый курс, Управление общественных работ (WPA) наняло художника для участия в так называемом «отряде станковой живописи». Но Маркус, следуя духу времени, на самом деле хотел заниматься монументальными проектами – писать фрески, которые вышли бы из галерейного загона и оказались в пространстве, где обитали обычные люди. Однако обе попытки Ротковича поучаствовать в конкурсе – один был связан с украшением почтамта в Нью-Рошеле, небольшом городе к северу от Нью-Йорка, – оказались неудачными. Усложнил ситуацию и тот факт, что работы Эдит WPA как раз приняло.
Вход в подземку. 1938. Холст, масло.
Собрание Кейт Ротко-Прайзел
В 1936 году Роткович посетил выставку сюрреалистов и дадаистов в новом Музее современного искусства, где познакомился с царством грез, созданным Джорджо де Кирико и Ивом Танги, и наконец нащупал путь, ведущий к мотиву, который мог стать его собственной визитной карточкой. Серия с изображениями метро – первые картины Ротко, поражающие зрителя своей завораживающей странностью. Отправной точкой послужили сюрреалисты с их тревожными ночными площадями, но настоящим источником для художника становятся не иллюстрации к Фрейду, а пульс реального города. Поездка на метро как галлюцинация (нам ведь всем это знакомо), когда вдруг ощущаешь, как это странно: оказаться запертым в вагоне, мчащем тебя в никуда. Подземка Ротко улавливает в городской повседневности то, что составляет социальный опыт, и одновременно преследует нас, обдавая потусторонним холодком: зловещее гудение шпал, кисло-сладкий запах дезинфицирующего раствора, подвижная грань между сейчас и когда угодно.
Ротко установил эту связь. На платформу вползает неотвратимый фатум, Орфей ищет свою Эвридику в поезде, направляющемся в сторону пригорода. Пассажиры из Бронкса бродят, словно неприкаянные души, застрявшие в чистилище. Художник всячески подчеркивает ощущение клаустрофобии, сознательно усиливает его. Архитектура подземки с траурными рядами колонн капустного цвета, лестницы, уходящие в никуда и спускающиеся из ниоткуда, синкопирующий ритм открывающихся и закрывающихся вагонных дверей – талант Ротко создавать психологически нагруженные композиции превращает все это в ожившую матрицу. Чем дальше, тем меньше картины из этой серии напоминают жанровые городские сценки. Ротко не собирался становиться Эдвардом Хоппером подземки. Все намеки на сюжет и привязки к местности утрачиваются, лица пассажиров сведены к неразличимым пятнам. Они всего лишь тени в роящейся толпе других таких же, а их вытянутые полупрозрачные тела прижаты к колоннам, делая их похожими на насекомых-палочников.
Настоящее действие происходит там, где цвета, как кажется, живут своей жизнью, уже не связанные с тем, что должны изображать. Ротко называл свои цвета «солистами», и, если вглядеться в край платформы, выписанный блестящим кармином сухими протяженными мазками, начинаешь понимать, что он имел в виду.
Формы несут в себе напряжение линий и одновременно излучают собственную, исключительно цветовую энергию. Если повернуть эти картины на сорок пять градусов, можно увидеть ряд черт, которые впоследствии сделают Ротко тем, кем он стал: поля насыщенного цвета, сдерживаемые рамками линий, но рамки эти не жесткие. Игра началась.
Но, в отличие от поездов подземки, до конечной станции она не добралась. Война потрясла творческое сознание Ротко; ритмы подземки вдруг стали казаться слишком банальными, недостаточно убедительными, чтобы принять вызов времени. Для художника происходящее стало проявлением всеобщего морального кризиса. Американским гражданином он стал только в 1938 году, и тот факт, что Рузвельт пошел на конфронтацию с фашизмом, воплотил самые сокровенные ожидания Маркуса: Америка преодолела свою зашоренность и стремление к изоляции и вновь подключилась к течению современной истории. Теперь Ротко и его друзья-художники, многие из них были евреями – выходцами из европейских стран, мечтали, что и американское искусство пойдет тем же путем. Если фашизм грозил уничтожить европейскую цивилизацию, Соединенные Штаты должны были принять эстафету и спасти человеческую культуру от нового Средневековья. Проблема отнюдь не сводилась к тому, чтобы предоставить убежище «явлениям» вроде Пита Мондриана или «Герники»: надо было совершить настоящий американский поступок – сделать что-то смелое и свежее, вступить в бой с врагом, который окрестил модернизм «дегенеративным искусством» и сделал все, чтобы уничтожить его приверженцев.
Без названия. 1941–1942. Брезент, масло, графитный карандаш.
Национальная галерея искусств, Вашингтон
На деле все оказалось не так просто. Барнетт Ньюман, один из ближайших друзей Ротко, выпустил очередной манифест, заявив, что он и его группа считают невозможным по-прежнему писать «цветы, обнаженных одалисок, музыкантов, играющих на виолончели», в ситуации, когда «подорваны все моральные устои и мир лежит в руинах». Ньюман пришел к выводу о необходимости вообще отказаться от искусства на то время, пока Америка участвует во Второй мировой войне, – то есть на четыре года. У Ротко были свои причины для беспокойства и нравственных мучений; в армию его не взяли из-за сильной миопии (близорукости), что для художника было позором, и это тоже не добавляло энтузиазма. Трудности обступили со всех сторон. Брак с Эдит разваливался. Сорокалетнего художника снедал страх: а вдруг ему так и не удастся найти ту самую, ускользающую форму живописи, которая была бы одновременно по-настоящему американской и универсальной, радикально новой и однозначно вневременной. После посещения каждой удачной выставки в Музее современного искусства – Дада в 1936 году, Пикассо в 1939-м (где он никак не мог понять, почему «Герника» выполнена в черно-белой гамме) – Ротко чувствовал себя только хуже.
Рождение цефалоподов. 1944. Масло, угольный карандаш.
Национальная галерея искусств, Вашингтон
Тогда он сделал то, что обычно делают творческие люди, когда теряют вдохновение, – вновь обратился к «большим книгам», текстам, которые выразительнее всего раскрывали перед ним извечное стремление человека безжалостно уничтожать себе подобных, – к древнегреческим трагедиям, к трагедиям Шекспира, к «Рождению трагедии» Ницше. Затем он попытался запечатлеть эту жестокость на холсте – словно археолог, раскапывающий останки древних жертвоприношений.
В его работах появляются мифы, монстры, развороченные туши и предзнаменования: сирийские быки, египетские соколы, индийские змеи, полулюди-полузвери, перья и весы, клювы и когти, скольжение и шипение. Образы – композиции из сегментированных цветовых плоскостей – выложены на полотно подобно элементам фриза, как будто экскаватор пробивает себе путь через горы костей. И хотя художник, оставаясь послушным модернистом, обязательно отделяет головы от задних частей туловищ, у зрителя все равно остается ощущение, будто перед ним не художник, а профессор, сознательно исследующий мрачные глубины собственного сознания.
Медленный водоворот на краю моря. 1944. Холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Время от времени в нем словно пробуждался прирожденный бруклинский преподаватель, он отбрасывал все эти надуманные экзерсисы и делал то, что делали его ученики, только теперь это называлось «автоматическое рисование»: художник позволял линии идти так, как подсказывал инстинкт. И вдруг – о чудо! – на холсте возникали биоморфные образы, напоминавшие скорее не об археологии, но о временах палеолита: извивающиеся беспозвоночные и разнообразные плавающие организмы из докембрийского первичного бульона. Существа обретали все большую свободу движений, то же самое происходило и с Ротко: живопись становилась водянистой, краски теряли мясистую плотность. Причудливые формы, переданные легкими пятнами прозрачного цвета, дрейфуют и вибрируют в пространстве картин, похожие на желеобразных медуз. Их движения почти что соблазнительны и нередко музыкальны. На картине «Медленный водоворот на краю моря» (1944) гуманоиды мужского и женского пола меланхолично приближаются, вращаясь по спирали, к подобию кромки воды, вызывая игривое (мягкий тычок под ребра от Миро) и дразнящее эротическое настроение. Пегги Гуггенхайм – а она явно отличалась склонностью и к игре, и к эротизму, оставаясь при этом активнейшей покровительницей американского авангардного искусства, – почуяла, что Ротко чем-то не похож на остальных (тот к этому времени уже оставил упражнения в археологической символике), и моментально приобрела «Медленный водоворот».
Неожиданная чувственность была вызвана причинами как личного, так и исторического свойства. Ротко влюбился в Мэри Элис Бейстл, темноволосую жизнерадостную художницу-иллюстратора; Мэри была на восемнадцать лет моложе мужа, и все называли ее Мелл. Ее присутствие явно придавало художнику бодрости и сообщало легкость его кисти. Ведь картины, так или иначе, всегда повествуют о начале бытия.
V
Примерно так и ощущали себя в конце сороковых американские художники, пока Европа оплакивала своих мертвецов. Это был один из редких моментов, когда власть и изобретательность встречаются в одной точке и их сближение дает толчок к появлению картин. Подобное уже произошло однажды в Голландии тремя столетиями ранее, когда в конце долгой войны с Испанией случился краткий миг упоения силой, чувство освобождения от пут старого мира, заслуженное право увидеть мир заново. И, как когда-то в Республике Соединенных провинций Нидерландов, пьянящая перспектива начать все заново была результатом слияния энергий местного и иммигрантского населения. Нацисты воспринимали искусство (как и все остальное) совершенно неправильно. Модернизм, который они клеймили как «дегенеративное» направление, на самом деле таил в себе зерно нового роста, а то, что превозносилось как «возрождение», представляло собой затхлые объедки неоклассицизма. Их ошибка оказалась удачей для Америки – и особенно для Нью-Йорка. Ханс Хофман и Виллем де Кунинг, переехавшие в США до начала войны, выплеснули свою энергию в город; их полотна впитали ощущение яркой, необузданной гонки. Рисунок по-прежнему подчинялся идее, но считывался как ловкий и гибкий маневр; кисть и карандаш, «словно в пляске прихотливой», разбегались по всей поверхности. Даже требовательный старик Мондриан (известный своим пристрастием к бальным танцам) поддался воздействию ритма, вытащил гвозди из своих решеток и позволил им раскачиваться в такт пульсации города.
Американские художники слишком долго уезжали в Европу – или ориентировались на нее концептуально – как восприимчивые ученики, почтительно осознавая собственное, как им казалось, культурное неведение. Именно так Ротко воспринимал слова своего учителя Макса Вебера в 1920-е годы и всеми силами пытался подстроиться под ритм Берлина и Парижа. Но теперь никаких сигналов оттуда не поступало. Пикассо, Леже и Миро переехали на юг Франции, и вся их изобретательность нежилась на пляже. Пора было освободиться. И вот в конце 1940-х годов, под влиянием и благодаря поддержке таких меценатов и владельцев галерей, как Пегги Гуггенхайм и Бетти Парсонс, американские художники, в том числе Джексон Поллок, Франц Клайн и Клиффорд Стилл, пройдя через увлечение сюрреализмом и создав целый ряд перенасыщенных символами медитативных работ, отбросили вдруг своего Юнга и вышли из своей глуши, размахивая кулаками: измазанные в машинном масле ковбои со своими жестяными банками и малярными кистями из свиной щетины; и все они упивались грубой и тяжелой шероховатостью своего штриха, пятнами пота, щедрыми брызгами краски. Они поразительным образом обрели одновременно и мощь, и изящество – как будто в мастерскую разом набилось сразу несколько бейсболистов уровня Джо ди Маджио.
Однако планы этих художников выходили далеко за пределы спортивных забав. Писатель и художественный критик Гарольд Розенберг назвал их практики «живописью действия» – ее мишенью стала тепловатая умеренность послевоенной американской жизни; эта жизнь, как им казалось, проживалась виртуально, а не физически. Что открывалось им при взгляде на мир? Холодная война, война в Корее, две сверхдержавы, неспособные вырваться из смертельных объятий друг друга; на родине, в США, царили паранойя и ужас, «красные под кроватью», атомный гриб на расстоянии одной нажатой кнопки. Реакцией стало отрицание как стиль жизни: мечта одноэтажной Америки в клетчатых рубашечках и белых носочках; «бьюик» у въезда в гараж, жена на кухне печет пироги, дети почитают родителей; Билли несется по футбольному полю, веснушчатая Сьюзи, в ярко-желтых остроносых лодочках, его подбадривает; глава семьи торопится на работу в отглаженном строгом костюме от Brooks Brothers и возвращается домой к своему мартини и тапочкам; все семейство скачет, задыхаясь от восторга, как радостный лабрадор Рекс, а на заднем плане всегда обязательно мерцает экран телевизора и слышится закадровый смех. А что еще делать с этой мегамощью? Либо бром, либо самоубийство.
Именно эту американскую жизнь хотели раскрошить вдребезги художники действия – ну, или хотя бы измутузить до неузнаваемости. Это же так по-американски, полагали они, использовать живопись, чтобы вновь привязать людей к физической реальности. И хотя их работы не были похожи ни на что из прежнего, даже на самые радикальные проявления кубизма, целью здесь была реставрация. В руках новых творцов искусство должно было стать тем, чем было в прошлом, – «защитой мира», как называл его друг Ротко, поэт Стэнли Куниц. Однако сделать это оно должно было не иллюстративно, но используя фундаментальные атрибуты искусства – цвет и линию. Впервые эти два инструмента не боролись за главенство в картине: в блуждающих красочных смерчах Поллока они неразделимы.
Но ни один из перечисленных художников не осознал свое призвание заново очеловечить мир путем борьбы с убаюкивающим комфортом современной жизни с такой серьезностью, с какой это сделал Ротко. Его жизнь вновь вошла в свою колею. В 1945 году, спустя всего несколько месяцев после развода с Эдит, художник женился на Мелл. В этот период он писал буквально не отрываясь, с неистовой энергией. С 1940 года он перестал называть себя Ротковичем.
И то, что он писал, впервые было исполнено такого поразительного драматизма. По собственному признанию, Ротко хотел «вытянуть руки в стороны», сделать глубокий вдох и окунуться в состояние текучей неопределенности, которое он позволял себе после периодов автоматического рисования. Однако художник сделал еще один шаг. Теперь это была не столько фантазия первобытных глубин, но, скорее, взгляд в микроскоп на пульсирующие клеточные формы – в увеличенном виде эти создания, меняющие свои обличья, становились «мультиформами», как их называл Ротко. И также впервые художник попробовал не переносить идеи на холст, но позволил живописи самой прийти к нему.
На помощь был призван Матисс. В 1949 году коллекция Музея современного искусства пополнилась его «Красной мастерской» (с. 447), и Ротко, словно паломник, снова и снова приходил в зал, чтобы увидеть ее. Картина Матисса поразила его, как удар молнии. Она упраздняла объем и заново открывала живописное пространство. Венецианский красный покрывал весь холст – ничто не подсказывало смотрящему, где заканчивается пол и начинается стена. Сами предметы – окно, декоративная тарелка, картины на стене – плывут по красному полю, лишенные различимого на глаз объема. От третьего измерения, составлявшего на протяжении веков весь смысл живописной иллюзии, автор попросту отказался. Однако эта трансформация отнюдь не лишила полотно драматического эффекта, но, напротив, если привыкнуть к идее, что в этой системе координат предметы уже не имеют цвета, зато им обладает картина, только усилила его.
Анри Матисс. Красная мастерская. 1911. Холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Ротко взял это на заметку. Но как! Теперь, если надо было передать чувство мифологического или первобытного эволюционного момента, ему уже не приходилось тщательно вырисовывать фигуры – можно было позволить свободно парящим пятнам цвета оказывать свое магическое суггестивное воздействие на наше восприятие. Художник начал обретать тот способ связи, который так долго искал, – связи прямой, сокровенной и в то же время монументальной.
Полотна 1947–1948 годов таинственным и совершенно естественным образом словно бы приходят в движение: пятна цвета проступают на полотне, разбухая и растворяясь. Порой возникает ощущение, что они расплываются по поверхности холста, как если бы мы смотрели сверху на расцветающие и блекнущие слои разноцветных облаков. Иногда цвета кажутся более упорядоченными. Все это выглядит крайне соблазнительно – эдакий коктейль для глаз. В этот период Ротко начинает успешно продаваться. И по этой самой причине теперь он подозревает, что найденного решения недостаточно.
Перед художником встала проблема композиции – с ней сталкивались все абстрактные экспрессионисты, – как сохранить свободу, не став при этом совершенно беспорядочным и утомительно бессвязным. Диалог между свободой и ограничениями был, безусловно, абсолютно американским, хотя Ротко однажды заявил, будто не может избавиться от этой конкретной двойственности из-за того, что в России в младенчестве его слишком туго пеленали! В самой своей банальной форме этот спор выливался на страницы инструкций для растерянных родителей, столкнувшихся с необъяснимым бунтом домашних анархистов а-ля Джеймс Дин. Поллок и Клайн были такими Джеймсами Динами от абстрактного экспрессионизма, заново открыв у себя между ног переключатель скоростей. В отличие от них Марк Ротко носил спортивные куртки и галстуки и жил на Среднем Манхэттене. Для драматического накала нужно было быть одновременно и папиком, и чуваком; нужны были ограничения; чтобы передать надрыв, надо было его испытать. (Поллок был с этим не согласен.) Для Ротко создание напряжения между краем полотна и прижатыми к нему пульсирующими формами не было просто эстетическим жестом. Эти двусмысленные, нечеткие границы были нужны ему, чтобы цветовые пятна задвигались, разрывая и стирая края, давя на них. Динамика движения делала его цвета более убедительными.
Без названия. 1947. Холст, масло.
Собрание Кейт Ротко-Прайзел
Американская жизнь становилась все более разноцветной и яркой, и художник остро на это реагировал: алая помада, ядовито-желтая горчица для хот-догов, холодильники цвета авокадо, зеленые и голубые «шевроле-импала». Ротко хотел спасти истинную силу цвета от этой синтетической яркости, мучительной, как гримаса старлетки, – перевести взгляд зрителя туда, где тот еще никогда не бывал. И в 1949 году он наконец нашел это место.
VI
Ротко как-то сказал, что картины должны обладать чудотворными свойствами. В 1949 год мир, пожалуй, более всего нуждался в чуде, явленном в красках. Лысеющий мужчина средних лет, заядлый курильщик, который – с учетом сделанного им до сих пор – мог остаться в истории максимум в качестве вторичного художника скромных достоинств, внезапно начал создавать одно за другим фантастические чудеса.
Все разрешилось само собой. На картинах 1949 года массы переливчатой эктоплазмы наползают друг на друга в пространстве больших вертикальных полотен, заполненных контрастными цветовыми блоками: плотные и матовые чередуются с полупрозрачными, попадаются и совсем прозрачные. В картине № 1 (1949) (с. 450) буйная клеточная активность ограничена центральным полем как экраном: охристые формы мельтешат на голубом фоне, само это поле заключено в черную рамку, которая словно предвещает его скорую гибель. Неделями, месяцами Ротко только и делает, что пишет, – формы на его картинах постепенно увеличиваются в размерах, точно разбухают на свету.
Становится понятен и состав действующих лиц его драмы: вертикальные полосы, прежде ведшие диалог с горизонтальными, постепенно вытесняются за пределы картины – горизонтали словно поглощают их или выдавливают вглубь, в пространство внутреннего света.
И вот результат. Цветовые блоки ложатся друг на друга пластами и зависают, исполненные утонченного изящества и сложности. Там, где Поллок мечется в разные стороны по плоской поверхности холста со свистом и грохотом, Ротко переносит ось в условное пространство перед картиной и внутри ее, заманивая взгляд в подсвеченную сердцевину неизведанной глубины. Ротко пишет, руководствуясь интуицией, а ее в свою очередь контролирует бесконечное и тщательное регулирование пространства и хроматической насыщенности. Сначала художник определял размер холста, затем постепенно накладывал слои – или, как он сам любил повторять, практически «выдыхал их на поверхность», делая цвета гуще или жиже, чтобы они взаимодействовали между собой и со зрителем. Двойственность, с которой мы считываем эти фигуры: то ли они выступают на зрителя, то ли растворяются за плоскостью картины; то, как формы открывают себя или же скрываются от нас, мерцание, идущее изнутри, – все это позволяет разглядывать их бесконечно. Можно ли считать, к примеру, «полоски» цвета фуксии под бледно-желтой завесой на картине «Без названия» 1949 года призрачной производной от толстой полосы цвета, активно выписанной под ними, или – как намекает тонкая полоска цвета наверху – они являются частью глубокого нижнего поля? Как мы считываем черное поле, плывущее на облаке из пены в верхней части № 3 / № 13 (1949, с. 453), – как плоское «внутреннее» пространство или как выдвинутую вперед панель? Подобные пермутации могут продолжаться бесконечно, манипулируя нашими ощущениями. (Когда картины, написанные Ротко в том самом невероятном 1949 году, были выставлены в галерее Пейс-Вилденштейн, можно было наблюдать, как прожженные ньюйоркцы, словно с их глаз только что сняли повязку, садились на пол и прислонялись к стенам, подолгу разглядывая представшие перед ними работы, – я был одним из них.)
№ 1. 1949. Холст, масло.
Собрание Кейт Ротко-Прайзел и Кристофера Ротко
№ 11 / № 20 (Без названия). 1949. Холст, масло.
Собрание Кристофера Ротко
Ротко было уже к пятидесяти, но он добился своего. На протяжении последующих десяти лет художник будет писать аналогичные картины – почему бы и нет? Созданные им полотна по своей мощи, сложности и способности завораживать зрителя не уступали шедеврам Рембрандта и Тёрнера – двух самых почитаемых им живописцев. «Классический» Ротко начала и середины 1950-х годов представляется мне совершенно равным обоим титанам: излучаемое его картинами силовое поле обладает таким магнетизмом, что, когда поворачиваешься к ним спиной (а Ротко хотел, чтобы зритель поворачивался только с целью увидеть другую его работу), избавиться от пульсирующих световых лучей невозможно. Они так и жгут тебе спину.
Отдельные художники-абстракционисты, вроде Клиффорда Стилла, который тоже экспериментировал с полями чистого цвета, и даже старый приятель Ротко Барнетт Ньюман, обвиняли художника в том, что тот украл у них идеи и технику. В манхэттенских кофейнях разгорались некрасивые скандалы. Однако правда состоит в том, что цветовые массивы Ротко абсолютно оригинальны (и сегодня, шестьдесят лет спустя, это ясно, как никогда).
Описывать их исключительно как приятные глазу комбинации цветов, как будто речь идет об аккуратно сшитом стеганом одеяле, значит не сказать о них ничего, ибо главное здесь не столько цвета, сколько то, что художник заставляет их делать. В его сознании и, следовательно, в нашем восприятии они предстают как живые организмы, они дышат. Так что если на первый взгляд полотна Ротко кажутся уравновешенными и неподвижными, даже несколько минут, проведенных в их обществе, открывают мир, наполненный движением, а иногда и стремительной энергией, подобной той, с которой проносятся по небу облака на картинах Тёрнера. Горизонтальное членение полотен нередко вызывает у зрителя мысль об элементарно организованном пейзаже: сам Ротко не хотел, чтобы его картины стимулировали пасторальные ассоциации, но признавал наличие мистической связи с Тёрнером – оба художника мастерски умели драматизировать живописное пространство, оба лишали ландшафт его материальной составляющей. Увидев картины Тёрнера на выставке в Нью-Йорке в 1966 году, Ротко пошутил: «Этот парень Тёрнер, видать, многому у меня научился». Цвета у Ротко обладают той же воздушной, насыщенной кислородом витальностью; они буквально трепещут от ее избытка. И картины его – отнюдь не пассивно обрамленные объекты, которые висят на стенах галереи и ждут, когда их осмотрят. Такое чувство, будто они срываются со стен и вторгаются в наше пространство, не оставляют нас в покое. Это и есть единственно правильное чувство, ведь, как нам известно, для Ротко его цветоформы всегда были участниками действа, актерами. И вот они перед нами, на авансцене, на краю просцениума, обращаются в темноту, ища связи с нами.
Все это было тщательно просчитано заранее. Ни одного художника в истории современного искусства – да, вероятно, за всю историю живописи – не занимала так идея об отношениях между художником и его аудиторией. Живопись, как утверждал Ротко, есть упражнение в постоянном прояснении: художник проясняет свою мысль, а затем делает все, чтобы передать эту ясность смотрящему. И хотя Ротко часто считают самым авторитарным из современных художников, все обстояло совершенно наоборот. Он льстит нам тем, что нуждается в нас – а без нас и правда не обойтись, – чтобы картина сработала. Без этого ускользающего единения со зрителем картина казалась ему незаконченной. То есть неудачной.
№ 3 / № 13 (Пурпурный, черный, зеленый на оранжевом). 1949. Холст, масло.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Таким образом, для Ротко последний мазок никогда не был завершением работы над картиной. Это был лишь конец начала. Картина продолжала формироваться, расти – «расширяться и ускоряться» (эти слова художника напоминают о развитии зародыша) – в глазах смотрящего. Получается, что условия, при которых рука художника и наш взгляд вступают в связь, не случайны, они обязательны для восприятия искусства. Вот почему галеристам, вроде Сидни Джениса, вся эта суета, которую Ротко устраивал вокруг того, как надо выставлять его картины (тайком прокрадывался в галерею, когда там никого не было, чтобы приглушить свет, падающий на картину), казалась невыносимой. Для самого же художника процесс демонстрации картины был не менее важен, чем процесс ее создания. Потому-то Ротко так боялся отдавать свои полотна «в мир», – по собственному признанию, это «лишало его чувств», как будто он слезно прощался с ребенком, отправляющимся в колледж. И Ротко действительно плакал, когда ему предстояла разлука с полотнами. В 1960-е годы швейцарский галерист был настолько потрясен, наблюдая, как художник реагирует на расставание – в промежутках между всхлипываниями Ротко, заикаясь, повторял, что не в силах отпустить свои работы, – что посчитал своим долгом утешить этого напоминавшего огромного медведя человека теплым словом и стаканом крепкого алкоголя. Неудивительно, что в 1959 году, когда художник стал работать для ресторана, где за каждым столиком сидели одетые по последней моде напыщенные гурманы, их равнодушие и невнимательность сразили Ротко.
Без названия. 1949. Холст, масло.
Собрание Кейт Ротко-Прайзел
Страстная привязанность к собственным картинам объясняет, почему Ротко пытался обеспечить оптимальные условия для их демонстрации: его работы должны были произвести на зрителя максимальный эффект. Вертикальный формат, которому он отдавал предпочтение в начале 1950-х годов, отчасти служил инструментом контроля количества посетителей: по расчетам художника, так перед одной картиной могло собраться лишь ограниченное число людей и эмоциональное взаимодействие со зрителем можно было сделать более адресным. В идеале Ротко хотел, чтобы на картину внимательно и не отвлекаясь смотрел один человек; когда его картины выставлялись в манхэттенских галереях, он делал все, что мог, чтобы взять зрителя в заложники их силы. Если ему это не удавалось, художник устраивал истерики или забирал картины с выставки. Освещение должно было оставаться тусклым. Никаких световых пятен – они создавали искусственно «романтизированный» (по определению самого Ротко) антураж для картин, которые, как считал их автор, уже содержали в себе внутреннюю драму и были написаны для того, чтобы излучать свет, а не вбирать его в себя. Крайне важным было и то, как картина располагалась на стене: как можно ниже, чтобы край необрамленного полотна практически касался пола. В конце концов, именно так он располагал их во время работы – Ротко страстно желал «обмануть» галерейное пространство, общаться со зрителем непосредственно из мастерской. В идеале выставочное пространство и должно было предстать подобием мастерской, чтобы смотрящий на картину мог разделить с автором иллюзию ее постоянного становления. Чувство, что образ постоянно развивается прямо у нас на глазах, и составляло суть его витальности. Законченная картина была мертвой. Стоило ей выйти из поля зрения автора, она могла начать разрушаться. А что, если она была обречена висеть в каких-нибудь апартаментах над диваном? Подобные перспективы всегда пугали Ротко.
Если влиять на то, где и как работа будет выставлена в итоге, было не в его силах (в противном случае он не продал бы ни одной), то был хотя бы шанс покорить нивелирующую белизну галереи. Именно поэтому художник настаивал, чтобы первыми посетителей встречали самые большие полотна (предпочтительно выставленные в самых маленьких залах). Размер для Ротко имел значение. Еще в 1943 году, задолго до того, как его концепция обрела отчетливые очертания, в ответ на резкую критику в адрес своих сюрреалистических мифологий Ротко с Адольфом Готтлибом заявили, что «крупные формы» нравятся им потому, что они предпочитают «выражать сложные мысли просто». Мысль о том, что большое может быть более дружелюбным, более коммуникативным, чем маленькое, пронизывала все его творчество. Он слишком хорошо знал и писал об этом, что исторически большие картины были напыщенными и церемонными, но сам смотрел на вопрос масштаба иначе. Маленькие картины, по его словам, были холодными, ведь художник был вынужден оставаться вне создаваемого им образа. С большими картинами – по крайней мере, в случае с его большими картинами – художник неизбежно оказывался внутри процесса создания, и его задачей было завлечь зрителя в это внутреннее пространство. Если это получалось, такие картины были способны совершить то, что еще не удавалось западной живописи: соединить в себе сокровенность и монументальность.
Так что никаких осторожных интродукций; вместо этого перед зрителем сразу же разворачивается вся коллизия, полное погружение. Это, естественно, означало, что другим картинам рядом с работами Ротко было не место – до неприличия высокомерная позиция на первый взгляд. Хотя, на самом деле, он был прав. Поставьте Ротко рядом с Поллоком, Клайном или де Кунингом, и они его перекричат. Зайдите в зал, где все заполнено одним только Ротко, – специально спроектированный зал Собрания Филлипс в Вашингтоне – и вы не сможете противостоять их мощи. Но даже и в этих залах, по мнению художника, произведения искусства не должны располагаться в окружении голых стен, чтобы ни в коем случае не быть воспринятыми как простое украшение. Следовательно, между картинами не должно было оставаться практически никакого пространства. По словам Ротко, картины должны были не просто захватывать стену, но побеждать ее. Его спрашивали, на каком расстоянии от картины следует стоять, чтобы ее рассмотреть. Сантиметрах в сорока пяти, отвечал он, и это была не совсем шутка.
Если Ротко и хотел все контролировать, так это потому, что каждая его картина была продуктом столь тонкого расчета. Те, кого он приглашал к себе в мастерскую (а таких было немного), наблюдали художника в окружении горшков, кистей и кроликового клея – им он покрывал только что наложенные красочные слои, – а также упаковками яиц (которые в избытке присутствуют в его красках). Хотя, скорее, можно было видеть, как он часами стоит перед полотном с сигаретой в руке, без конца просчитывает, каким будет визуальное воздействие его композиции, и пытается понять, как можно ее усовершенствовать, чтобы эффект был еще сильнее.
Без названия. 1955. Холст, масло.
Собрание Кейт Ротко-Прайзел
И раз уж о нем так часто говорили как о некоем трансцендентальном философе, Ротко всеми силами стремился опровергнуть любые намеки на мистику. По его собственному утверждению, он стремился дать ощущение не какой-то неземной легкости, но чувство материального опыта, чувственность выбранного фрагмента мира во всей его величественной роскоши. Тем не менее он парадоксальным образом хотел сделать это посредством живописи, которую, по его же словам, «выдыхал» на холст. Это означало, что художник разжижал краску скипидаром до такой степени, что иногда частицы пигмента отделялись непосредственно от красочной пленки, рассыпаясь по поверхности холста, подобно мерцающим блесткам лазурита. Если ему были нужны более насыщенные и плотные участки, Ротко просто накладывал еще один тончайший слой на предыдущий. Таким образом, все это богатство постепенно выстраивается в глазах смотрящего и становится оптически неисчерпаемым – эффект, совершенно противоположный тому, что вызывают плотные блоки Йозефа Альберса или размытые цветовые пятна у живописцев типа Мориса Луиса, для которого достоинством считалось само по себе разлитие по полотну выхолощенной до прозрачности краски.
Ротко, как мне кажется, был в большей степени ориенталистом. Вместо плотных блоков густо наложенной краски мы видим у него фигуры, сотканные из прозрачной кисеи, – они медленно перемещаются, смыкаются и отталкиваются друг от друга, парят сверху или соскальзывают вниз, наполняются божественной силой и излучают неброскую сексуальность.
Все это дразнящее глаз великолепие ни за что бы не сработало, если бы Ротко не был самым мягким из всех современных ему живописцев (еще одна причина, по которой он занимает такое странное место в каноне, где жесткий минимализм приравнивается к благородной прямоте). Неровные, неуловимые границы играют ключевую роль для эмоционально насыщенного изображения – как по периметру полотна, так и вдоль обтрепанных по краям швов; ими Ротко разделяет большие цветовые зоны так, что эти швы вообще не считываются как границы, они, скорее, содержат визуальный намек на некую источающую свет основу, на которую и накладывается все остальное. Когда общее пространство полотна темнее, как в картине «Без названия» 1955 года, пограничный «ожог» становится еще более интенсивным. Этот обладающий таинственной силой внутренний свет, как считал художник, впервые появился у Рембрандта, вот почему, читая курс «Современные художники» в Бруклинском колледже, Ротко начинал именно с Рембрандта. В какой-то момент, прежде чем его палитра начала темнеть, он заявил, что живопись должна быть экстазом или не быть ничем. Наряду с Рембрандтом и Тёрнером Ротко обладал властью открывать источник телесного наслаждения через взгляд смотрящего.
VII
Необходимость борьбы с самим собой или за признание публики на некоторое время отпала. После показов на Манхэттене в начале 1950-х годов большие холсты Ротко немедленно были восприняты критиками и коллекционерами как новое слово в американской живописи: эти работы вызывали сильные эмоции и чувственное привыкание. Часы, проведенные за разглядыванием «Красной мастерской» Матисса, не прошли даром. Для старого мира европейского искусства, где ветераны модернизма – Леже, Пикассо и Дали – продолжали свои куда менее убедительные попытки, работы Ротко опровергали шаблонные упреки в адрес американцев, обвинявшие их в недостаточной глубине. Какими бы они ни были, эти картины, уж глубокими-то они были точно.
За три года, с 1954-го по 1957-й, цены на полотна Ротко выросли в три раза. Большие музеи – Музей современного искусства, что располагался в нескольких шагах от мастерской художника, и музей Уитни, куда он пытался пробиться как молодой радикал в тридцатые годы, – все хотели заполучить Ротко. Гордые своими усилиями по созданию собраний современных американских художников, коллекционеры теперь были обязаны повесить рядом со своими де Кунингами, Поллоками и Клайнами работы Ротко. Внезапная слава и деньги не заставили художника расслабиться. Большинство его коллег, объединившихся в группу, которую журнал «Лайф» окрестил «Возмущенными» (The Irascibles), – в их числе были де Кунинг и Барнетт Ньюман, – на фотографии группы в журнале не выглядели такими уж возмущенными. Поллок, надо признать, почти оправдывает название – его лицо выражает равнодушное презрение. Ротко же смотрит в высшей степени сердито, как будто мечтает поскорее уйти, впрочем, так оно почти наверняка и было.
№ 1. 1957. Холст, масло.
Собрание Кейт Ротко-Прайзел
Он страстно жаждал комплиментов и был готов откусить голову тем, кто их произносил. Как только Ротко начал зарабатывать серьезные деньги, он принялся жаловаться, что его не понимают и постоянно противопоставляют в качестве мрачного философа хулиганистому дионисийцу Поллоку. Особенно Ротко не нравилось слышать, что его полотна даруют зрителям ощущение покоя. Напротив, возражал он, его картины не были предназначены для того, чтобы успокаивать, они должны были будоражить. Это были трагедии, которые он репетировал еще с тех времен, когда занимался в труппе Жозефины Диллон в Портленде. В них было не меньше ярости и жертвенности, чем в полотнах, созданных в археологической манере с отсылками к Эсхилу и Нимруду, просто патетические жесты здесь растворились в слоях краски. По мнению художника, эти картины по-прежнему в состоянии провоцировать мощнейшие приступы обреченности и экстаза. «Ощущение трагического всегда со мной, когда я пишу», – сказал он в 1958 году в ходе последней прочитанной им лекции. Сияние его работ похоже на свечение после взрыва, отмечал он сам. Достаточно взглянуть на № 1 1957 года (с. 458), и сразу становится ясно, что имеет в виду художник.
Аналогично, когда кто-нибудь по наивности осмеливался похвалить его за абстракции, Ротко резко возражал, что его работы вовсе не абстрактны, но написаны на определенную тему – тему человеческого опыта и базовых, глубинных эмоций. «Тот факт, что некоторые люди не выдерживают и начинают рыдать, смотря на мои картины, – говорил он, – означает, что я транслирую эти главные человеческие эмоции». Но больше всего он ненавидел, когда ему говорили, как его картины красивы, притом что они действительно красивы. Слово на букву «к» вызывало у Ротко тревогу – он всегда боялся, что его работы будут воспринимать как часть убранства богатого интерьера. Мысль о том, что они могут превратиться в то, что он сам называл «украшениями над камином», и соседствовать с цветочными композициями и приглашениями на коктейльные вечеринки, вызывала у него зубовный скрежет.
И как раз в тот момент, когда он действительно начал продавать свои работы богатым покупателям, а доход его вырос втрое – с двадцати тысяч долларов в 1958 году до шестидесяти в 1959-м, Ротко намеренно отказался от сияющих цветов, превративших его, как он подозревал, в изготовителя обоев для миллионеров. Место ярких оттенков желтого, синего и зеленого заняли приглушенные тона, поэтично повествующие о разрушениях, вызванных временем: глубокий зеленый наползающих мхов и лишайников, зеленый с отливом цвет окисляющейся меди, багрянец тронутых увяданием виноградных листьев, терракотовый и черный античных сосудов и погребальных урн. Черный и прежде часто становился элементом цветовых сочетаний на картинах Ротко – особенно когда, подобно Рембрандту, он хотел показать, что этот цвет, несмотря на все оптические условности, может быть источником света на полотне. Раньше художник оттенял его обжигающей киноварью или сверкающим желтым, превращая в участника цветовых битв, о которых сам говорил. Но теперь способность черного вбирать в себя свет затемняла всю композицию. Открытые прежде окна теперь были занавешены, чарующая прозрачность скрыта от глаз.
Если художник и так уже был настроен бороться против превращения своих работ в обои, что заставило его взяться за заказ, который явно подразумевал оформительские функции? Ротко обязался написать серию картин для ресторана «Времена года» – места, «куда богатые нью-йоркские сволочи приходят пожрать и повыпендриваться», как он описывал редактору журнала «Харперз», с которым познакомился на борту лайнера «Индепенденс». У попутчиков художника и его нового знакомого сложилось впечатление, будто художник воспринял этот заказ как вызов на бой. Он намеревался противопоставить искусство жадности, таинство – материализму. Марк выходил на поединок с Манхэттеном. В окружении его настенных росписей с закодированными в них воспоминаниями об античных жертвоприношениях «богатые сукины дети» должны были потерять аппетит. Случись это, посетители ресторана сбросили бы с себя всю гламурную мишуру богатства, словно змеиную кожу, и оказались бы готовы к моральному перерождению. «Если ресторан откажется от моих росписей, – добавил он, – я сочту это наивысшим комплиментом».
Слова художника звучали смело, но на начальной стадии все было отнюдь не так просто. Во многих отношениях (помимо суммы гонорара – тридцать пять тысяч долларов, по сегодняшним меркам они равнялись бы двум миллионам) этот заказ льстил художнику и ставил перед ним новые творческие задачи. Ротко давно интересовало взаимодействие живописи и архитектуры. Существование всех этих шикарных манхэттенских квартир, где в гостиных и столовых висели его картины, только усиливало потребность художника превратить общественное пространство в то, что сам он называл «место», место, пригодное для существования его живописи.
Да и ресторан «Времена года» не был просто очередным дворцом обжорства. Он занимал цокольный этаж изящного небоскреба, архитектором которого был верховный жрец модернистского интернационального стиля – Мис ван дер Роэ. Пафосным или гламурным здание штаб-квартиры корпорации «Сигрэм» назвать было нельзя никак. Утонченное, острое как бритва, оно переливалось теми же матовыми металлическими оттенками, с которыми Ротко и сам экспериментировал в поисках новой живописной манеры. Здание возвышалось над Манхэттеном словно упрек за пристрастие к бездумному консюмеризму.
Помещение самого ресторана с заниженным уровнем пола и модернистской мебелью, созданное по проекту Миса ван дер Роэ и Филипа Джонсона, было претензией на сдержанный неоклассицизм с элементами дзена в облегченной форме: фиговые деревья и зеркальные бассейны. В то же время это все-таки был ресторан, как ни крути. Ротко тем не менее доверял Джонсону – не в последнюю очередь потому, что тот возглавлял архитектурный отдел Музея современного искусства; именно Джонсон купил первого Ротко для музейной коллекции. Одним из многочисленных талантов Джонсона было его умение убеждать, и он, должно быть, включил свой шарм на полную катушку, дабы убедить Ротко, что, несмотря на гигантские окна по одной стороне зала, где предполагалось повесить картины, и электроуправляемые металлические шторы, художник каким-то образом сможет контролировать размещение картин в столь же полной мере, как он делал это в галереях у Бетти Парсонс или Сидни Дженис.
Ресторан «Времена года», Сигрэм-билдинг, Парк-авеню, Нью-Йорк. 1959.
Архив Беттманна
Если Ротко и отрицал возможность возникновения проблем, способных помешать ему реализовать свою величайшую мечту – заставить картины взаимодействовать с архитектурой так, как это происходило в ренессансной часовне, – то только потому, что вероятность осуществления грандиозного проекта казалась такой заманчиво близкой. В 1950 году во время посещения монастыря Сан-Марко во Флоренции вместе с Мелл Ротко видел фрески Фра Анджелико и был потрясен тем, как каждая из них наделяла таинственным сиянием простейшие пространства, создавая невероятный эффект. Он был убежден, что способен сотворить подобное чудо в Нью-Йорке.
Девятью полотнами планировалось закрыть три стены в меньшем из двух залов ресторана (четвертую стену образовывало окно со шторами). Размещенные встык наподобие фриза, они окутывали бы собой посетителей. Заниженный пол должен был зрительно приподнимать картины, словно помещая их на сцену и создавая естественную платформу, на которой задуманные художником драмы могли бы оказывать свое воздействие на присутствующих. И хотя в одной из стен было отверстие для двери, так что картины пришлось бы повесить над ним, на высоте двух с лишним метров, художник утешал себя тем, что при открытых дверях работники ресторана смогли бы видеть полотна, висящие напротив. По сути, жженый оранжевый и пылающий багрец должны были не просто покорить стены, но полностью их собой заменить. Вот почему Ротко с такой настойчивостью называл эти картины «стенными росписями», притом что они должны были висеть на стенах, а не быть на них написаны. Полотна были призваны объединить помощников официантов, официантов, метрдотелей и модных посетителей в торжественном акте преображения. Люди должны были прекратить жевать и положить на стол приборы, будучи не в силах глотать, сами поглощенные чистой силой искусства.
Чем больше Ротко думал об этом, тем сильнее начинал ощущать, что этот заказ действительно может стать венцом его творчества. Чтобы мыслить масштабно, нужно было масштабное пространство – ради этого художник снял заброшенный спортивный зал Юношеской христианской ассоциации в районе Бауэри. Внутри мастерской он выстроил леса, повторявшие размеры пространства во «Временах года», чтобы можно было работать в трехмерном режиме, наблюдая на каждом этапе, как картины будут вступать в реакцию или противостоять друг другу. Каждый день Ротко отправлялся в Бауэри, менял привычную спортивную куртку или костюм на рабочую одежду и принимался за гигантские холсты. Менее чем за два года было написано двадцать семь полотен, из них планировалось довести до ума девять работ, предназначенных для трех стен.
Светло-красный на черном. 1957. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Однако первыми вариантами, написанными летом 1958 года, художник остался недоволен. В них слишком чувствовался прежний Ротко, а вертикальный формат не отвечал идее зала, если предполагалось действительно заменить стены на фрески. Тогда, подчиняясь логике пространства и какой-то внутренней смене настроения и тональности, он сделал очень простую вещь: повернул свой традиционный формат на девяносто градусов, так что из вертикалей отдельные полотна превратились в широкие горизонтали. Архитектура в этом случае не просто стала поводом для изменения, но отразилась в нем. Похожие на жалюзи световые полосы превратились в несущие колонны. И несли они на себе трагический груз всей истории человечества. Во время той самой поездки во Флоренцию в 1950 году Ротко посетил библиотеку Лауренциана, построенную по проекту Микеланджело, и увидел там глухие каменные окна. Теперь же ему казалось, что его собственные темные прямоугольники, которые вбирали, а не проводили свет, отрезвят одурманенных роскошью модников, живущих ради ускользающего момента, ради изысканно дорогого ужина. После оплаты счета у них бы уже не возникла мысль вызвать лимузин или побродить по Парк-авеню.
Черное на темно-красном (эскиз росписи для Сигрэм-билдинг). 1958. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Следующая серия полноразмерных эскизов, выполненная в пережженных тонах оранжевого, излучала сияние умирающего солнца, притягивала и отталкивала, манила и ошеломляла – то были зловещие жесты древнего мага, который играет с нашим желанием совершить «путешествие в неведомое», предназначенное, как он и предупреждал, лишь для храбрых.
В июне 1959 года, когда работа над «росписями» была почти закончена, уставший Ротко повез Мелл в Италию, где на вилле Мистерий в Помпеях был совершенно потрясен, обнаружив в римских фресках «глубокое родство» со своей серией картин для ресторана – попытку связать гедонизм и стремление к возвышенному. Затем художник вернулся во Флоренцию, в библиотеку Лауренциана, где с удовлетворением погрузился в созерцание того, что считал гениальным умением Микеланджело увлекать зрителя в ловушку.
Однако на этот раз Ротко сам ощутил себя в западне. По возвращении в Нью-Йорк Марк с Мелл отправились на ужин в шикарный, недавно открытый ресторан «Времена года». Ротко любил повторять, что тратить на еду больше пяти долларов аморально, и часто довольствовался китайской едой навынос. Во время ужина с Мелл художник почувствовал, как уверенность в том, что он действительно в состоянии «создать место», способное заставить посетителей застыть над своими суфле, постепенно улетучивается. Уже дома, из своих апартаментов на вершине высокой башни, Ротко позвонил другу и выпалил: «Любой, кто готов есть такую еду за такие деньги, никогда не посмотрит на мою картину». Что это было: констатация факта или указание, печальное признание или угроза?
Когда следующим утром Ротко отправился в дом 222 по Бауэри-стрит, все в нем бурлило от негодования. Он смотрел на написанные картины – оттенки темно-бордового, багряного и черного, огненные тона оранжевого и выведенные в тень переливы коричневого – еще никому из современных художников не удавалось создать столь волнующие произведения. Но Ротко видел лишь гибель и крах.
Черное на темно-красном (эскиз росписи для Сигрэм-билдинг). 1959. Холст, масло.
Галерея Тейт, Лондон
Аванс в размере семи тысяч долларов был возвращен. Манхэттен победил Марка Ротко. Или все-таки не победил? Что, если своим отказом он защищал цельность своего творчества, сопротивлялся необходимости подстраиваться под желания заказчика? К этому моменту Ротко уже зарабатывал куда больше, чем нужно было для простого выживания, и, решив оставить у себя уже законченные картины, он мог говорить себе, что вряд ли останется без средств. Как бы то ни было, он явно не собирался распродавать их по одной и ждал, когда для них появится новая обитель. И потом, много вы знаете современных художников, способных отказаться от кругленькой суммы в два миллиона долларов?
VIII
История с Сигрэм-билдинг завершилась, но борьбу за возможность «создать место» для размышлений Ротко отнюдь не прекратил. После продажи первой партии картин он опасался выставлять на рынок остальные – те, которые считал важными. Художника поддерживала вера в возможность в будущем возродить свою идею модернистской часовни. Не в музее – их он называл «мавзолеями», но в специально спроектированном пространстве, где можно было бы исключить бессмысленный белый шум жизни.
Часовня Ротко. Освящена в 1971.
Хьюстон, штат Техас
Ротко еще не оправился от печальных размышлений о неудачном завершении проекта с рестораном, когда его посетил историк искусств из Германии Вернер Хафтман с предложением поучаствовать в кассельской Документе. В ответ Ротко выдвинул гостю свое предложение: возведите часовню в знак искупления вины за холокост, не обязательно большую или помпезную, сойдет и палатка, а если вы это сделаете, я напишу картины, которые вы сможете там повесить, и сделаю это бесплатно. «Как интересно», – отреагировал куратор. И больше к художнику не возвращался.
Бо́льшую часть следующих десяти лет – последнее десятилетие своей жизни – Ротко провел в поисках идеальной придорожной часовни, в которой он мог бы воплотить в жизнь замысел, так и не реализованный во «Временах года». Если в ресторане у него не получилось осуществить задуманное, то университет, как место, изначально исполненное высших ценностей, мог оказаться более восприимчивым к идеям Ротко. Выйдя на Гарвард, еврейский модернист заинтриговал декана университета рассказами о Распятии и изображениях Мадонны с младенцем, виденных им в базилике на острове Торчелло в Венецианской лагуне. Как и можно было предположить, картины Ротко были помещены в зале заседаний, находившемся в модернистском здании, архитектором которого был Хосе Серт, в чьем павильоне в 1937 году была выставлена «Герника». Теперь гарвардские картины Ротко пылились на стенах не под равнодушными взглядами посетителей ресторана, но под гул разговоров о распределении университетских должностей. Бесконечное перетаскивание стульев с места на место и слишком близкий контакт с полотнами привели к повреждениям.
Без названия (Черный на сером). 1969. Холст, акрил.
Собрание Кейт Ротко-Прайзел
К этому времени Марк Ротко уже превратился в отдельную американскую институцию – он удостоился чести представлять США на Венецианской биеннале, где ему удалось-таки обустроить настоящий «зал Ротко». Художник был приглашен на инаугурацию Джона Кеннеди, его считали величайшим из еще живущих патриархов «нью-йоркской школы». Но ничто из этого, как казалось, не доставляло ему особой радости. При всей своей славе и богатстве, он все чаще конфликтовал из-за денег. Из привычки прикладываться к бутылке с десяти утра развился алкоголизм, привычка прикуривать одну сигарету от другой спровоцировала проблемы с сердцем и легкими. Расстроенное здоровье и часто сопутствовавшее ему дурное расположение духа до предела накаляли отношения художника с женой. В то время, когда авангардом окончательно завладели поп-арт, яркие флаги, портреты Мерилин Монро и комиксы, картины Ротко под влиянием меланхолии становились все мрачнее. Современная живопись всегда была для него альтернативой популярной культуре, а не подспорьем в ее доминировании. Но теперь, как оказалось, галереи хотели именно такое искусство. Оставаясь верным манере живописи, которой придерживался на протяжении пятнадцати лет, художник занял оборонительную позицию, он был смятен и рассержен и обвинял «молодежь» в попытках его убить. Хотя правда состояла в том, что он убивал себя сам.
Когда же наконец он вырвался из колеи прежнего стиля, то его новым цветом стал иссиня-черный, цвет техасской нефти. В 1964 году, когда Доминик и Джон де Менилы, страстные коллекционеры современного искусства, потомки семьи, заработавшей огромное состояние на продаже бурового оборудования, предложили Ротко ровно то, к чему он так стремился, – часовню, выстроенную под его руководством; он ухватился за эту возможность обеими руками. Но то, что он построил, и созданные им для этого здания картины поглотили теплый свет полотен для Сигрэм-билдинг, взамен предложив подобие усыпальницы для человеческого духа. На первый взгляд строгий восьмиугольный зал кажется камерой, где хоронят заживо, финальной черной точкой на пути Ротко сквозь сияние. Колышущиеся вспышки света по краям цветовых полей, те самые солнечные пятна, были уничтожены. На их месте появились покрытые матовыми слоями черной краски поля с четко очерченными краями. Но визуально это еще не конец истории. Между двумя панелями одного из триптихов, раскинувшимися, точно вороновы крылья, располагается шероховатое темно-фиолетовое поле со снисходительными разводами и подтеками. Модуляция кажется незначительной, но облегчение, испытываемое зрителем после жесткого черного цвета, становится приглашением в другую вселенную. По мере того как глаз привыкает к этой поверхности, ее бархатистый оттенок начинает распространяться и рассеиваться в пространстве, словно воздух, ворвавшийся в запечатанную прежде камеру. Моя подруга, американская актриса (потомок целой династии мясников), несколько лет назад собиралась сниматься в известной своей сложностью роли на натуре в Техасе и решила «войти в образ», проведя ночь в часовне Ротко, – подозреваю, что подобный опыт не наполнил бы большинство из нас к утру бодростью и готовностью к решительным действиям. Но нет, по ее словам, это было чудесно. «Выйдя из часовни, я ощущала такую легкость». Ротко бы такая реакция понравилась.
Самому художнику в этот период легче не становилось. В 1968 году он перенес аневризму аорты, которая чуть его не убила. Затем начал серьезно пить. Брак с Мелл распался. Но Ротко всегда опровергал клише. Свет на его картинах не исчез, наоборот, к нему вернулось сияние. Это был не сияющий взрыв начала пятидесятых – в конце шестидесятых свечение почти всегда противопоставлено участкам черной как смоль темноты. Но это лишь придает свету удивительную силу, будто художник сам стоит на границе между двумя мирами.
В нижних частях картин, написанных в 1969 году, то и дело появляется зона молочно-серого, подобная ободку луны, – промежуточная станция на пути к вселенной, все еще пропитанная светом и каким-то образом привязанная к знакомому миру, но уже балансирующая на самом краю вечности. Как будто Ротко сам уже ушел в глубокий космос и оглядывался назад, наблюдая с божественным величием за сотворением мира, отделяя свет от тьмы.
Творческие силы отнюдь не оставляли его – об этом может свидетельствовать званый вечер, на который Ротко пригласил друзей в декабре 1969 года с тем, чтобы каждый смог высказаться об этих новых картинах. Его снова мучила эмфизема. После аневризмы врачи рекомендовали художнику не писать ничего размером больше полуметра (а также бросить пить и курить). Ответом стало героическое сопротивление любым попыткам сомкнуть за ним врата ночи – работы акрилом на бумаге, созданные Ротко в течение нескольких месяцев перед тем, как он вскрыл себе вены, и хроматически, и концептуально стали одними из самых блестящих его творений: по емкости и насыщенности они сравнимы с лучшими образцами лирической поэзии. Небесная синева кобальта прорывается в черный цвет и движется дальше, в наступающую тьму, а по краям трепещет синее пламя. Самое последнее полотно – вспышка яркого красно-оранжевого света, тело воина сгорает на костре.
IX
Насколько же я был не прав тем утром в 1970 году, перед тем как столкнулся с Марком Ротко? Настолько, насколько это было возможно. Если бы я мог тогда, в своем неведении, использовать какое-то одно слово, чтобы охарактеризовать его последние работы, это было бы слово «отталкивающие». На самом же деле, они как раз вовлекали зрителя в свое пространство. Так или иначе, ни один художник из тех, кого принято относить к современному канону, не прилагал столько усилий, чтобы включить нас, зрителей, в процесс становления своей картины. Нет большей ошибки, чем представлять, будто Караваджо, Бернини, Рембрандт, Давид, Тёрнер, Ван Гог и даже Пикассо в своей «Гернике» сосредоточены исключительно на собственной виртуозности и не обращают внимания ни на кого вокруг. Все они подразумевали присутствие зрителя, его соучастие. Но вероятно, ни один из них – ни мастер незавершенности Рембрандт, ни даже готовый на самый непосредственный контакт Винсент Ван Гог – не старался с такой настойчивостью сделать нас соратниками не только в созерцании, но и в создании их искусства. Смотрящий на картину должен был почувствовать, как это покрывало из света окутывает его, в противном случае, как считал Ротко, искусства нет. Его величайшие полотна, и особенно «фрески» для Сигрэм-билдинг, есть драматические действа, работы человека, неустанно рассуждавшего об их внутренней драме. Кое-кто из критиков считал тогда и продолжает считать сегодня, что эта театральность отдает неким визуальным позерством. Но я так не думаю. Стремление обратиться к зрителю через полотно – как это происходит у Караваджо и Тёрнера – кажется мне жестом человеческого принятия. Все мы актеры – в той же степени, как и художник. Мы входим на сцену слева из-за кулис, стоим на ней, то, что происходит, волнует нас, а затем мы покидаем ее, сходя по лесенке справа, и весь остаток нашей жизни отмечен этим представлением.
Без названия. 1969. Бумага на холсте, акрил.
Собрание Кристофера Ротко
Высочайшим комплиментом у Ротко (а он был скуп на комплименты) было назвать кого-то «человеком». И как трогает, когда обнаруживаешь, что мы, простые человеческие существа, были нужны ему для воплощения его искусства в той же мере, в какой нам, безусловно, нужен исключительный человек по имени Марк Ротко. По-моему, одна из причин, по которой нам необходимо то самое «место», созданное-таки в галерее Тейт Модерн, – его сопротивление современной фетишизации Настоящего момента. Учитывая, сколько продуктивной творческой энергии генерирует британское искусство сегодня, забавно, что Ротко, в поисках места для своей последней серии из девяти «росписей» для «Сигрэма», остановился на Британии как, вероятно, на территории, наиболее удаленной от коммерческой шумихи и кровавых боев между критиками, оживлявших художественную сцену Нью-Йорка. (И это в 1969 году!) Но Ротко последний раз бывал в Англии за десять лет до этого, и его паломничество ограничилось посещением уютного художественного анклава Сент-Ив на побережье Корнуолла.
Сегодня бодрое гудение галереи Тейт Модерн, безусловно, делает эффект затухания этого гула в зале Ротко более полным. О чем бы этот зал ни говорил, речь здесь явно не о настоящем моменте. Скорее, о вечности. Это место, куда приходят, чтобы присесть на скамью – в точности такую, как хотел Ротко, – и в приглушенном свете ощутить, как проходит вечность; здесь можно почувствовать, как тебя манит к этим завесам, источающим таинственный внутренний блеск, как затягивает в порталы, зовущие в бесконечность и напоминающие о ее недосягаемости. Чаще всего, говоря о своем искусстве, Ротко использовал словосочетание «мучительно острое», но распространить его можно и на все искусство вообще – ибо лучшие его образцы наполнены ощущением неизбежной преходящести всего, в том числе и нас, и решимостью запечатлеть эти мимолетные образы в утешение нам. Невозможно зайти в этот зал и не почувствовать эту мучительную остроту наших появлений и исчезновений, выходов на сцену и уходов с нее, утробы и усыпальницы и всего, что происходит между ними.
Тем горше осознавать разрыв между написанным словом и ощущением от разглядывания. Еще одно словечко из тех, что Марк Ротко употреблял с величайшим презрением, пренебрежительное «словоблудие» – так он называл рассуждения о словах. Если в месте, которое он в конечном итоге (с помощью галереи Тейт и каждого из нас) создал, и висит какая-то заповедь, то это призыв заткнуться наконец. Что я, в виде исключения, и сделаю.
Книги, которые стоит прочесть
Самоуверенно представляю вниманию читателя краткий, избирательный и субъективный путеводитель по литературе, более подробно освещающей некоторые из тем, затронутых в этой книге.
Искусство и зритель
Berger John. Ways of Seeing. London: Penguin Books, 1972 (на русском языке: Бергер Джон. Искусство видеть. СПб.: Клаудберри, 2012).
Freedberg David. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. University of Chicago Press, 1989.
Художник и меланхолия
Kris Ernst, Kurz Otto. Legend, Myth and Magic in the Image of the Artist: An Historical Experiment. Yale University Press, 1957.
Sturgis Alexander, Christiansen Rupert, Oliver Lois, Wilson Michael. Rebels and Martyrs: The Image of the Artist in the Nineteenth Century. London: National Gallery, 2006.
Wittkower Rudolf, Wittkower Margot. Born under Saturn: The Character and Conduct of Artists from Antiquity to the French Revolution. New York: W. W. Norton & Co, 1969.
Караваджо
Bal Mieke. Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History. University of Chicago Press, 1999.
Hibbard Howard. Caravaggio. New York: Harper & Row, 1983.
Langdon Helen. Caravaggio: A Life. London: Chatto & Windus, 1998.
Puglisi Catherine. Caravaggio. London: Phaidon Press, 1998.
Robb Peter. M: Caravaggio. London: Bloomsbury, 2000.
Spike John T. Caravaggio. New York; London: Abbeville Press, 2001.
Бернини
Avery Charles, Finn David. Bernini: Genius of the Baroque. New York: Bullfinch Press, 1997.
Baldinucci Filippo. The Life of Bernini (1682) / Trans. C. Engass. Penn State University Press, 1966.
Blunt Anthony. Borromini. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
Connors Joseph. Borromini and the Roman Oratory: Style and Society. Cambridge: MIT Press, 1981.
Hibbard Howard. Bernini. London: Penguin Books, 1990.
Lavin Irving. Bernini and the Unity of the Visual Arts. Vols 1, 2. New York: Oxford University Press, 1980.
Lavin Irving. Gian Lorenzo Bernini. New Aspects of His Life and Thought. Penn State University Press, 1985.
Magnuson Torgil. Rome in the Age of Bernini. Vols 1, 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1982, 1986.
Marder Tod A. Bernini and the Art of Architecture. New York; London: Abbeville Press, 1998.
McPhee Sarah. Bernini and the Bell Towers: Architecture and Politics at the Vatican. Yale University Press, 2002.
Morrissey Jake. The Genius in the Design: Bernini, Borromini and the Rivalry That Transformed Rome. London: Duckworth & Co, 2005.
Wittkower Rudolf. Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque. London: Phaidon Press, 1966.
Рембрандт
Alpers Svetlana. Rembrandt’s Enterprise: The Studio and the Market. University of Chicago Press, 1988.
Chapman H. Perry. Rembrandt’s Self-portraits. Princeton University Press, 1992.
Haverkamp-Begemann Egbert. Rembrandt: The Night Watch. Princeton University Press, 1982.
Nadler Steven. Rembrandt’s Jews. University of Chicago Press, 2003.
Nordenfalk Carl. The Batavians’ Oath of Allegiance: Rembrandt’s Only Monumental Painting. Stockholm: Nationalmuseum, 1952.
Rethinking Rembrandt / Ed. by A. Chong, M. Zell. Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 2002.
Schama Simon. Rembrandt’s Eyes. New York: Alfred A. Knopf, 1999 (готовится к публикации на русском языке).
Schwartz Gary. The Rembrandt Book. New York: Harry N. Abrams, 2006.
Strauss Walter, van der Meulen Marjon. The Rembrandt Documents. New York: Abaris Books, 1979.
Van de Wetering Ernst. Rembrandt: The Painter at Work. Amsterdam University Press, 1997.
Westermann Mariët. Rembrandt. London: Phaidon Press, 2000.
White Christopher. Rembrandt and His World. London: Thames & Hudson, 1964.
Zell Michael. Reframing Rembrandt: Jews and the Christian Image in Seventeenth-century Amsterdam. Oakland: University of California Press, 2002.
Давид
Brookner Anita. Jacques-Louis David. London: Chatto & Windus, 1980.
Crow Thomas E. Emulation: Making Artists for Revolutionary France. Yale University Press, 1995.
Crow Thomas E. Painters and Public Life in Eighteenth-century Paris. Yale University Press, 1985.
Herbert Robert. David, Voltaire, ‘Brutus’ and the French Revolution: An Essay in Art and Politics. London: Allen Lane, 1972.
Honour Hugh. Neo-Classicism. New York: Penguin USA, 1968.
Jacques-Louis David’s ‘Marat’ / Ed. by W. Vaughan, H. Weston. Cambridge University Press, 1999.
Johnson Dorothy. Jacques-Louis David: New Perspectives. Newark: University of Delaware Press, 2006.
Lajer-Burcharth Ewa. Necklines: The Art of Jacques-Louis David after the Terror. Yale University Press, 1999.
Lloyd Dowd David. Pageant Master of the Republic: Jacques-Louis David and the French Revolution. New York: Books for Libraries Press, 1977.
Roberts Warren. Jacques-Louis David, Revolutionary Artist: Art, Politics and the French Revolution. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989.
Rosenblum Robert. Transformations in Late Eighteenth Century Art. Princeton University Press, 1967.
Schama Simon. Citizens: A Chronicle of the French Revolution. New York: Alfred A. Knopf, 1989.
Schnapper Antoine. David. New York: Alpine Fine Arts Collection, 1983 (на русском языке: Шнаппер Антуан. Давид. М.: Изобразительное искусство, 1984).
Тёрнер
Bailey Anthony. Standing in the Sun: A Life of J. M. W. Turner. New York: Harper Collins, 1998.
Collected Correspondence of J. M. W. Turner / Ed. by J. Gage. Oxford University Press, 1980.
Egerton Judy. Turner: The Fighting Temeraire. Yale University Press, 1995.
Finberg Alexander J. The Life of J. M. W. Turner. Oxford: Clarendon Press, 1961.
Gage John. Colour in Turner. London: Studio Vista, 1969.
Gage John. J. M. W. Turner: A Wonderful Range of Mind. Yale University Press, 1987.
Hamilton James. Turner: A Life. London: Hodder & Stoughton, 1997.
Hamilton James. Turner: The Late Seascapes. Yale University Press, 2003.
Lindsay Jack. J. M. W. Turner: His Life and Work. New York: Harper & Row, 1992.
The Oxford Companion to J. M. W. Turner / Ed. by M. Butlin, L. Herrmann, E. Joll. Oxford University Press, 2001.
Rodner William S. J. M. W. Turner: Romantic Painter of the Industrial Revolution. Oakland: University of California Press, 1998.
Ruskin John. Modern Painters. New York: Alfred A. Knopf, 1988.
Shanes Eric. Turner’s Human Landscape. London: Heinemann, 1989.
Townsend Joyce. Turner’s Painting Techniques. London: Tate Publishing, 1996.
Turner at Petworth / Ed. by D. B. Brown, C. Rowell, I. Warrell. London: Tate Publishing, 2002.
Venning Barry. Turner. London: Phaidon Press, 2003.
Wilton Andrew. Painting and Poetry: Turner’s Verse Book and His Work of 1804–1812. London: Tate Publishing, 1991.
Wilton Andrew. Turner and the Sublime. London: British Museum Publications, 1980.
Ван Гог
Cabanne Pierre. Van Gogh. Paris: Editions Pierre Terrail, 2002.
The Complete Letters of Vincent van Gogh. London: Thames & Hudson, 1979.
Druick Douglas, Zegers Peter, et al. Van Gogh and Gauguin: The Studio of the South. London: Thames & Hudson, 2001.
Gayford Martin. The Yellow House: Van Gogh, Gauguin, and Nine Turbulent Weeks in Arles. New York: Viking, 2006.
Pickvance Ronald. Van Gogh in Arles; Van Gogh in Saint Rémy and Auvers. New York: Harry N. Abrams, 1985, 1986.
Pollock Griselda, Orton Fred. Vincent van Gogh: Artist of His Time. London: Phaidon Press, 1978.
Schapiro Meyer. Van Gogh. London: Thames & Hudson, 1968.
Silverman Debora. Van Gogh and Gauguin: The Search for Sacred Art. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2001.
Van der Wolk Johannes. The Seven Sketchbooks of Vincent van Gogh / Trans. by C. Swan. London: Thames & Hudson, 1987.
Van Heugten Sjraar. Van Gogh: The Master Draughtsman. London: Thames & Hudson, 2005.
Zemel Carol. Van Gogh’s Progress: Utopia, Modernity and Late Nineteenth Century Art. Oakland: University of California Press, 1997.
Van Gogh: Fields / Ed. by R. Dorn, W. Herzogenrath, D. Hansen. Berlin: Hatje Cantz, 2002.
Пикассо
Arnheim Rudolf. The Genesis of a Painting: Picasso’s ‘Guernica’. London: Faber & Faber, 1964.
Berger John. The Success and Failure of Picasso. London: Penguin Books, 1965.
Blunt Anthony. Picasso’s ‘Guernica’. Oxford University Press, 1969.
Chipp Herschel B. Picasso’s ‘Guernica’: History, Transformations, Meanings. Oakland: University of California Press, 1992.
Cowling Elizabeth. Picasso: Style and Meaning. London: Phaidon Press, 2002.
Karmel Pepe. Picasso and the Invention of Cubism. Yale University Press, 2003.
Krauss Rosalind E. The Picasso Papers. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1998.
Martin Russell. Picasso’s War: The Destruction of Guernica and the Masterpiece That Changed the War. New York: Plume Books, 2003.
Picasso on Art: A Selection of Views / Ed. by D. Ashton. London: Thames & Hudson, 1972.
Rankin Nicholas. Telegram from Guernica: The Extraordinary Life of George Steer, War Correspondent. London: Faber & Faber, 2003.
Richardson John. A Life of Picasso. New York: Random House, 1991, 1996.
Schapiro Meyer. The Unity of Picasso’s Art. New York: George Brazilier, 2001.
Van Hensbergen Gijs. Guernica: The Biography of a Twentieth Century Icon. London: Bloomsbury, 2004.
Warncke Carsten-Peter, Walther Ingo F. Picasso. Taschen, 2003.
Ротко
Anfam David. Mark Rothko: The Works on Canvas. Yale University Press, 1998.
Ashton Dore. About Rothko. Oxford University Press Inc., 1983.
Barnes Susan J. The Rothko Chapel: An Act of Faith. Houston: Menil Foundation, 1989.
Breslin James E. B. Mark Rothko: A Biography. University of Chicago Press, 1993.
Chave Anna C. Mark Rothko: Subjects in Abstraction. Yale University Press, 1989.
Mark Rothko, The Artist’s Reality: Philosophies of Art / Ed. by C. Rothko. Yale University Press, 2004.
Mark Rothko: Kaaba in New York / Ed. by T. Kellein et al. Basel: Kunsthalle, 1989.
Mark Rothko. Washington: National Gallery, 1998.
Mark Rothko, A Painter’s Progress: The Year 1949. New York: PaceWildenstein, 2004.
Mark Rothko: The Seagram Mural Project. Liverpool: Tate Gallery, 1988.
Perl Jed. New Art City. New York: Alfred A. Knopf, 2005.
Polcari Stephen. Abstract Expressionism and the Modern Experience. Cambridge University Press, 1991.
Sandler Irving. Abstract Expressionism: The Triumph of American Painting. London: Pall Mall Press, 1970.
Seeing Rothko / Ed. by G. Phillips, T. Crow. Los Angeles: Getty Publishing, 2005.
Права на изображения предоставлены
©ADAGP, Paris and DACS, London, 2006: 409, 413.
Archives of American Art, Smithsonian Institution: 427, Courtesy of the Photographs of Artists, Kay Bell Reynal Collection, 1952.
Akg-images: 46, Thyssen-Bornemisza Collection; 145 п, Rembrandtshuis; 185, Gemäldegalerie, Neue Meister, Dresden; 331, Van Gogh Museum, Amsterdam; 350, Hahnloser Collection, Berne; 364, Kröller-Müller Museum, Otterlo; 401, Ulmer Museum, Ulmer / ©Succession Picasso/DACS 2006.
The Art Institute of Chicago: 391, Gift of Mrs Gilbert W. Chapman in Memory of Charles B. Goodspeed, 1948.561. Photography ©Art Institute of Chicago/©Succession Picasso / DACS 2006.
Artothek: 190 п, Staatliche Graphische Sammlung, Munich.
Art Resource, New York/©Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, NY and DACS, London 2006: 434, 439, 448, 450 л, п, 454, 457, 458, 468, 469, 470, Nicolas Sapieha.
©BBC: 85, 99, 101 нижн. л, п, 105–107, 114 нижн. л, п, 122–123.
BPK: 61, 149, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin / Photo: Jôrg P Anders; 162, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin / Photo: Jôrg P Anders; 190 л, Hamburger Kunsthalle, Hamburg / Photo: Cjristoph Irrgang.
Bridgeman Art Library, London: 114 верхн., Museo Nazionale del Bargello, Florence; 126, Santa Maria della Vittoria, Rome/Joseph Martin; 137, 192–193 ©Nationalmuseum, Stockholm; 144, 145 л. ©Museum of Fine Arts, Boston, Zoe Oliver Sherman Collection; 163 п., British Museum, London; 165, Gemaeldegalerie Alte Meister, Dresden ©Staatlic Kunstsammlungen Dresden; 166, Gemaeldegalerie Alte Meister, Kassel ©Staatliche Museen Kassel; 201, Wallraf Richartz Museum, Cologne; 205, Musée de la Ville de Paris, Musée du Petit-Palais; 206, Musée des Beaux-Arts, Lille, Lauros/Giraudon; 207, Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris; 224, Chateau de Versailles; 242 п, Private Collection; 245, 247, 248, Louvre, Paris; 251, Musée Nationale du Chateau de Malmaison, Rueil-Malmaison, Lauros/Giraudon; 258, Wilberforce House, Hull City Museums and Art Galleries; 266, ©Birmingham Museums and Art Gallery; 281, ©Cecil Higgins Art Gallery, Bedford; 289, ©Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection; 301, Reading University, Berkshire; 311, ©Samuel Courtauld Trust, Courtauld Institute of Art Gallery, London; 341, Kröller-Müller Museum, Otterlo; 352 п, Folkwang Museum, Essen; 353, Museum of Fine Arts, Boston. Bequest of John T Spaulding ©2006 Museum of Fine Arts, Boston; 374–375, Van Gogh Museum, Amsterdam; 389, MoMA, New York/Lauros/ Giraudon/©Succession Picasso/DACS 2006; 399, Musée Picasso, Paris/©Succession Picasso/DACS 2006; 400, Private Collection; 409, Archives Charmet/©ADAGP, Paris and DACS, London, 2006; 412, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid/©Succession Picasso/DACS 2006.
Cincinnatti Art Museum: 368–369. Bequest of Mary E Johnston.
Corbis: 89, 461, ©Bettmann Archive; 103, ©Araldo de Luca; 122, ©Massimo Listri; 130, ©Francesco Venturi; 133, ©World Films Enterprises/photo. Vladimir Lefteroff; 177, ©The National Gallery, London, 343, ©Francis G Mayer.
©The Devonshire Collection, Chatsworth: 257. Reproduced by permission of the Chatsworth Settlement Trustees. ©The Devonshire Collection.
©The Frick Collection, New York: 156, 183.
Copyright ©2006 by Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas: 37.
Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands: 347, 352 л.
The Metropolitan Museum of Art, New York: 38, Rogers Fund, 1952 (52.81), Photograph ©1983 The Metropolitan Museum of Art; 94, Purchase, The Annenberg Fund, Inc., Gift, Fletcher, Rogers, and Louis V Bell Funds, and Gift of J Pierpont Morgan, by exchange, 1976 (1976.92), Photograph ©1996 The Metropolitan Museum of Art; 175, Robert Leham Collection, 1975 (1975.1.799), Photograph ©1984 The Metropolitan Museum of Art; 180, Purchase, special contributions and funds given or bequeathed by friends of the Museum, 1961 (61.198), Photograph ©1993 The Metropolitan Museum of Art; 214, Catharine Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1931 (31.45), Photograph ©1995 The Metropolitan Museum of Art; 215, Purchase, Mr and Mrs Charles Wrightsman Gift, in honor of Everett Fahy, 1977 (1977.10) Photograph ©1986 The Metropolitan Museum of Art; 342, Rogers Fund, 1949 (49.41), Photograph ©1983 The Metropolitan Museum of Art; 358, Bequest of Abby Aldrich Rockefeller, 1948 (48.190.2) Photograph ©1998 The Metropolitan Museum of Art; 362, Rogers Fund, 1949 (49.30) Photograph ©1984 The Metropolitan Museum of Art. Photograph ©2006 Museum of Fine Arts, Boston, Henry Lillie Pierce Fund; 256, 308–309.
©The National Gallery, London: 31, 140, 158, 159, 260.
Images ©2006 Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington, Gift of Mark Rothko Foundation, Inc/©Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, NY and DACS, London 2006: 435, 438, 441, 442.
Rembrandtshuis, Amsterdam: 186.
Rijksprentenkabinet, Amsterdam: 163 л.
Rijksmusem, Amsterdam: 167, 170–171.
©RMN, Paris: 218–219, Louvre, ©Gerard Blot/Christian Jean; 233, Musée des Beaux Arts, Dijon; 242 л, Louvre/ ©Thiery Le Mage; 403, Musée Picasso, Paris/©Beatrice Hatala/©Succession Picasso/DACS 2006; 413, Musée Picasso, Paris/©Franck Raux/©ADAGP, Paris and DACS, London, 2006; 423, Musée des Beaux-Arts, Lyon/©Gerard Blot/© Succession Picasso/DACS 2006.
Royal Academy of Arts, London: 263
© Scala, Florence: 17, 63, Stiftung Schlossert und Garten, Sans Souci, Potsdam; 21, 34, 82, 94, 101 верхн., 105, 106, 107, 111; Borghese Gallery, Rome; 23, Biblioteca Marucelliana, Florence; 49, 50–51, 56, 57, Church of San Luigi dei Francesi, Rome; 64, Sant’ Agostino, Rome; 67, Louvre, Paris; 72, Museo di Capodimonte, Naples; 76–77, San Giovanni, Valletta; 119, Vatican, Rome; 127, Santa Maria della Vittoria, Rome; 131, Sant’ Andrea al Quirinale, Rome; 153, Hermitage Museum, St. Petersburg; 195, 238, Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels; 98, Contini Bonacossi Collectiion; 43, 199, Uffizi, Florence; 178, 208–209, Louvre, Paris; 298, Philadelphia Museum of Art; The John Howard McFadden Collection, 1928 ©2004 The Philadelphia Museum of Art/ Art Resource; 319, 355, 361, Musée d’Orsay, Paris; 340, Niarchos Collection, Paris; 379, 414–415, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid ©2003/Photo Art Resource/©Succession Picasso/DACS 2006; 385, Philadelphia Museum of Art, A. E. Gallatin Collection, 1950 ©2004, Photo The Philadelphia Museum of Art/Art Resource/©Succession Picasso/DACS 2006; 386, MoMA, New York, The William S Paley Collection/©Succession Picasso/DACS 2006, 392, MoMA, New York, Gift of Mrs Simon Guggenheim ©Succession Picasso/DACS 2006; 424, MoMA, New York, Mrs Sam A. Lewisohn Bequest (by exchange) and Mrs Marya Bernard Fund in memory of her husband Dr Bernard Bernard and anonymous/©Succession Picasso/DACS 2006; 393, Ganz Collection, New York/©Succession Picasso/DACS 2006; 443, MoMA, New York/©Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, NY and DACS, London 2006; 447, MoMA, New York/©Succession H. Matisse/DACS 2006; 454, MoMA, New York/©Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, NY and DACS, London 2006; 379, 386, 389, 392, 424 ©Succession Picasso/DACS 2006; 417, Prado, Madrid; 443, ©Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, NY and DACS, London 2006; 453, MoMA, New York/©Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, NY and DACS, London 2006
©Tate, London, 2006: 253, 265, 269, 271, 273, 274, 278, 282–283, 284, 285, 288, 291, 293, 294, 295, 304–305, 313, 316, 317; 422, © Succession Picasso/DACS 2006; 430, 463, 464, 465, ©Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ARS, NY and DACS, London 2006.
Van Gogh Museum, Amsterdam: 329, 333, 334–335, 339, 363, 365, 371, 374–375.
Copyright © Times Newspapers Ltd, 1937 / George Steer: 408.
Примечания
1
Аллюзия на роман Г. Мелвилла «Моби Дик». (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
«Жизнь» (лат.). Полное название «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции».
(обратно)3
Оливер Рид (1938–1999) – английский актер, скоропостижно скончавшийся в одном из баров Валлетты на Мальте.
(обратно)4
Фрагмент фрески «Страшный суд».
(обратно)5
Рисование; эскиз, набросок; план, проект (ит.).
(обратно)6
Мф. 9: 9.
(обратно)7
Речь идет о «паллакорде» (ит. pallacorda), игре, предшествующей современному теннису.
(обратно)8
Удивительное дело (лат.).
(обратно)9
Кавалеры какого-либо ордена, рыцари (ит.).
(обратно)10
Т. е. «Джорджоне» по-итальянски.
(обратно)11
Среди прочего (лат.).
(обратно)12
Самолюбие (фр.).
(обратно)13
Старое доброе время (шотл.). Название стихотворения Роберта Бёрнса, написанного в 1788 г.
(обратно)14
Перевод Б. Ривкина.
(обратно)


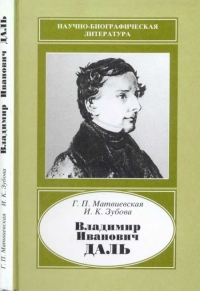



Комментарии к книге «Сила искусства», Саймон Шама
Всего 0 комментариев