Быть дворянкой Жизнь высшего светского общества Составитель Елена Первушина
© Е. Первушина (авт. – сост.), 2017
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
Елена Владимировна Первушина Предисловие
Что первым приходит в голову, когда мы говорим о XIX веке. Какой образ? Золотое шитье мундиров и белые платья с кринолинами? Пары, плывущие в вальсе? Светский раут или вечер в тихой усадьбе? В любом случае эта картинка скорее всего будет связана с жизнью дворянства. Только редкий оригинал правдолюб припомнит в первую очередь, например, стихи Некрасова:
Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом, Крестьянку молодую…Меж тем дворянство составляло всего 1,5 % от населения России. Из них 2/3 семейств являлись дворянами потомственными, а 1/3 – пожалованными за личные заслуги или в соответствии с занимаемой должностью.
В число потомственных дворян входила прежде всего допетровская знать, старинные боярские роды, но также и большое число «выдвиженцев» петровского времени, получивших дворянство и земельные наделы за службу государству.
За время своего краткого правления Петр III успел принять весьма важный манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Этим законом, впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу. Однако по требованию правительства обязаны были служить в вооруженных силах во время войн, для чего возвращаться в Россию приходилось под угрозой конфискации землевладений.
«Первый бал Наташи Ростовой».
Художник Л. Пастернак. 1893 г.
«Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. „Давно я ждала тебя“, – как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея».
(Л. Толстой «Война и мир»)
Основные положения указа Петра III были подтверждены законодательным актом Екатерины II от 21 апреля 1785 года в известной «Жалованной грамоте дворянству 1785». Эти законы позволили дворянам жить на доходы со своих земель и не заниматься государственной службой, если к тому не лежала душа. Кроме того, дворяне имели право, не вступая в купеческую гильдию, торговать сельскохозяйственной или промышленной продукцией, произведенной на собственной земле. До 1863 года дворяне-землевладельцы имели исключительное право заниматься винокурением. Если дворянин за совершение преступления бывал присужден к смертной казни или лишению прав дворянского состояния, его наследственная собственность отходила к его законным наследникам, а не подвергалась конфискации государством. Екатерина также впервые созвала Уездные дворянские собрания и повелела каждые три года избирать местных дворян для отправления судейских и полицейских функций в сельской местности. Официальными руководителями и представителями дворянства в его новой корпоративной роли стали уездные предводители дворянства – административное учреждение, тоже созданное в 1766 году для данного случая.
Всю внутреннюю политическую историю России в XVIII–XIX веках можно рассматривать, как историю компромиссов между императорской семьей и крупным дворянством. Император Павел I частично отменил привилегии дворянства, что и послужило одной из причин его убийства. Александр I, взойдя на престол, тут же вернул дворянам отнятые у них права. Николай I урезал право выезда за границу и восстановил обязательность службы государству для приписанных к Западным губерниям польских дворян, владевших менее чем сотней крепостных. Дав свободу крепостным, Александр II ликвидировал самую ценную из дворянских привилегий. Последовавшие за этим массовые продажи ставших без дарового труда убыточными имений и исход дворян в города многими воспринимались как «гибель России». Однако некоторые современные историки, проанализировав документы тех лет, приходят к выводу, что капитал, вырученный как от продажи, так и от залога земли, чаще всего вкладывался в торговлю и промышленность, где приносил куда большую прибыль, чем в сельском хозяйстве. Таким образом те, кто был связан с землей лишь по праву рождения, предпочли распрощаться с «отеческими наделами» и попытать удачи на ином поприще. Многие дворяне воспользовались новыми возможностями и переехали в города, где обрели более родственную культурную среду и новое положение в общественной жизни. Оставшееся на земле меньшинство продолжало сокращаться по численности и по площади принадлежавших ему земель, но зато это меньшинство превращалось в группу преданных своему делу, ориентированных на рынок и на прибыль производителей.
Несмотря на то, что судьба дворянки внешне представлялась завидной, главная проблема, стоявшая перед ней, была той же, что и для крепостной крестьянки: отсутствие личной свободы. Может быть, несвобода дворянки не очевидна на первый взгляд, но ее было легко обнаружить при взгляде более пристальном.
Сословное положение, социальный статус и образ жизни женщины в России XIX века зависели от происхождения ее отца и отчасти мужа. Буквально до самого конца XIX века женщина не могла сделать собственной карьеры, она получала положение в обществе лишь через рождение или замужество. Имея обязанности взрослого человека, она обладали правами и возможностями ребенка. Такая жизнь могла на первый взгляд показаться веселой и беззаботной, но на самом деле было очень сложной. Женщины-дворянки были вынуждены в буквальном смысле жить тем, что они выпросят или выманят у мужчин. Три наших героини каждая по-своему решали эту проблему.
* * *
Анна Петровна Полторацкая (с первом замужестве – Керн, во втором – Маркова-Виноградская) была родом из семьи небогатых орловских помещиков, вместе с родителями она сначала жила в усадьбе деда с материнской стороны – орловского губернатора Ивана Петровича Вульфа, а позже – в уездном городе Лубны Полтавской губернии. Она вышла замуж в 17 лет, и вышла не по любви, а по воле родителей, за пятидесятидвухлетнего генерала Ермолая Федоровича Керна. Характер у генерала Керна был весьма суровый и деспотичный, и Анна предпочитала проводить как можно больше времени вдали от него. Правда, она родила генералу двух дочерей, но воспитанием ребенка и «сохранением семейного очага» занималась безо всякой охоты. Тем больше Анна ценила дружеские отношения – с семьей Раевских, с семьей Олениных и наконец с семьей Вульфов. В петербургском дома Олениных в 1819 году она познакомилась в Пушкиным и окончательно влюбила в себя поэта, когда гостила летом 1825 года в псковском имении Прасковьи Осиповны Вульф Тригорское, которое располагалось совсем радом от Михайловского, где коротал свои дни ссыльный поэт. Именно этому «случайному сближению» усадеб и судеб мы обязаны появлением на свет знакомых нам с детства строк: «Я помню чудное мгновенье».
Но знакомство с Пушкиным было, хотя и ярким, но отнюдь не единственным романом в жизни Анны. Ее дневники пестрят фамилиями и псевдонимами мужчин, удостоившихся ее благосклонного взгляда. Потом она полюбила своего троюродного брата 16-летнего кадета Первого Петербургского кадетского корпуса, Александра Маркова-Виноградского, переехала к нему, порвав со светским обществом, родила сына и, дождавшись смерти Керна, во второй раз вышла замуж. Это случилось 25 июля 1842 года.
Вместе с мужем и ребенком (сына, как и отца назвали Александром) она долго жила в деревне Сосница Черниговской губернии – в доме деда Анны Петровны. К тому времени Анна уже была больна туберкулезом, и родные боялись везти ее в Петербург. Чтобы как-то свети концы с концами Анна подрабатывала переводами, потом продала свою переписку с Пушкиным. Когда она обратилась к поэту с просьбой познакомить ее с издателем Смирдиным, тот в ответ только высмеял ее. Но Анны писала из деревни сестре мужа Елизавете Васильевне Бакуниной: «Бедность имеет свои радости, и нам хорошо, потому что в нас много любви… может быть, при лучших обстоятельствах мы были бы менее счастливы…»
Позже они все же переехали в столицу – второй муж Анны был не богат, и чтобы зарабатывать на жизнь нашел место гувернера, затем столоначальника в департаменте уделов. Супруги встречались с Ф. И. Тютчевым, П. В. Анненковым, И. С. Тургеневым. Потом Александр Васильевич вышел в отставку и бедность снова поселилась в их доме… Анна Петровна с мужем умерли в один год. Он – 28 января 1879 года, она – паять месяцев спустя – 27 мая.
* * *
Другая героиня этой книги – Александра Осиповна Смирнова (по мужу Россет) родилась на Украине в 1809 году. Ее отец – француз, из старинного рода, был комендантом порта Одессы и умер во время эпидемии чумы, когда дочери было всего пять лет. Мать вскоре вторично вышла замуж за И. К. Арнольди, с которым маленькая Александра не поладила. Ее увезли к бабушке, а позже отдали на воспитание в Петербург, в Екатерининский институт. Выйдя из стен института, Александра очень не хотела возвращаться в родной дом и встречаться с отчимом, который во время приезда в Петербург недвусмысленно приставал к ней, поэтому она была рада принять приглашение занять место при дворе. Она быстро прижилась во Фрейлинском коридоре, вместе с двором ездила с Москву и в Царское Село, скучала на приемах и весело проводила время со своими подругами-фрейлинами. В Павловске она познакомилась с семейством знаменитого историка Карамзина, а на одном из балов – с Пушкиным. Александр Сергеевич оценил ее красоту и живой характер, но в своих стихах обращенных к князю Вяземскому, он отдает предпочтение Анне Олениной, за которой тогда ухаживал.
Она мила – скажу меж нами — Придворных витязей гроза, И можно с южными звездами Сравнить, особенно стихами, Ее черкесские глаза, Она владеет ими смело, Они горят огня живей; Но, сам признайся, то ли дело Глаза Олениной моей!(Забавно, что в первоначальном варианте, записанном в альбом Олениной, вторая строчка читается «твоя Россетти, егоза»). Видимо недаром друг и учитель Пушкина Василий-Андреевич Жуковский называл ее в своих стихах «небесным дьяволенком»).
Сама же Александра признавалась позже биографу Пушкина П. И. Бартеневу: «Ни я не ценила Пушкина, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков, мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания».
Однако позже, когда Александра уже перестала быть фрейлиной, хотя и осталась светской женщиной, Пушкие посвятил ей такие стихи:
В тревоге пестрой и бесплодной Большого света и двора Я сохранила взгляд холодный, Простое сердце, ум свободный И правды пламень благородный И как дитя была добра; Смеялась над толпою вздорной, Судила здраво и светло, И шутки злости самой черной Писала прямо набело.В 1832 году Александра выходит замуж за сына богатого помещика, молодого дипломата Николая Михайловича Смирнова. «В начале я была к Смирнову расположена, – будет она позже рассказывать человеку, которого полюбит. – Но отсутствие достоинства оскорбляло и огорчало меня, не говоря уже о более интимных отношениях, таких возмутительных, когда не любишь настоящей любовью».
В своем салоне она собирала литературную элиту Петербурга. Ее гостями были Пушкин, Одоевский, Вяземский, Жуковский и многие другие.
Ее первый ребенок – мальчик – оказался слишком крупным и умер во время родов. Тем не менее Александре очень хотелось иметь детей, хотя врачи и не рекомендовали ей этого. «Как я люблю чувствовать, как движется маленькое существо, – писала она, – если что-то острое, говоришь себе: ножка или ручка, если круглое – головка».
Во второй раз забеременела в 1834 году. По этому поводу Пушкин пишет жене: «Отвечаю на твои запросы: Смирнова не бывает у Карамзиных, ей не встащить брюха на такую лестницу…», позже: «Смирнова на сносях. Брюхо ее ужасно; не знаю, как она разрешится…». Однако на этот раз все обошлось, хотя роды и сопровождались по свидетельству Александры «ужасающим кровотечением». Она благополучно родила двух дочерей Александру и Ольгу и отправилась в Баден-Баден на воды поправлять здоровье. Там она пережила по ее словам «роман всей своей жизни» – влюбилась в генерал-губернатора Молдавии и Валахии Николая Киселева, бывшего сослуживца мужа.
Муж вечерами играл в рулетку, а она рассказывала Киселеву о своей жизни, о замужестве и отвращении к интимным отношениям с мужем, о радостях беременности и тяготах родов, о своих детях. В то время она снова была беременна и родила несколько месяцев спустя дочь Софью.
В 1837 году она похоронила трехлетнюю Александру, позже родила дочь Надежду и долгожданного сына Михаила.
В 1838 году, на время возвратившись в Петербург, Александра познакомилась с М. Ю. Лермонтовым. Литературоведы считают, что он описал свои впечатления в неоконченной повести «Лугин»: «…Она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы, оттеняли ее молодое и правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли. Лугин… часто бывал у Минской. Еt красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением…»
Позже в Риме Александра сдружилась с художником Александром Ивановичем Ивановым и с Николаем Васильевичем Гоголем. Много лет Смирнова с Гоголем вели переписку. Он посвятил ей свои статьи в сборнике «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Женщина в свете», «О помощи бедным», «Что такое губернаторша» – к этому времени муж Александры стал калужским губернатором.
Умерла Александра Осиповна в 1882 года Париже, согласно завещанию похоронена в Москве.
* * *
Имя третьей героини этой книги не так широко известно публике, а между тем Вера Петровна Желиховская была родом из очень интересной и необычной семьи. Ее мать Елена Андреевна Ган приходилась двоюродной сестрой поэтессе Евдокии Ростопчиной. Другой ее кузиной была Екатерина Сушкова, а которую одно время был страстно влюблен Лермонтова. Екатерина познакомила свою двоюродную сестру с поэтом, и он произвел на нее очень сильное впечатление. Говоря о родстве Ган и Желиховской остается добавить только, что среди их предков по женской линии была Наталья Долгорукая, невеста ближайшего друга Петра II. Которая после смерти юного императора и опалы его приближенных все же не отказалась от своего жениха и уехала вслед за ним в Сибирь, а после, вернувшись в Петербург, написала «Своеручные записки», которые считаются первыми женскими мемуарами, написанными на русском языке. Имея такую родню, не мудрено, что Елена тоже стала писательницей. Ее перу принадлежит повесть повести «Медальон», «Суд света», «Теофания Аббиаджио», «Напрасный дар», «Любонька», «Ложа в одной опере». Ее произведения получили одобрение Тургенева и Белинского.
Родная сестра Елены, Екатерина, вышла замуж за Юлием Федоровичем Витте и таким образом известный российский государственный деятель, министр финансов России Сергей Юльевич Витте приходился нашей героине кузеном. А родной сестрой Веры Андреевны была не кто иная, как… знаменитая теософка Елена Андреевна Блавадская.
Вера Петровна унаследовавшая талант матери, также стала писательницей. Но ей пришлось жить в совсем другие годы. Она родилась в 1835 году, когда еще жив был Пушкин, а умерла в 1896 в буквальном смысле слова «вместе с веком». За это время в России многое переменилось. Если в начале века девушка или женщина, учившаяся слишком много или изучавшая «не женственные» дисциплины, рисковала оказаться белой вороной и вместо восторгов заслужить славу «нелюдимки» (так назвалась одна из пьес Евдокии Ростопчиной), «философки» или «синего чулка». То в конце его необразованные и экзальтированные девицы, которых по старинке выпускал Смольный институт, получали от своих сверстниц-гимназисток презрительные прозвища «институтки» или «кисейные барышни».
Вера Петровна отнюдь не была кисейной барышней. О ее характере лучше всего скажет называние одной из ее книг «Мала былинка, да вынослива». Она вышла замуж за директора гимназии в Тифлисе В. И. Желиховского и еще при жизни мужа начало публиковать очерки в местных журналах. Желиховский умер в 1880 году и Вера Петровна перебралась в Петербург, где публиковала книги для детей и юношества (в том числе несколько фантастических повестей), сотрудничала с журналами «Игрушечка», «Родник», «Детское слово», «Задушевное чтение», «Нива», «Всемирная иллюстрация», «Живописное обозрение». Защищая память своей стеры она написала стати по теософии, а также книгу о таинственных явлениях человеческой психики «Необъяснимое или необъясненное».
Умерла Вера Сергеевна в Петербуге, была похоронена в Одессе.
* * *
В течение XIX века женщины завоевали права, получили возможность строить свою жизнь по собственному выбору. Завоевали не только политической борьбой, но и литературным трудом. Конечно, не без трудностей и не без ошибок, но ведь трудности и ошибки были и раньше, а вот возможности их исправить не было. Но тут же перед ними встал новый вопрос: как женщины могут преобразовать общество, сделав его более справедливым и комфортным для себя и для других? Искать ответ на него пришлось уже женщинам XX и XXI века.
«Вечеринка».
Художник В. Маковский. 1875–1897 гг.
Анна Петровна Керн (Маркова-Виноградская) Дневник для отдохновения, посвященный Феодосии Полторацкой, лучшему из друзей
№ 1
Псков, 23 июня 1820.
Я обещала поверять вам все мои мысли, а также поступки, ни в чем не меняя порядка, который заведен был у нас в то блаженное время, когда мне не приходилось прибегать для этого к помощи пера и бумаги. Время это прошло безвозвратно, и оплакивать его бесполезно. Я утешаюсь надеждой, сией опорой несчастных: вера в божественное провидение позволяет мне уповать на будущее. Неужто и в будущем, хотя бы самом отдаленном, небо откажет мне в той единственной милости, о коей я прошу его в горячих моих молитвах? Нет, невозможно мне быть счастливой вдалеке от тех, кого я люблю. Итак, я здесь прозябаю, усердно стараясь выполнять долг свой, во всем следуя наставлениям добродетельного моего друга, навсегда запечатлевшимся в моей памяти: мне удается быть почти спокойной, когда я занята, а без дела я никогда не сижу, постоянно читаю либо пишу что-нибудь, сама поверяю счета, занимаюсь своей дочерью, словом, за весь день, можно сказать, минуты свободной нет, но если вдруг что-нибудь напомнит мне Лубны, мне делается так больно – невозможно описать вам чувства, которые меня тогда охватывают. Чтобы обрести сколько-нибудь спокойствия, мне надобно позабыть о пленительном призраке счастья, но как вычеркнуть из памяти ту единственную пору моего существования, когда я жила? Как расстаться со сладостной мечтой души моей? За те упоительные дни блаженства и должна я теперь покорно и терпеливо сносить все. Да, никто никогда не любил так, как любила я, и ни у кого еще не было более достойного избранника. Откладываю перо, боюсь совсем разволноваться.
Вообразите, куда ни брошу взгляд, всюду нахожу я раздирающие душу воспоминания: вот подсвечник, подарок лучшей и нежнейшей из матерей, а вот передо мной мой альбом, сей «Язык цветов», с помощью которого я могу беседовать с вами, мой ангел, слева от меня – образа, напоминающие мне то место, где они прежде находились. У меня иной раз до того разыгрывается воображение, что чудится, будто их трогает моя судьба и они печалятся о том, что я несчастна. Представьте себе, я не могу надеть то платье, в котором ходила у вас, мне кажется это чем-то кощунственным, я сшила себе новое, домашнее – оно-то хоть не будет связано ни с какими воспоминаниями, мне подарил его муж, оно из коричневой материи, как [неразб.] и обошлось, кажется, всего в 23 рубля. Есть еще и другие платья, вызывающие кое-какие нежные воспоминания, я даже смотреть на них не могу, слишком делается от этого грустно.
Звонят к вечерне, завтра праздник, Иванов день! Только для вашей Анеты нет больше праздников! В том счастливом краю, где живете вы, в этот вечер горят веселые огни, а у меня здесь все те же огни жасмина.
24-го, полдень.
Только что вернулась от обедни. По чрезмерной своей мягкости, я дала себя уговорить и вопреки собственному желанию поехала в монастырь, где нынче престольный праздник, а следовательно, много народу. Обедню служил архиерей. Очень я раскаивалась в том, что поехала, и мысленно давала себе слово не быть впредь столь сговорчивой. Когда искренне жаждешь предаться молитве, делается не по себе в толпе всех этих людей, которые обычно приходят в церковь лишь затем, чтобы покрасоваться. Невольные слезы, что исторгает молитва из глубин взволнованной души, не могут свободно излиться среди такого множества людей, устремивших на тебя свои взоры. Так было и сегодня со мной. Я проклинала себя за несносную свою податливость и дорого бы дала, чтобы остаться незамеченной и иметь возможность вволю поплакать, благодаря создателя за прежние дни счастья, что он даровал мне. Я твердо решила отныне ходить только в ту церковь, где менее всего бывает народу.
25-го, в 5 часов пополудни.
Нынче я в самом мрачном расположении духа, то есть еще более мрачном, чем все прошлые дни. Я и сама не понимаю, отчего я стала всего бояться, даже стала суеверной, – сущий пустяк, сон какой-нибудь, и я уже сама не своя; вот сегодня мне приснилось, будто я потеряла правую серьгу, а потом нашла ее сломанной, и мне уже кажется, что это не к добру, и не иначе как предзнаменование какое-то, потому что я никогда и не думаю о подобных вещах, а ведь снится нам, я в этом уверена, только то, о чем мы думаем. С тех пор как мы с вами расстались, не было ни одной ночи, чтобы мне не приснились Лубны, только на первом месте в этих снах Мирт, а Барвинок на втором.
Не кажется ли вам, милый друг, что сны посылаются нам небом, дабы, утешая нас в наших горестях и уменьшая наши печали, тем самым вознаградить за дневные страдания. Я всякий раз, когда мне снится, будто я с вами, возношу благодарность господу за его милость, и тогда почти уверена, что он мною доволен.
Погода нынче отвратительна, муж отправился на учения за восемь верст отсюда. До чего я рада, что осталась одна, – легче дышится. Все сегодня словно сговорились мучить меня воспоминаниями – Киру Ивановичу вдруг пришла фантазия сыграть на гитаре несколько мотивов, и выбрал он как раз те самые, что играл в Лубнах, а я не могу слышать их спокойно. Но от чего я совсем разволновалась, так это от польского – помните, мы танцевали его несколько раз под гитару? Никогда этого не забуду; как больно мне, когда я вспоминаю о вас, и вместе с тем как хорошо. Эти чувства так теснят мне грудь, что становится трудно дышать.
Я сделала выписки из одной очень хорошей книги, которую только что прочла, «Эмили Монтань», посылаю их вам с этим номером дневника вместе с размышлениями, к коим они меня побудили; я уверена, что вы, как и я, найдете в этих отрывках много справедливого, ведь у нас с вами родственные души, все, что трогает меня, должно тронуть и вас, все, что меня поражает, должно и вас поразить. Но в одном я твердо уверена – что бы ни послала вам ваша Анета, все будет вам только приятно.
26-го, в 10 утра, суббота.
Благодарю тебя, о господи, за счастливое пробуждение. Спасибо, мой ангел, за ваше письмо, да будет с вами благословение божие, да осыплет он вас бесконечными своими милостями. Если бы вы только могли вообразить себе, до чего я была счастлива, получив ваше письмо, – просто невозможно выразить это словами. Я обожаю Шиповника и Барвинка, так ясно представляю себе, как он благодарит вас взглядом, исполненным нежности; у меня выписано тут одно выражение, которое очень подходит к его глазам: «Я не знаю человека, которому так полезны были бы глаза его, ему словно нет даже надобности произносить слова, чтобы быть понятым, они говорят все, что он хочет сказать». И в самом деле, ведь мы не обменялись с ним и десятью словами, а сколько друг другу сказали! Как хорошо я знаю его душу! Ведь она прекрасна, не правда ли, мой ангел, разве не достойна она общения с моей душой и с вашей?
№ 2
Мне пришла в голову одна мысль – помните эстамп, который я просила дать закончить тому юноше, – пусть он изобразит офицера в форменном сюртуке, со скрещенными на груди руками, это будет точь-в-точь Шиповник во время нашего последнего прощания. И я могла бы сама дорисовать то, что окончательно дополнило бы иллюзию, – то есть ексельбант.
Вот причина, почему я беспокойно провела ночь, – уснула я уже под утро, и мне привиделся сон – будто муж привел меня к предсказательнице, а та велит мне взойти в какую-то каморку, задает всякие вопросы, а потом вдруг говорит, что скоро я соединюсь с Шиповником. Вы представить себе не можете, до чего я поражена была, когда она произнесла его имя.
Суббота, в половине пятого.
Как я сегодня счастлива! Читала и перечитывала ваше прелестное письмо более десяти раз. Кто еще может похвалиться тем, что обладает подобным сокровищем? Да никто. Ваша Анета единственная счастливица. Небо подарило ей друга, которого нет больше ни у кого на свете.
Прежде всего скажу, что я во что бы то ни стало избавлюсь от этой особы, мы не можем оставаться вместе, слишком у нас несхожие характеры, чтобы мы долго могли выносить друг друга. Не хочу поднимать истории, подожду, пока мы найдем няню.
А теперь позвольте к этому присовокупить мои выписки вместе с их переводом, я сама его сделала, для того чтоб вы, если понадобится, могли бы познакомить с ними тех, кто недостаточно владеет французским; а может быть, вам и самой приятно будет иметь их на обоих языках: «Le cours de la vie n’est qu’un passage triste et languissant si l’on n’y respire l’air doux de l’amour» – «Течение жизни нашей есть только скучный и унылый переход, если не дышишь в нем сладким воздухом любви».
Разве это не бесспорная истина, мой ангел? Вы, быть может, скажете, что когда нет любви, ее можно восполнить дружбой? На это я отвечу вам: только в том случае, когда речь идет о дружбе, подобной нашей, – но ведь дружба наша та же любовь, я не то что люблю, я обожаю вас, и будь вы мужчиной, вы были бы моим избранником… но вы лучше меня, и я не смею продолжать сие сравнение. Вот что говорится в моем романе о чувствительности: «О, quel charme nous trouvons dans la sensibilité; c’est la pierre d’aimant qui attire tout a elle. La vertu peut exiger de l’estime, l’esprit et les talents de l’admiration, la beauté peut exciter un désir passager; mais Il n’y a que la sensibilité qui puisse Inspirer l’amour», – разумеется, автор хотел сказать: «Iе véritable amour», то есть истинную любовь, как определил ее в своем переводе ваш друг. «Какую неописанную прелесть мы находим в чувствительности. Это магнит, притягивающий к себе все. Добродетель вправе требовать уважения, разум и дарования – удивления; красота может возбудить желания, но одна только чувствительность может внушить истинную любовь».
Именно она связывает и нас с вами, и уж тут-то можно сказать: «Il est bien triste que le bonheur ou le malheur de notre vie soient ordinairement décidés avant que nous puissions juger de l’un ou de l’autre (это относится только ко мне!). Retenus par la coutume oue par les préjuges bizarres et ridicules, nous nous laissons entrainer par l’exemple de la multitude; ce n’est que quand Il n’est plus temps que nous commençons a penser». К этому я бы еще добавила, что мы не умели думать и, полагая в этом наше счастье, принимали решения, которые сделали нас на всю жизнь несчастными. «Как прискорбно, что счастие или несчастие целой жизни нашей бывает обыкновенно решено прежде, нежели мы в состоянии судить о том или другом. Удерживаемые обычаем, а иногда и предрассудками странными и смешными, мы бываем увлечены общим примером и тогда только, когда уже не время, начинаем размышлять».
Я нахожу, что все это верные мысли, некоторые из них я могла бы подтвердить собственным моим опытом, не так ли, мой ангел? И самый лучший из них, по-моему, тот отрывок, в котором любовь рассматривается в связи со священными узами брака, здесь его взгляд совершенно совпадает с моим; я уверена, что и вы с этим согласитесь: «On dit que les mariages qui ne se font purement que par amour sont malheureux… Oui, les mariages dont la seule passion a forme les nœuds sont toujours Infortunes; la passion se satisfait et la tendresse s’évanouit avec elle; mais l’amour (истинная) cet aimable enfant de la sympathie et de l’estime vous enchaine dans les liens d’une félicité continuelle. C’est l’unique bonheur qu’on puisse souhaiter… C’est quelque chose de plus que l’amitié, animée par le gout le plus vif et par le plus ardent désir de plaire… Le temps au lieu de ternir cette affection délicieuse la rend de jour en jour plus vive et plus Intéressante». И напротив, вовсе неверно, будто любовь может возникнуть при равнодушии друг к другу; я думаю, что равнодушие порождает одно лишь равнодушие, если не отвращение, а у натур заурядных и грубых – привычку. Я подобные истины объявляю ложными! «Говорят, что супружества, заключенные по страсти, всегда несчастливы… Так, супружества, основанные на одной только страсти, не могут быть благополучны. Страсть удовольствована, и нежность исчезает с нею. Но любовь, сие любезное дитя симпатии и уважения, связывает нас узами бесконечного блаженства; это единственное счастье, позволительное желать. Она есть искуснее, нежнее дружества, оживляемого самым живым вкусом и пылким желанием нравиться. Время, не истребляя этой нежной привязанности, делает ее день ото дня живее и приятнее».
Ежели бы теперь, в мои годы, мне нужно было решать свою судьбу – уж я бы сумела быть счастливой. Но не будем об этом говорить, надобно терпеть, а главное, не позволять себе роптать.
Прошу вас, милый друг, устройте так, чтобы не он переписывал «Трумфа». Во-первых, не хочу, чтобы муж что-нибудь заподозрил, вздумав сличать «Трумфа» с почерком, которым написаны стихи в моем альбоме. Во-вторых, это значило бы опозорить его руку, комедия эта недостойна того, чтобы он ее переписывал.
И еще прошу, ежели только вы этого не сделали, передайте ему «Мой друг-хранитель» и пообещайте, что если он его потеряет, ему это будет прощено. Уведомьте меня, если вы это уже сделали.
Посылаю вам лоскуток материи, из которой сшиты мои домашние платья, а по кисету, который я посылаю папеньке, вы увидите, какое платье я купила себе в Орше за 80 рублей, оно вроде того, что было на г-же Таубе, эта материя называется персидский шелк; такого же цвета и платье, которое мне привезли из Петербурга, – оно из той же материи, что и мое белое, муаровое, отделка у него прелестная, да только оно с короткими рукавами, и я не хочу надевать его, пока не сделаю к нему длинные рукава. Не хочу показывать свои красивые руки, как бы это не привело ко всяким приключениям, а с этим теперь покончено, и я буду обожать Шиповника до последнего своего вздоха, разумеется, однако, если он останется мне верен – свое сердце я отдаю в обмен на его. О, какая прекрасная, какая возвышенная у него душа!
Как вы думаете, ведь папеньке будет приятен этот кисет? Я бы ничего больше не успела сделать, но я сама его шью, вы мне напишите, понравится ли ему он? Скажу вам, что я еще никуда не выезжала. Но на той неделе поеду к губернаторше и тогда надену это синее платье; оно сшито под шею и с длинными рукавами по тому фасону, как у Мальвины, что у вас на картинке осталось. Я поеду тоже к нашей полковнице. Я рада, что мне это позволили. Она добрая женщина, и лучше, мое правило, жить в миру со всеми; терпеть не могу быть в ссоре! Насчет Кира Ивановича скажу вам, что он более не сердится и обещал мне писать к папеньке и маменьке; вы, наверно, думаете, что Ольга Андреевна причиною его неудовольствия. Он со мной был довольно откровенен – признался, что ему было приятно видеть, что маменька так хорошо к нему расположена, но что папенька, приехавши из Петербурга, ни слова ему не сказал и при прощанье закричал, что все только на словах, а на деле ничего, что ему было больно. Я всячески старалась его извинить, и теперь он все забыл. Я думаю, что вы по этой же почте получите удостоверение.
№ 3
В 7 часов.
А я все продолжаю писать, не боясь наскучить вам своей болтовней. Завтра воскресенье, пойду к обедне, буду благодарить господа за сегодняшний день – когда бы один такой день выпадал мне на долю каждую неделю, как я была бы счастлива! Вы будете получать мои письма тоже раз в неделю, только придется вам тратить на них много времени – пожалуй, хватит чтения до следующей почты. Посылаю вам, мой ангел, два платка, которыми муж позволил мне распорядиться по моему усмотрению. Я помню, вы однажды выразили желание иметь полосатый платок. Другой я хочу подарить Ольге Андреевне, она женщина бедная, ей это будет приятно, да и к свадьбе пригодится. Возьмите себе, мой ангел, тот, который больше вам понравится, и носите его из любви к вашей Анете, а для нее нет большего счастья, чем сделать вам что-то приятное. Другой же пошлите от меня Ольге Андреевне. Мне черный больше нравится, а впрочем, как вы хотите, моя бесценная. Я бы желала, чтобы и вам черный понравился. Пишите мне, мой ангел неоцененный, мое сокровище. Пишите во имя всего, что вам дорого. Употребите все старания, чтобы быть скоро здоровой, берегите себя для меня. Чтобы не подвергнуть себя вашему гневу, я не скажу вам, сколько драгоценно для меня ваше здоровье; оставляю перо, чтобы приняться за работу для папеньки. Обнимаю вас, мой ангел, и благословляю мысленно так же, как и Шиповника.
Воскресенье, в 10 часов утра.
«Для дружбы нужны самые солидные добродетели; она обыкновенно приобретается справедливостью, постоянством и твердой однообразностью характера. Любовь же, напротив, восхищается всегда сим неизъяснимым je ne sais quoi[1]. Она сама и для себя только рождает идола, которому поклоняется, она находит прелести в пороках даже своего предмета». О, как это справедливо. Никогда не забуду, когда Шиповник рассердился.
Анна Петровна Керн
(урожденная Полторацкая, по второму мужу Маркова-Виноградская; 1800–1879) – русская дворянка, в истории более всего известна по роли, которую она играла в жизни Пушкина.
Художник А. Арефов-Багаев. 1840-е гг.
Но видите ли, только что проснулась – и за перо. Сейчас еду к обедне. У нас очень холодно. Я надеваю черный бархатный капот, и он имеет для меня сладкие воспоминания. Целую ваши ручки и посылаю вам доброго дня, благодаря бога за прекрасный сон. Целую Шиповника глазки, увы! мысленно.
Сейчас возвратилась от обедни, была в соборе, усердно молилась богу, вспомня Троицын день. Архиерей служил, и певчие очень хорошо пели. Я была одна, совершенно одна. Вообразите, каково мне было, вспомня Лубны, мою бесценную маменьку. Сердце сильно у меня билось, когда я въезжала под большой каменный свод и подъезжала к вратам церкви; мне казалось, что я одна во всей природе, и когда вошла в церковь, насилу могла перевести дух; я пошла по левую сторону, где меньше было народу, и недалеко от левого крылоса заняла пустое место у стены, между двух очень бедных старушек. До половины обедни я спокойно молилась, но вдруг я заметила, что глаза всех мужчин устремлены на меня, чего никак нельзя было избежать, ибо они стояли на правой стороне, совершенно против меня; добрый мой телохранитель стоял недалеко позади меня. Еще более меня потревожило то, что двое мужчин неподалеку от меня стояли, и увидела пьяных или сумасшедших, разговаривающих между собой, мне казалось, про меня. Я вспомнила вас, мой ангел. Вот что значит слабость нервов. Мне так сделалось дурно, что я чуть не упала и решила подозвать к себе Кира И. и после была спокойнее, спешила скорее из церкви, никого не видела. Голова и теперь кружится.
В 5 часов пополудни.
Только что у меня был весьма интересный разговор с мужем, сейчас вам его перескажу. Он говорит, что слышал, будто с генералом, который командует в нашем корпусе второй дивизией, случился апоплексический удар, он лежит в параличе, и поэтому есть слух, будто дивизию эту передадут мужу; если же нет, он тотчас же по возвращении императора хочет ехать в Петербург и там возложить устройство своей судьбы на меня. Он обещается, если мне это удастся, сделать для меня все, что я захочу, а самое главное мое желание – съездить в гости к вам. Вы рады? В благодарность за столь приятное обещание я дала слово, что сделаю все, что будет в моих силах, чтобы добиться у императора этого назначения.
Еще он сказал, что ежели получит эту дивизию тотчас же, то позволит мне поехать к вам осенью. Так что я теперь почти уверена, что так или иначе увижу вас еще до конца этого года. Разве это не восхитительно, мой ангел? Сообщите об этом Шиповнику и перескажите мне его ответ. Пока я еще не смею и верить, что такое счастье возможно. Вы скажете, быть может, что это будет стоить слишком много денег, а я вам скажу, что нет, потому что в Риге очень дорога жизнь, а мы именно там будем квартировать, ежели планы осуществятся: к тому же ведь я тогда буду богатой – и жалование большое, и аренда, что и делать с такими деньгами, как не доставлять себе удовольствия в жизни, а для меня единственное удовольствие – это Лубны. Все другие места на свете мне безразличны.
Скажу вам, что мы с минуты на минуту ожидаем Лаптева, а потом корпусного командира. Муж хотел было устроить в его честь обед, но сделать этого не может, потому что не в ладах с Лаптевым, а я этому только рада – на мой взгляд, все это такие ничтожные люди, у меня охоты нет видеть кого-либо из них, всякое новое лицо меня стесняет, не хочу никого видеть. Это очень верно, что «il est dangereux de trop se livrer aux charmes de l’amitié. Ils affaiblissent le gout qu’on a pour les sociétés ordinaires»[2].
Да, мой ангел, после тех приятных бесед, что мы с вами вели, я уже не нахожу никого, с кем могла бы разговаривать. На мою беду, у меня нет середины – все или ничего – мой нрав таков; я либо холодна, либо горяча, а равнодушной быть не умею. Поговорите-ка с Шиповником о моих планах, будет рад он, если я приеду в сентябре? Как, на ваш взгляд? О, если бы вы могли ответить на это! Если бы могли сейчас услышать меня!
Нынче у нас обедал один молодой человек, он адъютант Магденки, брат его дамы сердца, юноша весьма воспитанный и хорошего тона. Можете себе представить, я вышла только к обеду. Для меня просто мучение видеть кого-либо. Он сразу же затеял со мной любезный разговор – как видно, он был изумлен, увидев меня, только я ему, должно быть, показалась странной, чудной, или же глупой: я ведь не похожа на других! Признаюсь, иной раз я немножко кокетничаю, но теперь, когда все мои мысли заняты одним, я уверена, нет женщины, которая так мало стремилась бы нравиться, как я, мне это даже досадно. Вот почему я была бы самой надежной, самой верной, самой некокетливой женой, если бы… Да, но «если бы»! Это «если бы» почему-то преграждает путь всем моим благим намерениям. Можете быть уверенной, что Шиповника я буду любить до последнего своего вздоха, так что не беспокойтесь, несчастных из-за меня будет не так уж много, вы же знаете, что иной раз это получается помимо моей воли. Так что просто из сострадания к мужскому полу я решила как можно реже показываться на людях, чтобы избавить его от страданий несчастной любви. Впрочем, довольно мне шутить, ангел мой. Это случается со мной только после добрых вестей. Этот дневник весь пропитан моей печалью.
№ 4
6 часов.
Сейчас перечла конец третьего номера и подивилась, какие глупости я там понаписала. Ну, да все равно – они вас рассмешат, но вы не станете слишком осуждать меня за них и не отвратите от меня своего сердца. Если я заставлю вас посмеяться несколько минут – я этому буду только рада. Только я вам советую не вдруг читать мой журнал, он может повредить вашему здоровью, и тогда я себе этого не прощу. Еще раз прошу вас, мой ангел, берегите свое здоровье, если хотите, чтобы я свое берегла, – нити наших жизней так тесно переплелись между собой, что ни одна из нас не может заболеть, не нанеся ущерба здоровью другой.
Я провела только что целый час в обществе нескольких офицеров нашей бригады и чуть не умерла со скуки. До чего же противные! Но когда ты спокоен, смотришь на них безо всякой досады, словно на китайские тени, – только и разницы, что эти говорят, – но наперед знаешь все их вопросы и ответы. Расстаешься с ними совершенно равнодушно.
Я оставила их заканчивать беседу с моим мужем; вы догадываетесь о предмете их разговоров – единственно доступном пониманию этих людей без души. Бедная я! Свою душу я стараюсь спрятать подальше, скрыть ее, насколько это мне удается, и разговаривать с ними возможно более пошлым тоном.
А теперь, мой ангел, поздравляю вас с именинами дорогого папеньки. Хоть бы вы провели этот день веселее, чем проведет его ваша Анета! Уж верно, в этот день у вас будет и Шиповник. Это будет послезавтра. Я уже представляю себе, как вы, мой ангел, беседуете с милым моим Шиповником, стараясь успокоить прекрасную его душу, которая, я уверена, опечалена будет моим отсутствием. Поговорите с ним обо мне, скажите ему, что я хотела бы быть ему другом. На сей случай хочу привести слова героини моего романа: «Le voir, l’écouter, être son amie, la confidente de ses projets… Etre sans cesse témoin des sentiments de cette âme généreuse et sublime… Je ne céderais pas ce plaisir pour l’Empire du monde». «Его видеть, его слышать, быть его другом, поверенной всех его предприятий… Быть беспрестанно свидетельницей всех чувствований этой прекрасной и великой души. Я не уступила бы сего удовольствия за обладание царством вселенной».
Во имя самого неба, прочтите ему этот отрывок, напишите, что он сказал. А вот еще один: «Les gens qui donnent tout au sens, et ceux qui n’ont que de l’indifférence, ne verront dans mon affection qu’un sentiment romanesque. Qu’il est peu de cœurs susceptibles d’aimer! Ils pensent sentir de la passion, de l’estime, Ils en peuvent sentir le mélange et c’est l’amour le mieux Imite. Mais connaissent – Ils le feu qui vivifie, cette tendresse animée qui nous jette dans l’oubli de nous – même et nous transporte, dans une autre sphère, lorsque le bien-être, l’honneur el la félicité de l’objet que nous aimons у est Intéresse?» – «Люди, которые все относят к чувственности, или равнодушные почтут мою привязанность за романическое чувство. Сколь мало сердец, способных любить. Они могут иметь страсть, иметь почтение, они могут чувствовать и то и другое вместе: это только хорошее подражание любви, но знают ли они сей животворящий огонь, сию живую нежность, заставляющую вас забывать о себе, переноситься в другую сферу, когда касается до благополучия и чести обожаемого нами предмета?»
Не знаю, понравится ли вам этот перевод, в нем, конечно, есть ошибки, но у меня нет словаря. Дайте ему это прочесть, если возможно, мне бы так этого хотелось, не откажите мне, доставьте мне это удовольствие, вы сделаете меня счастливой. Если бы вы были не вы, разве стала бы я говорить вам все это? Но я надеюсь на вашу снисходительность. «Les épanchements d’un cœur, tendre ne peuvent se verser que dans le sein d’une amie qui est affectée de la même sensibilité»[3]. Посылаю вам много писем, перешлите их по адресу, одно из них к Каролине; когда узнаете, где она, отправьте его ей. На сегодня прощаюсь с вами, ангел мой, обнимаю вас, желаю вам доброй ночи и приятных сновидений. Того же желаю и Шиповнику, да хранит его господь и вашу Анету вместе с ним. Прощайте, устала. До свидания, мой ангел.
Понедельник, 28 июня, в час.
Все письма готовы, милый друг. Посылаю их вам – одно из них к Каролине. Как грустно мне будет завтра: ведь это также день именин дорогого моего Поля. Поцелуйте его покрепче за меня, мой ангел. Я послала купить что-нибудь, чтобы передать ему. Буду в отчаянии, если ничего не найдут. Мне до того хотелось бы доставить ему удовольствие: я так его люблю. Прошу вас, посоветуйте Шиповнику прочитать один роман: «Леонтина», соч. Коцебу. Скажите ему, что вам хочется его прочесть, потому что я вам о нем говорила и нахожу в нем много схожего с историей моей жизни. И знаете что? Не будем больше называть его Шиповником, я нашла для него другое, более красивое имя – Иммортель[4]. Оно соответствует и его чувствам – помните, как однажды он все повторял слово «вечно», а в последнюю нашу встречу, когда я пожалела, что его шляпа забрызгана грязью и совсем испорчена, он сказал: «Ничто не вечно». Так вот, отныне называйте его Иммортелем.
Прощайте, мой ангел, пора кончать, хотя бы ради того, чтобы поберечь ваши глаза, они, должно быть, устали, если вы читаете все это подряд. Итак, вы получите кусочек от вседневного мундира моего, который не возбуждает сладких воспоминаний. Только это не цвет моей души, это просто случайность. Я бы предпочла черный цвет.
Три часа пополудни.
Уже три часа, и я спешу успеть к почте. Прошу вас, обожаемый друг мой, передайте ему от меня тысячу приветов, скажите, как я благодарна за то, что он сразу же выполнил мое поручение. Я ведь понимаю, как ему, верно, тяжело было прийти в наш дом после моего отъезда. Согласитесь, что это было большой жертвой с его стороны. Вероятно, он был очень взволнован.
Итак, прощайте, моя дорогая. Переймите мою методу писания, то есть пишите что-нибудь каждый день. Прощайте же, мой дорогой, мой нежный друг, поцелуйте за меня дорогого моего Поля, я ничего не посылаю ему, мне это очень грустно. Передайте ему это письмецо, оно будет ему приятно. Бог да благословит вас всех, а в особенности вас и моего Иммортеля. Как только уйдет почта, я снова начну писать вам обо всем, что стану делать, – и так до следующего почтового дня. Мне трудно кончить это письмо – так я все же с вами, а когда его унесут, я останусь опять одна.
О мой ангел, как я люблю вас! Некоторые отрывки из этого дневника вы можете прочитать милой маменьке. Поцелуйте ей за меня ручки, ножку ее больную. Скажите ей, что люблю ее так, что и выразить не могу. Скажите, что я готова была бы отдать половину своей жизни за то, чтобы другую половину провести подле нее и подле вас, мой ангелочек и мой друг, мое утешение; мое сокровище. Итак, прощайте, кончаю. Дневник этот сохраните: кто знает, может быть, наступят для нас более счастливые времена, и тогда мы вместе перечитаем его.
И еще прошу, ради самого бога: берегите свое здоровье ради счастья вашей Анеты. Тысячу раз целую ваши руки, ваши глаза. Иммортелю передайте, что я вечно не забуду его одолжения и вечно буду ему благодарна. Христос с вами. Пишите, ради самого бога.
1820. Псков
№ 5
29 июня, 1 час пополудни.
Какой грустный у меня сегодня день! А между тем погода прекрасная, ярко светит солнце, оно озаряет всю природу, оно согревает, живит все, что дышит; одну меня оно не может согреть. Я хотела бы, чтобы день этот был не так хорош: плохо, когда природа находится в противоречии с душой нашей. Верно говорится: «Когда на сердце ненастно, так и в вёдро дождь идет».
Я была в церкви, в соборе, там было людей очень мало, потому что весь beau monde[5] был у праздника. Я, по обыкновению, очень прилежно богу молилась, вспоминая Иммортеля. Я воображаю, что у вас в Лубнах сегодня очень весело, но не для вас, мой ангел; я знаю, что вы думаете о вашей Анете и сожалеете, что ее с вами нет, а Анету между тем снедают мимоза, жасмин, ноготки и все страдания, что неизменно сопутствуют мимозе, и никто представить себе не может, каково ей. О, сегодняшний день принесет мне много бед.
6 часов.
Слава богу, день почти прошел. За обедом мой драгоценный супруг заставил меня пережить маленькую неприятность, и я, совсем позабыв ваш добрый совет не принимать подобные пустяки близко к сердцу, чуть от этого не заболела.
Вы знаете, что люди всегда склонны по себе судить о других, и вот из-за невинной шутки мой дорогой супруг рассердился – сперва на то, что повар не ему, а мне пришел сказать, что он нынче именинник, а когда я, желая его оправдать, во время обеда пошутила, что это по моему департаменту, муж вообразил, будто я этим хочу напомнить, что повар принадлежит мне. Я думаю, будь я даже на такое способна, ему не следовало говорить это перед прислугой и своим дураком адъютантом. Но как же можно меня, столь деликатную в таких вопросах, заподозрить в подобной низости и так компрометировать перед всеми этими невеждами! Вы же понимаете, мой ангел, что тут никакая философия, никакой стоицизм не помогают, и относиться к этому хладнокровно нельзя! Я, признаться, от этого прямо заболела и сказала ему причину, когда он меня спросил. Но разве ему что-нибудь втолкуешь?
Меня против моей воли заставили поехать на прогулку, а вернувшись, я нашла визитную карточку Лаптева, который нарочно выбрал это время, чтобы нанести нам визит. Говорят, он очень зол на моего дорогого супруга. Сейчас был у нас Кир И. и спешил скорей уйти, боится долго оставаться.
Я по-прежнему много читаю – что бы я без этого стала делать! Читаю романы, дабы рассеяться. Что бы ни говорили против такого рода чтения, я считаю, что ничто не может лучше успокоить мои страдания. Соболезнуя героине романа, ее любви, я занимаю свой ум и отвлекаю себя от мыслей, которые завладели мной целиком. Будь это серьезная книга, я бы в ней все равно ничего не поняла – даже если бы вздумала читать ее вслух, потому что ум мой, сердце, воображение неотступно заняты лишь одной и той же мыслью. По-прежнему делаю выписки из всего, что читаю, и по-прежнему буду посылать их вам, милый друг.
Июня 30-го в 7 часов вечера.
Сегодня мне не о чем писать вам, мой ангел; занятия мои все так же однообразны, ничто в них не меняется; встаю я очень поздно, потому что только тогда и счастлива, когда сплю.
Хотела нынче ехать с визитами, но, на мое счастье, лошадь повредила ногу, и теперь все откладывается до завтра. Я бы рада была и вовсе от них избавиться, но это совершенно невозможно: вчера губернатор сам приезжал поздравить меня, а я в какой-то степени ему обязана, это у него я брала кибитку, без которой не могла бы приехать к вам. А он денег брать за это не хочет, ни за что не хочет.
«Неравный брак».
Художник В. Пукирев. 1862 г.
Забыла вам рассказать, за что мой муж сердит на Магденку: вы знаете, что мой муж всегда был неразборчив в выборе приятелей, чему доказательством Петр Мартынович. Помните то забавное письмо, которое я получила от некоего Андреева. Я слыхала от Магденки, что это самый настоящий сумасшедший, человек очень злой, да к тому же еще интриган, так вот, муж сказал, что кто-то ему доложил, будто Магденко хвастал тем, что очень мне помог с моей поездкой (в сущности, это чистая правда, но, я уверена, он слишком благороден, чтобы такое сказать). И я не сомневаюсь, что это Андреев наговорил на него мужу, чтобы их поссорить. Я просто счастлива, что мне не пришлось видеть этого человека. Я теперь верю предчувствиям: помните ли, как я сердилась и была недовольна этим глупым письмом? Письмо моего мужа насчет Магденки огорчило меня не меньше. Нужно вовсе не иметь никакого характера, чтобы полагаться на свидетельство какого-то сумасшедшего против человека, которому он стольким обязан и который, мне кажется, достаточно доказал свою дружбу.
Но довольно об этом, мой ангел, теперь поговорим обо мне. Вспоминаете ли вы меня еще? Разумеется, вспоминаете – сужу по своему сердцу, а также по небольшому отрывку, который я только что перевела и, с вашего позволения, привожу здесь: «Si l’on sent une cruelle peine en s’éloignant des lieux ou réside un objet chéri, Il est plus douloureux encore de le voir disparaitre de ceux ou l’on reste âpres lui. Une seule personne aimée semble emporter avec elle tous les agréments du séjour qu’elle quitte; son Idée se retrace sans cesse, ranime le souvenir du plaisir que donnait sa présence; leur privation répand le dégout a l’insipidité de tous les autres; chaque Instant est marque par le regret d’un moment heureux; et pour une âme tendre tous le jours de l’absence sont des jours perdus».
Если это верно, если у него столь чувствительная душа, как мне показалось, он, должно быть, страдает, и даже больше, чем я. Но больше меня страдать невозможно! И хоть здешние места совсем не связаны с ним, память о нем столь глубоко врезалась в мою душу, что уже самый контраст между нынешними и минувшими днями рождает о нем воспоминания. Присовокуплю русский перевод:
«Горестно удаляться от мест, обитаемых любезным предметом; но еще стократ горестнее оставаться в тех местах, от коих она (он) удаляется. Одно любезное существо, кажется, уносит с собою все приятности сего места. Образ ее носится там беспрестанно и возбуждает воспоминания тех удовольствий, которые доставляло ее присутствие; лишение оных распространяет скуку и отвращение на все прочее; всякая минута знаменуется сожалением о счастливейшей, и для нежной души дни отсутствия есть потерянные дни в жизни».
Я рада, ежели он думает об этом так же, как я и как автор «Христины», откуда я это выписала. А вы меня не браните, мой ангел, уповаю на доброту и снисходительность ваши, мой дорогой друг. Близко ли вы, далеко ли – я всегда говорю с вами совершенно откровенно. На сегодня прощаюсь, мой ангел. Расстаюсь с вами, чтобы пойти распорядиться насчет ужина, муж сейчас вернулся с учений, он всегда бранит меня, что я все занимаюсь. Он привез мне вишен – это здесь первые; а вы их там кушаете? Как бы я рада была поделиться ими с вами – от этого они стали бы для меня во сто крат слаще!
Все фрукты напоминают мне о тех апельсинах, которые я давала Иммортелю; а те, что он подарил мне, я ела дорогой и бережно храню от них корки в старой бумажке, которая, по счастливой случайности, попала мне в руки и оказалась исписанной его почерком – приказ по дивизии.
Прощайте, мой ангел, желаю вам доброй ночи, а также моему любезному Иммортелю, да посетят приятные сновидения вас обоих, ведь вы да еще моя добрая маменька – самое дорогое, что есть у меня на свете.
№ 6
Июль, 1820, 1-е число.
Добрый день! Будьте здоровы, обожаемый друг мой, так здоровы, как я вам того желаю. Я нынче прямо в ужасе – у нас будут к обеду посторонние, мужчины – старый генерал, два наших полковника и подполковник; нашего олуха адъютанта я не считаю, он как бы свой. Я бы отдала все на свете, чтобы избавиться от необходимости видеть этих людей, но, чтобы доставить удовольствие мужу, придется их принять. Не подумайте только, что мое отвращение к ним объясняется их возрастом или же недостаточной их учтивостью – вовсе нет – будь они даже прекрасны, как Антиной, и любезны, как Фонтенель, все равно я чувствовала бы то же. Ничто так не тяготит меня, как необходимость казаться веселой, когда мне грустно. Вы ведь сами, милый друг, сотни раз бранили меня за то, что я не научилась притворяться, хоть это и необходимо в этом мире.
Только что муж подарил мне прелестное платье. Он получил его от некоей г-жи Бибиковой в благодарность за то, что выполнил ее поручение в Риге. Очень красивый узор, особливо просветы хороши. Спешу вам его переслать с покорнейшей просьбой – велите сделать вышивку на кушаке и лифе и сообщить цену. Я не хочу, мой ангел, чтобы вы так деликатничали со мной в этих делах. Деньги могут понадобиться вам на лекарства. Вы же знаете, как я была бы счастлива оказаться вам полезной; так что сделайте милость, не церемоньтесь со мной, мой добрый друг, не то я вынуждена буду действовать совсем иначе, когда придет надобность просить вас о чем-либо, и тогда, вы это понимаете, между нами не станет прежнего доверия, а уж от этого я бы пришла в полное отчаяние. Так что, помня ваши обещания, уповаю, что вы время от времени постараетесь доставлять мне случай быть вам полезной.
Мне сегодня предстоит сделать визиты губернаторше и полковнице, которая уже была у меня первая. А 6-го, кажется, мы устраиваем торжественный обед в честь корпусного командира, он будет дан от лица всей бригады у нас в доме, что позволит избежать неприятностей с приглашением Лаптева и даст ему возможность отказаться. Меня – на мое счастье – на обеде не будет по той причине, что там будут одни мужчины. Это не очень-то учтиво, но я от этого просто в восторге: оба полковника глупы до чрезвычайности и, на мой взгляд, предурно воспитаны. Им следовало бы дать бал, чтобы поддержать честь второй бригады; сегодня уже почти окончательно решили, что обед будет устроен в складчину и на нем будут только мужчины; еще дан будет бал, тоже в складчину и тоже в нашем доме. Будет фейерверк, а я и полковница будем принимать гостей. Увы!
6 часов.
Вернулась из гостей. Губернаторша и ее муж премилые люди, так же как и все, кого я там видела. Меня очень хорошо принимали, а от полковницы я узнала, что, судя по всему, наш бал состояться не может. Самое большее будет обед, да и то не наверное.
10 часов.
Желаю вам доброй ночи, милый мой друг. Забыла рассказать вам, что видела нынче этого ужасного Андреева. Вошел он, когда мы уже собирались вставать из-за стола. Трудно представить себе что-либо более безобразное – лицо отвратительное, просто отталкивающее. Добрейший Кир. И. сделал мне знак глазами, он еще раньше предупреждал меня, что это человек опасный, особливо для меня. Поэтому я старалась избежать разговора с ним; однако я заметила, что он не отрывает от меня глаз; немного поколебавшись, он подошел ко мне и спросил несколько странным тоном – долго ли я еще оставалась дома после возвращения отца, я отвечала ему очень сухо и коротко, что после его приезда оставалась еще две недели, потом воцарилось молчание; я спросила, знаком ли он с моим отцом? Он ответил, что да, после чего, видя, что я не расположена продолжать разговор, спросил, сколько лет моей дочке, которая сидела подле меня. Я ответила, что ей два года, и отвернулась. Он и во второй раз пытался заговорить со мной, только я на его вопрос не ответила, и на этом дело кончилось. Я теперь совершенно убедилась – да и муж в том признался, – что это он сказал ту ложь насчет Магденки, я в этом была уверена. А теперь скажите, разве не права я была, когда рассердилась на то противное письмо и на письмо моего мужа, где он обвиняет Магденку? Чем больше я узнаю этого человека, тем более убеждаюсь, что он достоин моего уважения. На сегодня довольно. Доброй вам ночи, мой ангел. Желаю сладких сновидений Иммортелю.
2 июля.
Я очень плохо провела сегодня ночь, мой ангел. Вчера я долго не могла уснуть. Перед глазами моими все стояло последнее прощание. Признаюсь вам, что намеренно не прогоняла от себя эти опасные и сладостные мысли, чтобы видеть приятные сны, но нет, этой ночью небо отказало мне в таком утешении. Нынче я мужа еще не видела, хотя уже почти полдень, он ушел до того, как я проснулась. Я встала, прошла в свой кабинет и там пила чай, как всегда в полном одиночестве, потом взяла книгу и тут вдруг, к удивлению своему, услышала гром. В Лубнах он никогда не бывал для меня столь неожиданным, потому что там, вставши, всегда первым делом глядела на облака, чтобы знать, хорошая ли будет погода, и даже угадывала по их движению, хороший ли будет вечер, но теперь мне это безразлично, и я только для того и взглядываю на небо, чтобы увидеть, не в нашу ли сторону плывут тучи, и тогда я спокойна за дорогую мою маменьку; и я призываю бога-громовержца посылать грозы лучше сюда, а не тревожить мирный покой лубенских жителей. Пусть наслаждаются они всегда ясным небом, пусть будут довольны и счастливы и пусть не забывают, что есть на свете душа, которая только о том и мечтает, чтобы разделить с ними это счастие.
Мне сейчас пришла в голову забавная мысль, и хоть вы, может быть, скажете, что я слишком самонадеянна и что-нибудь еще, все равно я выскажу вам ее. Представьте, я сейчас мельком взглянула в зеркало, и мне показалось чем-то оскорбительным, что я ныне так красива, так хороша собой. Верьте или не верьте, как хотите, но это истинная правда. Мне хотелось бы быть красивой лишь тогда, когда… ну, да вы понимаете, а пока пусть бы моя красота отдыхала и появлялась бы в полном блеске, лишь когда я того хочу. Вот странная мысль, наверно, скажете вы?
Половина шестого.
Какая тоска! Это ужасно! Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе мое положение – ни одной души, с кем я могла бы поговорить, от чтения уже голова кружится, кончу книгу – и опять одна на белом свете; муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О боже, сжалься надо мной!
Мне нужно вам признаться в большой слабости, но ведь я обещала ничего от вас не скрывать. Представьте себе, мой ангел, что я иной раз нахожу успокоение в мыслях о некоем счастии в грядущем, надежды на которое вы часто мне внушали; это одни лишь мечты, одно воображение, не следовало бы и думать об этом, не правда ли? Но что вы хотите, не могу от этого удержаться. Кто не желает себе добра? И всякий раз, когда я думаю о том, что буду вознаграждена за свои страдания, мне вспоминаются наши разговоры с вами и те горячие пожелания счастья, которые вы мне высказывали. Неужели преступление желать себе счастья? Мысль эта ужасна. Ответьте мне, мой ангел, успокойте меня, ради самого неба. Бог мне свидетель, зла я никому не желаю, напротив, желаю ему всякого счастья, только чтобы я к этому не имела отношения. Как мне выдержать подобную жизнь? О дорогой мой друг, приободрите же меня своими письмами, своими советами, утешьте меня, мой ангел, напишите мне о добродетелях Иммортеля. Я была бы в отчаянии, если бы он оказался недостоин моей любви, я бы себе этого не простила, это сделало бы меня навеки несчастной, ибо я люблю его так, что и выразить нельзя, люблю в нем решительно все; чем больше я думаю, тем яснее вижу, что это – настоящая любовь. Все то, что при моем характере в других меня отталкивает, в нем мне нравится, вот, например (не стану говорить о его притягательности, о его очаровании), я веселая, а он всегда серьезен, и что же, мне это в нем мило; я люблю танцевать, а он не танцует, и что же, я нахожу это очаровательным, мне даже кажется, что это ему идет. Впрочем, я танцевала с ним польский, до чего же я была тогда счастлива, да и он тоже – ни за какие царства не уступила бы я этого счастья – так радостно было держать его руку. При одном воспоминании у меня начинают литься слезы. До чего я слаба, боже мой! Простите меня, мой ангел! Для этого вам понадобится вся ваша снисходительность. Но не отказывайте мне в том, что может послужить мне утешением. Пишите мне об Иммортеле, ведь правда, есть какая-то мелодия даже в самом его взгляде, – воспользуюсь премилым выражением, которое я только что прочла. Другого такого взгляда нет в целом мире. Я сейчас нашла в конфектах красивый билетец, только я переделала его по-своему, вот он:
Je partage ses gouts, toute ma jouissance Serait dans son aimable entretien. O, quand Il danse, j’aimerais la danse, Apres l’avoir quitte je n’ai du gout pour rien[6].Покидаю вас, иду на прогулку с Катенькой. Она торопит меня, до свидания, мой ангел, страстно прижимаю вас к сердцу.
№ 7
В 7 часов.
Вернулась с прогулки, но моцион не пошел мне на пользу – у меня закружилась голова, так что, придя домой, я вынуждена была лечь, чтобы восстановить силы. У меня побаливает грудь, и я чувствую какую-то слабость. Но не беспокойтесь, мой ангел, постараюсь сохранить свое здоровье, чтобы любить вас.
Нынче вечером, в 8 часов, приезжал ко мне с визитом господин Бибиков с дочерью, г-жой Фигнер, молодой вдовой, очень любезной особой; она выказала весьма большое ко мне расположение и обещала приехать еще завтра поутру, прежде чем возвращаться к себе в деревню – это за 10 верст отсюда, она нарочно приехала в город, чтобы посетить меня. В воскресенье, то есть послезавтра, предполагаю поехать туда на целый день. Хочешь не хочешь, а надобно понемногу выезжать и встречаться с людьми, чтобы не быть совсем затворницей, а то ведь я покидаю свою комнату только на время прогулок, да и это время провожу в закрытой карете.
Полночь.
Только что прибыл П. Керн, он крайне со мною мил, говорит всякие любезности, то и дело целует ручки, поэтому волей-неволей и я с ним довольно приветлива, вы ведь знаете, какое у меня доброе и чувствительное сердце – тотчас же отзовется на всякое изъявление дружбы. А вот поучать себя я, разумеется, ему не позволю. Я думаю, что мне не дадут больше уделять столько времени моему писанию. Вот даже сейчас муж выговаривал мне за это, так что приходится отложить перо. Доброй вам ночи, мой ангел-хранитель, господь да благословит вас и его также.
3 июля в 10 часов.
Только я проснулась, мой ангел, как принесли ваше прелестное письмо, за которое бесконечно вас благодарю. Но признаться ли? Я не вполне им довольна, оно так коротко и вызывает у меня опасение – не больны ли вы? Да хранит вас от этого бог, милый мой друг, пишите мне так, как я вас о том просила – каждый день понемножку, а если вам не разобрать будет моего маранья – попросите у [неразб.] увеличительное стекло.
Вчера после ужина у меня не было времени, чтобы написать вам о разговоре, который был у нас за столом, а между тем он достаточно интересен, чтобы вы о нем узнали. Речь шла о графине Беннигсен, у которой, как утверждает мадемуазель, она служила. Муж стал уверять, что хорошо ее знает, и сказал, что это женщина вполне достойная, которая всегда умела превосходно держать себя, что у нее было много похождений, но это простительно, потому что она очень молода, а муж очень стар, но на людях она с ним ласкова, и никто не заподозрит, что она его не любит. Вот прелестный способ вести себя. А как вам нравятся принципы моего драгоценного супруга?
Полдень.
Только что уехала г-жа Фигнер, и теперь я тверже, чем когда-либо, решила никого больше у себя не принимать и ни к кому не ездить. Терпеть подобные неприятности в присутствии посторонних – это уж слишком. Я больше не могу. Нужно вам сказать, что мой дорогой супруг их не жалует, а причина в том, что там часто бывает молодежь из нашей бригады, и он не хочет, чтобы я там с ними встречалась. Она просила меня снова увидеться нынче поутру, как только встану с постели, и принять ее в моем кабинете, чтобы не стеснять мужа. Так он сговорился со своим дорогим племянником, вошел ко мне с любезнейшей физиономией и всякими своими обиняками начал, ни с того ни с сего, что он-де «человек не светский», а простой солдат, и, уж по правде говоря, вполне доказал, что он простой, потом привел своего племянника и начал его укорять, что вот, дескать, его я видеть не пожелала, и все это с хитрой усмешкой, которая всегда у него бывает, когда он собирается сказать что-нибудь двусмысленное. Они со своим любезным племянником все время о чем-то шепчутся, не знаю, что у них там за секреты и о чем они говорят… а я так несчастна! Господин Керн вбил себе в голову, что должен всюду сопровождать меня в отсутствие своего дядюшки, и, мне кажется, собирается отправиться завтра к Бибиковым. Я не знаю, как отделаться, а и там не будут ему рады, он держится так важно, бог весть отчего.
Ермолай Федорович Керн (1765–1841) – русский генерал, участник войн против Наполеона, первый муж Анны Керн.
Художник Д. Доу. 1830-е гг.
«Его невозможно любить – мне даже не дано утешения уважать его; скажу прямо – я почти ненавижу его».
(Из дневника А. Керн)
Вы и теперь будете говорить, что счастье мое зависит от меня? Конечно, нет. Для этого вы слишком разумны. Итак, он считает, что любовников иметь непростительно, только когда муж в добром здравии. Какой низменный взгляд! Каковы принципы! У извозчика и то мысли более возвышенные; повторяю опять, я несчастна – несчастна оттого, что способна все это понимать. Пожалейте вашу Анету, еще немного – и она потеряет терпение. Вот какой этот почтенный, этот деликатный, этот добрый человек, этот человек редких правил. Пусть поймут, как велика та жертва, на которую меня обрекли. Содрогнутся! О, как жаль мне несчастного моего отца, если он любит меня и если есть у него глаза. Только ежели он станет говорить с вами об этом, скажите ему, что страдаю я не из-за одной ревности.
Половина четвертого.
Признаться, меня немного мучила совесть – следует ли мне огорчать вас, поверяя вам все свои горести, но я полагаю, что неполная откровенность была бы еще хуже. C’est aux jours de l’affliction que l’âme va reposer et s’épancher dans celle d’un ami avec cette confiante exactitude, qui n’appartient qu’a elle. Ceux qui prétendent que par délicatesse ont droit de cacher ses chagrins a ceux qu’on aime, Injurient l’amitié ca son plus charmant caractère est de s’emparer des peines et de partager les plaisirs. On aime peu son ami ou on le mal estimé quand on lui ravit le droit de sentir tout ce qu’on éprouve[7].
Я нахожу, что это очень верная мысль, думаю, вы будете того же мнения.
Половина одиннадцатого.
Сегодня, как обычно, была на прогулке. Г-н Керн сопровождал нас верхом, мы видели, как проехал Лаптев. Мне стало известно, что Магденко старался примирить с ним мужа – это сообщалось в письме [неразб.] к Киру И., еще он ему написал, будто Лаптев согласен на это примирение из-за меня, потому что он меня любит и уважает. Все-таки мне это приятно. Завтра буду у обедни и увижу Лаптева. Меня занимает, как произойдет эта встреча. Еще одна новость. Император проедет через Порхов 9-го числа, муж собирается поехать встречать его. Бог знает, что выйдет из этого. В газетах пишут, будто в Париже собралось 20 тысяч человек и все кричали: «Да здравствует Наполеон!» – и хотели прогнать короля. Говорят, будто от этого может случиться война. Как бы хорошо! Говорят, охотно веришь тому, чего желаешь. Вот и я готова этому поверить. Еще говорил сегодня один наш знакомый генерал, что он видел какой-то огненный столб – что значит война. Прощайте, драгоценный мой друг, отдыхайте хорошенько, молитесь за вашу Анету. Забыла написать, что завтра я вместе с Катенькой еду в гости за 10 верст отсюда, так что у меня до самого вечера не будет больше времени беседовать с вами, может быть, целый день будет пропущен.
Еще должна вам сообщить, что П. Керн собирается остаться у нас довольно надолго, со мною он более ласков, чем следовало бы, и гораздо более, чем мне бы того хотелось. Он все целует мне ручки, бросает на меня нежные взгляды, сравнивает то с солнцем, то с мадонной и говорит множество всяких глупостей, которых я не выношу. Все неискреннее мне противно, а он не может быть искренним, потому что я его не люблю. Сколько бы он ни притворялся, не может и не должен он меня любить, слишком он обожает своего дядюшку, а тот совсем меня к нему не ревнует, несмотря на все его нежности, что меня до чрезвычайности удивляет, – я готова думать, что они между собой сговорились, ведь вы же знаете, какой мой муж подозрительный. Не всякий отец так нежен с сыном, как он с племянником. Ах, когда бы была жива та женщина, как было бы хорошо, я тогда не знала бы Керна, жила бы себе подле вас, счастливая, спокойная, и дневник этот не был бы столь печален. Прощайте, мой ангел.
№ 8
11 часов, 4-го числа.
Вернулась от обедни, где горько плакала, моля бога, чтобы он ниспослал мне терпения, ибо мне оно нужно более, чем когда-либо. Молитесь за бедную Анету, невинную жертву судьбы; ничего больше написать не могу. В церкви было много народу, но меня никто не видел и Лаптев ко мне не подходил.
9 часов.
Вернулась из гостей. Меня очень хорошо принимали, была только их семья, которая состоит из отца, матери и четырех дочерей, одна из них вдова. Они премилые люди. Были там еще двое молодых военных, один нашего полку, другой плац-адъютант, очень любезный и хорошо воспитанный молодой человек. Он целый день все возился с Катенькой, и, нужно сознаться, она нынче держалась прелесть как мило, а я, как могла, старалась тоже держаться полюбезнее, потому что с самого начала не могла заставить себя быть веселой. Мы гуляли, потом несколько раз прошлись в вальсе, а в половице седьмого я уехала, к великому сожалению всего этого милого семейства. Вот я уже и дома, мой ангел. П. Керн выехал верхом нам навстречу, я предложила ему сесть в карету; он как будто бы очень меня любит и становится со мною все более и более предупредительным. Он словно мне сочувствует и очень удивляется поведению своего дядюшки, говорит, что тот стал неузнаваем.
Понедельник, 5-го числа, в 10 часов.
Здравствуйте, очаровательный мой друг. Вчера, слава богу, мне было чуточку повеселее. П. Керну удалось рассмешить меня своими шуточками, и мы целый вечер с ним смеялись. Муж отправился спать раньше нас. Как непринужденно и свободно чувствуешь себя с тем, к кому не испытываешь никаких чувств. Он очень красивый мальчик, со мной очень любезен и более нежен, чем, быть может, хотел бы показать, и, однако, я совсем к нему равнодушна; верите мне теперь, что я люблю Иммортеля? Слушая безвкусные комплименты Керна, я все вспоминаю милое и такое красноречивое молчание моего Иммортеля. Я решилась не посылать вам остаток от лифа, а просить вас вышить талию, это будет слишком долго дожидаться. Вчера я узнала от Кира И., что Лаптев желал бы помириться, он думает, что я на него сердита и для того так стояла в церкви, чтобы меня не видали; он очень хорошо про меня говорит и сказал, что истинно для меня только хочет с ним помириться. Я не знаю, как это кончится, знаю только, что я права со всех сторон и преспокойно буду сидеть в своем кабинете и рассуждать о суете мирской. Меня сегодня хотели лишить последнего утешения и за расчетом посылать только раз в месяц мой журнал, но я буду платить за него, если нужно, трудами собственных рук моих, но не лишу добровольно себя этого утешения. Итак, посылаю вам только узор, который очень хорош. Если вы будете себе шить платье, то пусть будет такое, а больше никому не давайте. Прощайте, мой ангел. Христос с вами. Сейчас уйдет почта, мой ангел, пусть, дорогой мой друг, получите вы это письмо в таком добром здравии, какого я вам только желаю. Нынче видела его во сне и так была этим счастлива! Во имя неба, мой ангел, никому не рассказывайте об истории с Лаптевым. На днях приедет Магденко, и я очень рада буду его видеть. О, право же, он достойный человек. Итак, прощайте. Когда он приедет, я, может быть, смогу написать вам что-нибудь более приятное. Прощайте, мой ангел, пусть небо благословит вас и его тоже. Тысячи раз целую моего нежного, дивного друга и прошу его помнить о своей Анете.
№ 9
1820, 6 июля.
Только что видела доброго, милого, уважаемого г-на Магденко, он нынче только приехал. Я была вне себя от радости, увидев его. Тому, кто печален, несчастлив и одинок, как я, так радостно видеть истинного друга, принимающего в нем участие и сочувствующего его страданиям. Представьте себе, мой ангел, что я чуть было не бросила писать свой дневник. Моя неосторожность едва не стала роковой для нашей переписки.
3 часа.
Теперь все это позади, и я вновь вам пишу, дабы по-прежнему поверять вам свои поступки и мысли. Его низость до того дошла, что в мое отсутствие он прочитал мой дневник, после чего устроил мне величайший скандал, и кончилось это тем, что я заболела. Сегодня мне уже лучше, и все превосходно уладилось – об одном только жалею – что не осталась у вас подольше, – зачем не продлила я своего счастья? Но вы этого требовали. Представьте, он вчера мне заявил, что ежели я чувствую себя такой несчастной, нечего мне было и возвращаться, раз уж он меня отпустил, а он, разумеется, оставил бы меня в покое и не стал бы ни приезжать за мной, ни принуждать меня жить с ним, раз я все время колеблюсь. Вот вам его принципы, его образ мыслей. Чем больше я его узнаю, тем яснее вижу, что любит он во мне только женщину, все остальное ему совершенно безразлично. Магденко отправился обедать к Лаптеву, уходя, он просил позволения у меня и мужа на то, чтобы попытаться их примирить. Когда он вернется, сообщу вам, что из этого вышло.
7-е.
Все кончено. Только что ушел от меня Магденко. Все его усилия помирить мужа с Лаптевым ни к чему не привели; он заявил, что считает его смертельным врагом. Он сказал Магденке, что ничто никогда не поколеблет его уважения ко мне, что он навсегда сохранит ко мне величайшее почтение, но мужа будет ненавидеть до последнего своего вздоха. Нужно вам сказать, что племянник держится престранно – то он до невозможности нежен, а то словно бы осуждает мое поведение. Я буду просто в восторге, когда меня избавят от него.
Полночь.
Только что провела несколько прелестных часов в обществе достойнейшего Магденки. Лишь теперь я по-настоящему узнаю его, и чем больше вижу, тем больше люблю. Вы представить себе не можете, как он выигрывает при более близком знакомстве, ум его основательнее и тоньше, чем это кажется вначале. Все сомнения мои рассеялись, мы поговорили с ним вполне откровенно, он мне сказал, что с первой же минуты знакомства меня понял. Он признался, что характер мужа весьма затрудняет дружбу с ним, что у них уже было немало размолвок, но что он усвоил себе особую манеру обращения с ним и готов вынести от него что угодно, чтобы только не потерять моего расположения. Он до такой степени сумел изучить все оттенки моего характера, что понимает меня без слов. Я с увлечением говорила ему о вас, он знает вас и любит. Даже во время моего отсутствия он сумел оказать мне услугу, отговорив мужа от намерения написать неприятное письмо моей милой маменьке в ответ на полученное от нее, словом, настоящий меценат, поистине бесценный человек. Кончаю, как и начала – похвалой ему. Прощайте, мой ангел. Доброй вам ночи, милый друг, и Иммортелю тоже.
8-е, 6 часов.
Сегодня у нас был торжественный обед. Лаптев не приехал, хотя обед был дан от лица бригады. Обед был великолепный, лучшие фрукты и лучшие вина. Я, как вы знаете, на нем не присутствовала, но корпусной командир г-н Гильфрейхт, который вообще женщин не любит, а меня видел только раз, спросил у мужа обо мне и завтра снова будет у нас к обеду, нарочно, чтобы иметь случай меня видеть. Это желание разделяет с ним и его адъютант. Возможно даже, что еще нынче вечером я буду иметь честь поить их чаем, если только они не слишком поздно вернутся с маневров. Так что, волей-неволей, мне придется показываться. Дорогой племянничек мне все больше и больше не нравится, особенно когда он берется давать советы. Эта их дурацкая самоуверенность выводит меня из себя. Что досадно, что не знают, где ее употребить.
Скажу вам еще, мой ангел, что поскольку Лаптев так открыто выражает свою враждебность, Магденко советует перейти в другую дивизию. Вы, может быть, подумаете, зная мою привязанность к вам и к моим дорогим родителям, что я стану просить мужа перевестись в 15-ю дивизию. Ни в коем случае. Напротив, поскольку он насчет этого подумывает, я постараюсь, как могу, его от этой мысли отговорить. Магденко обещал меня поддержать, а то ведь при его характере он не уживется с Роттом и двух дней, а уж если вдобавок будет еще ревность, вряд ли это кончится так мирно, вспомните, каков он был с Сакеном и даже с младшими офицерами. Теперь то же самое с Лаптевым, но у этого-то хоть дурной характер, а Сакен – само спокойствие, и будь на его месте Ротт, ссора эта имела бы совсем другие последствия.
Итак, не предполагайте меня видеть в Лубнах в 15-й дивизии – и вот мои доводы: 1) я не хочу, чтобы мои родители каждую минуту видели, до какой степени я несчастная; 2) чтобы избежать необходимости каждую минуту краснеть от стыда, что, как вы понимаете, весьма тягостно; 3) мне невыносимо будет жить в такой близости от Иммортеля; 4) не хочу вас всех стеснять и своим присутствием делать вас окончательно несчастной. Заранее уверена, что вы согласитесь со всеми этими доводами. Можете даже изложить их моему отцу, ежели он настолько слеп, что думает, будто мы когда-нибудь сможем жить все вместе.
Я только что ела чудесные вишни. Представьте себе, четыре вишенки на одной тонкой веточке, одна над другой. Я в первый раз видела такое маленькое чудо и прежде всего подумала о вас, милый друг мой. Как я счастлива была бы разделить их с вами.
9-го в 10 часов вечера.
Весь нынешний день я так была занята, что только сейчас нашла свободную минуту. У меня обедал корпусной командир, губернатор и еще несколько человек. Они уехали сразу после обеда, а я такую чувствовала слабость, что по сию пору пролежала в постели. Сейчас только встала, но собираюсь снова лечь. Муж ужинает, а я пишу. Я себя очень дурно чувствовала сегодня, должно быть, из-за всех этих треволнений, они расстроили мне нервы. Прощайте, бесценный друг мой, благослови вас бог, будьте здоровы. Хоть бы ваше письмо, которого я жду с превеликим нетерпением, принесло мне весть о том, что здоровье ваше поправляется. Поверьте, только это способно заставить меня переносить мою жизнь вдали от вас и всех тех, кто мне дорог. Доброй ночи, милый мой друг, я очень устала, совсем ослабела, бог с вами, моя родная. Подтвердите Иммортелю, хотя бы намеком, как близко к сердцу я принимаю его судьбу. Еще раз прощайте, не могу больше.
Ваша Анета вечно.
№ 10
1820, 10 июля.
Я вне себя от волнения: узнала новость, от которой сама не своя. Говорят, Кир И. получил какое-то известие. Я уверена, что оно касается Иммортеля. Он присылал сказать, что придет показать мне письмо от своей жены. Я все потом перескажу вам, мой ангел, там, конечно, должно быть что-то для меня. Видели бы вы, в каком я состоянии! Я так волнуюсь! Хоть бы он поскорее приходил. У меня есть тимьян, я мечтала лишь иметь резеду, с моей мимозой нужно много желтой настурции, чтобы скрыть ноготки и шиповник, которые мучают меня. Благодаря утрате резеды оринель взял такую силу, что вокруг уже нет ничего, кроме ноготков, тростника и букса. Нет в моем цветнике [неразб.]. Вот каково состояние моего сада. Покидаю вас, нужно одеваться. До свидания, после все узнаете.
10 часов вечера.
Его я не видела, а следовательно, ничего нового не узнала. Ноготок меня не оставляет, есть у меня большой лютик, дабы что-нибудь узнать, и нет желтых кувшинок, пока я немного не успокоюсь. Прощайте, мой ангел, доброй вам ночи, спите спокойно. Завтра воскресенье, пойду к обедне. Да будут услышаны горячие мои молитвы о вашем выздоровлении.
11-е, 9 часов утра.
Никаких известий. У меня нет больше терпения. Остается только слабая надежда на сегодняшнюю почту. Не браните меня, мой ангел, а пожалейте. Прощайте, иду в церковь.
11 часов вечера.
Только я вернулась из церкви, как меня стали уговаривать ехать к одной даме в деревню, на обед. Мне совсем этого не хотелось, но чтобы доставить удовольствие драгоценному супругу и дорогому племяннику, пришлось согласиться. Так как платье было не в порядке, бедную А. А. стали бранить самым свинским образом, она не в силах была это стерпеть, и вот с завтрашнего дня она рассчитана. Разве не права я была, что ничего ей не сказала по этому поводу, ведь я хорошо знаю ее характер, но, на мое несчастье, человек сколько-нибудь стоящий не сможет у меня жить. Завтра я ее отпускаю, заплачу ей за покрывало и пояски, которые вы просили вышить. Надо сознаться, работа очень тонкая. Прощайте, мой ангел, будьте здоровы, и да хранит нас господь во святой троице.
12-е, 9 часов утра.
Я только что встала, и мне тут же было объявлено, что ее больше ни одной минуты не желают терпеть в доме. Будь это из-за ее поведения, я бы ему простила, но нет, это чистый каприз, глупое самолюбие, которое задето тем, что она отказалась остаться, когда он просил ее об этом, после того как ее так обидел. Какая жизнь ждет всякого, кому придется служить у меня!
«Швея».
Художник М. Клодт. 1875 г
Ничего более приятного я сообщить вам не могу, разве только то, что в лагере будет бал у двух наших полковников. Я была бы счастлива, если бы могла на нем не быть, но думаю, что это будет невозможно. Прощайте, добрый мой ангел, единственное мое утешение, единственный друг мой. Я часто размышляю о дружбе, что связывает нас, и каждый раз прихожу к заключению, что дружба – та же любовь, ибо чаще всего мы любим характеры, противоположные нашим. Очень верно сказано: «Quand les âmes s’entendent, les esprits n’ont pas besoin de se ressembler. Nous aimons peut-être d’avantage celui qui différé de nous par les manières. Il n’est pas nécessaire que les caractères soient absolument semblables si la base des sentiments est la même»[8].
Наша дружба тому доказательство, милый мой друг, а в отношении любви вы можете найти тому подтверждение опять же на моем примере. Мы совсем разных свойств, но души наши и правила одинаковые, и вот почему существует между нами симпатия. «Amour, tu blesses avec promptitude, tu guéris lentement quand c’est l’âme que tu a atteinte!»[9]
Пришел дорогой племянничек и стал меня утешать на свой лад – говорит, что не из чего мне огорчаться, раз мой муж и ребенок в добром здравии. Мне немалого труда стоило объяснить ему, что сострадать чувствительному сердцу может лишь тот, кто сам способен чувствовать! Я присутствовала при выдворении мадемуазель и теперь совершенно разбита, чувствую себя очень скверно, бог знает чем все это кончится. Но прошу вас, мой ангел, не тревожьтесь. Не пугайтесь, даже если я захвораю: тот, кто желает себе смерти, не умирает, – я буду жить долго, чтобы любить вас и страдать, так уж мне на роду написано, и я безропотно подчиняюсь своей судьбе. Еще раз не пугайтесь, ежели я немного заболею; для меня это будет только счастьем; это избавит меня, по крайней мере, от необходимости выходить из комнаты и показывать свое людям несчастное лицо.
Как грустно течет для меня время. У Вольтера есть такой стих:
Ciel, que le temps est un bien précieux, Tout se consume et l’amour seul l’emploie[10].А я так скажу, что над временем властвуют и любовь и дружба. «Amitié, que tu as de charmes! Heureux qui t’inspire, encore plus heureux qui l’éprouve»[11], – говорит г-жа де Пьенн. Раз уж я все вам про себя рассказываю, расскажу, что только что прочитала прекрасный роман «Два друга» г-жи де Пьенн, где очень хорошо и подробно даны портреты этих двух друзей. Не стану говорить, который из двух больше мне по душе, пока не узнаю вашего мнения; вы, конечно, догадываетесь, что это тот, у которого больше сходства с Иммортелем. Присоединяю на отдельном листочке небольшой отрывок оттуда.
Я так и знала, что он напишет маменьке, будто выгнал мадемуазель единственно ради ее удовольствия. О, какая это неправда! Разуверьте маменьку, пожалуйста, потому что прежде он и не думал поспешить сделать ей это удовольствие, а вдруг взбесился, наговорил грубостей, после того как сам же просил ее остаться, но когда она отказалась, он из самолюбия или уязвленной гордости не позволил ей провести в доме даже одну лишнюю ночь. Прощайте, мой бесценный ангел. Христос с вами и со мною также. Прощайте еще раз. Вот уже почта пришла, и нет писем. Бога ради, пишите хоть каждую неделю. Обнимаю вас тысячу раз. Я завидую иногда иным людям и очень часто говорю вслед за г-жой Пьенн: «Qu’ils sont heureux ceux dont les sentiments sont d’accord avec la vertu et que les remords ne ternissent pas»[12].
Прощайте же, милый мой ангел, ради бога будьте здоровы. Приласкайте за меня маменьку мою родную, скажите ей, что я ее без души люблю, обожаю. Попросите ее, чтобы она чаще ко мне писала. Христос с вами. Грустно, очень грустно, да нечего делать. Скажите Иммортелю все, что вы сочтете возможным, я никогда не забуду его, это немыслимо. Прощай все, что только есть у меня дорогого на свете. Катенька вам шлет поклон, она прелестна, так еще ребячлива, я очень люблю ее, она единственное мое утешение. Прощайте, мой ангел. Не хочется расстаться, покуда еще можно что-нибудь сказать, а все – старое, или что вы давно, давно уже знаете. Я с нетерпением считаю числа теперь в ожидании ваших писем и приезда милого Магденки. Прощайте еще раз. Ежели приехал Коссаревский, заставьте его доделать картинку, как я вам писала. Скажите Иммортелю, что вечно я не забуду.
Ваша Анета.
№ 11
1820, июля 14-го, в 11 часов вечера.
Мне так грустно сегодня! Никаких известий от вас, вы забыли обо мне. Все меня покидают! Я очень несчастна! Вот уже две почты прошли, а от вас ни единой строчки. Я нынче целый день плачу. Боже мой! А вдруг вы заболели? Эта ужасная мысль непереносима. Как ни мучительно мне было бы ваше небрежение, я бы предпочла, чтобы именно оно явилось причиной отсутствия писем от вас. Я растеряла свои мысли, свои способности, ничего не думаю, ничего не чувствую, ничего не делаю. Была минута, когда я испугалась, уж не схожу ли я с ума, представьте, вдруг как-то, помимо собственной воли, я стала повторять каждую минуту: писем нет, – и от этих слов горькие слезы текли из глаз моих. Мне нет надобности говорить вам, что все окружающее меня здесь не способствует тому, чтобы я чувствовала себя счастливой. Мне уж лучше быть одной, нежели выслушивать плоские шуточки, которые отпускает драгоценный племянничек. Как противно видеть молодого человека столь распущенного – никакой деликатности, и мысли у него самые грязные. Вот что меня здесь окружает. Уже два дня, как она уехала, никто не приходит, так что когда нет у меня охоты наслаждаться этой приятной беседой, я совершенно одна. Как грустно мне читать восхитительную книгу г-жи Сталь и не иметь подле себя никого, с кем я могла бы поделиться прекрасными местами, кои там встречаются.
Всю переписку с другими я забросила, берусь за перо, только чтобы писать к вам, и точно могу сказать: беру перо. Им начертать могу лишь имя несравненно. Спокойной ночи, мой ангел.
15-го, в 4 часа пополудни.
Ничего нового не могу сообщить вам сегодня, милый друг мой. Я не могу сказать: «Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas»[13]. К несчастью, мои дни ужас до чего однообразны. Мой драгоценный супруг только и делает, что с утра до вечера лежит и курит. Мне, по крайней мере, от этого спокойнее, если только от меня не начинают требовать, чтобы и я проводила время таким образом. Ах, боже мой, нет у меня больше терпенья, уверяю вас. Не знаю, что со мной будет. Бедная я! Пожалейте меня, ради самого бога, молитесь за меня, а главное, утешайте меня своими письмами. Я с таким нетерпением жду следующей почты! Перо падает из моих рук.
10 часов вечера.
Никакой перемены. Все та же однообразность, все та же печаль. Навестил меня Кир И., говорит, что Лаптев справлялся у него насчет моего здоровья, а как услышал, что тот меня не видел, тут же велел ему пойти ко мне во второй раз и продолжать бывать в нашем доме, чтобы никто не подумал, будто это он ему запрещает. Мы пробыли вместе всего несколько минут, поговорили о вас, о Лубнах, и это было для меня словно несколько капель живительного эликсира, от которого ко мне возвратились силы. Не браните меня, но ежели мне теперь представится случай соединиться с вами, я не стану упускать его. Особенно если племянник вздумает поселиться рядом с нами. Нет, право, я не вынесу подобной жизни. Сегодня он стал говорить, что хочет ехать через всю Россию повидаться с нашей – то есть своей – родней, а закончится это путешествие Лубнами, и уж там мы и останемся. Спросил, буду ли я этому рада. Я, признаться, ответила ему совершенно искренне, что в его обществе мне решительно все равно, где жить, а племянник добавил: то есть в любом месте невесело. Вы понимаете, что я на это промолчала, а муж тогда говорит: коли так, отправитесь на Украину к своим родным, а я поеду к своим, и племянник сказал, что он-де возьмет Катеньку с собой, – на что я сухо ответила, что на это у него нет права, и вышла. Нет, честное слово, и с одним-то Керном трудно жить, а уж когда их двое – это просто непереносимо. Нет у меня больше сил.
Прощайте, мой ангел, ласковый, нежный друг мой. Будьте здоровы, богом прошу вас, на коленях умоляю, поберегите для меня драгоценное свое здоровье. Что со мной будет, если вы расхвораетесь! Храни вас господь. Доброй вам ночи, сейчас буду молиться за вас и за… Прощайте, да пребудет с вами ангел-хранитель, и да ниспошлет он вам сладкие сны.
16-го, в 11 часов утра.
Здравствуйте, нежный друг мой! У меня ничего нового. Я по-прежнему читаю «Германию» г-жи Сталь, вы представить себе не можете, как это прекрасно. Буду делать оттуда выписки и в точности перепишу их для вас. Как хорошо поняла она сердце человеческое. Как, должно быть, она чувствительна и добродетельна.
В 10 часов вечера.
Вернулась из деревни, куда ездила с визитом, это в четырех верстах отсюда. Муж пожелал, чтобы племянник поехал вместе со мной, а тот не стал отказываться – я уже писала, что он на свой лад очень нежен со мной, когда мы остаемся одни, все сетует, что я-де его не люблю. Мы провели там два часа. Это весьма приятные люди, которые очень меня любят. Возвратись домой, мы застали у нас некоего г-на Пальчикова, премилого господина. Он обещал одолжить мне книг и фортепиано, за что я ему весьма благодарна, это развлечет меня, а то я и вправду стала совершенной мизантропкой.
Особенно делается мне грустно в вечерние сумерки; мною тогда до такой степени овладевает меланхолия, что я никого не желаю видеть, и если в такие минуты слышу звук какого-нибудь инструмента, слезы так и льются потоками из моих глаз. Единственное утешение – это моя дочка, она удивительно как привязана ко мне и очень ласковая.
№ 12
Представьте, она сразу же замечает, когда я чем-либо огорчена, ласкается ко мне и спрашивает: «Кто вас обидел?». С каждым днем она становится все милее, для своего возраста она даже весьма разумна, и мне нравится, что у нее есть деликатность. Вообразите себе, видит она однажды, что муж сидит на ее месте. Она подходит к нему, смотрит на него, затем оглядывается вокруг, словно ищет места, и говорит ему: «Где бы вам сесть?». Не правда ли, это очень учтиво и тонко для ребенка ее лет? Вы, быть может, скажете мне: вот вам и утешение, дорогая Анета, вот вам средство от всех ваших горестей. Нет, мой добрый ангел, ничто не может рассеять моей печали. Да, разумеется, иной раз дитя мое приносит мне минуты утешения, но ко всему этому всегда примешивается печаль.
Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах и которого я не могу позволить себе хотя бы уважать. Словом, скажу прямо – я почти его ненавижу. Каюсь, это великий грех, но кабы мне не нужно было касаться до него так близко, тогда другое дело, я бы даже любила его, потому что душа моя не способна к ненависти; может быть, если бы он не требовал от меня любви, я бы любила его так, как любят отца или дядюшку, конечно, не более того.
Прощайте, мой ангел, доброй вам ночи, я не заметила, как летит время, когда я с вами, я забываюсь. Эта фраза напомнила мне… но нет, прочь воспоминания, пусть не смущают они мой сон. Нужно сказать вам, что мне нынче снилось, будто сюда приехала мой ангел – маменька. Какой сладостный то был сон и как я была счастлива! Ну, спокойной ночи, а то я никогда не кончу. Спите спокойно, а главное, пусть я вам приснюсь – вам и Иммортелю.
17-е, 10 часов вечера.
Мне нечего написать вам о сегодняшнем дне, чувствую себя совсем больной – у меня жар и ломота во всех членах. Иду спать. Спокойной ночи, мой ангел. Думайте о вашей Анете.
18-е, воскресенье, 2 часа дня.
Нынче я в церкви не была, потому что дурно себя чувствовала, и на улице дождь. Утром были у нас с визитом два адъютанта Лаптева, после их ухода я снова взялась за свою книгу, свое утешение, за г-жу Сталь. Только что прочла замечательный отрывок, он очень близок мне по мыслям, и, хоть и очень длинен, я не могу лишить вас удовольствия и переписываю его здесь: «L’âme est un foyer qui rayonne dans tous les sens. C’est dans ce foyer que consiste l’existence. Toutes les observations et toutes les philosophies doivent se tourner vers ce „moi“, centre et modèle de nos sentiments et de nos Idées. Sans doute l’incomplet langage nous oblige a nous servir d’expressions erronées, Il faut répéter suivant l’usage: tel Individu a de la raison ou de l’imagination ou de la sensibilité etc.; mais si l’on voulait s’entendre pas un mot, on devrait dire seulement: Il a de l’âme, Il a beaucoup d’âme. C’est ce souffle divin qui fait tout l’homme»[14] (разве не прекрасно это сказано, мой ангел, и разве это не верно?). «Aimer on apprend plus sur се qui tient aux mystères de l’âme que la métaphasique la plus subtile (это неоспоримо). On ne s’attache jamais a telle ou telle qualité de la personne qu’on préfère et tous les madrigaux disent un grand mot philosophique en répétant que c’est pour un „je ne sais quoi“ qu’on aime, car ce „je ne sais quoi“ c’est l’ensemble et l’harmonie que nous reconnaissons par l’amour, par 1’admiration, par tous les sentiments qui nous révèlent ce qu’il у a de plus profond et de plus Intime dans le cœur d’un autre»[15].
Какая она прелесть, г-жа Сталь, я преклоняюсь перед ней, и, однако, мне кажется, что не всякому дано уметь любить это «нечто неизъяснимое» и понимать чувства того, «в ком есть душа, много души». Если увидите г-на Ротта, дайте ему прочитать этот отрывок, я уверена, что он ему понравится.
7 часов вечера.
Совершили небольшую прогулку до лагеря. Муж остался там на музыке, а мне не захотелось – слишком много там народа, а это так мучительно чувствовать себя совсем одной среди множества людей. Весь город туда ездит, целая толпа. Вчера ездила туда полковница в сопровождении многих других дам, думаю, она и сегодня там. Муж даже настаивал, чтобы я поехала, но я отказалась и решила, что поеду, только если уж невозможно будет отказаться. Никто про меня не скажет, что я люблю развлечения.
Только что пришел П. Керн, зовет меня с ним прогуляться пешком. Пойду, а то я все сижу, мне это будет полезно. До свидания.
Понедельник в 11 утра.
Вчера мы пошли гулять и незаметно дошли до самого лагеря. Мы были от него уж совсем близко, как вдруг повстречали Лаптева верхом; он учтиво мне поклонился и сказал: «Я имел честь быть у вас с моим почтением, но меня не пустили», а я ответила, что очень сожалею, что он не застал меня дома. Потом он говорит: «Я всегда привык вас почитать». Я поклонилась и пошла дальше. Пришедши в лагерь, мы сели в карету и слушали зорю. Потом ко мне подошло несколько офицеров. Пришел муж, сел к нам в карету, и мы поехали. Дорогой вышел горячий спор насчет Лаптева. Мне было заявлено, что я как женщина должна была его хорошенько отбрить. Но я думаю, что в самых больших ссорах учтивость не неуместна.
Портрет любимой писательницы Анны Керн Анны Луизы Жермены де Сталь.
Художник Ф. Жерар. 1810 г.
«Человек, посвятивший себя погоне за полным счастьем, будет несчастнейшим из людей».
(Жермена де Сталь)
Прощайте, добрый мой ангел. Почта отправляется нынче, а я от вас ничего еще не получила. Поверьте, не знаю, куда деваться от тоски, видно, я рождена для печали, она со мною неразлучна. Еще раз прощайте. Передайте от меня поклон Иммортелю. Передайте еще г-ну Ротту, что Кайсаров на него сердит за то, что он ему не пишет.
Прощайте еще раз, ради бога будьте здоровы, и ежели мои глупости слишком вас расстраивают, я ради вашего здоровья найду в себе силы отказаться от радости писать вам. Тысячу раз целую ваши прекрасные глаза, хоть бы вы не разлюбили меня, а уж я-то вас люблю. Забыла вам сказать, что Анна А. поехала в Одессу и, верно, будет у вас, проезжая через Лубны. Прощайте еще раз, моя бесценная. Христос с вами. Я обнимаю вас очень крепко. Прощайте и молитесь за вашу Анету. Пишите, ради бога.
№ 13
Псков, 1820, 19 июля, 8 часов вечера.
Отправила сегодняшнюю почту, вас она все-таки порадует, а вот вы меня забыли, от вас ничего нет. Сейчас привезли мне фортепиано, но очень расстроено, никакое воображение не сможет доставить сладкого воспоминания. Сейчас, я слышу, в лагере бьют зорю – у вас в это время, может быть, также бьют зорю? Но какая разница! Вспоминаете ли вы меня иногда? Как грустно вечно питаться мечтой, воображением! А это только моя пища. Это меня заставило вспомнить очень справедливые стихи французские, которые были написаны на стене в станции:
Dieu fit la douce Illusion Pour les heureux fous du bel âge, Pour les vieux fous – l’ambition, Et l’etude pour le sage[16].Они довольно справедливы, но не всегда можно питаться этой сладкой мечтой, часто вздыхаешь о сущности.
Полночь.
Спокойной ночи, милый друг. Я сейчас имела большой спор с мужем. Представьте себе, он рассказывает, будто Каролина к нему была неравнодушна и будто взглянуть на него не могла без того, чтобы не покраснеть от радости. Какое преувеличенное мнение о самом себе и какого дурного мнения он о женщинах! А я так полагаю, ежели бы все холостяки на него были похожи, замужним женщинам ничего не стоило бы сохранять свою добродетель. Это наименее опасный мужчина из всех, кого я знаю, а ведь он-то воображает, будто никто не может перед ним устоять. Даже сомнений у него на этот счет нет, его самонадеянность придает ему уверенности. Но довольно об этом предмете. Доброй ночи, мой ангел, спите спокойным сном, и пусть приснюсь я вам – и Иммортелю.
20-го, в 6 вечера.
Была сегодня у обедни вместе с П. Керном. Вообще последние дни мне ничего не хочется, я злая, сама себе противна, я больна, то есть нехорошо себя чувствую, только вы не пугайтесь, это не опасный недуг, и тут-то мне нет удачи – а я словно окаменела – хожу, разговариваю, иной раз даже смеюсь – и при этом не испытываю никаких чувств. Все делаю, как автомат, только тоску свою чувствую, а когда по утрам и вечерам молюсь богу, все чувства мои оживают, и я горько плачу.
8 часов.
Только что вернулась с прогулки – мы с П. Керном совершили прелестную поездку в карете до дома архиерея. Дом этот расположен в трех верстах отсюда, на высокой горе, у подножья которой течет красивая река Великая. Мы вышли из кареты, отыскали едва заметную узкую тропинку, спустились по ней к реке и там гуляли по большим камням, любуясь прекрасными видами, расстилавшимися перед нами со всех сторон. Я удивляюсь, что мы никого не встретили на таком приятном месте, что означает дурной вкус жителей, которые имеют такие грубые чувства, что не сумеют восхищаться величественной красотой природы. Однако же мы нашли одного уединенного человека, сидящего между двух больших камней на самом берегу реки; удочка его лежала без действия; и он сидел задумавшись; я долго на него смотрела, хотела спросить, кто он такой, но боялась быть нескромною и подумала – может быть, он влюблен, а свой своему поневоле друг.
Я не думаю, чтобы Анна Петровна все это думала, гуляя со мной, потому чистосердечно признаюсь, я ей не давал покою ни одной минуты[17].
Вообразите, какой повеса – выхватил перо и написал.
Пролежало на столе без всякого действия[18].
Экой шалун! Но вы этому посмеетесь, моя бесценная, и я очень рада, если наши глупости вам принесут хотя немного удовольствия. Он очень милый мальчик, и я замечаю, что он очень ко мне расположен, и я думаю, на этот раз не ошибаюсь.
11 часов.
Был у меня только что небольшой разговор с П. Керном. Он признался мне, что мать его была замужем, но тайно, а такой тайный брак законной силы не имеет. Вот от этого она и умерла. Как мне жаль бедную женщину, хотя она уже теперь не страдает! Значит, не для меня одной существование этого человека оказалось гибельным. И подобному существу я была принесена в жертву! Какие усилия приходится мне делать над собой, чтобы не роптать на судьбу. Доброй вам ночи, мой ангел, я замечаю, что невольно все возвращаюсь к одному и тому же предмету. Спите спокойно, спокойнее, чем бедная ваша Анета.
22-го, 6 часов.
Вы удивитесь, мой ангел, что я пропустила целый день, не писавши вам, я вчера была в отчаянном положении, самому неприятелю моему не желаю половину того чувствовать, что я чувствовала. Обманутая надежда в получении писем ужасно терзала мою душу, целый день я почти была в беспамятстве, сильная истерика к вечеру привела меня в совершенное расслабление, чтобы испытать хоть ночью покой, я стала сама купать Катеньку, и это утомление доставило мне несколько минут беспокойного сна. Я и теперь не могу придумать, что значит ваше молчание. Ужели хотите вы сделать мою жизнь еще более горькой? Ради самого неба, успокойте меня. Я не стала бы жаловаться, если бы мои страдания могли бы привести меня к смерти, но они только изнуряют меня, делают мне жизнь ненавистной, не приводя ее к концу. Вчера пришел Кир И., я была еще в постели, и племянник предложил провести его прямо ко мне. Видимо, он был взволнован, увидев меня в этом состоянии. Я спросила, нет ли писем, он ответил, что есть одно, полученное 14 мая, я настоятельно просила дать мне его прочесть, и он дал. Что за слог, какая восхитительная манера выражаться! Я переписала для себя. Он пишет, что ему кажется, будто папеньке известно, что он нас сопровождал. Не из-за этого ли вы все стали так несправедливы ко мне? Ведь папенька ни разу не написал мне с тех пор, как возвратился из Нежина. Во имя всего, что вам дорого, успокойте меня. Еще Иммортель пишет про то, какая тоска царила у нас в доме, когда он пришел туда в первый раз. Он с восторгом говорит о вас, о маменьке, о том, что в ту минуту ему показалось, будто он член нашей семьи, но тут же добавляет: восхитительная, обманчивая мечта! И я подумала, что в глубине наших сердец мы чувствуем: он в самом деле к ней причастен. Какой могла бы я быть счастливой, если бы… Прощайте, мой ангел, молитесь за меня. Еще немного – и я сойду с ума. О боже, сжалься надо мной! Обнимаю вас.
№ 14
1820-го, 22-е, 11 часов веч.
Я не знаю почему, но я стала гораздо покойнее по окончании 13-го номера моего журнала, я думаю, что это потому, что я вверила вам, мой ангел, все тяготившее мою душу. Я стала после этого разумнее и более терпеливо дожидаюсь следующей среды. Разговор с добрейшим Киром И. успокоил меня. Мы с ним говорили о вас, об Иммортеле, о милой маменьке, и это был бальзам, смягчивший мои страдания.
Доброй ночи, мой ангел, ради бога, будьте спокойны, я тоже почти что успокоилась. Не знаю, как могла я даже на одну минуту подумать, что должна чего-либо опасаться, когда у меня там вы – меценат мой бесценный, я ничего не должна бояться, имея такого друга и защитника, утешителя и покровителя, всё вместе, словом, ангела-хранителя. Отдыхайте хорошенько, а я отдыхаю с думой о вас, своем счастье и спокойствии.
24-го утром.
Бог услышал хоть одну мою молитву, и сегодня поутру я получила милые ваши строки. Прежде всего обняла очень крепко милого и доброго П., что он поспешил меня сам обрадовать. Потом разорвала печать, по обыкновению со слезами. Я не могу равнодушно видеть одного начертания руки вашей, точно так как… Судите, как я вас обожаю. Маменькина рука производит во мне некое нежное чувство, но ваша и папенькина производит почти одинаково восхитительное, приятное, тяжелое, мучительное, усладительное чувство. Заснувши вчера со слезами, я вас видела во сне, очень неприятным образом: мне казалось, что я лежала вместе с вами в угловой на постели (обманчивая мечта!). Но вот что странно: я не чувствовала того сладкого удовольствия, которое я всегда ощущала, быв с вами вместе; что-то тяготило грудь мою; вы жаловались, что вы всегда одни, что вы нездоровы; вдруг мы услышали ужасный крик, и нам сказали, что маменьке сделалось дурно. Это потрясение меня разбудило, а несколько минут спустя я получила неоцененное письмо ваше. Ради самого бога, продолжайте утешать меня, мой бесценный ангел. Я все думаю, я близка к отчаянию. Вообразите, что нет не только дня, но ни минуты, когда бы я была спокойна. Теперь ужасная будущность терзает мою душу. Богу угодно посылать ко мне всякого рода испытания. Ежели любя наказует, то он меня очень любит. Простите, я почти ропщу. Вы одни, я уверена, примете участие в моем горестном положении. Вы одни поймете, услышите, почувствуете мою душу. Вы одни знаете, мой ангел, что отнюдь не из легкомыслия я не хотела, чтобы у нас были дети. Что может быть ужаснее, чем страдать ради человека тебе ненавистного? Это жестокая правда, но я с вами откровенна. Нет тех мук, которые я с радостью не перенесла бы ради того, кого люблю, нет ничего сладостнее, чем страдать из-за человека, коего обожаешь. Вы ведь помните, как я ждала первого ребенка, а чего только не пришлось выстрадать бедному моему сердцу от грубого обращения, и когда я была беременной, и во время родов, и потом, вместо благодарности за перенесенные страдания. Нет, невозможно описать, в каком я отчаянии, мой ангел. Будь вы здоровы, я, кажется, стала бы умолять вас приехать и спасти меня, но это ведь невозможно, да я и не хочу отнимать вас у тех, для кого вы служите утешением и кто мне дороже самой себя, то есть дорогих моих родителей, дорогого Поля. С великим нетерпением жду следующей почты; хоть бы она принесла мне какое-то утешение; впрочем, я могу ждать его только от неба. Однако есть нечто, что могло бы сделать мою жизнь менее невыносимой; это уверенность, что я не утратила любви своих друзей и родителей; когда бы к знала, что они сохранят ее навеки, мне, быть может, достало бы мужества и далее нести эту тяжкую ношу жизни. Но кто меня в этом уверит? Вы мне пишете о папеньке, а не пишете его слова, что он говорит, он ведь так красиво говорит, знаете, кабы вы пересказали мне его собственные слова, вы очень бы тем меня порадовали, и каждое его слово, каждый слог я бы запечатлела в самой глубине моего сердца. Так вот, умоляю вас, мой нежный друг, как станете пересказывать мне ваш с ним разговор, перескажите также и то, что вы сами говорили.
Вы, однако, ничего не пишете о моем здоровье. Как я рассеянна – видите ли, хотела сказать: о вашем, но это все равно. Итак, вы ничего не говорите о моем здоровье, продолжаются ли ваши спазмы. Я думаю, и из письма вашего видно, что они вас не так часто посещают. Дай бог, чтобы это была правда, единственное мое утешение. Я всякий день воссылаю теплые молитвы ко всевышнему о сем. Пусть некоторые холодные люди удивляются моей нежной, может быть, беспримерной привязанности. Я им скажу: «хотя любить – тужить, но не любить – не жить». Итак, я хочу терзаться, тужить и жить, покуда богу будет угодно переселить меня в вечность. Прощайте, моя бесценная, утешительного ничего не имею вам сказать, пора бросить перо.
2 часа пополудни.
Сейчас ездила немножко прокатиться в надежде, что это рассеет мои мысли, но тщетная надежда. Как грустно, когда приходится сказать себе: мне не на что больше надеяться. Зачем вы прогнали меня от себя? Зачем переполнили чашу моих страданий? Можно ведь было не разлучаться, а найти какой-нибудь предлог, чтобы прожить у вас еще хотя бы несколько месяцев. Он ведь сам сказал, что лучше было мне остаться, чем, возвратись, чувствовать себя такой несчастной. Мне большого труда стоит не роптать на своего отца, и я часто (невольно!) спрашиваю себя: зачем не захотел он узнать мою душу, такую любящую? Зачем обрек ее на то, чтобы она никогда не знала любви без угрызений совести?
№ 15
Боже, прости мне сей невольный ропот, ты, видящий все тайники души моей, прости мне еще раз за всякую мысль, всякое слово, вырвавшееся у меня от непереносимой муки…
10 часов вечера.
Что за счастливый день. Я ездила в баню; приезжаю, до смерти спешила домой, и нахожу посылку. Чуть-чуть не бросилась на шею адъютанту нашему, так в эту минуту мне он угодил, но опомнилась, и никогда не была еще к нему так ласкова, благодарила его с жаром. О, как я сегодня счастлива, мой ангел, благодарю вас тысячу раз за все присланное. За вуаль я давно уже заплатила и еще дала 9 рублей за пояски. Теперь благодарю вас за прекрасную закладочку и поясочек. Прошу вас, мой ангел, прислать мне шитья. Я буду продавать и надеюсь скоро же иметь случай достать дешевых и хороших чулок из Митавы. Спасибо вам за резеду, я положила ее у своего сердца и никогда с ней не расстанусь.
Сделайте милость, посылайте к нам почаще такие праздники. Вы не поверите, как скоро от вас получат письма, то здесь пляшут и скачут, а без этого мы должны все плакать[19].
Не могла отказать ему перо. Он непременно хотел приписать. Не думайте, однако, что он что-нибудь знает. Адъютант распечатал пакет, он передал его мне самой, и я дала ему прочесть только то, что можно. За свои письма не беспокойтесь, мой ангел, мне всегда передают их в собственные руки, и за свои я тоже спокойна. Я совершенно уверена, что никакого риска здесь нет. Я той же почтой всегда пишу и маменьке, так что все пока благополучно.
Спасибо вам также за стихи, они прелестны; и вправду, нет ничего драгоценнее дружбы. Насчет Трумера ничего вам не скажу, мне досадно, что вышло такое огорчение. Письмо ваше прелестно, только одно меня в нем огорчило – как могли вы подумать, что я люблю вас меньше, чем вы меня. Выбросьте эту мысль из головы, ангел мой, милый друг мой, клянусь спасением своей души, что нет на всем божьем свете никого, кто способен был бы любить вас нежнее, чем ваша дочь, та, что всегда с вами откровенна и не боится обнаружить перед вами даже свои недостатки, рискуя потерять вашу дружбу и ваше уважение, ибо знает всю вашу снисходительность.
Завтра воскресенье, пойду в церковь, дабы возблагодарить создателя за дарованный мне счастливый день, это правда, что по вере вашей будет вам и то также, что за богом молитва не пропадет. Прощайте, мой бесценный ангел, завтра уже буду знать, получено ли письмо, и тогда в точности отчитаюсь перед вами.
25-го, в 5 часов вечера.
Нынче утром я была у обедни, видела в церкви Кира И., он сказал, что пришло письмо, только он его еще не получил; жду его с минуты на минуту, чтобы узнать, что за письмо. Вы и вообразить себе не можете мое нетерпение, только л-б-вь моя может с ним сравниться. Не осмеливаюсь написать сие слово полностью. Я спряталась в дальнем углу, но он меня все же заметил и поклонился.
Только что пришли сказать, что ко мне приехали гости.
Сейчас гости уехали, пили у меня чай. А Кир И. все не идет, не знаю, что бы это значило. А между тем мне не хотелось бы отсылать этот дневник, ничего не сказав по поводу книги. Скажите, мой ангел, показывали ли вам мою записку и что о ней думают?
Муж сейчас в лагере, там, кажется, небольшое празднество для мужчин. Нынешней ночью, а может быть, и завтра, мы ждем генерала Кайсарова, о котором, кажется, я вам говорила, что он необычайно со мной любезен. Когда он уедет, я вам напишу; к тому же после него я ожидаю визита Магденки, так что следующей почтой смогу сообщить вам что-нибудь более интересное. Сейчас я ужасно неспокойна, от нетерпения сама не своя.
Как я благодарна вам, дорогой друг, за все, что вы для меня делаете, какой Поль милый, что он благодарит вас и просит поберечь ваше здоровье, я просто в восторге, что он выучил: «Je t’aime tant», и ни капли не удивляюсь, что он говорит его так выразительно, ведь он и обычные слова произносит выразительно.
Хоть вы мне этого не говорите, но я вижу, что вы одобряете мой вкус, как с нравственной стороны, так и в отношении внешности.
«На террасе».
Художник Б. Кустодиев. 1906 г.
Поговорим о другом. Вы, мой ангел, словно выговариваете мне за А. А. А я вам на это скажу, что как приехала, так сразу сказала мужу, что надобно найти няню, а ее рассчитать, потому что мне ее обхождение не нравится. Так ему угодно было тянуть время, он этим не занялся, а потом вдруг, ни с того ни с сего, вспылил из-за какого-то платья и наговорил ей всяких грубостей. Потом сам же до того дошел, что просил ее остаться, а когда она не захотела (чему я очень была рада), тогда он ни минуты лишней не позволил ей оставаться в доме. А теперь, чтобы перед вами выглядеть правым, он пишет маменьке, что-де сделал это, чтобы ей угодить. Прошу вас, мой ангел, оправдайте меня перед папенькой, а то, я вижу, он гневается на меня, если судить по эпитету к имени Анны А. в его последнем письме; никогда он так мне не писал; сделайте милость, скажите ему, что я слишком была бы несчастна, если бы заслужила его недовольство, а ведь у меня не осталось никакого другого утешения, кроме любви моих родителей. Слишком жестоко было бы отнять ее у меня.
Я думаю, вы не можете жаловаться на мою леность, мой бесценный ангел, но я вас прошу (хоть эта просьба и дорого мне стоит), ежели вам тяжело много писать, то не пишите так много, только непременно раз в неделю и так, как я вам сказала.
Он приходил, только еще не получил, обещал завтра прислать.
Не бойтесь ничего, мой ангел, и не беспокойтесь, я буду осторожна, насколько это возможно. Будьте здоровы, ради меня, а главное, верьте в нашу дружбу, которую ничто не может омрачить. Напишите мне, пожалуйста, сколько Полю исполнилось лет, спросите его, как поживает его семья, мне хотелось бы знать имя его матери, и если есть у него сестры, в каких краях они живут и как их звать. Надеюсь, вы все это мне сообщите, а ежели станете читать ему из моих писем, перескажите мне потом, что он говорил, только перескажите собственные его слова.
№ 16
Муж вернулся из лагеря, где были танцы, да еще и сейчас танцуют. Было много приглашенных дам. Этот праздник устраивал один молодой капитан из нашего полка, но меня не приглашали, потому что я не бываю в доме его матери, муж не хочет, а причина та, что у нее двое молодых сыновей.
Понедельник, 26-го, 10 часов утра.
Сегодня у нас обедает Кайсаров, после свидания с ним буду все вам описывать. Я просто в упоении. Порадуйтесь и вы моему счастью. Я получила несколько слов, меня благодарят и просят принять Йорика. Я зашила записку в кусочек материи и теперь ношу его на своем крестике у сердца. Что за человек! Какая душа, какое сердце! Как он заслуживает счастья!
Прощайте, мой ангел, нынче я счастлива. Будьте здоровы, любите меня по-прежнему. Кайсаров только что ушел от нас. Он держится очень учтиво и очень зол на Ротта за то, что тот ему не пишет. Передайте ему это, пожалуйста.
Еще раз прощайте, молитесь за вашу Анету. Я читала его письмо к Киру И., он себя не помнит от счастья. Еще раз прощайте.
№ 17
1820. Псков. 26-го, в понедельник, 5 часов пополудни.
Наши поехали на учения, а я села опять с вами побеседовать. Кайсаров у нас обедал, был очень любезен, и я обещала ему писать к Ротту, чтоб некоторым образом загладить вину свою, что я не привезла ему ответа, что и исполнила: сегодняшней почтой послала в маменькином письме.
Только что получила Йорика, в нем отмечены многие места, напоминающие наше с ним положение. Записка написана в высшей степени почтительно, в ней всего десять строк, в которых он благодарит меня и клятвенно обещает сохранить уважение ко мне до конца своих дней. А в книге в одном месте просит хоть строчку, написанную моим почерком, и в письме к Киру И. велит ему взять за книги собственноручную расписку у той, коей они принадлежат. В записке он более осторожен, но в книге говорит все, что хочет, то есть отмечает все те места, что напоминают его чувства. Йорика я спрятала, потому что он может вызвать подозрения. Но он еще прислал поэму о Петре Великом, думая, что она мне принадлежит, он взял ее у Алексеева. Вот о ней я скажу, будто давала ее читать Киру И. Думаю, мне следует поблагодарить его за поэму, но пока повременю, а вы скажите ему от меня, что я читаю прекрасную речь, что он прислал, и она мне очень понравилась и делает честь его тонкому вкусу. Если бы можно, я бы ее у себя оставила, не как любительница, но подражательница любителям отечественной словесности.
10 часов вечера.
Сейчас опять Кайсаров ужинал у меня, он уверяет, будто Ротт в меня влюблен, и не хочет мне верить, что нет. Я это предвидел, говорит он, я догадывался об этом, да иначе и быть не могло. Именно у ваших ножек должен он курить вам фимиам, это его настоящее место, и еще много всяких вещей в этом же роде. Он попросил переслать ему подлинный ответ Ротта, а затем, отвернувшись, сказал, что просит это ради любопытства, чтобы увидеть, в каком тоне он ко мне станет писать.
Завтра в лагере торжественный обед, кажется, без дам, а затем чай и танцы у губернатора. Я тоже поеду, уж не знаю, весело ли мне там будет, думаю, навряд ли. По нынешнему состоянию моего сердца, одиночество гораздо более мне по нраву. Признаться ли? Достойный предмет, что завладел моей душой, ныне поглощает все мои силы и интересы. И еще признаюсь: первый раз люблю я взаправду, и все другие мужчины совершенно мне безразличны. Бывало прежде, когда я думала, что люблю, меня все же иной раз заботил мой успех, теперь все это кажется мне ничтожным. Любезный Кайсаров ничуть не трогает моего сердца, несмотря на все лестные слова, что он мне расточает. Вот уже три недели, как я живу под одной крышей с интересным молодым человеком, который меня любит и иногда говорит мне это, и все время находится подле – однако это ничуть меня не затрагивает, я чувствую, что не могу любить его истинной любовью, ибо души наши чужие друг другу, а без этого не может быть истинной любви. Признаюсь вам, что все это просто несравнимо, там моя душа чувствует его душу в каждом слове, которое он произносит (надобно бы сказать: произносил, ибо счастливое то время миновало), а иной раз даже когда и молчит. Никогда мне этого не забыть. В своем письме он рассказывает об именинах папеньки, о Поле, о том, как он похож на меня, о недовольствах Лизы. Он даже удивляется ее характеру, но он просит мне об этом не сказывать, потому что, если это меня огорчит, он потом всю жизнь будет несчастен. Так что прошу вас, мой ангел, пусть это останется между нами. А вы мне насчет этого никогда не писали, может быть, дело в том, что вы редко ее видаете? Прежде всего я вам скажу, что меня она ненавидит, потому что завидует и не любит ни брата (оттого, что у него сходство со мной), ни маленькую сестрицу. Это дурной характер, но вот ее любят и не принесут в жертву, и воспитание она получит блестящее. Простите, мой ангел, что я немного ропщу, когда сравниваю ее судьбу со своей.
Спокойной ночи, мой единственный друг, передайте милой моей маменьке, что ничто не может сравниться с моей любовью к ней, и про себя тоже знайте, мой ангел, что нет на свете никого, кто любил бы вас более нежно, чем ваша Анета. Спите спокойно.
27-го, в 2 часа.
Только что ушел Кайсаров, он у нас завтракал, сейчас все они в лагере, а я сижу одна. Я уже вам писала, что мы нынче едем на вечер к губернатору, не думаю, что я получу там удовольствие, разве можно это сравнить с веселием, какое я испытала у вас – никогда не изгладится у меня сладостное воспоминание о том вечере, когда я была у вас вместе с маменькой. Какая я была тогда счастливая! Все это теперь кончено навеки, и я предпочла бы смерть теперешней жизни.
И в довершение всех моих бед меня еще преследует этот его племянник, ни минуты нет от него покоя, потому что он все свое время проводит со мной, для меня в сто раз было бы лучше, если бы он меня не любил, по крайней мере не ходил бы за мной по пятам, и у меня было бы больше свободного времени.
27 июля. В полночь.
Мы только что вернулись. Вечер у губернатора был довольно приятный. Танцев не было, пили чай, за ужином очень потешались над малороссами, особенно Кайсаров беспрестанно со мной ссорится, а кажется, очень меня любит. Мы там ужинали, а оттуда в одной карете возвратились назад. Муж просил его, чтобы он каждый раз, как будет здесь проезжать, останавливался у нас, и мне сказал, чтобы я о том попросила. Тогда я ему говорю по-русски: «Нам очень будет приятно, если вы без церемоний у нас остановитесь». Тут вдруг он со страстью схватывает мою руку (мы рядом сидели), горячо ее пожимает и спрашивает: «В самом деле? Это правда?». Я ему отвечаю, что, разумеется, это доставит нам большое удовольствие, а он поцеловал мне руку, и я никак опомниться потом не могла – мы как раз выходили из кареты, а муж из нее уже вышел.
Надобно вам сказать, что губернаторша очень собой хороша, только в ней совсем нет светской учтивости, которая бывает у нас, когда мы того хотим. Уезжая, он еще мне сказал, что ее красота блекнет, когда меня увидишь. Вот вам небольшой отчет о нынешнем вечере. Прощайте, добрый друг мой, спокойной ночи, спите спокойно. Я сегодня была в новом шитом платье, и ваша закладочка синей шерсти прекрасной с синелью, и белая шаль. Прощайте еще раз, мой друг-хранитель, ангел мой. Вечно ваша Анета.
№ 18
28 июля, в 11 часов утра, среда.
Здравствуйте, мой нежный друг. Нынче муж, кажется, переезжает в лагерь, а значит, и мне надобно будет быть там. Признаться, мне это довольно грустно; я сделалась страшной мизантропкой, ибо чувствую себя гораздо счастливее, когда никого не вижу. Кайсаров уехал еще вчера к вечеру, я очень этому рада, а вот что меня огорчает, так это то, что Магденко к нам сюда не приедет, он сказал Кайсарову, что ему это неприятно из-за ссоры обоих генералов. Пока здесь был Кайсаров, Кир сказывался больным.
Думаю поехать сегодня к г-же Пальчиковой, чтобы поблагодарить ее за любезность – она дала мне фортепиано и книги, а у меня до этих пор голова до того была занята, что я не могла найти минуты, чтобы хотя бы поблагодарить ее запиской. Не следует быть неблагодарной, всегда надобно высказывать память сердца (такое определение благодарности сказал мне вчера Кайсаров).
30 июля, пятница.
Весь вчерашний день я не писала вам, мой ангел, и вот почему: приходит вчера после обеда мой драгоценный супруг и сообщает о своем намерении пригласить губернаторшу и еще некоторых дам в лагерь на чай, а после устроить танцы. Мы с ним наметили программу, и я уже было собралась ехать к г-же Пальчиковой, как вдруг мой драгоценный, мой благородный супруг спрашивает у меня ключи. Я прекрасно понимала, что они ему без надобности, а просто он желает испытать, не побоюсь ли я их ему оставить; меня, признаться, это возмутило, я не хотела их ему давать, тогда он отнял их у меня чуть ли не силой. Я была просто взбешена таким недостойным и подлым поведением. Вся внутренняя перевернулась. Я ему сказала, что сам дьявол бы так себя не вел. Вы ведь знаете, какая мягкая у меня натура, добром от меня можно добиться самой большой жертвы. И что же после этого он делает, как вы думаете? Садится со мной в карету, не дает мне из нее выйти, и дорогой орет на меня во всю глотку – он-де слишком добр, что все мне прощает, меня-де видели, я-де стояла за углом с одним офицером. А как увидел мое возмущение, тут же прибавил, что ничему этому не поверил. Тогда я сказала, что лучше быть запертой в монастыре до конца своих дней, чем продолжать жизнь с ним. Если бы не то, что, на вечное свое несчастье, я, кажется, беременна, ни на минуту бы с ним больше не оставалась!
Как я несчастна, что вынуждена огорчить вас, я сама первая от этого плачу, но к кому же мне прибегнуть, что мне теперь делать? Зачем велели вы мне уехать от вас? Уединенная, замкнутая жизнь, какую я здесь веду, все равно не спасает меня от этих оскорблений. Потолкуйте об этом с Ольгой Андреевной и напишите, что мне делать. Только, ради самого неба, ради любви ко мне, ради всего, что вам дорого, не огорчайтесь из-за этого, мой ангел, не то мне уж вовсе не к кому будет прибегнуть. Между тем он не хочет огласки. Если бы я тогда осталась, никто ничего бы не знал, и все бы считали, что мы по-прежнему в добром согласии, теперь же этого уже нельзя будет сделать. Вы не думайте, что мне скучно будет дома, – нет, я сидела бы, запершись, в одной комнате, ни с кем, кроме вас, не видясь, и довольна была бы своей судьбой; правда, я чувствую себя созданной для светской жизни, но вспомните – ведь умела же я быть веселой в вашем уединении. Так вот, я решила, что в Петербург с ним осенью не поеду, а, может быть, отправлюсь повидать моих подруг, после чего до конца моих дней буду жить подле вас. Если же, на свое несчастье, я в самом деле беременна (это еще не наверное), то рожать я, может быть, поеду в Берново к тетушке Анне Ивановне, а ежели бог даст, я рожу прежде времени (о чем ежечасно молю бога и думаю, что не грешу перед ним), тогда я, может быть, приеду прямо к вам, если только буду уверена, что отец меня не выгонит: ведь сказал же он однажды мужу, что, если бы я его оставила, двери родительского дома были бы для меня закрыты. В своем ослеплении он уже заранее готовится сделать свое дитя несчастным. Не пришлось бы ему в этом каяться! Вот бедную маменьку мне более всего жалко, сестра Лиза никогда – смею это утверждать – не станет так любить ее, как я, и не будет так предана ей до последнего своего вздоха!
Надобно вам сказать, что позднее он все же попросил у меня прощения за грубость. Бедная моя дочка, которая была с нами, так испугалась громких воплей этого бешеного человека, что с ней сделался понос. Так что мне кажется, что хотя бы ради интересов ребенка нам лучше не жить вместе, ведь для нее это дурной пример, а она уже все начинает понимать. Проехавши несколько верст, мы поворотили домой. А вчера я снова туда поехала. Эти милые люди очень мне были рады, они ведь все любят меня до обожания. Я их пригласила на сегодня, итак, у нас будет большой бал и еще фейерверк. Какой контраст с тем, что творится в глубине моей печальной души! Может быть, и дорогой мой Магденко тоже приедет, и мне кажется, что произойдет примирение с Лаптевым. Этим занялся губернатор, оба противника должны явиться к нему с утра, и, если все уладится, Лаптев сегодня вечером приедет в лагерь.
Вот вам описание тех двух дней, в которые я не имела силы держать перо. Если вы, мой ангел, прикажете мне оставаться и терпеть, я безропотно вам подчинюсь. Но говорю заранее, что стану жить еще более уединенно и ни за какие богатства мира не поеду с ним в столицу. Я слишком несчастна и не в состоянии буду показывать свету безмятежное лицо, в то время как в сердце моем – смерть. Ведь вы согласны со мной, не правда ли?
№ 19
30 июля, пятница.
Бал наш состоится сегодня. Завтра я сообщу вам, как он прошел. Вчера я читала прекрасную эту речь казанского епископа; признаюсь, она очень подействовала на мою душу, и это чтение очень полезное для тех, которые надеются только на вечную жизнь. Скажите Иммортелю, что я убедительно прошу оставить, ежели можно, ее у себя, что это будет служить бальзамом для больной души моей. Признаюсь вам, картина, живо описанная, будущей жизни много успокоила мои чувства и придала твердости переносить мои несчастья, – это послание настоящего ангела-утешителя. Советую вам достать это и прочесть, оно достойно вашего внимания.
Прощайте, мой ангел, теперь мне легче стало, когда я излила чувства свои в вашу душу. Оставляю перо, чтобы приготовиться к празднику нашему; и успею, может быть, показать посторонним спокойную и веселую наружность.
Только что получила письмо от Магденки. Он отказывается от нашего приглашения под предлогом простуды, которая даже помешала ему (по его словам) лично представить свой второй полк Кайсарову. Его письмо наполнено всякими лестными для меня словами, он говорит о безграничной своей преданности мне, что-де, зная его сердце, я могу судить, насколько тяжело ему быть вынужденным отказать мне. Я думаю, настоящая причина та, что он не хочет быть втянутым в какие-либо распри между моим драгоценным супругом и Лаптевым!
А насчет последнего я сейчас узнала, что губернатору нынче утром удалось их примирить и Лаптев пообещал приехать в лагерь. Надеюсь, что вас порадует эта новость, хоть я и уверена, что помирились они не от чистого сердца; но, по крайней мере, будут соблюдены внешние приличия – а это уже для общества что-то значит.
Однако, принимая в соображение содержание моих писем, я навряд ли могу рассчитывать, что вы ожидаете почту с особым удовольствием. Я отдала бы все на свете, чтобы иметь возможность сообщать вам иногда приятные новости, но я не должна ничего таить от вас, это нарушило бы всю прелесть взаимного нашего доверия – и вот мне постоянно приходится вас огорчать, а ведь я бы десять лет жизни отдала, чтоб только уберечь вас от всего печального и вернуть вам здоровье. Чем больше я думаю, тем более раскаиваюсь, что написала вам о всех своих горестях, умоляю вас, милый мой друг, не печальтесь, не расстраивайте из-за меня драгоценное свое здоровье, берегите его ради нас, не я одна вас о том молю. Есть особы, несказанно мне дорогие и весьма достойные вашего уважения (осмелюсь даже сказать, любви), кои просят вас об этом ради меня. Только посоветуйте, как мне быть, все, что вы скажете, будет для меня священным, и я немедля последую вашему совету.
«На балу в Екатерининском дворце».
Художник В. Рубаненко
Как ни отрадно было бы мне переписываться с Полем, я только что написала ему несколько строк, в которых благодарю его за книги и уведомляю, что это последние строки, кои он от меня получит, ибо я не желаю иметь повод упрекать себя за тайную переписку. Вот дословно то, что я ему написала, и я уверена, вы меня за это похвалите. Но вы не станете гневаться, если я скажу вам, что его записочку, которая вся дышит почтительностью, благоговением и благодарностью ко мне, я зашила в кусочек тафты и ношу на крестике подле сердца, на месте того талисмана, что вы мне надели и который я спрятала. Не браните меня, мой ангел, за сие невинное утешение.
Я сейчас вновь перечитала прелестные надписи на Йорике. Что за тонкость чувств, какое благородство в малейшем его поступке. И это существо, столь достойное моей привязанности, законы не дозволяют мне любить, и я вынуждена жить для человека, чей нрав вам хорошо известен.
Дайте мне возможность порадоваться хотя бы тому, что вы изредка говорите ему обо мне, что ему, я знаю, хорошо известно, как велико мое к нему уважение. Я не смею сказать ему, что отвечаю на его нежные чувства всем существом своим, что ничья любовь не может сравниться с той, какую я питаю к нему и которой он столь достоин во всех отношениях. Но не скрывайте от него хотя бы то, что я несчастлива, и ежели он почитает себя страдальцем, пусть знает, по крайней мере, что я страдаю еще более его.
Скажите мне, имеете ли вы иногда возможность читать ему из моих писем? Меня бы очень это утешило. Не браните меня. Вам, верно, кажется, что я слишком много пишу о сем предмете, но подумайте, мой ангел, несчастный утопающий хватается за соломинку, чтобы спасти себе жизнь, – так проявите же в этих обстоятельствах свою обычную снисходительность и простите свое дитя, единственного своего друга, за то, что он слишком предается сердечной своей склонности, которая лишь одна являет ему поддержку в его горестях. Может ли сердце, столь любящее, как мое, жить без любви – той невинной любви, какой является наша, любви, которая никому не причиняет зла и уготавливает нам, быть может, вечное блаженство.
31 июля, в субботу.
Сейчас четыре часа пополудни, а я только что встала с постели, так устала от бала. Бал был блестящий – чудная иллюминация, прелестный фейерверк, а после этого разыгран был небольшой ночной бой. Лаптев был как нельзя более любезен, все были счастливы и довольны, кроме вашей Анеты.
Во вторник офицеры наших двух полков тоже дают бал в тех же палатках – полковник просил меня оказать им честь и, как вчера, принимать дам и быть хозяйкой праздника. Так что мне предстоит еще один бал, а потом генерал Лаптев тоже намерен устроить праздник.
Я не отказала доброму полковнику быть хозяйкой на их балу (его жена не может быть, она сама кормит), он меня просил во имя всего корпуса офицеров, они все меня очень любят. Это очень утешительно, но не утешает. Уголок вашей комнаты я предпочла бы царствованию над всеми здешними сердцами, всеми почестями и суетными удовольствиями.
Буду ожидать с большим нетерпением ответа на эти нумера; вы извините, что не пышное и не пространное описание нашего бала. Я не буду по-прежнему (когда я была свободна и спокойна) описывать вам мои победы. Я их не примечала и слушала хладнокровно двусмысленные недоконченные доказательства удивления – восхищения.
№ 20
31 июля, суббота.
Итак, я вам о сей статье ничего более не скажу. Так как вы здесь никого не знаете, то вам и не интересно знать действующие лица этого праздника. Насчет моего наряда скажу вам, что на мне было белое вышитое платье на розовом чехле, зеленые шелковые башмаки и зеленый платочек, на голове ничего. Сейчас получила неоцененное письмо ваше, мой ангел; никогда без слез не читаю драгоценные для меня ваши строки. Как я счастлива, что вы мною довольны, это заставляет меня забывать и терпеливо сносить все мои страдания. Теперь скажу вам, что мне хотелось, чтобы вы сами выбрали себе платок, и потому я не сказала вам, что черный я надевала один раз и потому желала, чтобы он перешел с моих плеч на ваши плечи. Этого я вам тогда не сказала, думая, что вы пожертвуете своим вкусом, чтобы сделать мне удовольствие. Я очень рада, что кисет мой понравился папеньке, и благодарна за снисходительность его. Доставление утешения Ольге Андреевне также принесло мне неизъяснимое удовольствие. Приезд Бухариной не так меня утешает, я боюсь… простите, она не может и вполовину иметь к вам столько привязанности, я хоть совершенно уверена в вашей, но кто не ревнив, любя? Я не имею нужды просить вас не оставлять мою бесценную маменьку; я знаю вашу душу; хоть это желание можно назвать эгоизмом, но я желала бы, если возможно, чтобы вы их не оставляли, и если я смею сказать свое мнение, то я думаю, хорошо бы было почтеннейшей бабушке продать свое имущество в Соснице, где ничто ее не привязывает, и переехать жить с Пелагеей Петровной.
Ваше здоровье, хотя и поправится, не скоро позволит ее навестить; а тогда я бы была совершенно на счет ваш покойна. Я сужу о вас по себе и без содрогания не могу подумать, как с вашей душой жить между такими людьми, как в Соснице, это меньше, чем не жить. Напишите мне, как вам покажется, мое мнение. Еще благодарю вас за присылку письма Каролининого. Оно немножко странно для меня после прочих. О том предмете она не упоминает, меня удивляет это чрезвычайно, да и вы не сказали мне на счет этого своего мнения, каким образом она попадет в Лубны, я не понимаю.
За выписку из этой прекрасной проповеди очень благодарю, потому что это мне показывает, что у нас почти одинаковый вкус, эти самые места мне понравились. Я удивляюсь, что вы думаете, что она для меня не будет занимательна: я ее имею. Я несколько раз перечитала ее с величайшим удовольствием, и у меня явилось желание попросить его оставить мне ее навсегда, если это не будет для него слишком большим лишением. Но я узнала, что и у вас тоже она была, стало быть, есть с нее список, так что теперь я уверена, что он мне не откажет. Она так хороша, так усладительна, что чтение ее успокаивает самые большие горести надеждой награды за оные и лучшую жизнь. Болезнь его очень меня тревожит, слава богу, что она не опасна. Скажите ему от меня, что я прошу его беречь свое здоровие и что я крайне ему признательна за утешение, которое он доставил мне сим усладительным чтением.
«То, что любим, удаляется от нас! То, чего желаем, убегает нас; то, чего страшимся, случается с нами; мы никогда не бываем счастливы со всех сторон». Это я больше, нежели кто-нибудь, могу сказать. Кому, кажется (по наружности), более счастие улыбается? Кто, однако ж, внутренне более страдает? Вы одна это знаете и одна можете несколько облегчить оные. «Одно лишение не заменяется всем, что в руках наших». Как это справедливо! Вчера во время окружавших меня веселостей сколько раз я думала об этой проповеди. Как мало соответствовали все эти веселости тихим и скромным желаниям моего сердца; как охотно бы я поклялась никогда не участвовать в оных, если бы когда-нибудь исполнились последние. Тогда ваша комната превратилась бы для меня в рай земной. Никакие добродетели в вашем присутствии не могли бы быть чужды моему сердцу. Две чувствительнейшие в мире души наслаждались бы неоцененной вашей дружбой и старались бы всеми силами успокаивать вас и сберегать неоцененное для них ваше здоровье.
Но я примечаю, что я пустилась почти в житейские желания, и хотя это не похоже на суету суетствий, но на такое совершенное счастие, которого вряд ли какой смертный достоин; простите, я все пишу, не поправляя и не обдумывая, что приходит мне в голову, и оттого нередко забываюсь. Любовь ваша мне порукой за ваше снисхождение. Вы пишете мне еще, что люди есть, которые завидуют моей к вам дружбе. Бог с ними. Надобно уметь любить, чтоб заслужить быть любиму. Не любив никого, кроме себя и своей выгоды, я не понимаю, как можно завидовать взаимности, оказанной другому. Между нами сказать, я в пребывание свое довольно узнала характер Лизы; и хотя не часто сообщала вам на сей счет свое мнение, но ясно видела, что она не имеет ко мне ни малейшей привязанности, и ежели желает оной с моей стороны, то для того только, чтобы лишь понравиться папеньке.
Это единственная цель наружных ее добродетелей, она для этого будет всегда притворяться, что по своим летам довольно искусно делает. Это истинная правда, хотя далеко не утешительная.
Итак, вы видите, что я не могу с ней иметь пространную переписку ни по летам нашим, ни по образу наших мыслей. Папенькина к ней любовь не позволяет ему видеть ее фальшивого характера, но пусть он будет лучше слеп, нежели несчастлив и этой дочерью, хоть другим образом.
Оставляю перо, чтобы отдохнуть немного; обнимаю моего единственного друга, никогда не забуду вас, клянусь душой!
Тебя забыть, но кто же будет Мне в жизни радости дарить? Нет, прежде бог забудет. Тебя забыть, тебя забыть!Покойной ночи вам желаю и приятнейшего сна. Христос с вами. Благословляю вас. Целую ваши глазки. Прощайте еще раз. Вечно ваша Анета.
№ 21
1 августа, 5 часов вечера.
Вот уже и август на дворе. Как быстро течет время в горестные минуты жизни! Но те, что я провела с вами, пролетели еще быстрее; то был лишь сон, самый прекрасный сон в моей жизни, и воспоминание о нем я сохраню до последнего своего вздоха.
Нынче утром я была удивлена и обрадована приездом г-на Магденки. Дружба его для меня драгоценна, каждый день все более убеждаюсь в этом. Мы говорим с ним о вас и о маменьке, он обещал, что осенью будет в Лубнах и посвятит целых два дня, чтобы познакомиться с милой моей маменькой. Он многое расскажет вам обо мне, я уверена в этом, ведь он питает ко мне истинную дружбу. Он остается здесь до послезавтра, дня бала, он говорит, что хочет быть сторонним наблюдателем и позабавиться на счет одного из моих обожателей, которого ему назвал муж.
Скоро у вас в Лубнах будет ярмарка, снова там воцарится веселье, а бедная ваша Анета в это время будет стенать под бременем всякого рода забот, твердя мысленно стихи, что запечатлелись в глубине ее сердца:
Que le bonheur arrive lentement. Que le bonheur s’écoule avec vitesse[20].Сделайте мне удовольствие, спросите когда-нибудь в разговоре у Иммортеля, какая причина вынудила его сменить платье, – помните ту смешную историю в саду; а еще спросите, какие женские имена ему более всего нравятся.
7 часов вечера.
Наши поехали в лагерь сегодня, сейчас, и я опять принимаюсь за перо. Магденко мне рассказывал сию минуту о недавно случившейся революции в Неаполе. Он читал это в газетах. В самом деле, удивительная вещь. Требование народом и войском конституции, о чем король и министры после всех узнали, и революция, которая не стоила ни капли крови. Думают, что это взбунтует французов, которые не захотят уступить итальянцам в тонкости, и что наконец что-нибудь да будет. Вы знаете мое мнение; все, что может меня с вами сблизить, не может мне быть противно. Я же не считаю за грех желать того, чего все войско наше желает. Я сейчас начинаю строить на воздухе замки: вы довольно знаете, какого роду.
Скажу вам, что я получила из Петербурга мои часы, и слава богу, когда одна, то знаю наверное… который час. Переселяюсь мысленно в вашу комнату, пью с вами чай; иногда хожу по комнате и всегда, когда одна, так живо представляю себя с вами вместе, что сия обманчивая прелестная мечта услаждает на минуту мои горести.
2 августа, в 10 часов утра.
Здравствуйте, милый друг. Нынешнюю ночь я провела прекрасно: видела вас во сне. Будто я была в вашей комнате, и Иммортель тоже. Зачем все это не наяву? Скажите, мой ангел, как вы думаете, всегда ли он будет любить меня? Не знаю почему, но меня преследует безумная мысль, что он разлюбит меня, как только узнает о моем положении, – и мысль эта сокрушает мое сердце. Развейте мои сомнения, успокойте меня, мой ангел, ведь я больная, со мной надобно обращаться с осторожностью.
Прощайте, единственный мой друг, будьте здоровы, милый ангел. Ради любви ко мне, оправдайте меня перед Ольгой А., что ей не отвечаю: у меня так мало времени.
Магденко еще у нас и останется до 4-го числа. Муж с ним очень хорош, но на свой лад, обиняками кормит, а он делает вид, будто не замечает, – и я тоже. Вчера ввечеру он был у меня в кабинете, и я ему читала «Любовь есть кризис». Он до чрезвычайности хвалил перевод, хвалил многие места, он имеет это на немецком, это Шиллера сочинение; но говорит тоже, что «мы не боги и земля не Олимп». Прощайте, моя родная, Христос с вами, на будущей почте поищу послать что-нибудь Лизе на ее именины. Грустно очень, что здесь нельзя ничего достать. Прощайте еще раз, сокровище мое, с нетерпением буду ожидать вашего журнала. Скажите мне, мой ангел, как вы думаете, ежели я вправду беременна, приезжать мне к вам для родов? Я так полагаю, что нет, потому что, коли я снова приеду к вам одна, мне потом и вовсе будет не уехать. Кажется, я уже вам писала, что в Петербург не поеду, решение это твердо.
Прощайте, единственное мое утешение, ради всего святого, берегите свое здоровье, видит бог, оно дороже мне моего собственного.
Завтра состоится бал. После того как письма эти будут отправлены, я снова начну свой дневник и уж тогда все вам опишу.
Пожалуйста, обнимите за меня вашу сестрицу, ее мужа и детей. Как я завидую судьбе г-жи Бухариной, что она снова окажется неподалеку от Лубен. Когда б она могла оценить всю полноту своего счастья! Кланяйтесь от меня всем своим знакомым. Передайте от меня Иммортелю все, что только подскажет вам ваше доброе сердце, а главное, чтоб он был здоров и т. д. и т. п.
Прощайте же, меня торопят, да хранит вас господь, мой ангел. Любите по-прежнему вашу навеки Анету.
№ 22
Псков, 1820 г. 2 августа в 2 ч. пополудни.
Только что совершила небольшую прогулку с Магденкой, Катенькой и Кир И. Он обмолвился, что муж обещал ему погостить у него недельку в лагере вместе со мною. Он был очень удивлен, когда я сказала, что хоть общество его мне и очень приятно, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы в этом не участвовать. Мне надобно совершенно отказаться от общества, чтобы сохранить свои силы для выполнения тяжкого своего долга. Не могу я выносить оскорбительные подозрения, коими он беспрестанно мне досаждает. Я слишком страдаю нравственно, чтобы чувствовать себя хорошо в обществе порядочных людей. Так ужасно быть вынужденной все время краснеть. А оставаясь в одиночестве, я проведу время с пользой и выиграю и в спокойствии, и в своих занятиях.
После обеда мой муж и Магденко отправились в гости за десять верст отсюда. Вы не представляете себе, до чего он милый. Мы провели два часа в приятнейшей беседе, и вы догадываетесь, конечно, что говорил более всего он и оставил мне изрядное удовольствие своими шутками над милым племянничком, который при своем недалеком уме и самом дурном воспитании ужас до чего самолюбив. Добрый г-н Магденко изо всех сил старался, чтобы тот почувствовал себя более непринужденно, но из этого ничего не получилось. Мне досадно, что он старался понапрасну. Керны не умеют быть любезными, они слишком высокого мнения о себе, и это мешает им понять, как мало они из себя представляют. И мой дорогой супруг, не то обиженно, не то шутливо, кивал головой, делая вид, будто он разумеет больше, нежели хочет показать, а сам-то ровно ничего не понимал, вы же знаете, тонкая, остроумная беседа нам недоступна, это не наше дело, не про нас это писано.
Когда Магденко уходил, он хотел непременно через час возвратиться и пожалел, что у него нет с собою часов. Я предложила ему свои, те, что были у меня на шее, а как стала их ему надевать, цепочка зацепилась за его пуговицы, и тут он стал говорить всякие любезности, что вот теперь он закован в цепи, а потом сказал, что по его неловкости я сразу могу увидеть, как он к ним непривычен. Чтобы выйти из затруднительного положения, я стала говорить, что прошу его набраться терпения, ведь он так часто мне его проповедует, и вот теперь я покажу ему пример своего долготерпения, а уж он, разумеется, не пожелает выглядеть в моих глазах дьяволом, проповедующим мораль.
«Летний вечер на севере».
Художник С. Берг. 1899 г.
Муж просил меня сыграть на фортепиано и спеть, а я отказалась самым решительным образом – нет, это был не каприз – я слишком уважаю Магденку, чтобы хотеть прослыть в его глазах капризной; но просто я хорошо понимаю, что лишь немногим людям моя игра и пение могут доставить удовольствие, и эти немногие – в Лубнах. Мне тяжело подойти к фортепианам с тех пор, как я узнала, что игра моя могла действовать на чувства достойнейшего в мире существа. Я твердо решилась, если возможно, не ехать к Магденке после той неприятной истории, о коей вы знаете. Поймите, мой ангел, душе моей должно теперь чуждаться удовольствий. Если бы не подозрения насчет моей беременности, я бы убежала отсюда куда глаза глядят, только бы избавиться от этого несчастия – разделять судьбу с таким грубым, неотесанным человеком. После завтрашнего празднества я хочу затвориться в своей комнате, никого решительно не видеть, только писать вам да молиться богу, взывая к божественному милосердию его, дабы он как-нибудь соединил меня с вами или же принял меня в лоно свое.
3 августа, в 11 час. утра.
Сейчас приезжал офицер еще раз просить меня быть сегодня у них на бале хозяйкою, я еще спала, когда муж мой вторично за меня дал слово. Сейчас зовут меня гулять пешком, я долго отговаривалась, но наконец должна была согласиться, и я пойду.
5-го, в полдень.
Бал был великолепнейший, но мне не очень было весело, потому что Катя захворала немножко. На другой день Лаптев у нас обедал и еще кой-кто. Как ни мало обходителен мой драгоценный супруг, он страсть как любит устраивать приемы и ради них просто готов разориться. Напрасно мы с Магденкой отговаривали его, ничего из этого не вышло, он все твердил, что должен показать Лаптеву, кто он такой.
Бедная моя дочка все еще не совсем здорова. Магденко просидел у нас за полночь. Он чуть ли не со слезами умолял меня сделать ему честь и присутствовать на его празднике, если только Катенька поправится, но я решительно отказала ему – можно еще выносить оскорбления, если их слышат одни стены, а на людях это слишком тяжко. Единственная моя защита – это одиночество.
Вы только представьте себе – вчера мы втроем сидели в моем кабинете, я очень тревожилась за Катеньку и шутя ему сказала, что у него, так же как и у меня, на болоте глаза. Так вообразите, он до того разобиделся, что сказал мне при Магденке: «По милости твоей должен кулаками слезы утирать». Я прямо была поражена. Одно из двух – либо нам не жить вместе, либо мне не выходить из своей комнаты: никакие удовольствия не окупят всех этих мучений и не исцелят моих душевных ран. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что в тысячу раз лучше было бы мне оставаться у вас.
В 6 часов вечера.
Катеньке, благодарение богу, получше, и я немного успокоилась. Сам Лаптев заезжал узнать о ее здоровье и передал мне книгу трагедий, переведенных Висковатовым, – это один поэт, который живет здесь неподалеку. Его вдохновляла любовь, а потому я нахожу, что места, где он говорит об этом предмете, довольно хороши. Так как вам, может быть, никогда не представится другой случай прочитать его перевод, я с удовольствием посылаю вам выписки из наиболее красивых мест. Это по-русски, стало быть, вы и другим сможете доставить удовольствие их прочитать.
№ 23
…часов вечера.
Итак, посылаю вам выписки из Гамлета, это не изящные, но лучшие места из очень посредственного перевода. Сейчас можно видеть, какого роду сочинитель; я думаю, он очень успешно бы писал в нежном роде, не выходя из своей сферы. Надеюсь, что вам будет приятно читать этот маленький отрывок. Завтра 6 августа, день веселия и удовольствия в Лубнах; у вас, верно, будет много гостей, и я боюсь, чтобы не сбылась пословица «Les absents ont toujours tort»[21], нет, я уверена, что никакие удовольствия вас не заставят забыть о бедной вашей Анете, печальной псковской затворнице; в теперешнем моем состоянии я много нахожу сходства с наказанием Тантала, который, утопая в роскоши, просил из милости каплю воды для прохлаждения пылающей внутренности. Так точно и я окружена удовольствиями, всякого рода почтением и привязанностью всех окружающих меня, я кровью бы заплатила за одну нежную, ласку моей несравненной маменьки, ваш взгляд, мой ангел, придал бы мне бодрости; но это тщетные желания.
Вотще простру от сердца руку, Ни голос твой, ни взор меня не усладят.Прощайте, мой бесценный ангел, удовольствие с вами беседовать заставило меня забыть, что мне нужен, очень нужен покой; Христос с вами.
6 августа, в 6 ч. вечера.
Целый день не имела силы взять перо в руки, противоположность окружающих вас сегодня удовольствий и снедающих ежеминутно меня горестей терзала мою душу. Сейчас имела маленький разговор с моим мужем и получила от него честное слово не требовать от меня выездов никуда, он осенью поедет в Петербург и позволяет мне остаться дома. Ежели же ему не дадут дивизии, то будет проситься за границу до получения оной или до войны; а я имею приехать к вам. Вы не будете столько жестокосерды, чтобы запретить или отсоветовать мне это, а, верно, примете опять меня с чувством нежнейшей привязанности и позволите посвятить это время дружбе к вам или, лучше сказать, любви. Одна эта мысль впредь будет поддерживать мое существование, одна эта надежда будет отныне подкреплять мою жизнь; это не прежде может случиться, как с будущей весной. Если луч этого благополучия будет иметь на вас столько влияния, сколько на меня, то я довольна и не имею нужды в другом уверении вашей привязанности ко мне. Благодарю моего создателя за посланное в скорби мне утешение и совсем неожиданно. Теперь постараюсь сообщить вам отрывки из г-жи Сталь, которые я нарочно выписала, надеюсь, что вы их одобрите, наши вкусы так согласны, я бы их перевела, но не имею лексикона, боюсь испортить слог, постараюсь когда-нибудь и доставлю вам.
№ 24
«En général, ceux dont la félicite n’est point Interrompue, s’aperçoivent a peine de sa dure. Il n’en est pas de même quand elle leur échappe. Le chagrin leur en montre alors tout le prix et le malheur leur fait sentir tout ce qu’ils perdent».
«Обыкновенно те, которых блаженство никогда не было прерываемо, почти не замечают течение оного. Но это уже не то – когда оно удаляется, огорчение показывает всю цену оного, и несчастие заставляет чувствовать все то, что они теряют», – это из г-жи Бэрней – перевела я.
Этот отрывок очень справедлив и приличен к теперешнему моему состоянию, одна только разница: что я очень чувствовала цену того блаженства, которым у вас наслаждалась; но мне кажется, что я теперь не довольно благодарна за оное и не довольно великодушно переношу мои горести. Никто из окружающих меня не может постигнуть моего состояния, и справедливо говорит г-жа Сталь:
«Il faut de l’imagination pour deviner cе qu’un cœur peut faire souffrir, et les meilleurs gens du monde sont souvent lourds et stupides a cet égard, Ils vont a travers les sentiments comme s’ils marchaient sur les fleurs en s’étonnant de les flétrir».
«Надобно иметь воображение, чтобы отгадывать страдания сердца, и самые лучшие люди в свете иногда бывают тяжелы и просты в таких случаях, они проходят, подавляют чувства, как будто наступая на цветы, и удивляются, что они от этого увядают». Чем больше я читаю г-жу Сталь, тем более ее люблю и почитаю и нахожу суждения ее отличнейшими – в особенности, когда она говорит:
«Il у a dans le mariage malheureux une force de douleur qui dépasse toutes les autres peines de ce monde».
«В несчастном супружестве есть такие страдания, которые превосходят всевозможные другие горести в свете».
7-го, 3 часа пополудни.
Сейчас получила неоцененное письмо ваше, мой несравненный ангел; оно имело то же действие, какое все прочие радости и горе знаменуются у меня одинаковым образом.
Я обливаюсь слезами над умиротворяющими строками вашего письма и горячо молю небо ниспослать мне утешение – и когда-нибудь соединить нас с вами. Я вас уже благодарила, мой ангел, и писала вам, что я А. А. заплатила 9 руб. за закладочку, я с вами квит, впрочем, вы бы меня очень обязали, продавая ваши изделия, как другим, для меня это ничего не стоит, а вам для аптеки очень нужно; дружбе ни в чем не должно быть отказа; она очищает все, до чего касается, то, что принадлежит мне, принадлежит и вам. Я бы отдала половину своего достояния, когда б это могло вернуть вам здоровье. Только одно место в вашем письме доставило мне удовольствие, не омраченное печалью, – это то, где вы просите прислать вам разные вещи. Чулки уже заказаны, а материю постараюсь получить из Дерпта, как только будет оказия.
Меня очень сокрушает, что вы говорите о милом моем Поле, мне даже приходит в голову несчастная мысль, что сходство его со мною ему вредит, я наверное знаю, что это причина ненависти Лизиной к нему, его прекрасный открытый нрав заставит фальшиво о нем судить, а фальшивые и лицемерные вечно будут торжествовать.
Что до гувернантки, то она оказалась достаточно политичной и поняла, что при поддержке папеньки всего можно достигнуть, вот они, стакнувшись с Лизой, и добиваются его поощрения. Зачем я не там и не могу защитить и утешить бедненького моего Поля, помогать ему в уроках и оберегать от огорчений бедную маменьку.
Простите мне, если я вам признаюсь, что Лизу люблю гораздо меньше, чем их: можно ли любить тех, кто нас ненавидит, так же, как тех, кто любит нас? Согласитесь, что сие невозможно. Письмо моей бесценной маменьки заставило меня горько плакать, я вообразила, что судьба меня навсегда лишила счастия пользоваться вашими нежными ласками и ваш рай – навсегда для меня потерянный рай. Это ужасная мысль! Никакая философия не в силах заставить к этому быть равнодушной; едва ли мысль о религии и вечной жизни может утешить, но вы сами не хотите, чтобы эта мысль единственно занимала мою душу; а хотите, чтоб я не теряла надежды и в этом свете когда-нибудь пожить.
Теперь буду отвечать на письмо А. Н., но лучше сказать, на милый ваш журнал. Меня огорчает, что вы не хотите, чтоб это был Иммортель. Мне кажется, что любовь ничем не отличается от дружбы, кроме как чувственностью, а вы довольно меня знаете, чтобы понимать, что у меня к нему этого нет, нет совершенно; я люблю его как друга, как нежнейшего из друзей; я бы всю жизнь провела с вами двумя, да еще с доброй моей маменькой, и ничего другого бы не желала. Если бы я освободилась от ненавистных цепей, коими связана с этим человеком! Не могу побороть своего отвращения к нему! Мне кажется, ад был бы мне милее рая, когда бы в раю пришлось быть с ним.
Не пугайтесь, только этих чувств уже ничто и никогда не сможет изменить. Но мне и самой непонятно, почему еще большее отвращение вызывает у меня его племянник, может быть, потому, что я весьма приметлива и вижу, что это самый недалекий, самый тупоумный и самодовольный молодой человек, которого я когда-либо встречала. Обо всем-то он судит, на все-то у него готов ответ, ни с чьим мнением он не считается. Он и понятия не имеет о скромности (которая столь же необходима юноше, как и женщине), и вдобавок у него с языка не сходят самые пошлые выражения. Вот вам его портрет, хоть и не лестный, зато точно нарисованный.
Чтобы поймать меня на удочку, надобно половчее за это браться, а этот человек, сколько бы он ни исхитрялся и ни нежничал, никогда не добьется моей откровенности и только зря потратит силы. Но довольно об этом, столь мало интересном предмете, и, пожалуйста, не будем больше и говорить о нем.
Слава богу, что Иммортель выздоровел, пусть будет здорова и его душа. Вы пишете, что он человек скромный, и полагаете весьма вероятным, что его чувства ко мне остынут и даже вовсе погаснут. Боже, избави от этого! Скажите ему, что мои к нему дружеские чувства кончатся только с жизнью моей, а он свои обязан сохранить ради меня, и этим я долга своего отнюдь не преступаю и всегда буду преклоняться перед его достоинствами и боготворить его душу, прекраснейшую из всех, что существует во вселенной.
Достаточно ли я вам доказала, мой ангел, что моя дружба есть любовь, а любовь значит для меня – дружба? Я надеюсь, что вы мне в этом поверите и дозволите отдаться единственной надежде, которая меня поддерживает.
№ 25
1-го числа, в 7 часов вечера.
Я только что немножко прокатилась в карете, и это принесло мне пользу. Но еще более того – молитва. Проезжая мимо отпертой церкви, я вошла туда. Шла вечерняя служба. Я стала в уголке перед образом нашего спасителя, умирающего на кресте, и горячо молилась, прося небо сохранить мне тех, кого я люблю и… Вы не можете себе вообразить, как эта молитва меня облегчила, святость места, образ умершего на кресте за нас, все это внушает упование и тихое спокойствие. Г-жа Сталь говорит истинную правду, что это прекрасное обыкновение у католиков, что у них во всякое время церкви отворены, бывают минуты в жизни, где так приятно прибегнуть к молитве в уединенном храме!
8 часов.
Я уже сообщала вам о своих надеждах, которые попеременно то успокаивают меня, то внушают тревогу. Муж мне еще прежде говорил, что не прочь был бы поехать за границу. Я полагаю, что по многим причинам это было бы для него наилучшим выходом. Пока нет войны, он вряд ли получит дивизию, если же ему попроситься в отставку, это может прогневить государя. Да и что он может делать помимо военной службы? Всякое другое занятие было бы ему не по вкусу, в делах гражданских он ничего не смыслит, он рожден военным. Так что я только одного бы желала – чтобы никто не стал отговаривать его от этого намерения. Во всяком случае, это лучшее из всего, что он может сделать. Только таким способом он получит дивизию. Он останется за границей до начала войны, и это будет для него какое-то занятие.
Скажу еще раз – вы дурного мнения о моем вкусе, ежели полагаете, будто одни только романы мне по вкусу. Думаю, я доказала вам обратное уже тем, с каким восторгом высказалась о прекрасном литературном сочинении, которое я осмелилась оставить у себя, так же как теми выписками из весьма серьезной книги, красоты которой я умею понять и почувствовать.
Воскресенье, 8-го, в 11 часов.
Вернулась из церкви, обожаемый друг мой, где, по своему обыкновению, горячо молилась за всех тех, кто дорог моему сердцу.
Могу теперь вам сказать, что дочке моей гораздо лучше: она очень была больна после того поноса. Благодаря богу и одному прекрасному здешнему врачу, она уже вне опасности, и я на этот счет спокойна. Лаптев подходил ко мне в церкви осведомиться о ее здоровье, и все те, кто ее знают, принимают ее болезнь близко к сердцу. Все ее любят, и в этом отношении она унаследовала мое счастье. Хотя бы в другом отношении она оказалась счастливее своей матери и судьба ее не походила бы на мою!
2 часа пополудни.
Мне хочется еще раз поговорить с вами о Шиповнике, или Иммортеле, называйте его как хотите; с первым именем я готова расстаться, но уже со вторым – никогда. Я хочу верить, что это крепкая, очень крепкая дружба, и хотела бы ему ее высказать; иначе говоря, если бы мне посчастливилось вновь с ним свидеться, я бы предложила ему относиться ко мне дружески и с доверием и сумела бы и сама отвечать ему тем же. Однако г-жа Сталь говорит еще так: «Les sentiments dans lesquels on n’est pas d’une vérité parfaite font plus de mal que l’indifférence».
«Чувства, не совершенно справедливые, более вредят, нежели равнодушие».
Итак, может быть, не захотели бы принять от меня предлагаемую чистую дружбу, ежели бы в ней скрывались другие чувства, которых нельзя скрыть. Как приятно иметь другом умного, любезного и с познаниями человека. Невежественный друг, как и невежественный возлюбленный, – вещь незавидная. Вот что говорит по этому поводу г-жа Сталь: «L’ignorance dans les hommes oisifs prouve autant la sécheresse de l’âme que la légèreté de l’esprit. Et alors cet homme ne mérite pas de la part d’une femme sensée aucune sorte d’attachement»[22].
Хоть я получила довольно небрежное воспитание, чувство восхищения перед прекрасным, что вложено в меня природой, позволяет мне тотчас же распознать алмаз, будь он даже покрыт самой грубой корой, и мне никогда не пришлось бы краснеть за предмет своей привязанности. Когда способности человека выявляются, так сказать, сами собой, без чьей-либо посторонней поддержки, и он выказывает незаурядность и благовоспитанность, кои суть плод его собственных усилий, – это всегда признак высокой даровитости. Именно таков Иммортель. Благородство и изящество его манер проявляются сами собой, без помощи воспитания, прекрасные свойства его души заметны с первого же взгляда. Стоит ему лишь произнести слово, как сразу угадываешь его ум и те усилия, кои он употребляет, дабы с каждым днем все более обогащать его новыми познаниями. Нет надобности говорить с ним, чтобы узнать его, – достаточно лишь увидеть выражение его глаз, которое то и дело меняется, являя нам верное зеркало прекрасной души его.
«Анна Петровна Керн».
Художник А. Федосеенко
Перечитала только что написанное и нахожу, что это очень напоминает панегирик, хотя мне не к чему писать его для вас, ибо вы не хуже меня знаете и угадываете все его достоинства. Это скорее просто портрет, о котором можно сказать, что он не приукрашен, хоть и не дописан.
В 4 часа.
Собираюсь выйти немного подышать свежим воздухом, но сперва хочу переписать для вас из г-жи Сталь прекрасный отрывок о религии. Он в самом деле великолепен. Я старалась перевести его как можно лучше, чтобы вы могли познакомить с ним и того, кто умеет ценить прекрасное во всем. Вы меня понимаете и, разумеется, дадите ему это прочесть. Хоть перевод и дурен, все же через него можно распознать красоту слога писателя.
Сейчас немножко прокатилась, и хотя не рассеяла снедающей меня грусти, но закружила голову и от этого устала немножко. Кир И. был у меня, теперь я ему сказала все препоручения ваши к нему, и он благодарен. Говорит, что и теперь часто мысленно вас на руках носит. Он очень добрый и честный человек, но теперь я редко имею случай его видеть, принял должность старшего адъютанта и все сидит дома. Он уже давно не имеет писем – вот все, что он мог мне сказать, а оба первых письма я читала. То, что было написано ко мне, я зашила вместе с резедой в кусочек материи и привязала к своему крестику, о чем вам, кажется, писала.
Прощайте, добрый мой ангел, до вечера. А пока буду отдыхать. Когда бы я не для вас писала, мне бы казалось, что пишу слишком много. Но ведь это и для меня тоже. Как подумаю, что это может доставить вам приятную минуту, мне и самой делается приятно. Так что я трачу на это время из благородного эгоизма.
№ 26
Вечером в 7 часов.
Мне пришла в голову странная мысль, не должно бы вам о ней сказывать, но, привыкши все разного разбора мои мысли вам открывать, и эту скажу. Вот она: мне вдруг пришло в голову, что мои письма могут вам наскучить, что вы устаете, их читая, это я вообразила особенно с этой почтой; я вам советую читать с расстановкой и сделать дневку хоть на половине.
Теперь скажите мне, справедлив ли мой страх, ежели мои глупости могут хотя малейший сделать вред драгоценному вашему здоровью, я велю красноречию моему замолчать; и поверьте, мой ангел, что жертва меньше с вами беседовать не трудна будет для меня, если противное может быть для вас вредно. Меня очень утешает, что вы маменьке читаете мой журнал; продолжайте, мой бесценный милый ангел, сообщать ей возможные статьи.
Письма ваши и Анны Николаевны я очень аккуратно получаю, но оставляю их у себя до свидания с ней, которое должно быть скоро, потому что мы недавно узнали, что мать ее родила дочь Марью и, верно, не останется долго в Петербурге, она большая хозяйка и не любит столицу. Впрочем, она так считает себя счастливою, что везде довольна своим состоянием.
Я бы очень рада скорее увидеть Анету, было бы с кем душу отвести.
Теперь у меня слезы навернулись на глаза; ваше письмо лежит развернутое на столике – сколько различных, вместе горестных и приятных чувств оно во мне возбудило; начертание руки вашей, надпись земного, потерянного для меня, рая, – все это производит движения души, превосходящие всякое описание. О, боже мой! Какие бы жертвы я в состоянии сделать, чтобы он соединил меня с вами, все, что я имею, отдала бы с радостью. Лишь тогда достало бы у меня силы следовать стезей добродетелей: ни одна из них не осталась бы чуждою моей душе! Всякий бедняк был бы мне другом, всякий несчастный – братом. Теперь же я только то и делаю, что стенаю под бременем собственных горестей, и у меня нет сил на добрые дела; беда моя подавила во мне все способности, и у меня хватает сил только на то, чтобы говорить о ней с единственным сердечным другом моим, лишь на ее груди ища себе утешения, да лить слезы о том, что мы так ужасно далеко друг от друга.
9 часов.
Только что у меня снова был разговор с мужем, речь шла о его поездке за границу, он решил в сентябре ехать в Петербург, там получить отпуск и в начале весны отправиться. Он заявил мне, что готов, ежели я этого хочу, перейти в армию Ермолова, но уж тогда пусть я имею в виду, что мы с ним навсегда расстанемся, – я бы этому только рада была (ибо для меня невозможно составить его счастье), одно лишь меня удерживает – страх доставить неудовольствие папеньке: я была бы безутешна (даже подле вас), зная, что из-за меня он несчастлив. Что вы посоветуете мне, мой ангел?
Напишите, буду ждать вашего ответа со страстным нетерпением.
Ежели вы полагаете это возможным, напишите, что вы на этот счет думаете.
Положение мое достойно жалости. Прощайте на сегодня. Спросите у Иммортеля, рад ли он будет, ежели скоро увидит меня в ваших местах. Спросите его об этом непременно и перескажите мне его ответ, я не успокоюсь, пока не узнаю его. Доброй вам ночи, пусть спит спокойно весь этот маленький мир дорогих мне существ, коих я люблю больше себя самой.
Понедельник, 9-го, в 10 часов утра.
Только что я успела встать с постели, как мне сказали, что приехал Лаптев, чтобы справиться о моем здоровье. Он очень тревожился о Катеньке, но теперь все уже прошло, и она вне опасности.
Прощайте, мой бесценный ангел, Христос с вами. «Les hommes froids et égoïstes trou vent un plaisir particulier a se moquer des attachements passionnes et voudraient faire passer pour factice tout се qu’ils n’éprouvent pas» (Stael)[23].
Вот точно так же, мой ангел, и все те, кто меня окружает, никогда не способны были судить о силе и природе моей привязанности к вам.
Еще немного о моих делах. Муж твердо мне обещал отвезти меня к вам и там оставить на те месяцы, что он будет на водах – с мая до сентября, – так что ежели только я останусь жива, то все это время буду самым счастливым человеком на свете. Довольны вы, мой ангел? Сдается мне, что эта новость радует вас меньше, нежели меня: или вы не одобряете этого плана? Быть не может. Все, что до меня касается, без сомнения, должно и на вас производить то же действие.
Пора оставить перо, я и так все другие переписки оставила и занимаюсь только журналом. Очень я слабодушна и не умею полезное предпочитать приятному, но зато умею согласить одно с другим – раз это доставляет вам удовольствие, значит, мне это полезно. Однако прощайте. С тех пор как я сюда приехала, я ни разу не писала Надине, не поздравила Анету и еще не ответила на письмо Каролины. Прощайте же, надобно выполнить все обязанности.
Хотела послать Лизе сапожки, но Ермолай Федорович говорит, что дорого на почту, и хотел послать казенным конвертом, но я это отклонила. Пришлось бы это сделать от его имени, а, говорят, нынче это очень опасно, могут распечатать, и тогда у него будут неприятности.
Боже, сохрани от этого. Вы ведь знаете, что над ним висит еще дело по поводу дуэли, которое зависит от Ротта, и так как он отказывается стать презренным орудием его любовницы, тот воспользуется этим предлогом, чтобы насолить ему. Прощайте еще раз. Всякий раз, как я отправляю мой дневник, мне кажется, будто я снова с вами расстаюсь. Да хранят все силы небесные ваше здоровье и спокойствие всех вас. Анета, ваша.
№ 27
Псков, 1820-й. Понедельник, 9-го, в 9 часов вечера.
Не успела опомниться, и опять перо в руках. Я отложила все другие письма до отправления журнала, я его отправила в четыре часа, все отдыхала, а теперь, принявшись за перо, нечаянно попался приготовленный номер под руку. Невольного влечения не в силах удержать, и истинно к несчастью могу сказать: вы ни на минуту не выходите из головы или, лучше сказать, из сердца. Ежели я возьму книгу, то единственно для того, чтобы выбирать эссенцию и сообщать вам лучшие мысли.
Хочу написать вам то, что прочитала сейчас у г-жи де Сталь касательно солнца (вы помните тот маленький спор, который закончился тем, что со мной согласились и воздали должное солнцу): «Quand les ténèbres nous épouvantent ce ne sont pas toujours les périls auxquels Ils nous exposent que nous redoutons, mais c’est la sympathie de la nuit avec tous les genres de privations et de douleurs dont nous sommes pénétrés. Le soleil au contraire, est comme une émanation de la Divinité, comme le messager éclatant d’une prière exaucée: ses rayons descendent sur la terre, non seulement pour guider les travaux de l’homme, mais pour exprimer de l’amour a la nature»[24].
«Его лучи сходят на землю не для того только, чтобы сопутствовать трудам человека, но и чтоб изъяснить любовь Природе».
Не правда ли, что эта мысль божественна? Любите г-жу Сталь! Познакомьте с этой мыслью тех, кто сумеет ее оценить: для этого-то я и перевела последнюю и самую прекрасную фразу. Как дивно это выражено! Кто другой сумел бы столь благородно, столь приятно выразить свой восторг перед этим прекрасным светилом?
Еще небольшой отрывок о Солнце: «Les fleurs se tournent vers la lumière afin de l’асcueillir; elles se reforment pendant la nuit et le matin et le soir elles semblent exhaler en parfums odoriférants leurs hymnes de louange. Quand on élève les fleurs dans d’obscurité, pales, elles no revêtent plus leurs couleurs accoutumées; mais quand on les rend au jour, le soleil réfléchit en elles ses rayons variées comme dans l’arc-en-ciel et l’on dirait qu’il se mire avec orgueil dans la beauté dont Ii les a parées»[25].
Это небольшое описание тоже прелестно, не правда ли? Но пора расстаться с вами; покойной ночи; завтра я расскажу вам, как она оценивает франкмасонство.
10 августа, в 10 часов утра.
Здравствуйте, нежный друг мой! Вот что говорит она о франкмасонстве: «Lessing a écrit sur la franc-maçonnerie un Dialogue ou son génie lumineux se fait éminemment remarquer. Il affirme que cette association a pour but de réunir les hommes, malgré les barrières établies par la société; car si sous quelques rapports l’état social forme un lien entre les hommes en les soumettant a l’empire des lois Il les sépare par les différences de rang et de gouvernement. Cette fraternité, véritable Image de l’âge d’or a été mêlée dans la franc-maçonnerie a beaucoup d’autres Idées qui sont aussi bonnes et morales. On ne saurait se dissimuler cependant qu’il est dans la nature des association secrètes de porter les esprits vers l’indépendance; mais ces associations sont aussi très favorables au développement des lumières, car tout ce que les hommes font par eux-mêmes et spontanément donne a leur jugement plus de force et d’étendue»[26].
Я всегда считала эту секту очень полезной: по крайней мере, человек в ней близок к природе, поскольку люди видят друг в друге братьев; и (между нами говоря) я думаю, что когда бы все мы были масонами, то были бы гораздо счастливее.
В 9 часов.
Г-жа Сталь еще говорит, что: «L’enthousiasme est de tous les sentiments celui qui donne le plus de bonheur, le seul qui en donne véritablement, le seul qui sache nous faire supporter la destinée humaine dans toutes les situations ou le sort nous place»[27].
Совершенно с ней в этом согласна, потому что сама это испытала. «La nature peut-elle être sentie par les hommes sans enthousiasme? Ont-il pu lui parler de leurs froids Intérêts, de leurs misérables devoirs? Que répondraient la mer et les étoiles aux vanités étroites de chaque homme pour chaque jour? Mais si notre âme est émue, si elle cherche un Dieu dans l’Univers, si même elle veut encore de la gloire et de l’amour, Il у a des nuages qui lui parlent, des torrents qui se laissent Interroger et le vent dans la bruyère semble daigner nous dire quelque chose de ce qu’on aime»[28].
Она всегда соединяет любовь со всем изящным и великим! «Quelle magie le langage de l’amour n’emprunte-t-il pas a la pensée et des beaux arts! Qu’il est beau d’aimer par le cœur et par la pensée! De varier ainsi de mille manières un sentiment qu’un seul mot peut exprimer, mais pour lequel toutes les paroles du monde ne sont encore que misère! De se pénétrer des chefs d’œuvre de l’imagination qui relèvent tout de l’amour, et de trouver dans les merveilles de la nature et du génie quelques expressions de plus pour révèles son propre cœur»[29].
Я кончила читать г-жу Сталь, и теперь у меня нет больше ничего прекрасного. Если бы это не стоило так дорого, я доставила бы себе удовольствие и послала вам эту книгу почтой, чтобы вы могли ее прочесть. Однако скажите все же, хотели бы вы этого? Тогда я вам ее пришлю, как только у меня будут деньги: ибо сознаюсь вам, этот праздник, который мы дали бог знает зачем, обошелся нам около тысячи рублей. Сначала я думала, что это будет танцевальный вечер и можно будет обойтись одним чаем, а пришлось подавать и шампанское, и всевозможные фрукты, и разных сортов мороженое, словом, всего ушло очень много. Магденко удивляется не кстати расточительности. Всем распоряжался племянник, а меня заранее предупредили, что я ничему не должна противиться.
Теперь же я никуда не выезжаю, да и, признаться вам (хоть я уверена, что будете сердиться), не хочется на людей глядеть, от всех удовольствий мира отказалась бы сейчас, только бы избавиться от такой жизни. Виновата! Без ужасу не могу вспомнить жестокости, с которой вы изгнали меня из вашего раю! Вы отравили дни мои горестью, я не имею ни минуты покою, ужасная мысль грызет мою душу, что несчастный увидит свет с ненавистью своей матери! Ежели бы и была возможность к вам теперь ехать, то я не решусь родителям показаться в моем положении; всякий прочитает мои чувства на лице моем, а я бы желала скрыть их от самой себя.
Вы знаете, что это не легкомыслие и не каприз; я вам и прежде говорила, что я не хочу иметь детей, для меня ужасна была мысль не любить их и теперь еще ужасна.
«Послеполуденное чтение».
Художник Ф. Туссен. 1910-е гг.
«Стремление нравиться ставит в зависимость от мнения; стремление быть любимым от него освобождает».
(Жермена де Сталь)
Вы также знаете, что сначала я очень хотела иметь дитя, и потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она не довольно велика. Но этого все небесные силы не заставят меня полюбить: по несчастью, я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии, это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими усилиями не в состоянии от оного избавиться.
Это исповедь! Простите меня, мой ангел.
№ 28
1820. 10 августа, вечером, в половине одиннадцатого.
Итак, вы сами видите, ничто уже не может помочь мне в моей беде. Господь прогневался на меня, и я осуждена вновь стать матерью, не испытывая при этом ни радости, ни материнских чувств. Мой удел на сей земле – одни лишь страдания. Я ищу прибежище в молитве, я покорно предаю себя воле божьей, но слезы мои все льются и нет рядом благодетельной руки, что осушила бы их, нет подле меня моего друга-утешителя, который заставил бы иссякнуть их источник или принял меня в лоно свое.
Простите меня, я понимаю, что огорчаю вас. Берегите свое здоровье – этим вы убережете жизнь мою: она в ваших руках. Никого нет на свете, кроме маменьки, кого бы я больше вас любила. Совестно признаваться в этом, но это правда: даже моя дочка не так дорога мне, как вы. И мне нисколько этого не стыдно; ведь сердцу не прикажешь, но все же я должна вам это сказать: будь это дитя от …, оно бы мне дороже было собственной жизни, и теперешнее мое состояние доставляло бы мне неземную радость, когда бы… но до радости мне далеко – в моем сердце ад, повторяю это. Тут не каприз: чувство это непреодолимо, хотя и приводит меня в отчаяние.
Спокойной ночи, мой ангел, и не думайте дурно о вашей Анете.
11 августа, в полдень.
Здравствуйте, мой нежный друг. Нынешним утром мне пришло сразу три приглашения: первое – в Дерпт, на свадьбу одного майора нашего полка; второе – на несколько балов кряду у Магденки в Острове, на 20-е число; а третье – на крестины одного младенца с его величеством императором Александром. Приняла я только последнее: душе моей так чужды сейчас всякие развлечения. Балы для меня самая безразличная вещь на свете, скорей даже неприятная. Предвижу, что все военные станут приставать ко мне с уговорами, особенно губернатор и Лаптев, но я решила твердо стоять на своем; и потом у меня ведь есть оправдание – нездоровье дочки.
Погода прехолодная и предождливая, чему я очень рада. Когда на сердце весело, тогда приятно и на светлое солнце смотреть, а когда на сердце ненастно, то и в вёдро дождь идет. Молю бога, чтобы у вас была всегда хорошая погода, совершенное у всех здоровье, спокойствие душевное и милое воспоминание о той, которая вами только дышит. Я не знаю, почему мне вздумалось сделать вам странный, может быть, вопрос, на который требую от вас непременно скорого и решительного ответа. Скажите мне, довольны ли вы будете, то есть папенька, маменька и все семейство, видеть меня у вас на будущую весну и на долгое, может быть, время? Вам это покажется странно, но я чувствую, что, конечно, не вас и не маменьку, а других мое присутствие может тяготить. Как вы думаете? К сожалению, должна признаться, что только в ваших и маменькиных чувствах совершенно уверена, а это очень тяжело – быть в тягость близким людям, вы, верно, со мной в этом согласитесь. Я уже сказывала вам, что Ермолай Федорович обещался оставить меня, когда поедет за границу, может случиться, что я год у вас пробуду. Ежели, боже сохрани, моим присутствием я кому-нибудь буду в тягость, я этого не перенесу, и потому, мой ангел, я спрашиваю вашего совету и прошу вас отвечать мне откровенно, не судя только по своему сердцу; ежели бы только от него зависело, то я наперед знаю его ответ.
Прочитайте маменьке эти строки и сообщите мне ее мысли. Конечно, я уже не буду та, как прежде, не буду занимать вас моею веселостью, а надоедать вам моею грустью; мне, может быть, прибавится обязанность, и тяжелая обязанность, без любви ужасно тяжелая. Пишите ко мне чаще, ради самого неба, недавно виденный сон подал мысль: ежели вы имеете особенное что-нибудь сказать, то пишите на имя Кира Ивановича, второй пакет вручить не замедля в собственные руки; ежели вы находите это удобным, то это очень легко, и я верно буду получать ваши письма, ежели нет, то я потерплю, делайте, как вы находите лучшим, я всегда с вами согласна.
В 11 часов вечера.
Доброй вам ночи, ангел мой, спите спокойно. Сегодня я написала к Каролине по тому адресу, который она сообщает, – в Могилев на Днестре. Мне от души жаль эту бедную женщину – и все же я невольно думаю, что судьба ее в тысячу раз счастливее моей. Теперь она снова увидит своих родителей; она пишет еще, что приедет в Лубны, а я снова потеряю эту возможность ее увидеть. Наша с Каролиной судьба напоминает мне мысли г-жи Сталь касательно любви в браке: «C’est dans le mariage que la sensibilité est un devoir. Dans toute autre relation la vertu peut suffire; mais dans celle ou les destinées sont entrelacées, ou la même Impulsion sert pour ainsi dire aux battements de deux cœurs Il semble qu’une affection profonde est presqu’un lien nécessaire»[30].
Кто после этого решится утверждать, будто счастье в супружестве возможно и без глубокой привязанности к своему избраннику? Одни только бесчувственные, холодные, глупые женщины, кои от рождения обречены никогда не узнать, как сладостно любить и быть любимой, могут в подобном положении не чувствовать себя безмерно несчастными. А если говорить обо мне, до коей косвенно касаются все эти споры, то вы хорошо знаете, что я отнюдь не принадлежу к их числу; вам известна моя душа – пылкая и любящая до самой крайней степени. Уж не знаю, к счастью или несчастью создал ее такою бог, должно быть, к вечному моему несчастью – и, однако, я не променяла бы ее на другую. Страдания мои ужасны, но зато мне ведомы и божественные радости. Неоценимо счастье, которое испытала я, живя у вас. Я плавала в море блаженства; а между тем всякая другая спокойно пользовалась бы всем этим, не подозревая, что это, быть может, самое великое счастье на земле. По крайней мере, я в своей восторженности рассматривала это так.
Прощайте, утешительница моя. Спите спокойно. Пусть приснится вам та, кто так счастлива бывает, только когда видит вас во сне.
№ 29
12 августа, 1 час пополудни.
Кир И. сейчас был у меня; я так всегда рада его видеть, и Катенька также, мы вместе вспоминаем наше счастливое пребывание в земном раю.
Вот мое состояние:
«Lutter seule contre le sort, s’avancer vers le Cercueil sans qu’un ami vous soutienne, sans qu’un ami vous regrette, c’est un Isolement dont les déserts de l’Arabie ne donnent qu’une faible Idée; et quand tout le trésor de vos jeunes années a été donne en vain… Il vous semble qu’on vous a prive des dons de Dieu sur la terre» (Stael)[31].
Меня лишили самых прекрасных даров божьих, а я должна терпеть и не роптать.
В 4 часа.
День сегодня прекрасный, солнце чудесное – но это только усугубляет мои страдания – все мне вспоминается милый сердцу край. Воображение рисует мне вас, нежный друг мой, в прелестном голубом чепчике, я вижу, как вы гуляете по нашему чудесному саду, а может быть, рядом с вами еще кто-то? И я стараюсь угадать, о чем вы говорите. Не слишком ли это большая самонадеянность – думать, что обо мне?
В 6 часов.
Я только что проехалась в карете. Видела добрейшего Кира Ивановича, сидевшего у своего окна. Он тоже был несказанно рад, увидев меня. Стоило мне завидеть в окне форму их полка, как сердце мое забилось. Когда наконец узрею я того, кто красит ее собою – для меня и всех тех, кто способен оценить истинное достоинство? Пусть будет он счастлив, так счастлив, как я ему того желаю и как он того заслуживает! Мне кажется, что папенька так и не узнал о маленькой прогулке, которую он тайно совершил, чтобы проводить меня. Вы не можете себе представить, как отчетливо воспоминание о той ночи или, вернее, о том утре запечатлелось в моем мозгу, особенно то мгновение, когда карета подъехала к почте, где, я знала, он должен был ждать, а он минутку замешкался, и я испугалась, что его нет! Никогда не сумею описать вам то сладкое чувство, которое испытала я при виде его. Ни одно любовное свидание не может быть столь чарующим. Это мгновение счастья, я смотрела на него с чувством блаженства, я любила его, не испытывая угрызений совести, да и теперь никакие угрызения совести не отравляют моей привязанности к нему.
В 10 часов, после ужина.
Покойной вам ночи, дорогой друг мой. Хоть мне и нечего вам сказать, все же беру перо – по привычке, ибо никогда не ложусь, прежде чем не выполню своей обязанности пожелать вам приятного сна, по крайней мере мысленно, раз уж я так несчастна, что лишена этого в действительности.
Сегодня я плакала горькими слезами, вспоминая последнее свое прощание с вами, мой ангел. Мне велели обмануть вас, а у меня не хватило на это ни сил, ни мужества. Душа моя хранит воспоминание о последних ваших объятиях. Скорей бы дождаться того часа, когда вновь наслажусь ими и смогу назвать себя вашей счастливою Анетой. А до тех пор жалейте меня и молитесь за меня. Приятного сна вам, ангел мой, друг мой, а также…
13-го в 11 часов утра.
Добрый день, нежный мой друг, как вы себя нынче утром чувствуете? Я только что закончила писать к тетушке Анете и думаю о том, какая разница между нею и вами, между добровольным дружеством и доверенностью вынужденной. На ее примере сразу видишь, как справедлива пословица, что для счастливого отсутствующий всегда неправ.
В 2 часа.
Легко давать советы, когда не способен сочувствовать чужому горю. Хорошо счастливым рассуждать, а несчастный должен молчать, да и не имел бы сил столько, чтобы возвысить голос.
Пока прощаюсь с вами, иду обедать, больше для порядка, нежели с голоду. Мне ничего не хочется, совсем пропал аппетит. Все эти последние дни я ем только постное и буду поститься до 15-го, может, господь сжалится надо мной.
Вечером, в половине 7-го.
Только что ездила кататься с дорогим супругом. Сначала лошади чуть было не опрокинули карету, чему в душе я очень обрадовалась, в надежде, что это может повлечь за собой благодетельный исход, но нет, мы не вывалились. Когда мы проезжали мимо церкви, супруг милостиво разрешил мне в нее войти. Там, в уголочке, я прочла свою обычную краткую молитву, после чего мы продолжали прогулку. Она отнюдь не была приятной, не был приятным и наш разговор, но все же это лучше, чем быть вынужденной появляться в обществе, где всякий втихомолку судит нас и осуждает. Желания у меня теперь, как видите, самые скромные – я хочу даже уже не счастливой, а спокойной жизни – жизни в безвестности и уединении. И более всего уповаю я на будущий май, когда должны осуществиться самые заветные мои желания. Мне нужно спросить вас еще об одном: как вы полагаете, не перестанет он меня любить? Это очень глупый вопрос, но он невольно смущает мою мысль, ибо, говоря по правде, я не представляю себе большего несчастья, чем потеря его привязанности. Если бы по приезде я вдруг нашла перемену даже в одном его обращении со мной, это было бы для меня большим горем. Не то чтобы я хотела выказывать ему любовь свою (непозволительную с точки зрения этого противного долга), но мне хотелось бы навечно сохранить это сладостное право читать в его глазах, иногда дозволяя и ему читать в моих. Постарайтесь выведать у него, мой ангел, как он относится к этому обстоятельству. В том, что я вам предлагаю, нет ничего предосудительного, напротив, это согласуется с велениями самой строгой нравственности и деликатности, иначе, зная вас и ваше сердце, никогда бы не стала о том просить. Дело ведь только в том, что надобно понять, как он встретит меня в случае, если я возвращусь в Лубны. Обрадуется ли он этому известию? Вы это скажите нечаянно, чтоб видеть, какие действия произведут слова ваши. Вы знаете, как нетрудно читать в глазах его все движения прекрасной, благородной души. Не отказывайте в этом утешении вашей Анете, напишите, что вы об этом думаете и что он вам ответит. Вы меня довольно знаете, праведный мой друг, чтобы быть уверенной, что я не способна на женскую слабость, и для меня не может быть выше блаженства, чем любовь невинная, без угрызений совести.
Завтра суббота. Для меня это день праздничный, потому что я наверное получу от вас письма, а может быть, и какие-нибудь известия через Кира Ивановича об Иммортеле. Я не могу придумать, почему вы то имя больше любите, нежели это? Неужели от неуверенности в продолжении, – горицвет – капля крови. Я вам, кажется, сказывала, отчего я нахожу, что Иммортель самое приличное имя: потому что однажды он сказал мне то слово, прощаясь со мной, и потом, уходя, повторил его очень выразительно, как выразительно все, что он говорит. А потом я все надеялась на милосердие божие, на то, что не всегда он будет для меня Шиповником, а, быть может, когда-нибудь станет Тимьяном рядом с Царицею Лугов, вот потому я и решила, что нужно такое имя, которое прошло бы через все обстоятельства и могло бы подойти ему во всякое время.
Прощайте, мой ангел, покидаю вас: пришли гости, полковник; во вторник я буду крестить и, кажется, с Лаптевым. Какой приятный кум! Прощайте, мой ангел, прижимаю вас к сердцу, вся ваша мысленно.
№ 30
В 8 часов вечера.
Как бы мне хотелось получить ответ на свой вопрос! Уж такая я нетерпеливая, это один из больших моих пороков.
В 10 часов вечера, после ужина.
Сейчас была у П. Керна, в его комнате. Не знаю для чего, но муж во что бы то ни стало хочет, чтобы я ходила туда, когда тот ложится спать. Чаще я от этого уклоняюсь, но иной раз он тащит меня туда чуть ли не силой. А этот молодой человек, как я вам о том уже сказывала, не отличается ни робостью, ни скромностью; вместо того чтобы почувствовать себя неловко, он ведет себя, как второй Нарцисс, и воображает, что нужно быть по меньшей мере из льда, чтобы не влюбиться в него, узрев в столь приятной позе. Муж заставил меня сесть подле его постели и стал с нами обоими шутить, все спрашивал меня, что, мол, не правда ли, какое у его племянника красивое лицо. Признаюсь вам, я просто теряюсь и придумать не могу, что все это значит и как понять такое странное поведение. Помню, однажды я спросила племянника, неужели его дядюшка к нему ни капельки не ревнует, и тот мне ответил, что он не смеет ревновать, он, мол, виноват перед ним, сделав несчастье всего его семейства, что ежели бы даже у него и были причины ревновать, он не стал бы этого показывать. Признаюсь вам, что я боюсь слишком дурно говорить о муже, но некоторые свойства его отнюдь не делают ему чести. Ежели человек способен делать оскорбительные предположения насчет своего тестя и собственной жены, то он, конечно, способен позволить племяннику волочиться за ней, дабы возместить ему утрату матери. Я, конечно, могу поверить, что тот, кому из-за каких-то пустяков могут прийти подобные подозрения, и сам на такое способен. Вот каков человек, к которому вы так несправедливо, вернее, так жестокосердно меня отослали. Заикнись я только обо всем этом папеньке, который всегда так строг насчет чести, он бы позволил мне остаться. Но у меня, кажется, никогда недостало бы смелости заговорить с ним об этом.
Прощайте, мой нежный друг. И все же я рассчитываю, ежели доберусь только до вас, ни за что более с вами не разлучаться. Мне отвратительно жить с человеком столь низких, столь гнусных мыслей. Носить его имя – и то уже достаточное бремя. Прощайте еще раз. Молитесь за вашу Анету.
14 августа, в 10 часов утра.
Слава богу, милый друг мой, сейчас только получила ваше письмо! Благодарю небо за то, что вам стало лучше. Известие это возвращает меня к жизни.
Ваши прогулки и беседы с Полем безмерно меня радуют. Отдавайте ему всегда самую лучшую грушу в память о том времени, счастливом времени, когда я отдавала ему самую лучшую ягодку земляники и чувствовала себя в тысячу раз счастливее, чем если бы съела ее сама.
«Гостиная в доме Олениных в Приютине».
Художник Ф. Солнцев. 1834 г.
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. (А. Пушкин. «К***». 1825 г.)Сейчас я пишу к вам и пью чай из чашки, которая сделалась мне дорога, потому что в последнее расставанье из нее пил обожаемый Поль. Я теперь никогда не пью чая из другой чашки и всегда ношу то ожерелье, что мы вместе нанизывали, сидя на балконе.
Как я рада, что вы едете к обедне, может случиться, что наши молитвы в одно время будут воссылаемы ко всевышнему и тогда авось будут услышаны.
Насчет А. А. скажу вам, что я очень рада, что от нее отделались; надобно ей отдать справедливость, никуда не годится; уверила меня, что вам заплатила за пояски, увезла мою хорошенькую лорнетку и оборочки, почти из глаз моих старые, все прочее я по записке приняла. Желтое шелковое платье выпросила у меня в день отъезда, а я не умела отказать и отдала. Она не имеет ни стыда, ни совести и точно то есть, что я об ней заключила. За Катенькой теперь ходит Катерина, и я ей очень довольна. Вы мне писали, что имеете прекрасные узоры, так для пелеринки я полагаюсь на ваш вкус, или попросите папеньку, чтоб он для меня выбрал, приятнее будет носить. Хороших и модных узоров я постараюсь для вас достать, мой ангел. Я с вами согласна, что почта вещь неоцененная, и молюсь о царстве небесном тому смертному, который первый это изобрел.
Как мне грустно, мой ангел, что мы не в состоянии теперь никак выкупить бриллианты, а как скоро будут деньги, то я упрошу мужа, чтоб он послал и после непременно их продал. На что они мне? Я намерена и фермуар продать.
Сказать ли вам, мой ангел? Маменька меня огорчила сегодняшним письмом, она никогда так не начинала (друзья мои Ермолай Федорович и Анна Петровна), но прежде – друг мой Анетушка. Скажите ей, чтоб она ко мне так не писала, я даже папенькиным была довольна. Попросите мою родную маменьку, чтоб она меня (Анной Петровной) не огорчала, а называла бы всегда Анетушкой. Она, верно, это сделала от рассеянности, а для несчастной и такая малость много значит.
Папенькиным и вашим письмам более всех довольна. Лизе не верю о грусти ее, что меня нету, я ее очень узнала и знаю, что, может быть, она даже рада моему отъезду. Очень жаль, что она так фальшива и может говорить против своих чувств; это, однако ж, послужит к ее счастью, в нынешнем свете всего более надобно скрывать истинные чувства и показывать ложные – чего я совсем не умею сделать. Оставляю перо, чтобы купать Катеньку, обнимаю вас, мой ангел, Христос с вами. Это последнее слово, какое я сказала Полю. Дай бог вам здоровья, что расчетливость не заставляет вас реже писать, а меня никогда не заставит прекратить мой журнал, разве сил недостанет.
№ 31
14 августа, утром, в половине 12-го.
Как обрадовало и утешило меня сегодняшнее письмо ваше, мой ангел, бог услышал хотя одну мою молитву, подкрепил вас, слава богу, что вы уже выезжать можете. Это мне подает надежду на совершенное ваше выздоровление. Вы мне ничего не пишете насчет вашей мамзели, а папенька, кажется, ею недоволен. Что бы это значило? Ежели она не будет полезна, то не очень приятно платить такую ужасную цену при тесных обстоятельствах и таком расстроенном состоянии.
Вечером в половине девятого.
Поль мне пишет, что получил хорошенький перочинный ножик и цепочку. Как он добр, что доставляет удовольствие моему любимому братику. Поблагодарите его за это тысячу раз – не забудьте.
Сейчас взглянула на свою штору и вспомнила, что вы еще не знаете ее сюжету. Он состоит в огромной башне на берегу большой реки или озера, осеняемой с правой стороны большим деревом, а влево видна большая дорога, вероятно, ведущая в Лубны, по крайней мере, мое воображение так представляет. По эту сторону, то есть на противоположном берегу, стоят два егеря, один с ружьем, а другой с трубой, они не в егерских мундирах, но в охотничьих платьях.
Сегодня у меня обедала гостья, молодая вдова, г-жа Фигнер, и после обеда мы вместе с ней катались; она мне признавалась насчет тяжелого характеру ее невестки, бывшей Муравьевой; она только что месяц как к ним приехала, и не знают, дождутся ли ее отъезда, так наскучила. Не довольно иметь блестящее воспитание и хорошую наружность, чтобы нравиться и быть любимой! Хороший нрав и доброе сердце более всего привлекают к себе.
Я сегодня целое после обеда проплакала, это почти всякий день со мной случается, не исключая тех праздничных для меня дней, когда я имею счастье получить от вас грамотку. Так тяжело видеть себя одну, как в пустыне, не имея, к кому голову приклонить. Я никак не считаю себя счастливее несчастных, невинно заключенных в темницу; они имеют отраду в надежде быть когда-нибудь освобождены, а я… может быть, осуждена вечно страдать! Скажите мне хотя один раз о роде ваших разговоров на счет мой, предложите ему быть моим Йориком, я с радостью буду его Элоизой – хотя по чувствам, если не по достоинству. Вы мне ничего не отвечаете? Какие вы жестокие! Виновата, мой ангел, я брежу, извините беспорядок моих мыслей, я не приготовленное вам пишу, а все вдруг, что приходит в голову, да иначе бы недостало сил столько бумаги марать.
Иногда я воображаю с удовольствием, когда придут счастливые времена, то есть я буду с вами вместе, непременно будем читать этот нескладный, но справедливый и пространный журнал. Хорошо, если тогда он заставит нас посмеяться.
Напишите мне, пожалуйста, что делают цветы, которые мы с Пашей садили возле балкона; они, верно, не принялись и теперь, может быть, совсем завяли, да я и не знаю ведь, какого они роду, верно резеда. Я уверена, что настоящий хозяин имеет о них попечение, и если они живы, не позволит завянуть резеде.
Как ненавистны мне люди ограниченного ума и при этом еще самонадеянные, а ведь это счастливейшие люди на свете, потому что они воображают, будто стоят гораздо больше, нежели стоят на самом деле. Мой драгоценный супруг, например, вбил себе в голову, будто все заняты его особой и будто он невесть какое важное лицо для России и для армии. Вот теперь он совершенно уверен, что Ротт будет ходатайствовать перед императором, чтобы ему дали 15-ю дивизию, и он уже заранее ломает себе голову, как он будет выходить из затруднений, кои это за собой повлечет. А я голову готова дать на отсечение, что этого никогда не случится, но если бы случилось, несчастнее меня не было бы на свете, несмотря на то что я имела бы тогда счастье вас видеть и быть подле вас. Но мне пришлось бы тогда страдать не только за себя, но и за всех вас от неприятностей, кои он без конца стал бы учинять; не говоря о том, что при муже у меня совсем другое расположение духа, ибо приходится всякое слово взвешивать, на каждом шагу остерегаться; да и как можно быть веселой и любезной, когда каждую минуту видишь перед собой виновника всех своих несчастий? Для всех, кто знал меня прежде, перемена была бы столь разительна, что это причинило бы вред моей репутации, и, вероятно, я стала бы предметом язвительных насмешек Ротта и Юшкова; уж они бы тогда меня не пощадили, а это огорчило бы и вас, и моих родителей не меньше, чем меня. Но этого не будет, это вернее верного. Ротт не станет обращаться с этим к императору, а его величество (между нами говоря), пока нет войны, не будет торопиться исполнить обещание, данное знаменитому г-ну Керну.
Посылаю вам, мой ангел, ту песенку, которую я вам часто пела; слова очень хорошенькие, и вам, верно, будет приятно ее иметь.
10 часов, после ужина.
Сейчас у меня был спор с уважаемым племянничком, и я решила с сегодняшнего дня больше ничего никогда ему не говорить, кроме «здравствуйте» и «прощайте», потому что заговори я с ним хоть о погоде, он все равно станет мне возражать, а я устала спорить с дураком; ему охота шутить, а он даже понятия не имеет, что такое приличная шутка. Нынче вечером, за столом, он говорил такой вздор, что будь при этом кто-нибудь здравомыслящий, он бы только руками развел при виде разумного человека в одной компании с этими дураками.
Нечего сказать, тяжелая жизнь моя со всех сторон. Хотя бы от одного избавиться, а то двоих уж слишком много для слабого моего здоровья.
Не могу равнодушно видеть дурака, который мечтает о себе, что он восьмое чудо света, и кричит поминутно обо всем свое мнение, наотрез говорит и считает всех глупее себя.
Что может быть путного от молодого человека восемнадцати лет; не имея ни скромности, ни ума, ни познаний, ни учтивости, ни любезности, нимало не сумневается во всех этих достоинствах до крайней степени.
№ 32
14 августа, вечером, в половине 11-го, после ужина.
Спокойной ночи, мой ангел. Начинаю этот номер только для того, чтобы пожелать вам приятного сна и всех тех благ жизни, которых недостает вашей Анете, а именно здоровья, счастия и спокойствия. Пусть всегда будут они уделом моего дорогого и единственного друга, а мне пусть останется хоть утешение, что я могу быть спокойна за него. Прощайте, мой ангел, до свидания.
Я завтра буду у обедни в соборе. Приезжайте тоже туда. Завтра большой праздник, авось и для меня будет праздник, то есть если я что-нибудь узнаю при посредстве Кира И. Прощайте, мое блаженство. Спокойной ночи, счастливых сновидений. До свидания.
15-го, в половине 5-го.
Я сегодня была у праздника, у обедни, видела там Кира И., который мне сообщил, что вчерашняя почта была для него так же счастлива, как и для меня. Жду его теперь с величайшим нетерпением: хоть я и знаю уже, что отдельно для меня там ничего нет, но уверена, что есть что-нибудь обо мне, а это все-таки какое-то утешение. Боже мой, как мало мне иной раз нужно, чтобы почувствовать радость.
Я сегодня слышала довольно хорошую проповедь, где он говорил, что смерть есть лучший советник в благополучии и самый сладкий утешитель в несчастии. Это справедливо, хотя я о последнем могу только судить.
Представьте себе, что мой любезный супруг непременно желает, чтобы я поехала на бал к Магденке, хотя я и сама почти что больна, и дочка еще очень слаба, и ее нельзя везти с собой; так он предлагает оставить ее дома, на попечении двух служанок. Не правда ли, прекрасный план? Уже по одному этому можно судить, что даже дочку свою он не любит, потому что готов рисковать ее жизнью только затем, чтобы не стали говорить, будто он не хочет меня пускать на этот бал.
Я сделаю все возможное, чтобы остаться, но не знаю, что мне делать, если он воспользуется своей властью и велит мне ехать. Зачем вас нету здесь со мною, вы дали бы мне совет. Я не знаю, куда голову приклонить. А теперь советы ваши придут уже слишком поздно. Почему ему не поехать одному? Не так глуп Магденко, чтобы обижаться на то, что ради его бала я не бросаю больного ребенка.
Сегодня я обедала одна, вернее, хуже, чем одна, – с этим идиотом племянником и нашим адъютантом, о котором, если вы хотите его знать, может порассказать вам г-жа [неразб.].
Теперь жду Кира И., которого, ежели хотите, будем называть Желтой Настурцией.
Действительно, праздник я провела довольно приятно. Впрочем, все дни проходят у меня приятно и однообразно – один похож на другой.
После вчерашнего, когда дорогому племяннику вздумалось наговорить мне столько глупостей, а его дядюшка на это и слова не сказал, будто его тут и не было, я совершенно откровенно на него дуюсь и с ним не разговариваю. Можно иметь дело с теми, кто понимает приличия, а раз мой дорогой супруг может равнодушно слушать, как мне говорят глупости, мне самой надобно защищаться. После того как ему не удалось уверить меня, что он в меня влюблен, он перечит мне на каждом слове, да так дерзко и неучтиво, что этого невозможно вынести. Я уверена, что ни к какому другому племяннику муж не стал бы проявлять столько снисходительности, но этот делает из него (и желал бы сделать и из меня) все, что ему вздумается. Дом наш превратился в какой-то кабак: свечи никогда не гасятся, ни ночью, ни днем, чтобы было от чего прикуривать трубки; словом, я здесь будто гостья, а он, если судить по его заносчивому тону, тут всему хозяин. Всего несколько дней, как он перестал давать советы, потому что увидел, что я им не следую. Я уже потеряла терпение, ожидая Желтую Настурцию, и если он не придет до того, как вернется …, я не смогу узнать о письме, которое он получил, и стану мучиться этой неизвестностью: ведь после ваших писем это большая моя отрада. И как он ни скромен и как ни владеет собой, я понимаю всякое его слово и весь интерес, который он ко мне проявляет. О, если другой удастся понравиться ему, тогда для меня все кончено: я на всю жизнь отказываюсь от любви.
Половина девятого.
Он приходил и передал мне его. Я поехала в карете, нарочно, чтобы свободно его прочитать. За мной следят, так что я шагу не могу ступить, чтобы не вызвать самых оскорбительных подозрений! Право, нет больше моего терпения. Вот уже несколько дней, как он обращается со мной грубо, словно с горничной: курит себе трубку с утра до вечера, обнимается со своим племянничком, а со мной разговаривает с высоты своего величия.
Я отказываюсь от всех благ на свете, дайте мне уединенный угол только, чтоб я об нем не слышала и не видела! Своим поведением он доведет меня до крайности. Можете сказать об этом даже папеньке, я согласна. Я так несчастна, не могу больше выдержать. После того как в мои годы я от всего отказалась ради своей репутации (уж конечно, не ради него), обращаться со мною подобным образом, – я этого не заслуживаю. Господь, видно, не благословил нашего союза и, конечно, не пожелает моей гибели, а ведь при такой жизни, как моя, я непременно погибну. Как это можно – не дать ни одной счастливой минутки, доставлять одни только огорчения той, которая ради его спокойствия (во всяком случае, он-то должен так думать) сидит запершись в четырех стенах. И о таком человеке говорят: «Это очень порядочный человек, очень хороший человек!». Так уж ведется на свете! Достойный остается в тени, невежда торжествует. Кто придет мне на помощь, мне, всеми покинутой? Дитя мое не может меня утешить, и я в отчаянии, что оно постоянно видит меня с глазами, полными слез.
Вот по какой причине он так настаивал, чтобы я ехала к Магденке: он вообразил, будто мне весьма удобно будет остаться одной, когда он уедет. К кому же теперь он ревнует меня? Кому оказывает эту честь? Ведь я ни одной живой души не вижу. Не иначе как к Желтой Настурции, – о, несчастный! В этом он может быть спокоен. Я слишком самолюбива и чувствительна, чтобы могла когда-нибудь полюбить своего почтенного супруга, но я слишком уважаю себя, чтобы унизиться до интрижки.
№ 33
В половине 10-го, 15-го числа
На этот раз вы, верно, испугаетесь величины пакета, семь полных нумеров; но не утешительных. Что же делать, мой бесценный ангел; я этому не виновата вовсе. Я была бы очень счастлива иметь что-нибудь хорошенькое вам сказать, но увы! Надобно было бы лгать, а я не умею.
У меня к вам еще одна просьба. Утешьте моего любезного друга: он очень расстроен, пишет, что не получил еще от Желтой Настурции ни одного письма, а посылает ему уже третье. Пишет об ярмарке, о красавицах, но прибавляет: милых нет. У него новая печатка: слова «дружба» и «любовь», а между ними две руки. Он умоляет, не называя моего имени, сообщить ему известия обо мне. Как мне жаль его! Ради бога, успокойте его, дайте ему прочитать несколько отрывков из моих писем, это доставит ему удовольствие. Он почти болен, – исцелите его, мой ангел. Это будет милосердным делом во имя человечества. Возвратите, если это возможно, спокойствие прекрасной этой душе. В этом не будет ничего предосудительного, и это будет благодеяние, достойное вашего сердца.
Я только что взглянула на себя в зеркало и – поверите ли – почти испугалась, так скверно я выгляжу. Какая разница с тем, какой я была у вас! Мой румянец, моя свежесть, здоровый, счастливый вид, – все исчезло. Побледневшие щеки, круги под глазами, постоянно полными слез, слишком ясно свидетельствуют о состоянии души моей. Горячая молитва да вы, коей я поверяю свои страдания, – вот единственное утешение, оставшееся мне на сей земле. И еще бываю счастлива, когда меня оставляют в покое в моем углу.
Забыла вам сказать, попросите папеньку, бога ради, чтобы он не заботился с обещанной нам каретой, можно ли с его расстроенным состоянием дарить такую дорогую вещь. Он же одну мне подарил, я, право, довольна. Продажею такой кареты он может заплатить кой-какие долги, и это мне тысячу раз будет приятнее новой модной кареты. Ежели бы этим подарком он мог сделать меня счастливою, то я бы от него не отказалась. Но вы знаете, мой ангел, может ли какая-нибудь карета меня утешить. Ежели бы и в самом деле такая вещь могла принесть мне удовольствие, я бы с радостью им пожертвовала спокойствию моих родителей, которое не может быть устроено с такою кучею долгов.
11 часов, после ужина.
Нужно признаться, чудесный образ жизни я веду! В доме я словно пятое колесо у колесницы: меня уже не ждут с обедом, без меня садятся за стол; и хоть бы, по крайней мере, извинились, так нет, такие учтивости не про нас писаны. В самом деле, странная вещь получается. Втерся в дом, живет в нем хозяином, на всем готовом, и не только не стесняется и не считается с хозяйкой дома, но не оказывает ей даже простого уважения, словно ее и не существует. Только Керн способен на такую наглость! Просто в себя не могу прийти.
Анна Керн.
Рисунок А. Пушкина. 1829 г.
«Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его… Вы скажете: „А огласка, а скандал?“ Черт возьми! Когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит…»
(Из письма А. Пушкина к А. Керн)
Прощайте, мой добрый ангел, спите спокойно, пусть никакие заботы не потревожат вас, мой добрый, мой ласковый друг. Впрочем, ящик Пандоры уже раскрылся над моей головой, так что все напасти, все горести и печали сыплются на меня, и я уже не боюсь, что они посмеют долететь до вас. Прощайте. Пусть божье благословение снизойдет на вас и отгонит от вас все, что сколько-нибудь напоминает мои страдания. Обнимите за меня добрую и нежную мою маменьку и передайте Иммортелю, что я желаю ему счастия.
16-го, в 10 часов утра.
Здравствуйте, мой ангел! Поздравьте меня: сегодняшней ночью счастливее меня не было во всей вселенной. Какой дивный сон! Все силы небесные, соединясь, чтобы меня осчастливить, не могли бы так успеть. Ах, мой ангел, разделите мое восхищение. Какой божественный сон! Но вы еще ничего не знаете, а слушаете только бестолковые восклицания мои. Так знайте же, всю эту ночь мне снился он, то есть мой Иммортель! Я видела его нежным, заботливым, он всюду следовал за мной, словно тень моя! Я плавала в море блаженства и удела своего не променяла бы ни на какое царство. Никогда еще я не видела сна, который бы столь похож был на явь. Обычно все сновидения мелькают, словно тени, сегодня же напротив: я явственно слышала его голос, я держала руку его в своей. О, сладостный мираж! Одного этого было бы достаточно, чтобы разум мой помутился, но нет, я все ясно понимала (и это тоже был сон). Видела я, будто просыпаюсь на своей постели, а подле постели стоит он, скрестив на груди руки, и смотрит на меня; лицо его огненными чертами запечатлелось в душе моей: он бледен и худ, он долго говорил со мной, взял мою руку, крепко прижал, поцеловал и скрылся тихими шагами; тогда я совершенно проснулась и благодарила творца моего за такой сон. Чувствуете ли вы мой восторг? Ах, мой ангел, в жизни моей не видала такого явственного сна! Ежели б это была истина! Но я не достойна такого благополучия. Это мечта, посланная небом для утешения в моих горестях. Я думаю, если бы он об этом узнал, ему было бы приятно. О, боже мой, как я его люблю! Простите меня, мой ангел, я пишу глупости; но если бы вы только знали, как много во мне жасмина. Только сегодня я почувствовала, как его люблю. Еще раз простите меня, мой нежный друг, пожалейте меня. Прощайте, моя родная, Христос с вами, поцелуйте за меня папеньку, скажите ему, что я очень его люблю. Пора оставить перо, этого вам, верно, будет на месяц читать. Еще раз прошу вас попросить папеньку, чтоб он не беспокоился дарить мне карету, это ни на что не похоже с его расстроенным состоянием, да скажите моей доброй маменьке, чтоб она не огорчала меня Анной Петровной. Я уж и без того достаточно несчастна. Прощайте, мой ангел. Целую вас 156 589 655 676 раз, а люблю в тысячу раз больше, нежели это можно выразить на всех языках мира.
Прощайте. Посылаю вам романс. Быть может, вам он понравится. Завтра крестины и бал. Лаптев будет крестить со мною. Прощайте еще раз. Я уже не прошу вас, чтобы вы всегда любили меня, прошу лишь быть ко мне снисходительной.
Сделайте милость, вышейте мне крестнику шапочку, нетрудную, хорошенькую; пожалуйста, мой ангел, полегче узор.
№ 34
Псков. 1820. 16 августа, в половине 6-го
Сейчас была у меня гостья пренесносная, сидела очень долго и рассказывала прескучную историю, в которую она несчастливо замешана с католическим ксендзом, насчет неблагочиния, сделанного в церкви; натурально, что она себя оправдывала; не меньше того меня удивило, что она нимало не кажется этим огорчена и шутит, что ее имя будет известно государю.
Я ее проводила и хочу рассеять мысли, немного прокатиться, голова болит; сегодня рассталась с журналом, который теперь на дороге к вам, и я как будто опять осталась сиротою, до субботы и до будущего понедельника, потому что минута отправки оного мне почти столько же приносит удовольствия, сколько получение ваших строк; я воображаю удовольствие, которое он вам принесет, и это меня утешает.
Сегодня мне пришлось довольно изрядно поспорить с моим почтенным супругом по поводу его высокочтимого племянника. Так как у них один и тот же характер, дядюшка просто души не чает в этом прелестном дитяти, и, по его мнению, во всем виновата я. Но тут я сказала ему, что не желаю быть пустым местом в его доме, что ежели он позволяет своему племяннику ни во что меня не ставить, так я не желаю тут долее оставаться и найду себе убежище у своих родителей. Он мне ответил, что его этим не испугаешь и что, ежели мне угодно, я могу уезжать, куда хочу. Но мои слова все же подействовали, и он сделался очень смирен и ласков. Тем не менее я решила, что останусь у своего отца в первый же раз, как к нему поеду. Постараюсь сделать это так, чтобы папенька не догадался, не хочу его огорчать, но ежели он спросит, я ничего скрывать от него не стану, и тогда, надеюсь, все будет кончено. Что мне щадить его после того, как все вокруг ему милее, чем я, даже кучер и его противная жена? Никому не убедить меня, что он меня любит, никому на свете. Я знаю, как ведут себя, когда любят.
10 часов вечера, после ужина.
Мой драгоценный супруг еще раз говорил со мной о своем племяннике. А я перво-наперво доказала ему, что виновата не я, а он, потом сказала, что, уже конечно, не я сделаю первый шаг. Тот ко мне не подходит, не желает мне ни доброго утра, ни спокойной ночи, так что, полагаю, это я должна быть на него в обиде, и клянусь, что и шага не сделаю к примирению. Вы довольно меня знаете, чтобы судить, люблю ли я ссориться и злое ли у меня сердце. Могу сказать, не хвалясь, что нет человека, с коим я не могла бы ужиться. Ежели кто характером со мной не схож, по мне, лучше относиться друг к другу с полным равнодушием. Вот и тут так же. Так ведь нет, этому господину хотелось во что бы то ни стало сделаться моим другом, чтобы во всем меня наставлять, а в дружестве приказывать нельзя. Душа у меня нежная, но я разборчива даже в выборе друзей, а из опыта я знаю, как опасно дарить свое доверие каждому. Человеку бездушному я никогда не доверюсь. Вот потому-то этот господин, разозленный моею холодностью, и решил все говорить мне наперекор и на каждом шагу чинить мне тысячу неприятностей.
Но довольно о сем неприятном предмете, поговорим о другом. Сон мой не выходит у меня из головы, воспоминание производит содрогание, и слезы навертываются на глазах. Прелестная мечта, что ежели сновидение произвело такое влияние на чувства мои, что бы сделала сущность? О, я думаю, я не пережила б такого блаженства.
Зачем нет у меня такого дара слова, чтобы я могла передать вам все, что я испытываю? Мой язык слишком беден, перо мое отказывается это выразить. И я замечаю, что двадцать раз принимаюсь писать одно и то же, все боюсь, что вы недостаточно поймете. Зачем я не с вами? Я перелила бы в ваше сердце все чувства, что волнуют мое.
Покойной ночи, мой ангел. Желаю вам, чтобы сны ваши доставляли вам половину того наслаждения, какое сегодняшний мой сон принес мне. Конечно, нынешнюю ночь я уже не испытаю такого счастья, как в прошедшую. Ежели это случится, то боюсь…
Да хранит бог вас, и меня тоже.
Августа 17-го утром в половине девятого.
Добрый день, вот вам новость: мой драгоценный супруг назначен дивизионным командиром 2-й дивизии. Бог знает, где эта дивизия, как узнаю, сообщу вам. Я не очень этому радуюсь, потому что для меня всюду будет одно и то же. Что меня огорчает, так это то, что уж тогда мне нельзя будет читать прекрасные письма Иммортеля и Желтой Настурции. А вы так мало сообщаете мне о моем Иммортеле. Хоть он очень сдержан и никогда не называет моего имени, но я знаю, кто у него в мыслях, и это уже утешение. Я и сегодня видела его во сне и… но это был только сон в сравнении с тем; тот был совсем похож на явь. Это незабвенный сон!
№ 35
17 августа, в 9 часов утра.
Приказ этот дан его величеством в Воронеже. Сейчас мне сказали, что дивизия эта стоит под Могилевом; это совсем неподалеку от вас, но, не знаю почему, это меня не радует. Я стараюсь понять, почему же. Я бы радовалась, если бы беременность не делала мне жизнь невыносимой. Ведь если бы не это, я тотчас же приехала к вам; теперь же, если я приеду, для вас это будет не удовольствием, а мучением.
Может быть, я окажусь совсем близко от доброй Дарьи Петровны, и это уже будет мне утешением. Напишите, какое впечатление произведет на вас эта новость. Покидаю вас, чтобы немного приготовить к вечеру свой туалет, потому что как раз сегодня я буду крестить, а после будет танцевальный вечер. На мне будет синее платье такой волнистой материи, называется муаровая, отделка простая из такого же атласа; на голове ничего, а на шее цепочка и часы. С тех пор как у меня на кресте висит драгоценный талисман, я выдумала, когда для бала мне должно бы скинуть с шеи шнурок, то чтоб с ним ни на минуту не расставаться, я просто его кладу за платье, а возвращаясь, опять надеваю.
Я сейчас перечитала последнее письмо Иммортеля к Желтой Настурции. Как я жалею его, что нет у него никакого утешения. Он пишет: я сердит без сердца. А это сердце принадлежит мне! Как я счастлива! И как достойна жалости. Но вот доказательство, что принципы у меня хорошие: я чувствую, что истинно счастливой была бы, только если бы могла любить его законно, иначе даже счастье быть с ним было бы для меня счастьем лишь наполовину.
В половине двенадцатого.
Все являлись поздравить моего дорогого супруга, и он сейчас мне сказал, что в дивизию мы поедем к 1 сентября, а оттуда он отправится в Петербург. А я, если вы мне позволите, приеду к вам.
За богом молитва не пропадет, а за царем – служба. Я думала, что со мной ничего уже счастливого случиться не может, и потому сначала, эта весть не принесла мне ни малейшего удовольствия; а теперь, обдумавши, вижу, что в сентябре я смогу вас обнять, и эта мысль приводит меня в трепет от восхищения: рука дрожит, насилу пишу; скажу теперь, как Сен-Пре: «Боже, ты дал мне силы перенести величайшие горести, дай теперь столько, чтобы вынести величайшее блаженство!». Итак, я вас увижу опять, вот толкование чудесного сна. Как бог милостив до меня, грешной, он услышал мои стенания, внял жарчайшим пламенным молитвам моим и, конечно, продлит дни мои до счастливой минуты нашего соединения.
Оставляю перо, слишком расстроена, не могу писать, поеду немножко прокатиться. Сердце бьется сильно, очень сильно. Боже всемогущий, благодарю тебя, стократ благодарю.
В час пополудни.
Сейчас ездила кататься, думала зайти в церковь и там благодарить бога, но все заперты, и я возвратилась. Был у меня Желтая Настурция. Он хороший человек, и мне его жалко: он так несчастлив. Я всегда буду помнить об его услугах. К нему дурно относится Лаптев, а мой драгоценный супруг не умеет быть благодарным; и потом – разве к лицу генералу испытывать благодарность к своему подчиненному, бедному офицеру. Мне так жаль этого бедняжку. Сегодня он мне признавался, что ему почти жить не на что. Душевно бы желала ему помочь, да не знаю как. Если бы мой драгоценный супруг больше бы считался с моим мнением, я просила бы у него взять его с собой адъютантом, но он, конечно, никогда этого не сделает. Я думаю, он скорей не расстанется со своим, хоть это и тупица, но зато приятель его возлюбленного племянника.
В три часа пополудни.
Квартировать мы будем в Старом Быхове. Кажется, это в настоящее время местопребывание тетушки Дарьи Петровны, и, может быть, приехав туда, я увижу ее вновь здоровой и уже готовой ехать в Лубны. Очень буду рада ехать вместе с нею и доставить вам двойное удовольствие.
18-го, в 11 часов утра.
Вчера были крестины. Потом были танцы. К вечеру пришло письмо от Магденки, в котором он настоятельно просит меня приехать к нему на бал. Уже решено было, что я не поеду. Губернаторша страшно удивилась, когда я ей сказала, что не я это решаю. Она сказала, что брачный союз должен зиждиться на дружбе, а не на подчинении. Я это тоже превосходно знаю, только, к несчастью, у меня все обстоит иначе. После ужина она говорила обо мне с моим драгоценным супругом, который почел нужным выказать весь свой прелестный характер, сказавши, что будет так, как хочет он. В карете он принялся орать как зарезанный, что, мол, никто на свете не убедит его, что я остаюсь ради ребенка; он-де знает настоящую причину, и ежели я не поеду, то он тоже останется. Я не хотела унижаться и не оправдывалась. Ежели после всего, что я сделала, он так дурно обо мне думает и со мной обращается, как с крепостной, мне невозможно далее оставаться с ним, не желаю я, чтобы обо мне говорили, будто я бросила больного ребенка и помчалась на бал. Достаточно и без того он позорит меня своей очаровательной манерой себя вести, я гораздо меньше буду рисковать своей репутацией, ежели стану жить отдельно. В самом деле, с тех пор как здесь этот племянник, я просто мученица. И еще он сказал мне вчера в карете, что если я хочу, то могу уезжать, ему это совершенно безразлично.
Во имя самого неба, прошу вас теперь, поговорите с папенькой; я в точности выполняла все папенькины советы насчет его ревности, но скажите ему, пусть не думает, будто его можно переубедить. Только Ершов, или Петр Мартынович, или его любезный племянничек еще могут похвалиться, что он их слушает благосклонно, да еще Аннушка – только они еще могут притязать на близкие с ним отношения. Ежели родной отец не заступится за меня, у кого же искать мне тогда защиты? Ради бога, вступитесь за меня перед ним. Строки эти я обливаю слезами. Доколе буду я их лить?
Уже полдень, а я все еще его не видела.
№ 36
18-го числа в полдень.
Сейчас принесли мне холстинку и шерсть, которую я выписывала из Дерпта для вас, жаль мне очень, мой ангел, что холстинка не такого цвету, как вы желали, но она очень тонка и хороша, другого цвета не нашли; я постараюсь еще выписать и ту сама, привезу, шерсть тоже посылаю, но она не очень хороша. Посылаю Лизе на именины модный платочек, который прошу вас ей вручить от меня душевно, чтобы понравился.
У меня большое желание самой написать папеньке и просить его защитить меня, только не знаю, одобрите ли вы это. Впрочем, можете показать ему в моем дневнике те места, какие сочтете подходящими. Поверьте мне, не могу дольше терпеть. Простой солдат и то более уважительно относился бы к своей жене. Он должен был бы иметь ко мне жалость хотя бы из-за моей несчастной беременности, но ведь это бездушное существо, у него каменное сердце.
Сейчас они там обедают, а я осталась с вами, чтобы излить вам свои горести. Нет, мне решительно невозможно переносить далее подобную жизнь, жребий брошен. Да и в таком жалком состоянии, всю жизнь утопая в слезах, я и своему ребенку никакой пользы принести не могу. Я все выносила, пока мне приходилось терпеть только от него, но теперь это уже чересчур. Я прекрасно вижу, откуда все это идет. Вы представьте себе, он посмел сказать моей горничной, что будь у него такая жена, он бы бил ее палкой и сослал в монастырь. И еще он ей сказал, что я-то, конечно, отправлюсь к своим родителям, но Катенька останется. Понимаете всю эту дерзость и наглость? Он ведь знает, что эти слова будут мне переданы. И я вынуждена это выносить, и все это будет дозволяться ему и впредь.
Теперь умоляю вас, расскажите обо всем папеньке и умолите его сжалиться надо мной во имя неба, во имя всего, что ему дорого. Маменьке об этом говорить не нужно; и так она слишком рано про то узнает.
Ради бога, не очень огорчайтесь, мой ангел; если это повредит вашему драгоценному здоровью, я буду самым несчастным человеком на свете.
В 6 часов вечера.
Не стану ждать до понедельника, а пошлю вам этот дневник послезавтра, то есть в пятницу. Представьте себе ужасное мое положение: все это время я пролежала, даже пошевелиться не могла от слабости и расстройства, не обедала, все только плакала, а он со мной даже словечка не сказал, никакого не выразил беспокойства, и ведь нет у него иной причины сердиться, кроме той, что мне тошно ехать на этот бал. Можете вы вообразить себе мои страдания, мой ангел? Вы ведь знаете мое сердце, оно не выносит одиночества, а этакое положение еще в тысячу раз тяжелее, клянусь вам.
«Пушкин в Тригорском».
Художник Д. Белюкин.
Ты богоматерь, нет сомненья, Не та, которая красой Пленила только дух святой, Мила ты всем без исключенья; Не та, которая Христа Родила, не спросясь супруга. Есть бог другой земного круга — Ему послушна красота, Он бог Парни, Тибулла, Мура, Им мучусь, им утешен я. Он весь в тебя – ты мать Амура, Ты богородица моя. (А. Пушкин. «К***». 1826 г.)Вчера губернаторша рассказывала мне об одной из своих сестер, как та была помолвлена, но она за нее жениху отказала. Она так сказала: «Когда я увидела, что она сделалась с ним очень холодна и что он до чрезвычайности ревнив, я, не говоря ни слова ни отцу, ни мужу своему, ни ей самой, взяла да и отказала ему, потому что поняла, что она с ним счастливой быть не сможет». А я про себя подумала: «Зачем не было у меня такой вот доброй сестры, которая предотвратила бы вечное мое несчастье?». Много было людей, которым угодно было устроить этот брак, но не нашлось ни одной души, которая не допустила бы его, а именно это должно было сделать, видя мое к нему отвращение.
Но довольно об этом. Мне совершенно ясно, что далее так продолжаться не может, не то вам скоро придется услышать что-нибудь ужасное. А этот племянник – боже мой, я голоса его не могу слышать без содрогания. О, если бы папенька мог сейчас видеть, как я страдаю, он пришел бы мне на помощь, я в этом уверена. Его сердце облилось бы кровью, видя мои страдания. Федор И. – пустяки в сравнении с ним. Когда человек холоден, потому что таков его характер, это еще можно перенести, но когда холодность происходит от злобы, от презрения к тебе и сопровождается самыми оскорбительными подозрениями! Это убийственно! Его поведение сделало его для меня столь отвратительным, что я рада была бы бежать куда угодно, только бы ничего не слышать о нем, он мне стал невыносим. Вот сейчас он приходил, целый час плевался у меня в комнате и ушел, не сказав ни единого слова.
Нет, не могу я больше его выносить. Этот человек посмел мне нынче сказать, будто я назначаю свидания в церквях, а он, мол, так деликатен и великодушен, что никому не позволяет худо обо мне говорить. Люди, которые знают его характер, нарочно, чтобы его позлить, говорят ему обо мне гадости, а он их слушает. Ради бога, ежели хотите увидеть меня еще живой, скорей пришлите мне позволение приехать к вам!
Они там сейчас ужинают, а я вот уже целый день как ничего не ела. Но я не голодна – слезами насытилась. Представьте себе, этот дорогой племянничек говорит, что-де дядюшка его до женитьбы был прекрасным человеком и что мне следовало бы о нем заботиться, ведь он-то все время заботится обо мне. Я спросила, что же он такое для меня делает, так племянник со свойственной ему глупостью ответил, что он-де покупает мне всякие вещи, а я их всем раздариваю. На это я ему сказала, что он сам не знает, о чем говорит, что не в этом состоит забота, и просила его не говорить больше о том, чего он не понимает. Слыханное ли дело – мужу подсчитывать, какие вещи он купил жене! Эти люди никакого понятия не имеют о благородных поступках, о деликатности. Этот племянник лишь приблизил час нашего разрыва, давно уже неизбежного. В самом деле, невозможно это долее терпеть.
19-го утром.
Здравствуйте, мой нежный друг, мой ангел-хранитель. Как вам спалось? В добром ли вы здравии? Вчера к вечеру я совсем расхворалась, но, благодарение богу, теперь мне полегчало. Это было оттого, что я целый день ничего не ела.
На днях мы посылаем адъютанта в мою деревню за деньгами на дорогу. Прощайте, мой ангел, я устала, очень устала. Прощайте.
№ 37
Августа 19-го, в 10 часов утра.
Я, право же, не знаю, что делать. Меня во что бы то ни стало хотят заставить ехать на этот бал, и мне не с кем посоветоваться. Между тем собственный разум говорит мне, что ежели я стану безропотно переносить подобные подозрения, тем самым я докажу, что я их заслуживаю. Это предел жестокости, со мной обращаются самым возмутительным образом и после этого хотят, чтобы я веселилась и появлялась на людях. Это неслыханно!
Я собираюсь ему заявить, что на этот раз исполню его желание и поеду, но после всех этих недостойных подозрений пусть и он исполнит мое и разрешит мне прямо отсюда отправиться в Лубны.
Прощайте, мой ангел, плачу и еду, но получила слово, что мне позволят ехать домой, хотя несколько времени отдохну, если нельзя будет надеяться на дальнее спокойствие. Прощайте, мой бесценный ангел, должна оставить перо; извините, что шерсти мало посылаю, сколько достала. Христос с вами, мои родные, помолитесь за меня, грешную, ваши праведные молитвы скорей дойдут к престолу всевышнего творца нашего.
В скором времени после получения сего вы, может быть, увидите вашу Анету в объятиях ваших. Примете ли вы меня по-прежнему? Мысль эта меня тревожит. Неужели может меня постигнуть и это несчастие? Боже избави и сохрани, этого уже я не перенесу; но нет, вы знаете мое сердце, мои чувства вам известны, они достойны вашей привязанности и любви и вечно, вопреки всем бедам, пребудут одинаковы. Прощайте еще раз, до свидания, мой ангел-хранитель, покровитель и утешитель. Прощайте все, что для меня есть дороже в свете. Христос с вами! и со мной также. После получения сего письма уже во Псков не адресуйте ваши письма, а в Старый Быхов. Я и там недолго пробуду. Еще раз до свидания. Вечно ваша Анета.
№ 38
1820. Псков. 24 августа, в 10 часов утра.
Я хочу и дальше писать свой дневник – до тех пор, пока не буду подле вас и он уже будет не нужен. Нынче наш адъютант отправляется за деньгами к тетушке Анете. Он может быть обратно не ранее как через десять дней, а до тех пор мы не уедем. В этом промедлении виноват все тот же любезный племянник. Он собирается по пути заехать к г-же Тормасовой, но перед этим хотел еще быть на бале у Магденки. Малейшие его прихоти – закон, а мне, бедной, приходится запастись терпением.
Мой дорогой супруг посылает своей племяннице мои красивые часики, и хоть мне их и жалко, но я отдала их, даже не показав своего огорчения; не хочу, чтобы он думал, будто подобные вещи способны меня расстроить. Но такие поступки [неразб.].
Мне кажется, мой дорогой супруг намерен посадить себе на шею двух особ, нисколько не заботясь, приятно мне это или нет. Я думаю, вы еще помните, как он, будучи со мной помолвленным, лил слезы, вспоминая ту женщину. А мои родители, видя, что он даже в тот момент, когда женится на их дочери, не может позабыть свою любовницу, позволили этому совершиться, и я была принесена в жертву. Ведь могли же они видеть, что любовь его ко мне не столь уже велика, раз он оплакивает другую. Роковое ослепление!
Снова берусь за перо, дорогой мой друг. Как хотела бы быть уже подле вас, чтобы спрашивать ваших советов и откровенно разговаривать с вами.
Мы уже готовимся к отъезду, и это немного придает мне сил, потому что я уверена, что, после того как прибудут деньги, устройство всех дел займет не больше дня.
10 часов вечера.
Только что был у меня Желтая Настурция. Он едет в Митаву, и я ему дала поручение привезти оттуда чулок, коими поделюсь с вами, мой ангел. Еще я написала одному посреднику насчет бонны для Катеньки – немки или англичанки.
Прощайте, нежный друг мой, доброй ночи, спите хорошо и, главное, спокойнее, чем ваша Анета.
25-го, в 11 часов утра.
Здравствуйте, мой ангел, каково вам спалось? Я спала хорошо, насколько это для меня возможно. Считаю часы и минуты, которые мне осталось провести вдалеке от вас, радость моя единственная.
У меня до вас просьба, мой ангел. Велите приготовить для меня маленькую комнату, что рядом с вашей. Здесь я никого не обеспокою и буду чувствовать себя всего приятнее. Уже одно то, что вы днем и ночью будете рядом со мной, способно усладить печальное мое существование. Ежели боитесь, что там сыро, прикажите поставить железную печку – их ведь много у папеньки. Я уверена, что это не будет для него беспокойством.
Впрочем, весьма вероятно, что я приеду прежде, чем до вас дойдут эти строки. Для меня то было бы большим счастьем.
Только что ушли от нас гости – бывший мой обожатель, дивизионный адъютант, который в Риге женился. Он старший адъютант. Это человек неглупый, потому что, к счастью, я никогда не нравилась дуракам.
Хочу идти в лавки, чтоб купить чего-нибудь для дорожного капота, это меня утешает. Забыла вам сказать, что Магденко подарил меня прекрасным мылом, духами и перчатками. Так рад был меня видеть, что все на свете хотел отдать, выпросил у мужа позволение подарить мне шелковых чулок с узорами и будет нас провожать до Орши.
В 10 часов вечера.
Я получила очень хорошие книги, французские – «Надгробные речи» Флешье и «Новую Элоизу», а еще «Сентиментальное путешествие» Стерна, тоже по-французски. Хоть они у меня есть и по-русски, но снова их перечитываю. Я в восторге, что у меня есть «Новая Элоиза», там есть места в самом деле восхитительные, которые в русском переводе совершенно пропали. Некоторые из них перепишу для вас завтра, ежели буду чувствовать себя получше. А то сегодня мне весь день так было плохо, что я не могла этим заняться.
Итак, до завтра. Сегодня я поехала проводить мужа до дома одного купца, он ездил в его баню. Добрые купчихи, увидевши меня, стали меня умолять, чтобы я на минуточку зашла в дом; невозможно было отказать им. Я провела там целый час одна, чуть не умерла со скуки, потому что хозяйки только то и делали, что подавали и убирали всякую всячину и нельзя было отказаться; но я нисколько не раскаиваюсь, потому что это доставило мне случай заказать им снетки самого лучшего качества, чтобы отвезти маменьке. Я приказала их высушить, перебрать и посолить как можно чище. Мне так сладко заниматься чем-нибудь, что до вас относится.
Хочу еще написать к Каролине, чтобы она, если сможет, осенью приехала в Лубны со мной повидаться. Мне хочется приуготовить себе всякого рода удовольствий, чтобы хоть как-то вознаградить себя за горести, кои я испытала и не перестаю испытывать ежечасно. Что бы там ни говорили, но я но себе знаю, что чувствительное сердце никогда покоя не имеет и не так просто его удовольствовать. Вы это знаете, мой ангел, лучше, чем кто-нибудь другой, вы не раз мне за это выговаривали, между тем как я видела, что вы не можете со мной не соглашаться и в глубине души меня оправдываете.
Прощайте же. Как видите, моя привязанность к вам сильнее моей усталости, ибо я забываю о ней, когда к вам пишу, и не замечаю, как перо выпадает из моих рук и что надобно отдохнуть. Еще раз прощайте. Если бы мои предчувствия осуществились и мы в самом деле могли бы вместе читать эти строки! Желаю вам спокойствия, прелестный друг мой. Ваша навечно Анета.
Да хранит его господь.
№ 39
26 августа, в 1 час пополудни.
Здравствуйте, нежный мой друг. Время идет, и все ближе и ближе счастливая минута, когда я смогу вас обнять. Не знаю, отчего меня мучит какой-то страх. Воображение рисует страшные картины. Это уже не то сладостное видение, о коем я недавно писала вам. Я уже не могу, уже не смею представить его себе таким нежным, каким бы желала вновь увидеть. Не знаю почему, но он теперь видится мне очень холодным, очень серьезным и более далеким, чем когда-либо. Мысль об этом сокрушает меня и тревожит невыразимо. Как бы хотела я, чтобы рядом был кто-нибудь, кто бы разуверил меня, кто бы меня приободрил. Я сама стараюсь побороть свои сомнения. Но они обычно одерживают верх, и я снова предаюсь им.
Вот небольшой отрывок о любви: «О que les Illusions de 1’amour sont aimables! Ses flatteries sont en un sens des vérités; le jugement se tait, mais le cœur parle. L’amant qui loue en nous les perfections que nous n’avons pas, les voit en effet telles qu’il les représente. Il ne ment point en disant des mensonges. Il blatte sans s’avilir et l’on peut au moins l’estimer sans le croire»[32].
Это очень верно, ведь я хотя и не верю всему тому, что он написал мне в альбом, но верю, что писал он это от чистого сердца. Он сам обманывался, ибо любовь слепа, но вовсе не хочет обмануть, в этом я присягнуть готова. Вот по этому и узнается истинная любовь.
В 6 часов вечера.
Я теперь читаю «Новую Элоизу» и нахожу, что книга эта достойна того, чтобы ее читали все те, кто восторгается прекрасным, но непременно по-французски. Самое большое ее достоинство, на мой взгляд, в красоте слога и выборе выражений. В ней столько прекрасных мест, что я не в состоянии все их переписать, а между тем мне бы хотелось, чтобы вы разделили мой восторг, как разделяете все самые сокровеннейшие мои мысли, – одним словом, я хотела бы читать эту книгу вместе с вами. Мне очень досадно, что я не смогу ее привезти – она чужая, а купить я хочу что-нибудь более полезное. Мне обещали «Гений христианства» и «Характеры» Лабрюйера, и у меня уже есть русские трагедии г. Озерова. Они превосходные и смогут заинтересовать еще кое-кого. Мы перечитаем вместе моего сладостного Стерна, мое сокровище; не подумайте, что у меня плохой вкус (в отношении книг); вы, надеюсь, уверены в противном; но чтобы в этом убедиться, возьмите в папенькиной библиотеке «Литературную смесь» Сюара, третий том, и прочитайте на странице 111-й «Письмо женщины» о «Сентиментальном путешествии» Стерна, и уж тогда держу пари, что вы не станете более сомневаться в моем вкусе, по крайней мере в отношении книг.
В 10 часов вечера.
Спокойной вам ночи, мой ангел. Хоть Руссо и говорит: «La patience est amère mais le fruit en est doux»[33], но я скорее согласна с г-жой де Севинье в том, что: «Les longues espérances usent la joie»[34]. Я все терпение потеряла, ожидая счастливой минуты выезда нашего отсюда. Почивайте покойно, мой бесценный ангел. Христос с вами. А.
27 августа, в 4 часа вечера.
Я продолжаю читать «Новую Элоизу»; восхищаюсь слогом, но очень многие места мне не нравятся; об этом мы поговорим вместе. Спокойной ночи, ангел мой, я до того слаба, что не в силах далее вам писать. Завтра счастливый день – суббота. Пусть и на этот раз улыбнется мне счастье и я, как обычно, увижу дорогие очертания вашего почерка.
Я немножко проглядела «Сентиментальное путешествие» по-французски и, представьте себе, русский перевод нахожу приятнее; не знаю, красота ли перевода или прелестные замечания, кои придают очарование всей книге, только, на мой взгляд, по-русски она написана гораздо лучше, нежели по-французски. Вы знаете, что ведь вполне возможно, чтобы перевод был лучше подлинного сочинения, и доказательство тому «Мой друг, хранитель-ангел мой!», который в тысячу раз лучше, чем «Je t’aime tant»[35].
Прощайте, мой ангел, мое все. Да будет спокоен ваш сон, да не омрачат его никакие горести и заботы.
28 августа, 9 часов утра.
Сейчас получила письмо ваше, ангел мой, проклятая почта! Клянусь небом и всем, что для меня дороже в мире, что наверно не пропускала, можно ли мне это сделать, когда у меня только и занятия, что с вами беседовать, считать дни и минуты от прихода почты до отправления писем; нет, она неисправна и меня несколько раз огорчала, бог с нею, теперь она мне не нужна; только я намерена вам доказать, мой ангел, когда я буду с вами вместе, кто из нас больше писал, все ваши письма у меня в сохранении, я знаю, что и мои также. Тогда не трудно будет судить. Прощайте, мой ангел, вы удивитесь, как я мало теперь пишу. Одна-единственная мысль заглушает все прочие, а более всего расхолаживает меня уверенность, что я буду у вас раньше, чем этот дневник. Я нынче ездила с визитом к одной даме, здесь неподалеку, и провела очень приятных два часа. Я видела их искренние сожаления со мною расстаться и пользовалась приятным удовольствием видеть себя истинно любимой этими добрыми людьми; это чувство услаждает и в горестях; жалкий человек, кто им не пользуется и не умеет ценить опыт.
Христос с вами, мой ангел, вы из мыслей у меня не выходите ни на минуту. Ваша Анета.
Вечером 29-го, в 8 часов.
Я сегодня была у обедни, молилась за вас и за скорое соединение с вами; впрочем, день провела по обыкновению, то есть очень скучно и к тому же грустно. Что может быть горестнее моего положения – не иметь около себя ни души, с кем бы могла излить свое сердце, поговорить и вместе поплакать. Несчастное творение я. Сам всемогущий, кажется, не внемлет моим молитвам и слезам. К умножению моих печалей, вы ничего не отвечаете на мои письма, и я не знаю, найду ли я подле вас отраду в удовольствии вашем меня видеть? Я уже вам сказывала, что я не сомневаюсь в собственной особе вашей, но желала бы, чтобы папенька и маменька столько имели удовольствия меня видеть, сколько я почитаю блаженством быть у них, и хотя этим бы вознаградили меня за все претерпенные горести в разлуке с ними.
Александр Васильевич Марков-Виноградский – второй и любимый муж Анны Керн
№ 40
1820, Псков, 29-го, вечером, в половине девятого.
Маменька со своим чувствительным сердцем очень может судить о мучительном моем положении, пусть только вспомнит свое состояние, когда она оставляла своих родителей. С нежно любимым мужем, с милыми детьми, в цветущем состоянии, что способствовало ежеминутно делать жизнь ее спокойною и приятною, а тут ей сопутствовал всегда кто-нибудь из родных ее. Возьмите теперь противоположность моего состояния, с таким же чувствительным сердцем, обремененным всеми возможными горестями, должна проводить дни мои, оставлена всею природою, с тем человеком, который никогда не может получить моей привязанности, ни даже уважения. Он обещал мне отпустить меня к вам, по усиленным просьбам моим, вскоре по приезде в Старый Быхов, теперь опять отговаривается и хочет, чтобы я пробыла там до отъезда его в Петербург, что не прежде будет, как в конце октября; ему нужды нет, что я буду делать во время его разъездов одна, с ребенком, в этом несчастном городе и как потом я в холод и колоть поеду в октябре; но я настою, чтобы ехать, как прежде сказано, и ежели он эгоист, то я вдвое имею право быть оной, хоть для тех, которым моя жизнь и благосостояние еще дороги.
Впрочем, это последнее время совершенно заставило меня потерять терпение, и я бы в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу.
Вот состояние моего сердца; прощайте, мой ангел, все сказала вам, что было на душе.
Христос с вами, мои родные.
30 августа, 1820, в 11 часов утра.
Сегодня праздник; у меня обедают гости, а теперь супруг мой у развода. Я сейчас писала к Каролине и просила ее, если можно, приехать в Лубны, когда я там буду. Мы надеемся выехать очень скоро, то есть прежде 5 сентября. Ежели бы все так шло, как бы я хотела, то, наверное, я приехала бы прежде этого письма; но надобно повиноваться судьбе и дожидаться, когда будет богу угодно доставить меня к вам.
Прощайте, мои бесценный ангел, должна оставить перо: уже первый час, скоро будут гости, это несносно. Хотела послать вам выписки из «Элоизы», но не успею, а особенно все примечательные места спишу и вам привезу. Прощайте, мое сокровище драгоценное, Христос с вами, моя родная, до смерти не хочется оставить перо, а, кажется, уже кто-то едет. Прощайте, мое все; возьмите на себя труд сказать много хорошего Иммортелю. Любите оба вам вечно по гроб преданную Анету.
Александра Осиповна Смирнова-Россет Воспоминания о детстве и молодости
Я родилась в 1809 году 6 марта, день мучеников в Аммерии. Мои воспоминания начинаются с трехлетнего возраста. В Одессе выпал снег в 1812 году. Я шепелявила и сказала отцу:
– Таталь, que ce que c’est ces petites plumes blanches?
– C’est de la neige, mon enfant.
– Et d’où cela vient?
– Du ciel, mon enfant, comme tout ce qui est sur la terre[36].
Отец мой был le Chevalier de Rossett, уроженец Руссильона, смежного с Швейцарией. Его мать была девица La Harpe, сестра наставника императора Александра, полковника Лагарпа. Дед мой был вольтерьянец, как, впрочем, все почти в это время; он воспитывал сына до 15 лет в этих же пагубных понятиях. Бабка моя перешла в римскую церковь и была ханжа весьма крутого нрава: она хотела обратить сына, с ним спорила и потчевала его пощечинами – он вышел из терпенья и оставил отеческий кров. Как он дошел до Вены, мне неизвестно, и все последующее я узнала от дяди Николая Ивановича Лорера (декабриста). Венский университет считался лучшим в Германии, и отец окончил там курс своих наук. Должно быть, что он встретил там знатных и богатых благодетелей. Я часто слыхала, что отец мой и герцог Ришелье говорили о князе Кантемире, а когда я спрашивала, кто был «Тантемиль», отец мне отвечал: «Va jouer avec ton ballon, cela ne te regarde pas»[37]. Эти благодетели советовали ему принять должность драгомана у Порты. Порта платила тогда щедрой рукой и награждала драгоманов драгоценными камнями, жемчугами и шалями (теперь турецкие шали точно так же тяжелы, как попоны, а в то время они славились, когда шаль была так тонка, что можно было ее продернуть в обручальное кольцо). Через три года отцу надоела эта должность, и он приехал в Херсон и определился в Черноморскую гребную флотилию, которой командовал известный праводушный и всеми уважаемый адмирал Мордвинов и вице-адмиралы Делабрю и de Galeta. Там он подружился с Мордвиновым, Николаем Аполлоновичем Волковым, господином Измайловым, то есть с самыми образованными людьми. Тогда Мордвинов получил за заслуги Байдарскую долину, ему дан был выбор, и он, конечно, выбрал самую лучшую местность, где великолепная растительность, воздух самый живительный и местоположение самое красивое. Яйла освежает и оживляет эту местность. Мордвинов дал также землю моему отцу поблизости к Байдарской долине, но какой-то граф Капниси ею завладел незаконным образом. Тогда слишком мало заботились о документах, отчего были постоянные процессы. В послужном списке моего отца сказано было, что он был флигель-адъютантом князя Потемкина и получил Куяльники в Бессарабии, но и на это не было документов, остались только счета по Куяльнику (Куяльник – дача виноградная по-бессарабски). Мордвинов и многие другие оставили Крым, и в Херсоне остались адмиралы Делабрю и de Galeta. Тогда была война с турками, и Суворов осаждал Очаков.
Я была давно замужем, и муж мой был губернатором в Калуге. Однажды приехал престарелый князь Вяземский и спросил у него, на ком он женат. Он ему отвечал: «На mademoiselle Rossett». – «Et comment sen nomme-t-elle?» – «Александра Осиповна». – «Mais c’est donc la fille de mon meilleur ami le Chevalier de Rossett! Je veux la voir»[38]. Тут гостили у нас двое из моих братьев. Он нас расцеловал и сказал: «Mes chers amis, votre Père était un génie, qui possédait les plus belles qualités du cœur, une Instruction aussi solide que variée. Sans lui nous n’avions jamais pris Otchakoff. Souvoroff n’aimait pas les étrangers et ne l’a pas assez fait valoir, Il’a reçu pour la prise d’Otchakoff l’ordre de Sacré-Cœur garni de diamants sur le cordon le Ste George à pendre au cou, la médaille d’Otchakoff en or et six mille arpents de terre[39] на Тилигуле». Тилигул впадает в Ингул, Ингул в Водяную, а Водяная в Буг под Николаевом.
Что делал мой отец после Очаковского дела, в котором турки потеряли до 10 000 убитыми и ранеными, а русские – 5000, остальное турецкое войско отправилось на своих довольно пробитых нашими ядрами судах, и до 20 000 погибло в море. С взятием Очакова кончилось владычество в Южной России турок.
Во время революции французские эмигранты рассеялись по всей Европе. В Петербург между прочими – герцог Ришелье и несколько аббатов, l’abbé Pratt, не тот, который был в Париже, Pratt был наставником бывшего обер-прокурора графа Протасова: другой аббат, Deloche, был учителем физики и естественных наук, маленького курса астрономии в Екатерининском институте; l’abbé Nicolle, иезуит; l’abbé Rosenau в Москве совратил графиню Ростопчину; l’abbé Préfactieuse; какой-то аббат был наставником Алексея Степановича Хомякова. Граф Олсуфьев и братья Мухановы тоже учились у аббата.
Император Александр был сметлив и тотчас, узнав герцога Ришелье, сказал ему: «Mon cher Duc, vous savez comme j’avais un grand remords, le midi de la Russie est un legs qu’elle m’a laissé; ce pays est riche en céréales, mais les propriétaires voient pourrir leurs récoltes faute de déboucher. Je vous donne des pleins pouvoirs et vous prie d’établir aussi vite que possible un courrier régulier entre la petite Russie, la Turquie et les ports de la Méditerranée». – «Sire, – répondit le Duc de Richelieu, – je ferai tout mon possible pour justifier votre confiance et ne vous prie qu’une condition: je ne tirerai jamais mon epée contre un Français». – «Allez-vous, cher Duc, je vous connais»[40].
Еще при Потемкине были отпущены большие суммы на постройку церкви, казармы, присутственных мест, госпиталя и тюрьмы. Каково же было удивление герцога, когда он приехал в Одессу! Все эти строения были почти развалины, всего были две систерны на 8000 жителей, половина их состояла из евреев и молдаван, а русские были нищие, и по сих пор есть улица, называемая Молдаванкой. С Ришелье отправились лучшие из эмигрантов: le Duc de Rochechoirt, Mortemart, le marquis de la Maisonfort, son cousin le Marquis de Rastignac, граф d’Allonville, граф de St.-Priest, граф д’Олон, граф Кастельно, который писал историю Одессы и ее управления при герцоге.
Отец приехал в 1808 году, и Castelnau в своей книжке говорит: «Le chevalier de Rossett a conté aujourd’hui 250 vaisseaux qui sont entrés dans la rade d’Odessa et la population montait à 40 000»[41]. Почтенный старец, отец Павловский, мне говорил в 1867 году: «Ришелье был великий человек, все, что он оставил и что не успели испортить, было прекрасно». Из Лицея сделали университет, и преладный. Затруднениям не было конца, тотчас приступили к устройству систерн, к постройке церкви, казарм, присутственных мест, тюрьмы и карантина. Негде было мыть белье, и посылали на тройках белье в Херсон. Работники были отысканы только в Николаеве. Герцог очень обрадовался моему отцу, потому что он его познакомил с бытом края и некоторыми личностями, ему известными как люди честные и способные. Комендантом был назначен шотландец, генерал Фома Александрович Кобле. Тюрьма была под присмотром генерала Ферстера. Гарнизонный командир был полковник Гакебуш. Вызваны были негоцианты: итальянец Викентий Антонович Лидо, швейцарец Сикар и француз Рубо. Герцог вызвал француза Vasseil, который привез шпанских овец и лошадей. Он вызвал бывшего своего садовника Батиста, который привез огромное количество корней фруктовых деревьев, апортовых яблок, больших груш, называемых «poire Duchesse»[42] (по-русски – дули), мелких груш и полосатых груш, и смородин черных, красных и белых, из которых готовится слабительная манна. Адъютант герцога Стемпковский занялся с эмигрантом Бларамбергом раскопками древностей этого края. В Ольвиополе нашли монеты avec l’effigie[43] Александра Македонского, что и заставляет полагать, что Одесса – древняя Эдесса, разрушенная, а может быть, почти обвалившаяся в море. Перед моим приездом в Одессу наш домик на хуторе съехал в море. Нашли огромные каменные фигуры, 20 штук (их называют бабами), и полагают, что они служили мерными столбами Тамерлану или Чингисхану, которые, выходя из Сибири, засеяли поля, а на возвратном пути не голодали. В книге Кастельно упоминается огромное количество всяких диких народов, которые там проходили.
Еще большее благодеяние было учреждение университета аббатом Николь. В России был только один университет в Москве. И польское, и русское дворянство затруднялось воспитанием детей и жаловалось на то, что не было ни одного заведения. В нем получали классическое образование. Дядя мой, Дмитрий Ив[анович] Лорер, и двоюродный брат его Сергей Данилович Кудашев жили у нас и там воспитывались.
Из Флоренции были вызваны часовщики и ювелиры, но узнали, что эти мастера знали сокрытые искусства Медициев и успели наделать всякие гадости, раздавали кольца, в которых была отрава; они хотели завладеть герцогом. Им было известно, что он не знал женщин, они привезли с собой очень красивую итальянку, она везде преследовала Дюка, раз забралась в его спальню, бросилась к нему на шею и хотела его поцеловать в губы, он бросил ее на землю, на его крик прибежал Стемпковский и его люди. Ее отправили в тюрьму, после строгого исследования оказалось, что и кто. Поццо успел с товарищами много зла, их посадили в цепях на турецкую фелюку, и они погибли в море.
В Одессе были уже консулы: английский мистер Томас, итальянский Кастельно, который женился на красавице дочери Бларамберга. Ришелье назначил Растиньяка губернатором в Крым. Раздавая земли под Одессою, он повторял: «Сажайте, скрещивайте, поливайте». Сношения были весьма затруднительны. Не получая давно известий от Растиньяка, он послал к нему отца моего, который был инспектором карантина. Бабушка моя, Екатерина Евсеевна Лорер, рожденная княжна Цицианова, была содержательницей станции. Отец мой спросил у смотрителя, где бы он мог подождать. Ему сказали: у помещицы. Станция была за полверсты от дома. Ему навстречу вышла ее дочь Надежда Ив[ановна] и привела его домой. Для бабушки было достаточно, что он послан Дюком. Она его угостила ужином и даже предложила ему ночевать у нее, сказала дочери: «Надя, поди посмотри, хорошо ли Гапка взбила перинки и подушки в гостиной». Отцу моему было 55 лет, а матери 18. Он пленился ее необыкновенной красотой и детской простотой: она не подозревала, что была замечательной красоты. В 36-м году я встретила в Мариенбаде Софью Станиславовну Киселеву. Меня с ней познакомил в[еликий] князь Михаил Павлович. Она мне тотчас сказала: «J’ai connu votre mère. Nous étions à Odessa, toute notre famille et Isabelle Valevsky, la femme de Serge Gagarin, que vous connaissez. Le Duc de Richelieu nous a Invité à une soirée en nous annonçant que nous verrons la plus belle et la plus jolie personne du monde. Quand votre mère est entré, Il s’est fait un mouvement dans la société. Elle avait une robe blanche de mousseline des Indes, ses cheveux noirs étaient arrangés à la Titus cordonnet en laine rouge les traversait, pour toutes pierres elle avait des boucles d’oreilles rondes avec un petit diamant pour fermoir; ses bras, sans coup, était d’une admirable forme. Elle était suivie d’un beau vieillard qui portait une perruque bouclée. Le Duc nous l’a présentée, elle saluait et répondait avec gêne et une grande simplicité: elle n’avait pas fait de se douter de sa beauté. Le Duc avait une affection du Père pour elle et jouissait de ses succès. Vous ne savez pas, ma chère, que quand elle était veuve et que l’Empereur l’a envoyé à Odessa pour accompagner le Duc à Pbourg, Il était fou amoureux d’elle et l’a demandé en mariage, mais elle l’a refusé. Kisseleff est un homme de grand mérite, elle aurait été très heureuse avec lui»[44]. Моя дочь Софья Трубецкая встретила графа Киселева у графини Софьи Львовны Шуваловой, он ей сказал: «Princesse, vous êtes très jolie, votre mère était plus jolie, quant à votre grand-mère, c’était tout ce qui j’ai jamais vu de beau au monde»[45].
Александра Осиповна Смирнова (1809–1882); урожденная Россет, известная также как Россети и Смирнова-Россет – фрейлина русского императорского двора, знакомая, друг и собеседник А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова.
Художник П. Соколов. 1834—35 г.
На возвратном пути из Крыма отец мой сделал предложение. Бабушка с радостью согласилась, не спрашивая, конечно, согласия дочери: тогда послушание было первым долгом. Их, вероятно, обвенчали в церкви Андрея Первозванного, в семи верстах от Грамаклеи – так называлась деревушка бабушки. Теперь я должна сделать отступление от начатого повествования. На музыкальном языке это называется fugato, а сколько их приходится осмысливать в жизни.
Бабушка Екатерина Евсеевна Лорер была рожденная княжна Цицианова. Во время Петра Великого царь Вахтанг просил подданства России во избежание нападок враждебной Персии и Турции. С ним приехало множество княжеских и некняжеских родов: Цициановы, Баратовы, Алигозаровы, Давыдовы, Эристовы и другие. У князя Евсевия и жены его был единственный сын, князь Дмитрий. Он сделался известен своим хлебосольством и расточительностью, да еще привычкой лгать вроде Мюнхгаузена. Он женился на побочной дочери царевича Александра Георгиевича и какой-то княгини или княжны Заборовской (этот род угас, и есть просто Заборовские). За ней он взял 8000 душ в Нижегородской губернии: торговое село Катунки приносило огромный доход. За ней был дом, конечно, деревянный в приходе Рождества в Кудрине. Это был целый квартал, и церковь была в саду, окружавшем этот дом. Дмитрий Евсеевич сказал отцу: «Я ничего не беру из десяти тысяч десятин. Наплевать мне на эту дрянь! Земля отведена черт знает где, в каком-то пустыре безлюдном». Жизнь в Москве была слишком дорога для большого семейства, и они отправились в местечко Санжары (турецкое название), где живут реестровые казаки. Девица Скоропадская, у которой именье близ Санжар, говорила мне, что это прелестный уголок, который утопает в роскошной зелени фруктовых дерев, длинная синяя слива так обильна, что ветви гнутся над палисадниками, из которых выглядывают огромные подсолнечники, шиповник, заячья капуста (valeriana), барская спесь и душистая повилика (cuscuta). Дома выкрашены желтой краской, спальные ставни и крыши зеленые. Вот где поселились Евсевий и Матрона Цициановы. Старшая дочь вышла замуж за дворянина Гангеблова и получила 2000 десятин в Балтском уезде, (вторая) вышла за Шмакова и тоже получила две тысячи десятин, не знаю, где. Третья была за Чепелевским и получила такое же количество десятин в Чикагме. Четвертая вышла за грузина Бонгескула, и не знаю, где поселилась. Старики продали свою землю и копили деньги для младшей дочери. Однажды вечером приехал в Санжары военный, который спросил, где бы он мог поужинать и ночевать. Ему отвечали, что самый большой дом был у князя Цицианова и что он очень гостеприимен. Он постучался. Ему отворили и спросили, кто он и что ему угодно. Он отвечал, что он полковник фон Лорер, уроженец северной Пруссии, и приехал, и два брата его, с Петром III, что несчастный государь назначил его главнокомандующим своих картонных войск, и когда крысы пожрали его войско, он его сажал под арест; что это ему надоело и, несмотря на обещание императора дать ему земли (Гудович и какие-то Гаронские получили по 6000 душ), он решил ехать на юг России искать фортуны. Пока он ужинал и готовили ему постель, он разговорился, сказал им, что немцы любят семейную жизнь, и что, если ему посчастливится, то хочет жениться. Все это было сказано, конечно, ломаным языком. «А если ты хочешь жениться, – сказал ему старик, – у нас есть еще незамужняя дочь. У нее теперь короста (чесотка), и она лежит на лежанке, вымазанная дегтем». Его ввели к ней. Он увидел черные курчавые волосы, черные глаза, нос à la Bourbon и белые как жемчуг зубы и сказал, что она ему нравится. А ее спросили, согласна ли она выйти за него замуж. Она отвечала: «Почтенные мои родители! Я на все согласна, что вам угодно». Ему сообщили, что за ней 20 000 капитала, 12 серебряных приборов и дюжина чайных ложек, лисья шуба, покрытая китайским атласом, с собольим воротником, две пары шелковых платьев, несколько будничных ситцевых, постельное и столовое белье, перины и подушки, шестиместная карета, шестерка лошадей, кучер и форейтор. Выпили по обычаю рядную. Нареченный жених отправился, вероятно, прямо в Херсон. Надобно помнить, что он встретил там князя Потемкина, который не был славянофил и не гнушался услугами иностранцев, увидел европейски образованного человека и назначил его херсонским вице-губернатором, с казенной квартирой и 1000 р. содержания. На крыльях любви он поскакал на тройке, увы, может быть и в жидовской фуре, в Санжары. Там их обвенчали в приходской церкви. Князь Евсевий и княгиня Матрона горько плакали, расставаясь навеки со своей милой Кетеван (Катерина), тогда путешествия были очень затруднительны. Брат дедушки Карл Иванович служил в армии, о другом я ничего не знаю.
Вице-губернатор сделался всем известен знанием дела, честностью и простотой. У богача Щенсного-Потоцкого был нескончаемый процесс. Он решился ехать в Херсон и поручил свое дело вице-губернатору, который закончил запутанный процесс в два года. Щенсный так обрадовался, что предложил ему 2000 душ, но дед мой сказал ему, что исполнил только свой долг, что ему за это правительство дает жалованье. «Но если вы захотите сделать мне приятное, то подарите мне часы. Здесь они мне не нужны, но я дослужил до пенсии, жена моя купила землю, и мы хотим поселиться в деревне». Щенсный прислал ему прекрасные золотые часы с золотой цепочкой. Когда дедушка умер, бабушка остановила стрелки и сказала: «Как закатилось солнце моей жизни, я их поховала». Дядя Николай Ив[анович] говорил, что очень долго после кончины отца он приехал в отпуск, и бабушка была очень грустна и задумчива. Он ее спросил, отчего она так грустна. Она ему отвечала: «Душенька, отец твой был такой добрый и кроткий. Я раз послала его в поле, он не исполнил мои поручения, я на него рассердилась. Он любил пить со мной кофий. Когда он спросил, я ему сказала: „Идите к немцам пить кофий“. Когда я это вспоминаю, мне всегда грустно и совестно». Это в теперешнее время покажется смешным. Есть люди, которые смеются и над Пульхерией Ив[ановной], а в моей молодости и молодые и старые плакали, читая эту трогательную идиллию. Весь этот рассказ был сообщен Николаем Ив[ановичем] Лорером племяннику Льву Ив[ановичу] Арнольди и где-то напечатан в Москве.
Как выше сказано, 6 марта явилась на свет некрасивая смуглая девочка, которую назвали Александрой в честь двоюродной сестры отца, графини Александры de Rossette.
Графы де Россет владели большими угодьями в Дофинэ, где был их домениальный престол. Герб у обеих фамилий был один: три розы на серебряном поле – тот же самый герб был у рыцарей-тамплиеров, который можно видеть в Мариенбурге в Пруссии; это доказывает, что они участвовали в крестовых походах. Герб Цициановых очень странный: [неразб.] и сверху ангел. Дмитрий Евсеевич говорил, что они происходят от Якова. Впрочем, ничему не надобно удивляться. Д[окто]р Евстон говорил мне, что он ирландец, а у него в гербу ладьи, и что он потомок Ильи. Сын мой служит на Кавказе и говорил мне, что там есть семейство, которое владеет по сию пору землями, пожалованными им Навуходоносором, и у них есть грамота на пергамене за его печатью и подписью. Род Россетов угас, а их имения сделались государственной собственностью.
Возвращаюсь к отцу и матери. Они очень обрадовались появлению на свет смуглой девочки. Маменька хотела меня кормить, но, не знаю, зачем, не могла продолжать, и мне взяли в кормилицы еврейку. Когда мне было шесть месяцев, я не хотела сосать, и тогда меня повезли в Адамовку. Отец мой при получении ее сказал: «Je suis le premier qui habite cette terre et je l’appelle de nom de notre ancêtre à tous»[46]. Я несколько раз была в Адамовке, и когда туда ехали, человек всегда спрашивал: «Как прикажете ехать – на Андреевку или на Янгакраки?» (опять турецкое название).
Тогда имения населялись или покупкой, или залучением бродячих крестьян из южных губерний, царан и булгар. Им отводили место, глину, солому для кровли, известь, покупали соху, волов, и два-три года они работали на себя. Отцу моему нужен был повар, и он его купил за 3000 руб. в Москве. Фрейлина Шишкина, известная писательница русских романов, мне говорила, что когда она вышла из Смольного монастыря, ей купили на рынке девку за 7 руб. Импер[атрица] Мария Федоровна это узнала, сообщила свое негодование императору Александру, который приказал продавать семьями. О чем же думала великая Екатерина? К счастью, Вольтер, Дидерот и Гримм не знали, что в ее владеньях люди продавались поштучно на рынке. О Екатерина, Екатерина! Сколько зла ты разлила по земле русской!
Моя крестная мать была тетушка Екатерина Ив[ановна] Вороновская, а крестный отец – Ришелье. Брат мой Клементий родился 10 месяцев после меня. Его крестил герцог и назвал именем крестного отца, а крестная мать была бабушка. Год спустя родился брат Иосиф, он был красавец. Через год брат Аркадий и полтора года спустя еще брат.
В этом году неаполитанская королева Каролина просила покровительства нашего государя: она не могла больше выносить оскорбления Мюрата. Тогда эскадра адмирала Бентинга крейсировала возле берегов Неаполя. Ее первый министр Актон вывез ее тайно ночью на адмиральском корабле. Бентинг ее довез до Генуи. Государь предложил ей ехать в Одессу. Но так как она ехала на придунайские княжества, а в Константинополе была чума, то из предосторожности ее поместили в карантинном доме, а мы переехали в собственный дом на Дерибасовскую. Как инспектор карантина, отец мой обязан был всякий день являться к королеве за приказаниями. Она узнала, что маменька родила, и предложила быть восприемницей новорожденного с тем условием, чтобы его назвали Charles-Alexandre. Она овдовела очень рано и очень любила мужа. Ее заменила г-жа де Рибас, а крестный был все так же Ришелье. После крестин королева прислала крестнику крест из крупных бриллиантов и склаваж. Весь город приезжал любоваться этим склаважем: Трегубовы, Шемиоты, Кантакузены (князь командовал Давыдовскими казаками), одним словом, вся Одесса. Жемчуга цепочки были перевязаны бриллиантами, и фермуар составлял ее имя: Каролина. Королева изъявила желание видеть меня и старшего брата. Герцог учил нас кланяться. Мы так старались, что чуть было не упали к ее ногам. «Vous voyez, Madame, que mes petits élèves me font honneur»[47]. Она была очень стара и страшна, нарумяненная сидела в кресле в бархатном темно-зеленом платье и вся покрыта бриллиантами. При ней были две старые дамы, тоже очень нарядные. Она посадила нас на колени и говорила «гоп-ца-ца». Она была дочь австрийского императора.
Де Рибас был адмиралом в нашей службе, говорили, что он был генуэзский матрос. Вот что ему писал Суворов: «Eccelentissimo Doria, vedo che bisogna ferire con questi bestia I Turchi»[48]. В Генуе есть фамилия Doria Lonte, я лично знала одного в Ницце в 1844 году; должно полагать, что Суворов знал, что он был побочным сыном генуэзского дожа Дориа. Г-жа де Рибас была урожденная к[нягиня] Долгорукая и очень гордилась, вела знакомство только с семейством к[нязя] Кантакузена, зато наказал ее герцог Ришелье и никогда не посетил ее. Когда и куда уехала неаполитанская королева, мне неизвестно.
У детей своего рода интересы. Меня дразнил брат Клименька, говорил, когда мне было три года: «Ты думаешь, что ты хорошенькая. Ты толстая и ходишь как качка (утка)». Я отвечала: «Это ницего. Тетя Мася говолит, сто у вас видны одни глаза, а я с ней поеду в Плибук». Тетя Маша была жена моего дяди Александра Ив[ановича] Лорера. Она была урожденная Корсакова, дочь того псковского губернатора, который вышил по канве подушку и поднес ее Екатерине, которая ему за это прислала бриллиантовые серьги. Дядя мой вышел в отставку в чине полковника уланского полка. В какой-то стычке с французами его почти изрубили, и у него был на носу шрам.
Вскоре по отъезде королевы в Одессе открылась чума. Герцог тотчас оцепил город, и полк был расположен лагерем за несколько верст. Он и эмигранты обходили улицы и справлялись о состоянии здоровья. Провизию приносили в дома гарнизонные солдаты. Мы сидели у окна и считали страшные дроги, на которых везли трупы чумных. Колодники в засмоленных рубахах шли рядом, гремя цепями, под конвоем солдат с ружьями. Это не мешало нам играть с попугаем, которого подарил мне Дюк. Маменька не могла вынесть этого зрелища и сидела в комнате окнами на двор. Когда папенька возвращался из карантина к обеду, первым движением было бежать к нему, но он делал знак рукой и уходил в другую комнату, где его обливали уксусом с водой, и надевал другое платье. Часто он нас так крепко прижимал к сердцу и целовал так горячо, как будто он думал, что на другой день и он сможет сделаться жертвой этой страшной чумы.
Однажды герцог подошел к окошку маменьки и спросил ее: «Quand avez vous vu Antoine Rizzi?» (наш домашний доктор). – «Il a été hier et se plaignait d’avoir mal à la tête; Il était assis dans ce fauteuil». – «Faites le vite emporter, chère Madame, Il a fait l’opération du boubon dans la nuit, s’est blessé et Il est mort ce matin, pourvu que nous n’avons pas d’autres pertes à s’effacer; ma chère Sachinka, ta nourrice est aussi morte de la peste». – «Ritschinka, je n’aimais pas ma nourrice, je ne sais pas pourquoi, et puis Maman m’a dit que les Juifs ont crucifié J. Christ et c’est un grand péché et je ne la regrette pas»[49].
За год перед чумой отец мой страдал спазмой в желудке, был слаб и пил черный кофий с лимоном, тогда пришли какие-то люди в высоких черных бараньих шапках, им подавали тоже кофий и черешневые чубуки по чину, были чубуки в три и четыре аршина. Я всегда вертелась около отца и зажигала их трубки, от табаков запах был очень приятный. Дорогой отец мой был последней жертвой чумы. Он велел меня позвать, остановив на пороге, и сказал: «Tu est mon ami, mon enfant la plus chérie, promets-moi de soigner tes frères, de leur donner les bons conseils. Je ne suis pas Inquiète sur votre avenir, le Duc m’a promis de vous recommander à l’Empereur et à sa bienfaitrice mère, tu seras élevée dans quelque Institut et tes frères dans le corps de cadets – avec une bonne éducation on est toujours sûr de faire son chemin dans le monde d’immense humanité. Quant à votre fortune, c’est le Duc et votre oncle Dmitri qui en sont chargés»[50].
Я просила отца: «Потрогать твою бородавку в последний раз». В чуме так горят, что его ноги какого-то странного блестящего цвета были открыты и на левом колене было черное пятно. Маменька поддерживала его голову. В это время пришел герцог, обнял его и сказал: «Дорогой друг, нужно ли так поступать вашей Наденьке, которой предстоит перенести столь тяжкую потерю?».
Я после узнала, что 300 000 были положены в Херсонский приказ общественного призрения вскоре для братьев, и Адамовка, в которой было 20 000 душ крестьян, доход был с земли, огорода и сада, а главное от [неразб.], которые населяли [два слова неразб.]. Мне оставлен был хутор и дом на Дерибасовской, 9 пудов серебра, подарок Дюка, все бриллианты и жемчуга маменьки.
Нас всех посадили в карету, и герцог нас повез к г-же Попандопуло, самой короткой знакомой маменьки. У нее были дети и дети ее сестры Домбровской. Мы резвились в саду, не подозревая, что нам готовится после папеньки самая горькая участь. Через два дня пришла горничная маменьки Татьяна, сняла с нас мерку и сказала, что шить будет черное. Она заплакала, а я разрыдалась так, что добрая Попандопуло не знала, что со мной делать. Нас привезли в карантинный дом. Маменька сидела перед камином в глубоком трауре, я села на полу с большой куклой, последним подарком папеньки. Приехала бабушка с моими тетками. Отца моего обратил l’abbé Nicolle, и поэтому в дом приехал католический священник. С отца сняли парик, он был прекрасен, потому [что] и жизнь, и смерть его были прекрасны. Маменька и все его целовали, а я тщетно просила позволения с ним проститься, но мне отказали. Весь город следовал за погребальной процессией. Герцог ехал впереди верхом, в мундире с Андреевской лентой и орденом св. Людовика. По дороге у греческой и русской церкви служили литии. Я сидела с бабушкой, которая не знала, что со мной делать: я металась и рвалась.
«Прогулка».
Художник В. Шустин
Только что мы вернулись с похорон, начали перевозить нашу мебель на Дерибасовскую в наш маленький дом. Так как маменька не могла нас воспитывать, то приехал генерал Ферстер и рекомендовал ей гувернантку Амалью Ив. Шредер. Она была уроженка Констанцского озера. Мы с первой минуты полюбили это доброе, кроткое существо. Рано весной мы переехали на хутор. Настал день прощаться с герцогом. Император на высотах Монмартра сам надел аксельбант на Киселева; заметив его необыкновенные способности, он послал его в Вену с дипломатическим поручением, если не князь Разумовский, то, вероятно, затем послан был его дядя Татищев, человек замечательного ума и тонкий; Меттерних его уважал, но недолюбливал; оттуда государь послал Киселева за герцогом в Одессу. Герцог, преданный России из благодарности, все-таки желал увидеть свою родину наконец успокоенную, и видеть своих сестер и их детей. Все, что он приобрел в России, он оставил; он жил при большом и почти неограниченном содержании очень экономно; оставил Стемпковскому 150 000 р., библиотеку – лицею и 10 000 р. сиротскому дому, им основанному. Создатель Новороссийского края и его благоденствия оставил по себе неизгладимую память. На бульваре розовых и пахучих акаций между каждым деревом был куст вечнозеленого шиповника с желтыми цветами, необыкновенно свежими, и против замка поставлена его статуя. Во время бомбардировки Одессы с «Тигра» ядро попало в его колено, и статуя покосилась. В 67-м году я шла по бульвару, и несколько крестьян стояло возле статуи. «Знать, эти „Тигры“ попали в Дюка», – говорили они. «Что вы тут делаете?» – спросила я их. «Пришли посмотреть на Дюка. Деды и отцы нам говорили, что он был благодетель края». Извините, господа славянофилы, Новороссийский край создан французом.
Еще до приезда полковника флигель-адъютанта Киселева в Одессу приехал граф Бенигсен, женатый на польке Андржейкович, и Генрих Рудзевич. Ришелье ни за что не подал бы руки убийце им[ператора] Павла, он просил маменьку принять его на хуторе. У него был сын лет двенадцати. Утром был для них завтрак, но они после ворчали, что их оставили одних, и, отобедавши, уехали.
На прощанье герцог дал большой вечер для всего одесского общества. Маменька поехала с хутора со мной, с братом Осей и Амальей Ив[ановной]. Она сидела с какой-то дамой в беседке, куда герцог приходил. Он сказал Амалье Ив[ановне]: «Promettez-moi, ma chère Mademoiselle Schröder, de ne jamais quitter les chers enfants. Leur mère a trop d’affaires Importantes pour se donner à leur éducation. Elle a trop aimé son mari et aime trop ses enfants pour se remarier»[51]. Маменька заплакала, а я сказала: «Ritchinka, mariez-vous avec Maman et nous partirons avec vous à Paris». – «C’est Impossible, ma chère enfant. Votre Maman doit rester pour arranger ses affaires et pour terminer son procès avec Kapnissi. Pour la guider je lui donne l’excellent Doubnitzki de Kharkov, et pour les affaires de la maison ce bon[52] Худобашева».
Ося стал засыпать на коленях Амальи Ив[ановны], и нас отвезли домой; по дороге горели смоляные бочки, от треска лошади испугались и понесли. Мы радовались скорой езде, а бедная Амалья Ив[ановна] опустила все окна и кричала: «Mein Gott, erbarm dich unseren!»[53]. В самом деле была опасность, потому что спуск к дому был довольно крутой. Дворник Яким и супруга его Гапка были вечно пьяны, но на этот раз оба вышли из своей хаты и схватились за дышло, так что мы благополучно подъехали к крыльцу. Кучер Тимошка никогда не пил, но Яким счел нужным сказать ему несколько внушительных слов. Амалья Ив[ановна] написала записочку маменьке, и она благополучно приехала на хутор.
Странно, что я, которая хорошо помню всех, посещавших наш хутор, никогда не слышала имя Киселева. Может быть, слова герцога удалили всякую мысль о втором браке. Перед отъездом на хутор Амалья Ив[ановна] сама укладывала чайный сервиз английского фаянса: одна чашка уцелела и находится у тетки моей Варвары Дмитриевны Арнольди. Мы часто ездили в Адамовку. Дом был маленький, построенный над пригорком, на котором отец развел фруктовые деревья. Под домом был погреб для молочного скота. Маменька сама снимала сливки деревянной ложкой. Мебель была из простого дерева, выкрашена светло-желтой масляной краской, а по этому грунту были букеты алых роз. Это был подарок Дюка, который иногда приезжал нас навестить, всего было 40 верст от Одессы. После войны делали народную перепись, и к маменьке приезжал еврей, и я беспрестанно слышала: «Ревизская сказка», и все спрашивала, когда же жид нам расскажет свою сказку. Мы возвратились на хутор, маменька ехала со мной в Крым по делу с графом Капниси; мы ехали шагом в дормезе Дюка по глубокому песку на месте, называемом Арабатская коса, и, наконец, остановились в каком-то доме; мы вышли из душной комнаты, но услышали ужасный крик и видели издалека разъяренного быка, который поднял человека на рога. Пожидор (Элпидифор) прибежал, нас внес в дом и сказал: «Голубушка Надежда Иван[овна], я смерть испугался, думал, что он бросится на вас». Процесс, несмотря на старание Дубнецкого, был проигран, мы вернулись в дюковском дормезе к бабушке. Она вышла, защищая глаза рукой, и сказала: «Как же я тебе рада, Надя, почеломкаемся, и ты, Сашка, дурка, иди, поцелуй ручку у бабуси; яка ж ты гарна, совсем паненка. А я жду Алексашу с Машей». – «Почтеннейшая матушка, – сказала маменька, – мне нужно ехать в Одессу, уладиться с делами и кое-что передать Амалье Ив[ановне]». Мы нашли всех в добром здоровье.
Маменька очень грустила и ездила к сестрам, а спустя два года после смерти отца она по приглашению Потоцких ездила в Киев на Контракты. Всем известно, что такое были эти Контракты. Вся южная знать приезжала продавать свои имения евреям, а поляки пели:
Як приехав в Золнирж, Да к жиду в аренду. Шоне Минка, кинцер мир, Кинцер мир, кинцер бир.Ей сделал предложение красивый граф Ржевуцкий, которого звали араб, потому что он был в Палестине, но она отказала ему. После Ришелье генерал-губернатором был назначен граф Ланжерон, он также сделал ей предложение, и ему она отказала, отказала и графу Подгоричанскому.
Мы жили на хуторе одни с доброй Амальей Ив[ановной], она была сущий клад. Тогда приезжали в Россию гувернантки, которые заменяли недостаток знаний привязанностью к детям и ко всему дому. Я спала в ее комнате у ног ее кровати, а Клеминька в другом углу. Как все дети, мы просыпались с восходом солнца, тоже и Амалья Ив[ановна], она читала свою библию, потом надевала юбку и кофточку, глядела на нас, заходила в другую комнату, где спали Ося и Аркадя, и в третью комнату, где спал Карленька с Авдотьей, выдавала провизию, заказывала обед. В семь часов мы пили молоко с хлебом и ходили в сад собирать дикую спаржу и сморчки, заходили к Батисту, который заведовал огородом и садом. Неизвестно, зачем он не поехал с Дюком в Париж. Я помню, что отец мой посадил два тополя у входа в сад, и они очень хорошо прижились. Герцог ему сказал: «Эти два красивых часовых напоминают мне мое милое Ришелье, у меня нет более земель во Франции, поэтому не смею отрывать Батиста от его занятий». У дворника Якима и супруги его Гапки была единственная дочь Приська. Эта девочка была престранное существо с ног до головы. Волосы ее желтые, лицо такого же цвета, глаза желтые, а зрачок был поперек, как у кошки, ситцевое платье на рубашку было тоже желтое, и она, я думаю, никогда не носила обуви. В своих жестких руках она вертела стебель пасклена и приговаривала: «Свиньям горько, а нам солодко». Она всюду за нами ходила и ничего не боялась. Большая змея обвилась об ногу брата Аркадия, Приська подбежала и одним пальцем отбросила змею на камень и убила ее. Она всегда стояла у притолоки в передней, а так как родители никогда об ней не заботились, то Амалья Ив[ановна] ей посылала остатки нашего обеда. В саду было такое обилие ягод, черной, красной и белой смородины, вишен и груш, что их продавали русским купцам, и Амалья Ив[ановна] сама стояла с безменом в руке (по-русски – весы), в московских рядах я видела безмен. Еще одна скверная вещь, это тазы в банях, и этим мы обязаны туркам. И анбар – слово турецкое[54]; я встретила в Константинополе английского консула в Дамаске, он там находился во время страшной резни и сказал, что не скоро он это забудет.
По другую сторону хутора нашего был хутор банкира Рено, но мы с ним не были знакомы, в 1829 году императрица Александра Федоровна и в[еликая] княжна Мария Николаевна жили на этом хуторе, который был очень далеко от берега. Утром имп[ератрица] удивилась: дом был на самом берегу. Ночью все строение преспокойно съехало со своего места. Однако она переехала в город в дом Карасева. Дочь моя, княгиня Трубецкая, искала могилу моего отца, но не нашла: вероятно, часть кладбища съехала в море. Это море так запружено, что рыба совсем исчезла. Когда я там была, ловили камбалу (le turbot), были сельди, бычки, очень костлявая рыба вроде наших ершей, но вкуснее, были превосходные устрицы, а снетки вдруг наплывали в таком количестве, что их ловили простыми ситами и чем попало, и готовили впрок. Немало найдут драгоценных вещей на дне этого моря, когда его продренажируют. Барон Ашик, который делал раскопки в Керчи, мне говорил, что, по его мнению, гробница Митридата или была разграблена, или оказалась в море по течению к Суфут-Кале. Она была из чистого золота. В 1867 году была только одна рыба глоссы, и такая дрянная, что не стоило ее покупать. Петр Гижель говорит в своей весьма интересной книге, что Лукулл развел в Черном море le thon[55], не знаю, как по-русски. Le thon marinier est une délicatesse en France[56].
Зимой мы переезжали на Дерибасовскую, ходили гулять по грязным улицам или играли на дворе, который был чисто вымощен и белый. Наш повар Дмитрий пил запоем, я помню, что маменька ему давала какие-то горькие капли в постном масле, и он ей говорил: «Голубушка Надежда Ив[ановна], хотел бы не пить, но никак не могу, так меня и тянет. Да теперь Мосейка хорошо готовит, он меня может заменить». Но Дмитрий иногда буянил и тогда имел привычку выкидывать провизию в помойную яму. Тогда Амалья Ив[ановна] посылала за Артемием Макарычем Худобашевым и говорила: «Да пожалуйста, да мсье Худобашев» (она всегда ко всему прибавляла: да пожалуйста, по немецкой привычке – Ich bitte Sie[57]). Тогда Дмитрия запирали, и Амалья Ив[ановна] нам давала Kartoffelsalade mit Heringe и arme Ritter[58]; она была мастерица на все, везде и во всем успевала, чистила клетку моей канарейки, чистила и моего серого попугая, сушила яблоки (es Ist gut für Husten[59]), учила меня вязать чулок и читать по-немецки и по-французски, кроила платья и заставляла меня подрубать, а после Марийка дошивала платья и панталоны братьев. Эту Марийку взяли в детскую из Адамовки. Их изба была первая возле Гапкиного дома. Это была изба Бабики, а затем была изба Скачко, а затем хата Чудного. Чудной точно был чудной. Он поливал на хуторе перед домом цветники из огромных глиняных чанов. И сам был огромный, смуглый и носил большой чуб. Иногда утром его заменял Филипп-кучер. «А где Чудной?» – «Ушел ночью». Он исчезал два и три месяца, приходил босой и в рубище и тотчас говорил: «Надежда Ив[ановна], прикажите купить чоботы, да шесть рубах и штаны». И Чудного опять одевали месяца на два или на три. Русский народ до сих пор любит кочевать.
После Ришелье генерал-губернатором был назначен граф Ланжерон. Он был известен своей рассеянностью, расточительностью и привычкой громко говорить то, что он думал. Пушкин мне рассказывал, что он дал большой обед одесским негоциантам, с которыми был в дружеских отношениях, и вдруг сказал громко Пушкину, который сидел возле него: «Si l’Empereur n’ajoute pas mon appointement, je n’aurai pas une côtelette adonner à ces canailles-là»[60], – все расхохотались. Когда государь был в Одессе, остановился в его доме и ночевал в его спальне. Он имел привычку отдыхать час после обеда. Проснулся, а дверь была снаружи заперта. Ланжерон имел привычку запирать свою спальню на ключ; вероятно, он забыл, что государь в Одессе, отворяет дверь и говорит: «Sire, que faites-vous dans ma chambre?» – «Ce que je fais, Mr, vous avez endurci votre souvenir; je suis très mécontent du désordre que j’ai trouvé Ici, et nommerai un autre général-gouverneur»[61]. Назначен был генерал Сабанеев, который ознаменовал себя тем, что построил мост через овраг, этот мост называется Сабанеевым. В 1829 году государь был очень недоволен фельдмаршалом графом Витгенштейном и колебался в назначении Дибича. Ланжерон был старший генерал-аншеф, ходил по своей палатке и громко говорил: «Генерал-фельдмаршал всех российских войск граф Ланжерон – клянусь честью, это звучит хорошо, но не будет, не будет». Его адъютант Трегубов услыхал и рассказал товарищам. Это дошло до государя. Утром назначен был Дибич, а вечером за ужином государь сказал Ланжерону: «Милый мой, не будет, не будет, поезжайте в Петербург, и мы будем часто видеться как старые друзья».
В 17-м году, три года после кончины нашего дорогого отца, мы были на хуторе. Человек пришел объявить Амалье Ив[ановне], что военный господин желает ее видеть. Он вошел и сказал, что он капитан Петр Карлович Арнольди и что его брат, полковник Арнольди, женился на вдове Россет. Бедная Амалья Ив[ановна] слушала и побагровела. Он ей сказал, что его брат будет вторым отцом бедных сирот и что их надобно ждать через день или два. Петр Карлович ужинал, ночевал и на другое утро уехал. Вечером Амалья Ив[ановна] очень плакала, а на другой день поднялась чистка, хотя все было всегда чисто, примеряла нам платья. Клема объявил, что он уйдет к Батисту, и его оттуда никто не вызовет. Амалья Ив[ановна] решила, что я и Ося должны встречать гостей.
Теперь я скажу, как состряпалась эта свадьба. Две или три роты артиллерийской батареи стояли в Миргороде, Соколах и других местах. Селенья были богаты и вместе были богаты незамужними дочерьми. Туда отправился безногий Арнольди. Арнольди до того хвастал своими воинскими доблестями, уверял, что он очень хорошей фамилии и имеет состояние. Но тут случилось, что Карл Астафьевич Гербель сидел в уголке очень тихо и скромно, но он сказал ему: «Где у тебя состояние и какой ты фамилии? Ты – рижский мещанин Арнольд, а прибавил „и“, как будто ты принадлежишь к итальянской знати, и взял чужой герб. А что касается до твоих воинских доблестей, то тебе одному оторвало ногу под Лейпцигом?». Сконфуженный, он ретировался. А Гербели и Гоголи приехали в Россию с Лефортом и были люди образованные. Карл Астафьич женился на Марье Даниловне Кудашевой и был прекрасный муж и отец. Маменька ехала в Виску к Кудашевым, а на возвратном пути встретила полковника Арнольди на станции. Чем пленилась, для меня непонятно, только через три дня она вышла за него замуж. Кобле ее назвал злодейкой и рвал на себе волосы. Ланжерон тоже. Он его иначе не называл, как le diable boiteux[62].
На другой день утром началось ожидание, приготовлен был завтрак, но они подъехали к вечеру. Мы стали ужинать. На козлах сидел денщик, полупьяный. «Емельян! – закричал грубым голосом полковник, – скорей: отвори дверцу». Он вышел. И как Ося увидел деревяшку, закричал, и его унесли. Потом вышла полковница с молодым мужем, не обратила внимания на меня и Амалью Ив[ановну] и спросила: «А где Клименька?» – «Он у Батиста, маменька». Они ужинали особо. Амалья Ив[ановна] вздыхала и почти ничего не ела, но Ося и я ели по обыкновению, а потом понесли Климе ужин. Мы туда сбегали и рассказали все. Клима прижался к Батисту и говорит: «Je veux aller chez Бабушка. Je ne veux pas voir cet homme». – «Oui, mon petit, vous Irez chez votre Babouchka»[63].
Иван Карлович Арнольди (1780–1860) – генерал от артиллерии, сенатор, герой Наполеоновских войн
На другой день солнце обливало золотом наш милый хутор, создание дорогого отца. Море, как зеркало, покрылось бриллиантом. Издали видны были корабли и паруса, окаймленные бело-розовым цветом. К 11 часам новобрачные вышли в залу, где был приготовлен кофий и чай доброй Амальей Ив[ановной], на которую накинулся полковник, но маменька ее обласкала, потом спросила: «Где же Клименька?» – «Маменька, у Батиста». – «Однако соус выкипел, за это надобно наказывать, я упрямства не допускаю». Потом пошел распоряжаться, как будто все его, и сказал, что хутор – только лишняя издержка и не покрывает расходов. Мое сердце вздрогнуло, я отправилась к Скачко, которому сообщила это известие. «Ах, он! Вот безногий черт!» Все люди как-то оторопели, даже Приська смутилась, Яким и Гапка наградили его не совсем лестными словами. Об Аркаде и Клименьке не было спросу, но они были так малы, что не сознавали этого ужасного равнодушия. Все как-то не клеилось, и вдруг объявили, что мы едем к бабушке в Грамаклею.
Мы скрывали свою радость, простились с садом, с Батистом, со всею прислугой, которая нас очень любила, набрали на берегу моря раковин. Началась укладка не на шутку. Марийка и Гапка уложили белье и платье. Амалья Ив[ановна] велела заготовить провизию, а в бутылках холодный кофий и чай; котлеты, пирожки с мясом, яйца в крутушку положили в миску, которая накрывалась крышкой и служила тарелкой. В свои карманы она положила лакомства. Утром кучера впихивали в чемоданы подушки и постельное белье и одеяла. С нами отпустили Пожидора, который при сей оказии, конечно, был подпоясан красным кушаком. Марийку посадили на запятки и велели ей держаться за кисти. Перед отъездом не садились, как, бывало, в старину полагалось и полагается, а просто запросто нас с холодностью поцеловала полковница, от него мы отвернулись. В карете сидел уж Клименька, а возле стоял добрый Батист. До первой станции мы ехали на своих, а потом не помню, где ночевали, но знаю, что ели, веселились и были уверены, что навеки будем жить у бабушки. Когда мы подъехали к крыльцу, все выскочили. Амалья Ив[ановна] заплакала и бабушка тоже, нас обласкала и говорила: «Играйте, детки! Я вашего шума не боюсь».
В Грамаклее дом был о 5 окон, выштукатуренный и желтого цвета, а крыша была железная, черная. Напротив дома была большая хата, которую тотчас приготовили для нас. Рядом с домом был флигель, в котором Карл Ив[анович] жил и выводил голубей. В самой глубине двора были конюшня и сарай. Там жил кучер Филипп и держал в конюшне козла: «Щобы черт не путал гривы лошадей». По ту сторону дома был сарай, крытый, как и все строения, в старновку. Затем была кладовая.
Давно, еще когда Ришелье был в Одессе, он ездил в Крым, проехал через Грамаклею и видел, что бабушка сидела перед домом, a l’ombra della casa[64], как говорят итальянцы. Он ей сказал: «Катрин Евсевна, что вы не сажал сад?» – «Ах, батюшка Дюк, а где мне достать корней? Тут не найдешь и прута, чтоб сечь непослушных детей». – «Я вам буду присылать». Под осень приехал Батист и вдоль по Водяной посадил деревья, кусты ягод, даже малину, черемуху, кукурузу. Сад тогда уже был важный, а теперь, я думаю, разросся в настоящую рощу. Бабушка, как было сказано, купила десятину по 5 коп., а теперь, то есть в 70-м году, уже платили 40 руб. за десятину. Это имение принадлежит дочери Николая Ив[ановича], Катерине Ник[олаевне] Сталь-Гольштейн, и она там живет с мужем и детьми.
Дворня бабушки была немногочисленна: приказчик Роман, ключница Малашка, у которой указательный палец был точно как веретено, кухарка Солоха, девка Гашка, еще другая, кучер Филипп и мальчик Сидорка, который служил за столом, ходил в белых штанах и по праздникам носил зеленый сюртук, надевал тогда чоботы, служил как форейтор, когда бабушка ездила в церковь.
В полверсте от дома была станция, и смотритель был курчавый малый Измаил. Перед домом был палисадник, в котором росла заячья капуста, барская спесь и повилика. Он был окружен крупными кольями, из окон видны были только гладь и даль. В 40 верстах жила тетушка Екатерина Ив[ановна] Вороновская, ее муж Артемий Ефимович был сын священника из дворян. В Малороссии часто были священники из дворян и были лучшие помещики, а их крестьяне – лучшие работники. Д[окто]р Оболевской был сын священника из дворян, также и почтенный старец Павловский.
Бабушка сидела в своей комнате так, что могла видеть все четыре стороны своего маленького царства. Так как летом окна всегда были открыты, то она хлопала в ладоши, и являлась под окнами Малашка за приказанием. В семь часов она уже пила кофий с Амальей Ив[ановной] и тетушкой Верой Ив[ановной]. Обедали в час: борщ или щи, жареная телятина, так отменная, как не водится в больших городах, и за сим вареники с ежевикой. В постные дни сладкое блюдо составляли шуляки, необыкновенно вкусное блюдо. После обеда она отдыхала, а в четыре часа подавали кофий и арбуз или дыню. Два раза в неделю открывали кладовую, и вся дворня пересыпала из сита в сито просо, горох и мак. Для нас это был праздничный день, мы объедались маком.
Иногда бабушка выезжала на поповских дрожках (поповские дрожки была линейка на две персоны с фартуком). Она меня брала с собой, я ехала без шляпки, пелерины; Амалья Ив[ановна] кричала: «Mein Gott, Sie bringt ein Sonnenblich!»[65]. Когда было слишком жарко, я подползала под фартук. Длинный Роман в синем сюртуке ехал рядом на рыжей лошади и показывал на поля: «Вот тут, сударыня, гирка, а подале у меня 20 десятин под арнауткой, а вон баштаны, гарбузы вовсе плохи от засухи, да и дыня мала». И Роман мне давал маленькую вместо мячика.
Вечером за ужином был кулеш, галушки и манная каша, необыкновенно хорошо сваренная. Я подобной каши не ела нигде. Когда приезжали господа, то важные ужинали и ночевали, чиновники только ужинали, а на станции была чистая комната и постель. Роман говорил, что у Малашки большой запас дынь и гарбузов, она их опускала в Водяную. Водяная тем была замечательна, что так тихо катилась меж высокого тростника, что казалась неподвижной. Раз давно в ней утонул человек, и рассказывали, что он в полдень выплывал греться на солнце, а ночью, в лунную ночь, зазывал к себе запоздалых косарей и девок.
Тетушка Вера Ив[ановна] часто опаздывала к обеду и подвергалась насмешкам на столичное образование. Она воспитывалась в Москве у Цициановых. Амалья Ив[ановна], как представительница западного образования, заступалась за это воспитание, но бабушка не обращала никакого внимания и говорила: «Ты скажи мне, Верка, на що Дмитрий учит бедную девку Варвару Бонгескул танцевать?». Потом бабушка начинала пересчитывать своих сыновей: «Александр женат на Корсаковой. У них есть имение где-то под Петербургом, а они все ездят в чужие края и говорят, что там лучше, я их жду теперь. Николаша служит теперь в Воронеже, он мот и балагур. Митя служит в Ордынском кирасирском полку, в корпусе безносого Прозоровского, он только что женился на его племяннице княжне Волконской. Оно бы хорошо, но совсем бедная и воспитывалась в каком-то институте, и все, верно, по-французски. Катя замужем за Каховым – славный человек, и живут они в Пондике, да несчастье с сыном: у него собачья старость». Я видела часто бедного Ваню. Он точно был похож на старую собаку, уши отвисли, он сидел на корточках и засыпал, сидя на плече у матери. И семь лет томился и он, и она. Отец и бабушка заливались слезами, когда его видели. Нас посылали с Клемой два раза в неделю к нему, он грустно улыбался, когда мы резвились перед ним, он лакал молоко, как собака. Бывает у бедных детей атрофия, но болезни, подобной бедного Вани, я никогда не видала. «Господи, вем, яко отвергнишь, яко же ты велми, – говорил Иоанн Златоуст, – да будет воля твоя», – говорила бедная мать этого страдальца.
Соседей у бабушки не было: ее звали Барандовы и Бредихины. «Що воны думают, щобы я к ним поехала. У них по 500 десятин, зато пьют колодезную воду». К ней, хотя редко, [ездила] двоюродная сестра ее Елизавета Сергеевна Шклоревич, рожденная княжна Баратова. Она жила в 25 верстах от Грамаклеи, в Баратовке. Когда она приезжала, то Улька, бедовая девчонка, нам говорила: «Теперь играйте, можете шалить, сколько угодно. Елизавета Сергеевна приехала». Старушки сидели в гостиной на диване, перед ними стояла на столе ключевая вода, варенье, смоква и другие лакомства. «Представьте, Катерина Евсеевна, что я три года не видела сестры Анны Сергеевны». – «Да на что вам к ней ездить? Она гордится, что она княгиня Кудашева, мы знаем, какие они князья. Кудашевы ездили на запятках у Цициановых (Кудашевы купили себе княжество, кудаш по-грузински значит отхожее место). Ее бублики и сырники хороши, у нее дом со столбами, а штукатурка обвалилась, в доме пыль, а у меня Гашка всякий день моет пол с мылом и солью, щоб не было блох и мокриц. А варенье у нее на меду, и она не стыдится им подносить. А сам старик сидит в зеленом бархатном халате с собольим воротником и в красных туфлях, точно как будто царь какой с того света. Я туда возила Сашу после смерти отца, бо там у них Катенька». Данила Кудашев был адъютантом Багратиона, дослужился до генеральского чина и был убит под Бородиным, а жена его на его памятнике написала: «Смерть разлучила и Бог соединит». Она была дочь фельдмаршала Кутузова и два года спустя вышла замуж за Сорочинского, а дочь отвезла к дедам.
«Кстати, Екатерина Евсеевна, я издержала 5 ф. сахару на ваше варенье. Так не забудьте купить 5 ф., когда пошлете Романа в город». – «Попробуйте этого варенья с имбирем. Это очень хорошо для желудка, мне его прислала Марья Павловна Кулябка. Она мне сродни по Ворожейкиным». – «А у меня просьба до вас, Катерина Евсеевна, отпустите Верочку и Сашу погостить у меня только на три дня». Я при этих словах прыгнула как кошка и объявила свою радость Амалье Ив[ановне] в уверенности, что нас отпустят. Она завязала в узелок мои вещи, а Вера Ив[ановна] уложила свои в сундучок, привезенный еще из Москвы.
Карета Елизаветы Сергеевны была на высоких рессорах и качалась, как люлька. Когда мы уселись, началось маханье платками. У брода начались расспросы, нести ли нас на руках или переехать в карете. Ничипорка (Никифор форейтор, солдат Сабанеева) сказал, что опасности нет. Девке, которая сидела на запятках, велели крепче держаться за кисти, и карета пошла прыгать по крупным камням. Лизавета Сергеевна все время крестилась. Мы ехали крупной рысью по самой гладкой дороге. По обеим сторонам были высокие поля, освещенные солнцем. Мы остановились у церкви, звонили во все колокола, и навстречу нам вышел священник в ризе с епитрахилью и с крестом. Церковь нас поразила своим великолепием, все образа в иконостасе были в золотых окладах, мы прикладывались и все следовали к дому. И дом поразил меня: он был вдвое больше грамаклеевского. За ужином Елизавета Сергеевна объявила нам, что на другой день мы поедем на именины к ее соседям Требинским. Именины в деревне – магические слова. И Пушкин писал:
Уже заря багряною рукою выводит за собою Веселый праздник именин.Кажется, что мой приятель Александр Сергеевич занял это выражение у Северного рыбака, который писал:
Уже заря багряною рукой С покойных зеркальных вод Выводит с солнцем за собою…Далее не помню. Для именин Лизавета Сергеевна облеклась в серое левантиновое платье, натянула белые лайковые перчатки, на голове у нее был чепец с огромным белым атласным бантом, и вся уборка напоминала колокольню. Тетушка Вера была в белом платье и крево, еще модный наряд, завила букли, на шейке черная бархотка, а коса на высокий гребень по-испански. Мне надели белое платье с нескончаемым количеством мелких складок, и розовый платок на шею, новые башмаки и сережки Дюка со змейкой мелких бриллиантов. Мы уселись так, что девка сидела в моих ногах с корзиной абрикосов. В этом благословенном краю плоды растут на чистом воздухе.
До Требинских было 25 верст. Мы выехали рано, чтобы поспеть к обеду. Ничипорка стоял в ливрее на запятках. Мы отъехали шесть верст, и на самом маленьком косогоре карета опрокинулась, неизвестно как и зачем. И Селифан, когда опрокинул бричку Чичикова, сказал всего: «Вот и перекинулась». Но Селифан был пьян, а наш кучер не был пьян. Поднялся крик. Кучер лежал без памяти, форейтор не смел покинуть запятки, Ничипорка стоял как вкопанный; к счастью, прохожие крестьяне нас вывели из затруднения. Прежде всего открыли дверцу и начали вытаскивать Лизавету Сергеевну, которая была высокого роста и уперлась ногами в противоположный угол кареты. Вера Ив[ановна] всей тяжестью лежала на мне, а я уткнулась в корзину абрикосов и преспокойно их уплетала вместо Требинских. Наконец кучер очнулся, подняли карету, и оконфуженный экипаж поплелся снова в Баратовку, к великому удивлению выбежавшей дворни. Ели[завета] Сер[геевна] так и всплеснула руками, когда увидела на моем лбу шишки – то, что Пульхерия (Ив[ановна] называла гуглями. «Что скажет Катерина Евс[еевна]? Дали дитя на руки, а привезут ее изуродованную!». И у нее, как у Пульхерии Ив[ановны], были снадобья. Она приказала настругать ивняка и прикладывать изнанкой к больному месту. Меня страшно баловали, то есть целый день закармливали лакомством. На другой день осталось только желтое пятно, а на третий день из предосторожности мы ехали шагом до брода. У брода Ничипорка всех нес на руках, кроме девки. Шагом мы подъехали к крыльцу в Грамаклее, и Улька закричала, что приехал дядя Александр и тетушка Марья Ив[ановна], при них горничная, красивая Аннушка, которая говорила по-французски, и человек Никита. Елизавета Сергеевна только успела пообедать, и об несчастном приключении не было и слова. Она отправилась восвояси.
Приезд Александра Ив[ановича] был очень неудачен. За столом Марья Ив[ановна] говорила Никите: «Не правда ли, Никита, что церковь Петра лучше нашего Казанского собора?» – «Как можно, сударыня! Десять Казанских поместятся в св. Петре». – «Молчи, дурак, що ты брешешь? Да як же ты смеешь говорить, когда господа кушают?» Напрасно Александр Ив[анович] хвалил кушанье и жареного поросенка. Это было самое утонченное блюдо в Грамаклее, и им потчевали императора Александра, в[еликого] к[нязя] Николая и вообще знатных людей. Недолго они погостили и поехали в Петербург. У Марьи Ив[ановны] был чудный голос, вроде голоса Зонтаг; она была хорошая музыкантша и особенно хорошо пела венецианские баркаролы «La Biondezza In gondoletti» – их всего шесть. Она играла также на флажолете. Марья Ив[ановна] была замечательная личность: она не выносила крепостного права. В ее деревне Гарни Острожского уезда Псковской губернии было 1000 душ. Она любила жить прилично, не принадлежала к высшему обществу и не искала его, а любила заграничную жизнь. Всякий год она созывала крестьян и спрашивала их, могут ли они ей дать чистыми 25 000 рублей. Они всегда доставляли ей эту сумму вперед за весь год. Она им говорила: «Перед смертью я вас отпущу на волю». – «Живи, живи, матушка, нам у тебя и без воли хорошо». С 1000 душ 25 000 асс. кажется, очень умеренное требование. Она скончалась в своем имении Гарни 95 лет и имела удовольствие видеть, что ее желание исполнилось. А крестьяне продолжали ей платить вышесказанную сумму. Император Николай Пав[лович], проезжая мимо Гарней, любовался домом, который на пригорке и окружен садом. Красоты природы никогда не ускользали от его внимания. Человек любит природу.
Перед захождением солнца ласточки то поднимались, то опускались так низко, что крылышками поднимали пыль и оглашали воздух веселыми звуками. Они как будто резвились перед ночным отдыхом и потом укрывались в свои гнезда под крышей. Потом прилетал журавль на крышу сарая, поднимал одну красную лапку и трещал своим красным носиком, зазывая самку и птенцов. Дети говорили: «Журавли богу молятся. Бабушка, пора ужинать». Перекрестившись набожно, она садилась, а возле нее Карл Ив[анович] в белом галстухе, темно-зеленом жилете, таких же панталонах и в ботфортах, а мы вокруг нее с Амальей Ив[ановной] и Вера Ив[ановна]. После ужина приходил Роман со станции и передавал ассигнации бабушке. Она их клала в мешок, который висел над ее кроватью, а медь Роман складывал в сундук в серебряную копилку. После этого она играла в дурачки с Карлом Ив[ановичем], конечно, не за деньги, и очень сердилась, когда он выигрывал.
Самое замечательное в Грамаклее была ничем не возмутимая тишина, когда на деревне умолкал лай собак и сизый легкий дым бурьяна поднимался с земли. Крестьяне вечеряли галушками и пшенной кашей или мамалыгой. Синий бархатный воздух, казалось, пробирался в растворенное окно, его как будто возможно было осязать. Звезды с небесной высоты задумчиво смотрели на заснувшую природу. Бурьяном топят для кухни, а для топки хат делают кизяк. Паллас говорит, что бурьян состоит из пахучих трав: artemisia vulgaris – полынь, cichorium – цикорий, verbascum nigrum[66], dipsacus sylvestris[67], daucus mauritanicus – морковь, conium maculatum – болиголов, achillea nobilis – тысячелистник, мать-мачеха, althea, leonurus cardiaca, lavatera thuringiaca, eringeron, camphora, carduus[68], ослы любят этот куст. Трава в степях выше человеческого роста и вся испещрена подснежниками и гиацинтами – это только весной, но производит удивительное впечатление.
«Портрет Александры Осиповны Смирновой-Россет».
Художник Ф. Винтерхальтер. 1837 г.
Без вас хочу сказать вам много, При вас я слушать вас хочу; Но молча вы глядите строго, И я в смущении молчу. Что ж делать?.. Речью неискусной Занять ваш ум мне не дано… Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… (М. Лермонтов «А. О. Смирновой». 1837 г.)Гоголь провел три недели у нас в Калуге, в загородном доме губернатора, восхищался видом на Яченку и великолепным бором за Яченкой; я с ним была в загородной даче архиерея и заметила, что он записывал виды в своей красной книжечке. Он тут прочел Палласа, от которого был в восторге. Я его прочла в «Murbridge Wallace» в английском переводе. Вообще англичане с давних пор писали об России. Я там же прочла записки адмирала Каприола и очень любопытную книжку голландца Ван-Брандт-Идена, которого Петр Великий послал в Китай. Вся Сибирь тогда была совершенно языческая.
У бабушки была еще дочь, которая жила в Пондике у Вороновских, но когда умерла Екатерина Ив[ановна], она возвратилась в Грамаклею. Она не была хороша, но стройна и грациозна и была необыкновенно кроткая. Раз утром пришли сказать бабушке, что флота капитан приехал на станцию, что бричка сломалась, и он просит позволения ее починить на станции, а вместе желает ей представиться. Бабушка велела его позвать к обеду. Вошел плотный среднего роста господин, очень смуглый, с большими черными глазами и курчавыми черными волосами с проседью. Он расшаркался, подошел к руке бабушки и сказал: «Имею честь представиться – отставной флота капитан Вантос Иванович Драгневич. Еду в Херсон по собственной надобности». Вантос Ив[анович] ел с большим аппетитом и все хвалил. После обеда бабушка пошла в свою комнату и поручила Дунюшке показать гостю сад. Вечером он ужинал и отправился ночевать на станцию. Со станции пришли сказать, что бричка еще в поломке, и где ему обедать? Гостеприимная бабушка сказала: «Надоть человеку и покушать». И он пришел к обеду. После обеда Сидорка принес ему гитару на голубой ленте, и он пел: «Тише, ласточка болтлива» и еще «Ах, Саша, как не стыдно сердце чужое взять и не отдать». И в это время он посматривал на Дунюшку. Вечером она вместе с ним гуляла, а после ужина он сделал предложение. «Що ты, с ума спятил, что ли? У меня все дочери за людьми известными, дворяне, а ты що? Да я отродясь не слыхала такого имени: Вантос Ив[анович], да еще Драгневич!» Бедный Вантос так смутился таким ответом, что не нашелся, чтобы ей сказать, что он из славных сербских князей и дворян. Екатерина их всех произвела в дворяне: Миленко-Стойковича, Стерича, Нерича, Штерича, Георгиевича и Драгневича. Утром хватились Дунюшки. Измаил пришел сказать, что она села в бричку Драгневича с его гитарой и поехала в Херсон. Бабушка всплеснула руками и при мне сказала Вере Ив[ановне]: «До какого сраму я дожила на старости, чтоб моя дочка с чужим мужчиной убигла!». По приезде в Херсон они обвенчались под благословением Дубницкого, он об этом написал, также Дунюшка, но от бабушки не было ответа. Дунюшку это так огорчило, что она заболела и умерла. Вантос перестал играть на гитаре, поставил ей памятник – разбитую вазу на пьедестале, проводил целый день у праха нежно любимой жены; набожный, как все моряки, всякий день бывал у обедни и вечерни, служил панихиды. Он лишился сна и чувствовал, что скоро с ней соединится. В последний день он принес гитару и так грустно запел вечную память, что соседи кладбища сбежались, но нашли только его труп. Дубницкий продал его походную бричку и гитару и похоронил его возле нее. Он написал об этом в Грамаклею. Бабушку это известие повергло в страшное состояние, и она целыми ночами молилась по усопшим. Это мне сообщила Вера Ив[ановна]. Она вышла замуж за полковника Мазараки и по смерти Елизаветы Сергеевны получила Баратовку. Когда Н. И. Лорер возвратился в Грамаклею, он жил во флигеле и женился на бедной девушке, которая жила у Мазаракиных. Мазараки был моряк и взял к себе сироту товарища (фамилии я не помню). От этого брака была единственная дочь Катерина, которую имп[ератрица] Александра Федоровна поместила в Киевский институт. Катенька после смерти дяди Дмитрия Ив[ановича] жила с Варварой Петровной у графа Дмитрия Ерофеича Сакена, они очень полюбили ее и выдали замуж за Сталь-Гольштейна, его адъютанта.
Бабушка боялась приезда Варвары Григорьевны, но ее кротость и смирение победили ее предубеждение. Обе были очень набожны, что не было по вкусу Николаю Ив[ановичу]. Он мне говорил: «Все читают акафисты, каноны и жития святых». Николай Ив[анович] воспитывался у Василья Васильевича Капниста в Обуховке. Наставником его детей был почтенный гернгутер, то есть протестант, не придерживавшийся никаких формул, а просто христианин. Он имел сильное влияние на убеждения Николая Ив[ановича] и не чувствовал потребности иных святых и не верил в чудеса, кроме повествуемых евангелием. Совсем иначе смотрел на эти важные предметы Дмитрий Ив[анович]. У него в детстве была падучая болезнь, и он получил совершенное излечение у Ахтырской божьей матери, куда возила его бабушка. Как ни затруднительны были путешествия, но она через два-три года ездила в Ахтырку. Обыкновенно она нас с собой возила к Андрею Первозванному. Образ был самый уродливый. Святой был похож на казака, всклоченные черные волосы, злые черные глаза, длинные усы, в красном жупане, он держал какое-то оружие в руках, похожее на алебарду наших старых будочников. Но бабушку это не смущало. Кто знает, после смерти дедушки она, верно, ездила там молиться и получала успокоение и утешение. Его похоронили возле церкви и, вероятно, и ее похоронили возле.
Мы недолго оставались у бабушки, полковник и полковница приехали за нами. У них был крупный разговор с Дмитрием Ив[ановичем]. До нас долетали слова: «Продать хутор Ланжерону за 40 000, а дом на Дерибасовской за 20 000». Нас они отправили в Златополь, а они были в Одессе и Херсоне, а приехавши в Златополь, мы уже нашли [их] там. Недаром бабушка говорила при нас: «Надя была замужем за Осип Ив[ановичем] Россет, хороший был человек и Дюка правая рука. Он оставил хоть не много денег, но довольно, чтобы им жить безбедно». Николай Ив[анович] мне рассказывал, что папенька привез с собой деньги из Конст[антинополя]. Однажды герцог его просил составить компанию для ускорения торговли. Отец просил Лоде и Сикара. Они нагрузили корабли пшеницею, и эти корабли должны после привезти колониальные товары. Ришелье призвал отца и сказал: «Mon cher chevalier, je regrette beaucoup de vous avoir engage à faire cette spéculation. Cet Insatiable Napoléon a mise embargo sur vos vaisseaux, c’est avec un coup d’Etat vous pouvez retourner votre capital». – «Mon cher Duc, j’invite Lode et Sicar de me joindre, Ils sont plus pauvres que moi, Il faut que nous supportions cette perte en commun». Le Duc lui dit en l’embrassant: «Ah, je savais bien a qui je me confiais»[69]. Но потом они удачно употребили свои капиталы, и отец мой поместил 300 000 в Херсонский приказ общественного призрения сирот.
Златополь – жидовское гнездо и утопает в черной грязи. Дом был деревянный, большой, или, вернее, длинный и примыкал к саду, в котором были жидкие деревья, крапивой заросли дорожки, и ходить там не было возможности. Мне взяли учителя музыки, он так вышел скверен, что принуждены были его отблагодарить. Маменька зашивала или шила что-то, уронила клубок и сказала Карленьке: «Подними клубок». Он подполз под стол, долго не мог его найти, а полковник его ударил в голову деревяшкой. Он, бедняжка, расплакался, и Амалья Ив[ановна] его увела. Мы переглянулись, полковница покраснела и покачала головой. Первые враждебные действия. За обедом бывали всегда офицеры, кто-то просыпал соль, полковница сказала: «Будет несчастье». В эту минуту Ося подавился костью гуся и посинел. Адъютант Гамалея сидел рядом, у него были длинные пальцы, он проткнул горло и кровь хлынула ручьем. «Мерзавец, есть не умеет!». Мы, я и Клема, сказали: «Нам кроме костей ничего порядочного не дают». «Все ложь!» – вскрикнул этот злодей. Но он иногда любил похвастать своим чадолюбием: поехал в Миргород и привез оттуда мне очень странные козловые башмаки, а братьям из мела или извести фрукты, такую дрянь, что они все покидали. Но, к несчастью, он привез толстую книгу, называемую Энциклопедией. По его мнению, она заменяла все возможные знания. Нас никто не учил по-русски, и энциклопедия осталась мертвой буквой.
Мы недолго оставались в этой трущобе. Пришло приказание выступать в поход. Батарею собрали посреди площади против собора, служили молебен. Арнольди ехал верхом, а за ним вестовой вез деревяшку, как трофей. Златополь принадлежит г-же Высоцкой, одной из племянниц князя Потемкина. Их было четверо: гр. Браницкая, которой принадлежала Белая Церковь, Юсупова, у которой было 40 000 душ крепостных, его любимая княгиня Долгорукая и Высоцкая.
За этим следует
Журнал походу Надежды Ивановны Арнольди
1 февраля я оставила Грамаклею, милые места. С горестным чувством рассталась я с матушкой и милою сестрой. 18 верст переход, который мы должны были сделать, я не переставала об них думать. Приехали в деревню Ремонтаровку, где приготовлена была для нас квартира в господском доме, но хозяев не было дома. Они нарочно для этого случая уехали в гости. Дом их очень скучный и грустный, особенно картины и прочее все такое чистенькое, но удивило меня то, что я нашла там довольно изрядный флигель. Впрочем, квартира сия была для нас очень удобна, мы нашли обед готов; вдруг собрались офицеры, постели наши были готовы, и так как мы поздно обедали, не хотели ужинать, пили чай и легли, спокойным сном уснули.
На другой день утром рано, 2 февраля, вставши, по обыкновению напились горячего, трубы прогремели, означающие сбор. Рота проиграла зорю, мы отправились в путь шагом в м[естечко] Баландино, переход был весьма мал, только 12 верст. Тут мы должны были дневать и ночевать. Квартира наша, хоть не так хороша, однако ж довольно выгодна. Три комнаты очень чистых. Мы здесь только не нашли полковника Лошкарева, ибо он нам со своим полком предшествовал, а сегодня поутру я очень рада была слышать благовест к обедне, церковь же от нас в нескольких шагах, и я ходила к обедне. Удивило меня сначала, что не нашла там ни одной души, кроме двух нищих. Священник служил и два дьячка пели, я узнала, что не большой был праздник св. Симеона и Анны, по той причине и был молебен, что это торжество в[еликой] к[нягини] Анны Павловны. Теперь только 9 часов вечера, но вокруг легли все спать, ибо завтра рано надо выехать.
Оставивши местечко Баландино, выехали мы прежде роты, ехали мы лесом по прекрасной дороге, но видя, что рота нас не обгоняла, спросили у проходящих, куда мы едем. К великой досаде, узнали, что мы взяли совсем противоположную дорогу, должны были воротиться. Доехавши до настоящей нашей дороги, увидели, что рота уже здесь прошла, ибо дорога была очень испорчена, и мы принуждены были ехать по сей несносной дороге 20 верст лесом. Я удивлялась пространству сего леса и воображала приятности лета и зимы. Тут мы видели в самом лесу поселенную деревню, принадлежащую, кажется, Давыдовым (не Каменка ли это, где Пушкин писал стихи Адели?). Церковь тоже есть, местоположение совершенно картинное, между горами и лесом построены избы, а внизу, без сомнения, должна быть река. Приехали мы, наконец, в деревню Александрову, нашли роту, давно пришедшую, и как переход был большой, легли отдыхать, потом обедали и легли спать. Квартиру мы заняли у одного польского господина, который сам живет в Киеве, а здесь только эконом. Тут я вспомнила, что 4 февраля – тот самый счастливый для меня день (а для нас самый злополучный), в который я в первый раз встретила Ивана Карловича год тому назад. Мне живо представилось все это прошедшее время. Могла ли я тогда думать, что через год я буду с ним в походе? На другой день дорога была прекрасная, переход очень был мал – 17 верст. Мы приехали довольно скоро в деревню, называемую Любомировка. Тут подъехали мы к довольно изрядному домику, где я полагала найти эконома, но мы на крыльце были встречены самим хозяином, мужчина польской фигуры. Пришедши в дом, нас встретила хозяйка. Они оба старались нас весьма угощивать, но их присутствие нас женировало[70]. Домик их дурно расположен, их квартира отделяла нас от детей. Хозяйка очень разговорчива, рассказывала об своих соседях и сказала, что старая моя знакомая, г-жа Поджио, живет от них в 8 верстах. Я было хотела к ним ехать, но раздумала и день дневки провела довольно приятно. На другой день мы располагались собираться в путь, как вдруг наш добрый Фридрих извещает нас, что кучер, наш собственный Тимошка, ночью бежал. Эта весть меня не столько потревожила, сколько удивила, ибо сей человек жил у нас с восьмилетнего возраста до двадцати, был человек смирный, трезвый и потому никогда не был наказан. Я долго не хотела верить, но удостоверилась потому, что платье и белье было им взято. Однако ж мы имели много лишних людей, тотчас его место занял другой, и не помешало нам отправиться в путь. Тут я вспомнила, что он куплен нами от г-жи Поджио, имеет там родных, решилась послать юнкера Поццо с моим письмом, где просить (под влиянием безногого черта) на случай, он явится к ней, послать его под караулом в суд для препровождения его к нам (к счастью, это желанье исполнять не удавалось, кто от них ни бежал).
Здесь мы уже оставили границу Киевской губернии и въехали в Херсонскую, что было приметно: избы гораздо лучше выстроены, хлеба у мужиков изобильнее, народ гораздо смирнее и покорнее. Мы приехали в селение, называемое Стацовка, где я была раз тому десять лет, но при всем том узнала дом, где жили Чепелевские; здесь не нашли мы ни хозяйского, ни экономического дому, а остановились в мужицких избах, из которых одна была довольно чиста и велика, а другая, где были дети, немного сыра, но мы нашли средство помочь этой беде. Обили стены коврами и спокойно провели ночь, а на другой день отправились в путь в местечко, называемое Андрусовка (не тут ли был заключен Андрусовский мир?). Тут я узнала весьма приятную для меня весть, что деревня сестры моей Лизаньки в 12 верстах отсель, хотела ей дать знать, но заседатель, который был здесь для препровождения нашей роты, сказал мне, что уже послал по просьбе сестры, которая знала, что мы должны здесь проходить. Я с нетерпением ее ожидала, она в скором времени с мужем приехала. Не нужно, я думаю, изъявлять радость, не видавшись три года, в которые случилась со мной такая важная перемена (такая гадкая). Мы ночевали здесь, по обыкновению имели только дневку и уже делали с сестрой планы, как бы нам проследовать, чтобы до Кременчуга нам не разлучаться. Между [тем] квартирмейстер нам, возвратясь, сказал, что мы здесь приостанемся по причине невозможности переправлять через Днепр, и что следующая нам квартира занята еще Лифляндским полком. Я очень была обрадована сему, мы здесь с сестрой очень приятно проводили время. Поблизости сего селения живет помещик Касьянов, который знаком хорошо с сестрой и по причине сего знакомства всякий день обсылает нас разными продуктами, которых мы не можем здесь достать купить, и как он живет в весьма малом расстоянии, то мы все вздумали ехать к нему, хотя он – человек неженатый. Я удивилась порядку и чистоте, которые мы нашли у него в доме. Дом довольно большой и прекрасно выстроен и меблирован, а местоположение удивительное. Мы нашли приготовленный десерт, тоже подавали кофий, тут приехала золовка сестры моей Кочергина, мы остались немного, и все поехали домой, а сестра оставалась со мной, мы играли в бостон.
«Семейное чтение».
Художник В. Маковский. 1866 г.
На другой день муж мой получил известие, что мы должны здесь оставаться по причине опасной переправы и что Лифляндский полк также останется и занял все деревни впереди нас. Муж мой, видя по всем обстоятельствам, что мы должны будем остаться здесь дней семь или более, квартира наша не так была выгодна, чтобы прожить без тягости, вздумал переехать к вышесказанному помещику. Может быть, мы и не решились бы на это, если бы, бывши у нас утром, не предложил это сам. Пользуясь его предложением, поспешили переехать в его дом. Казалось, он был нам очень рад, угащивал нас самым лучшим образом, стол, чай, все было у нас общее с хозяином, после обеда прекрасный десерт, время проводили приятно. В Касьянове мы убивали время более за бостоном, всякий вечер играли: сестра, хозяин дома и капитан Паскевич (брат фельдмаршала); мы нашли у него библиотеку и читали книги, играли в биллиард, и так время у нас проходило незаметным образом при всем том, что жили 15 дней, и, наконец, 18 февраля получили известие, что Днепр очистился и Лифляндский полк тронулся вперед, и мы на другой день выступили. С чувством благодарности простились мы с добрым нашим хозяином, но сестра провожала нас далее. Мы въехали на ночлег в селение, называемое Табурица, однако ж прежде должны были проходить через местечко Крылову. Сей городок мне очень понравился, местоположение прекрасное, сестра, которая сидела со мной в карете, показывала мне дом, в котором останавливался в[еликий] к[нязь] Николай Пав[лович] (он был у нас на хуторе, ему поставили стул на пригорке, он в подзорную трубу любовался морем и кораблями: не пришла ли ему тогда мысль укрепить Севастополь, я знаю, что он там был). Дом выстроен довольно велик; наконец, мы прибыли в местечко Табурица. Квартира наша была в двух мужицких избах, но довольно велика и чиста, мы там обедали и ночевали. Ночью мы услышали, что погода переменилась, сделался сильный ветер, и брат мужа Павел Карлович (Павел Кар[лович] был прекрасный человек, он был сильно ранен в голову сабельным ударом, и над глазом был большой шрам) известил нас, что ветер напрягает, и он велел фельдъегерю переправляться и что несколько эскадронов ожидают на берегу благоприятной погоды, и так мы подвинулись еще ближе к Днепру в Белоц[ерковку], деревню тетки княгини Кудашевой; остановились в ее доме, где люди ее нас ожидали, имея от тетушки давно приказание все приготовить к нашему приезду. Мы тут имели хороший ужин, и как мы находились уже от Днепра в семи верстах, то к вечеру Иван Кар[лович] сам ездил посмотреть переправу. Переночевавши в Белоцерковке, я получила, не зная, как быть, пристяжные к переправе, пустились спешным маршем к берегу. Тут уж должны были проститься с милой сестрой, и мы в одно время выехали со двора, только в разные стороны. Приехавши в Крюков прямо на берег Днепра, где уже Иван Кар[лович] нас ожидал, паром и шлюпки, все было готово, мы немедленно вышли с карет с детьми. Экипажи наши и большая часть людей были поставлены на большой паром и отчалили уже от берегу. А я с детьми и Амальей Ив[ановной] сели в шлюпку. С нами была только Марийка и Наташка, добрый наш Фридрих и унтер-офицер Андрианов, а попутчики наши были какие-то два офицера и солдаты, похожие на инвалидов, и я заметила, что они все были пьяные, и как только мы тронулись, поднялся ветер и вместо сияющего солнца небо покрылось черными облаками. Потом начал накрапывать дождик, все это меня устрашало, и чем далее мы плыли, тем более поднималась погода, и как только что мы пристали к берегу и наконец к мосту, по которому должны были идти с полверсты до берега, вдруг начался дождь с ветром, снегом или градом, так что едва мы могли держаться на ногах; я удивлялась детям, что на них это не делало никакого влияния, они еще бежали и смеялись, кроме один Карленька плакал, и то, я думаю, что в шлюпке, на руках у Марийки уснул и потом просыпается и видит себя на ветру и дождю. Приставши на берег, я так устала, что в силу могла дышать, просила провести нас куда-нибудь в дом, где бы могли отдохнуть. Тут брат Павел Кар[лович] попался нам навстречу, он проводил нас к береговому, мы вошли в маленькую комнату, где сидела одна старушка и торговала у купца русского нитки и прочие товары, и я полагала, что это ее жилище. Здесь во всем видна была бедность, и я просила у нее позволения отдохнуть в ее доме, что она охотно позволила. Я увидела маленьких детей и спросила, чьи они. Она мне сказала, что это внуки от дочери, которая была замужем за князем Ратеевым, он здесь береговым приставом и живет здесь, но теперь поехали в лавки. Между тем я вижу, что сам князь с женой и дочерью входят в комнату. Я увидела в нем тотчас обыкновенную грузинскую физиономию доброго и простого человека. Она казалась очень занята своим княжеством. Погода вдруг переменилась, небо очистилось, блеснуло солнце, и я просила Павла Кар[ловича], чтобы он нашел нам двое дрожек и отвез бы нас в назначенную квартиру, что было вскоре исполнено, и хотя князь был так учтив, что предлагал нам завтрак, но я не согласилась. И так как мы не могли все поместиться на двух дрожках, то я прежде поехала с Сашей, а на других Павел Кар[лович] с Клименькой и Марийка с Карленькой. Приехали на квартиру русского купца. Квартира хотя изрядная, но, по несчастью, хозяин был вдов, не было женщины, только один мальчик вертелся, кровати не было, где бы отдохнуть. Приехала Амалья Ив[ановна] с детьми, с Наташкою и Гришкою. Павел Кар[лович] с Фридрихом остались на берегу с намерением переехать на ту сторону, между тем поднялся опять страшный ветер, а мы здесь остались без провизии, без денег. Дети просили есть, ибо уже был час, я не знала, что делать. Подумавши, я заняла у хозяина денег, послала Гришку купить нам хлеба, кренделей, просила хозяина поставить самовар, дать нам чаю и сахару. Он так был добр, что все нам доставил. Между тем является наш Фридрих и говорит, что они с братом по причине сильного ветра не могли переправиться на ту сторону. Я очень была рада, что имею хотя одного человека, послала его тотчас в трактир заготовить нам обед. Он нам приносит семь блюд, очень вкусно приготовленные, и каждого блюда было на две персоны и стало на пять рублей.
Я не чаяла в этот день видеть Ив[ана] Кар[ловича], но вдруг слышу в сенях стук, и он входит в комнату, я велела подать чаю, потом он поужинал и мы легли спать. На другой день я удивилась скорой перемене погоды, ветер совсем утих, солнце сияло во всем пространстве. Нам дали знать, что рота наша давно уже переправилась, и Иван Карлович уехал к берегу, а я с Амальей Ива[новной] отправилась в лавки, чтобы купить разную провизию к дороге. Я нашла большую разницу в цене с прочими городами: сахар, кофий, дорогие только апельсины.
Утром Иван Кар[лович] оделся, чтобы с артиллеристами явиться к генералу Богуславскому, о котором я прежде слыхала. Офицеры собрались; после обеда я встретила нашего хозяина Касиянова, он мне сказал: «Вечером придет посидеть с нами». После мы поехали к старой моей знакомой Варваре Ив[ановне] Грубе, но потом я заехала к Драгневичевой, но видела, что ставни у ней закрыты, и нам сказали, что она поехала в деревню к Раздориной. Мы вернулись домой, Касиянов посидел с нами, а я потом письма заготовляла к завтрему, и тем кончился день.
На другой день утром уложились совсем. Иван Кар[лович] поехал, чтоб провести роту во всем параде через город и между тем показать ее Богуславскому, который желал очень ее видеть. Я узнала, что смотр будет на площади перед собором, только мы в двух экипажах (я с Сашей, а Амалья Ив[ановна] с детьми) в большой карете поехали и остановились возле церкви – я видела, что служат обедню, пошла в церковь, удивилась, что церковь так велика, прекрасно выстроена, а иконостас так стар и беден, и живописи так мало, стены в нем, людей тоже было мало, только были те, которые говеют. Увидевши, что рота приближается, я села в карету. Время было бесподобное, истинная весна. Тут начали приезжать в каретах, колясках и теснились на эту площадь. Потом прибыл Богуславский верхом. Рота начала проходить тихим шагом, потом скорым маршем вокруг площади. Зрителей было очень много, около моего дормеза много всяких дам, я узнала только одну Гельфрейнову, из мужчин только подошел ко мне Толстой, которого я испугалась и, верно, не узнала бы, если бы Пожидор мне не сказал: «Несчастный в нищете, одет точно нищий». Мне жаль его жену и детей. Потом я видела, что рота пошла уж в улицу по надлежащей нам дороге. Проехавши нашу квартиру, последние экипажи выехали, Богуславский провожал роту за шлагбаум и там простился с Ив[аном] Кар[ловичем], изъявлял свою благодарность за сделанную ему честь сладким поцелуем и жатием руки, сделал мне низкий поклон и уехал. Иван Кар[лович] отпустил некоторых офицеров в город, сам подъехал к ближайшему трактиру, велел дать солдатам по рюмке, сам выпил стакан, и мы пустились далее.
23 февраля. Вышли мы из Кременчуга, шли по прекрасной прямой дороге, где по обеим сторонам виднелись беспрестанно деревни, везде церкви. Сделавши 20 верст, пришли в местечко, называемое Омельянов. Оно пребольшое, три церкви; так как его считали казенным, то я полагала, что мы остановимся у какого-нибудь попа или богатого мужика – напротив, нас подвезли к господскому нарядному дому. Вошедши, я увидела и диваны и картины, но никто из хозяев не показывался, кроме двух женщин, которые нам сказали, что их господин – отставной майор, старик, вдов и без детей, но что они все уехали в Кременчуг. По обыкновению, обедали. Я полагала, что здесь будет дневка, однако на другой день мы должны были выехать. Отъехавши две версты, мы должны были сделать маленькую переправу через реку Псел на двух паромах; наши экипажи переправились, и мы, не дождавшись, поехали в назначенную нам квартиру Пески, стоящую на почтовой Полтавской дороге, поэтому мы смело ехали без провожатого, никого не спрашивая, надеясь на почтовую дорогу. Ехавши, я увидела по левой стороне большое селение: на пребольшой горе была церковь, а внизу большой дом каменный, в два этажа, крыша, выкрашенная зеленым цветом. Я прежде полагала, что это Демидовка, в которой я была 12 лет тому назад, но потом хорошенько рассмотрела и узнала, что это Манжель, деревня Николая Васильевича Капниста. Я тут представила себе живо то время, когда я здесь была почти ребенком, и все припоминала, как сидела в лесу, как бегала по горе, все это припоминала с великой приятностью – а между тем все ехали далее и, наконец, уже потеряли из виду сии прелестные места. Я спросила, где село Пески, нам ответили, что давно оставили за собой, и русский мужик нам сказал, что Пески разделяются от Манжели одной рекой. Принуждены были воротиться, отъехавши назад верст шесть, увидели в стороне дорогу, которая привела нас в Пески. Здесь мы имели дневку. На другой день, это было воскресение 25 числа, и я ходила к обедне. Оставивши Кременчуг, я не переставала искать средства поехать к Петру Васильевичу Капнисту, наконец хотела ему писать, но и это не знала, каким образом сделать, как случай доставил мне это удовольствие. Куплено было сено, и мужик просил очень дорого. Иван Кар[лович] велел призвать мужика, чтобы с ним поторговаться, спрашивал, чей он. Он говорит, что с Манжели Капниста и что сено господское; я сказала, что мне нужно отправить письмо Петру Ва[сильевичу], он мне отвечал: «Извольте написать, я отправлю с нарочным». Я весьма была рада и дала ему письмо.
На другой день вышли далее, день был настоящий весенний, мы проехали здесь одну прекрасную деревню, где выстроен дом и весь двор очень хорошо, потом проехали деревню Хорошки, принадлежащую знакомому нашему Маслову, а другая половина – Сушковой. Приближаясь к назначенной для нас деревне Буняковке, мне сказали в Песках, что она принадлежит одной девице Остроградской и что там очень большой дом, то я и рассчитывала, что мы будем у ней квартировать. Нас везли прямо к ней на двор, однако к какому-то старому флигелю, где Иван Карлович нас ожидал и встретил нас тем, что сия целомудренная девица не хотела нас впустить, но Ив[ан] Кар[лович] велел насильно отпереть вороты и занял этот флигель. Она сказалась больной. Мы очень хорошо тут пообедали и ночевали и сидели все на дворе, пользуясь бесподобным временем. Церковь у нас была в виду в нескольких шагах, я решила идти к вечерне, но узнала, что в ней никогда не служат, что доказывает хорошую хозяйку, да и видно, что хозяйка очень приветлива.
27 числа пошли мы к Решетиловке, время казалось всякий день лучше, но грязь все была более, так что совершенно ехали самым тихим шагом. Но, не доезжая Решетиловки, квартирмейстер нас встретил тем, что не ехать туда по причине сильной воды, и потому мы должны поворотить на селение, называемое Чернега. Я только жалела, что не видела того места, которое славится выделыванием смушек наподобие крымских. Не доезжая до Чернеги, мне говорят, что прекрасная наша канареечка вылетела из клетки и летает по степи; все наши люди побежали за ней, но она долго нас мучила, летая с места на место. Я уже была в отчаянии, тем более что Ивана Кар[ловича] это бы огорчило, он всегда ею любовался, но наш добрый кузнец Абдулла ее поймал. Все люди из Адамовки, которые так усердны, что раб всегда готов служить.
Здесь мы имели квартиру у мужика очень богатого. На другой день рано утром велела подать кофий, который нам принесла Татьяна. На вопрос, зачем не Пелагея, которая всегда одна варила, нам сказали, что она больна. Я тотчас догадалась, что время пришло ей родить, ее отвели в другую избу. Я не знала, что мне начать делать, ибо мы были совсем готовы выехать. Перед нами был переход в 20 верстах, я же знала, что там будет дневка. Но Татьяна приходит и говорит, что она уже родила девочку, очень скоро и благополучно. Я удивлялась, как бог милостив, что он, видно, покровительствует этих мерзких, но при том несчастных тварей. Я после начала хлопотать, как бы избавиться от ее ребенка, но все сделать скоро, ибо рота ушла. Экипажи все мы отправили, оставя только дормез и коляску. Мне сказали, что есть молодая женщина, которая согласится ее взять. Ее привела старуха мать, обе тотчас согласились, она просила 200 р., чтобы дала на бедность, и я дала 135 р., а Пелагею хорошо управили, положили в коляску, и мы поехали. Иван Кар[лович] мой (все знают, что он ваш) был верхом впереди на полверсты от нас; мы выехали опять на большую почтовую дорогу. Не доезжая до места, мы обогнали все наши экипажи, так тихо они ехали, как вдруг Абдулка говорит мне, что на косогоре опрокинута была карета. К счастью, дети не ушиблись, только испугались, но карету очень испортили, то есть кузов на одну сторону раскололо. Натурально, я ужасно испугалась и досадовала, конечно, более на кучера и на Ив[ана] Кар[ловича] за то, что, не знавши кучера, поверил ему экипаж с детьми.
Приехавши в селение Супруновка, Иван Кар[лович] встретил меня тем, что какое несчастие, тут я с ним немного поспорила, мне так было больно и досадно, что я весь вечер проплакала. Бедная Амалья Ив[ановна] ушибла себе руку, а более, я думаю, испугалась, легла в постель, я велела натереть ее водкой с мылом, и она уснула. Здесь мы имели дневку, я рада была за Амалью Ив[ановну]. Карету починил кузнец кое-как, а я скроила темного ситцу коптырь[71]. Квартира наша была очень нехороша, даром что у малороссийского помещика. Иван Кар[лович] почти насильно отвел нам две комнаты. Я никогда не думала, что малороссияне так негостеприимны, грубы, скупы как помещики и, одним словом сказать, гораздо хуже поляков. Я очень была рада, выехавши рано с этой деревни. Погода была прекрасная, а как мы были 8 верст от Полтавы, скоро пришли туда, но не остановились, а только прошли мимо. Я не могла рассмотреть, но часть города, где мы проходили, мне очень понравилась, тут я видела монумент в память победы над шведами (если вы встречаете хохла и не знаете, с виткиля? Если из Чернигова, он скажет – с Чернигова завзятый, если из Полтавы – с-пид монумента). Вокруг нас было прекрасно, дома в два этажа, должно быть, присутственные места. Тут я остановилась разменять деньги, пока рота не дошла. Нам должно было с прекрутой горы спуститься, и мы все вышли с карет: на левой стороне церковь была окружена большим строением и лесом. Я догадалась, что должен быть монастырь, и спросила у проходящей женщины. Это точно был мужской Крестовоздвиженский монастырь. С этой стороны смотреть снизу на Полтаву, вид совершенно очаровательный; тут виден дом Кочубея, о котором я столько слышала, – сад должен быть в аглицком вкусе, не засеянные аллеи, а как будто густой лес. Это Диканька, виден был дом и беседка в саду. Спустившись с горы, мы проехали четверть версты, как должны были переехать реку Ворскла, которая в сие время разлилась от Полтавы до местечка Требы, разлилась, я думаю, версты три, мы местами ее ехали по грязи, а местами водою, которая в иных местах так была глубока, что покрывала изрядные камни; как никак все благополучно переехали. Проехавши эти Требы, затем была прекрасная дорога лесом, и дорога так суха и гладка, как бы в комнате. Я беспокоилась только за Ивана Кар[ловича], чтобы он не простудился (не беспокойтесь, он прожил до 85 лет, а вас похоронил 35 лет), я велела в лесу остановить, а сама вышла погулять, я видела, что он прислал солдата с дрожками, и мне сказали, что он остановился у трактира, велел всем солдатам дать по рюмке водки, а сам хочет сесть на дрожки, и мы поехали к деревне, называемой Параскеевка, там расположена была рота, а нам отвели квартиру у одного помещика Магденко. Неподалеку нас встретил хозяин и хозяйка, оба во всей форме малороссы (отчего такое презрение к ним, кажется, в Грамаклее вы были чистая хохлачка, и говорите и пишете как хохлачка), но в их домике все было чисто и порядочно. Они отдали нам две комнаты и приняли нас точно как гостей, потчевали кофеем, чаем, вареньем, однако прием их не заставил нас переменить дурное мнение об малороссийских жителях, считал же наш квартирмейстер Жданов (Аркадий его любил и называл Басбуком), что не деньги их портят; я не знаю, за что они нас так угащивали, не за то ли, что Ив[ан] Кар[лович] сказал, что с одним Магденком он был друг и, кажется, наш был родня, а я сказала, что матушка моя из Полтавской губернии, также ей напомнила об Шмаковой: она мне сказала, что они приятельницы. Здесь я не ожидала такого удовольствия, получивши два письма, оба от Астромовой (она была рожденная Аахман, их было три красивых еврейки: Юля была компаньонка Марьи Антоновны и вышла за Кириченко-Астромова. Она была православная, а сын ее иезуит и живет в Брюсселе. Иезуит Гагарин говорил мне, что он помешан), а Ивану Кар[ловичу] от брата Александра; оба пишут, что ожидают нас с нетерпением. Я тоже должна была писать нужные письма и писала до 12 часов, когда все вокруг меня спало. Я просила хозяина отправить в Полтаву, и он мне дал об этом слово, и мы поехали 3 марта. Переход наш был довольно велик, 30 верст, но я полагала ехать до деревни графа Кочубея, называемой Гутово, деревня очень велика и хороша, но нет господского дома, но управительский домик изрядный, где мы остановились. Услышав, что звонят в церковь, и как то была суббота и звонят к службе, пошла было, но, пришедши в церковь, узнала, что звонят по умершим, а через час только будут звонить к вечерне, я воротилась, пили чай и все легли спать. На другой день рано отправились в местечко Калинов в 15 верстах от Гутова. Местечко довольно обширное, и жители, видно, сильно зажиточные; оно принадлежит уже Харьковской губ[ернии], мы здесь останавливались у одного поселянина на дневку, я была довольна, ибо сумела кончить свой капот, после делала шляпку, продолжала писать свой Журнал, в котором я была назади несколько дней. Завтра мы отправились в село Кавега, довольно пространное, местоположение прекрасное, почти все в садах, и жители, видно, весьма достаточные. Не добравшись верст пять от Кавега, мы неподалеку от имения графа Д’Олона, называемое Ливенделовка, которое он получил за женой и в котором жила ее мать Мартынова, сама всегда жила; мне сказали, что он теперь в отпуску и живет с нею в самом Харькове. Нам в Кавеге отвели квартиру в одной вдовы, изрядные две комнаты, и мы, по обыкновению, обедали с офицерством и легли спать, только и перебыли, что видели самую квартиру и разные виды. Из Кавег пришли мы в местечко Люботин в 30 верстах, переход довольно был велик, остановились у одной помещицы, но дом ее весьма сиротский, нечистая мебель вся старая, и хозяйка была очень неопрятная, хотя была со мной очень вежлива. После обеда принесла мне кислых яблок, которые я очень люблю. Здесь я должна была разлучиться на несколько дней с Иваном Кар[ловичем], чтобы ехать на почтовых до Харькова, мне есть там надобность делать покупки, и после обеда поехала с детьми и Амальей Ив[ановной]. Хоть несколько часов, но мне грустно было расставаться с Иваном Кар[ловичем] (вот полюбился сатана, лучше ясного сокола). Однако ж день был прекрасный и как от Люботина до [Харькова] остается только 18 верст, то мы полагали, что засветло туда приедем. Дорога хотя и сухая, была по большей части пески, была причиной, что мы опоздали. Прибыли в 7-м или 8-м часу. По дороге в Харьков мы беспрестанно проезжали, или в стороне, большие и зажиточные деревни, а в 12 верстах от Харькова проехали мимо бесподобного монастыря, в лесу строение, место чудесное; прежде, увидя только церковь и дом, а внизу несколько мужицких изб, я и полагала, что это дача какого-нибудь богача, но потом, видя еще две церкви, одна возле другой, и много строения, похожего на монастырь, тут приехал мужик, я спросила его, кому это принадлежит, но он, видно, меня не понял и сказал, что все это принадлежит богатому купцу, который живет в Харькове. После я узнала, что это монастырь, но не могла узнать, какой (Святые горы, основанный Татьяной Борисовной Потемкиной). Проехавши немного городом, я велела спрашивать хорошего трактира, где бы можно иметь хороший обед, ужин и корм для лошадей, но сначала наши вопросы были неудачны, все попадались нам женщины, которые шли в церковь, которая была освещена и отправлялись поклонные вечерни. Наконец один русский мужик взялся охотно проводить нас в, по его мнению, самый лучший Оберет. Я послала человека вызвать трактирщика, вместо которого пришла трактирщица и рекомендует нам постоялый двор русского купца напротив, а наше кушанье мы можем иметь у нее. Я очень была рада, ибо я не терплю трактиров, мы приехали к доброму русскому купцу, который отвел нам две комнаты во втором этаже изрядные, все прочие были заняты проезжающими. Для нас согрели самовар. Мы пили чай и легли спать. Я с нетерпением дожидалась рассвета, который нас соединит с Иваном Карловичем. Все располагала, что надо купить, заказала обед, велела купить хлеба, который здесь очень хорош, а за обед за пять блюд по три рубли с персоны я нашла очень дорого. Квартира наша была на большой улице, где беспрестанно проезжали разного классу люди, и все больше военные, и по различным мундирам видно было, что из разных полков. Я увидела наш обоз, потом лазарет, я обрадовалась, полагая, что рота должна быть близко, но после этого еще я вижу, что наш доктор Багулевич идет мимо нашей квартиры. Я наверное знала, что он нас ищет, послала к нему. Он пришел и вдруг меня испугал, сказавши, что Иван Кар[лович] ехал на дрожках, ось сломалась и лошади понесли, и он соскочил без всякого вреда, а Ивана Карловича понесли далее, но, к счастью, остановились, и он без всякого вреда соскочил с дрожек, едет верхом, а рота еще оставалась позади. Наконец Ив[ан] Кар[лович] подъезжает к дому бодр и весел. Рассказал, что при въезде в город повстречал графа Д’Олона, что он его узнал, тоже помнит меня и обещал быть тот же вечер у нас. Я было хотела съездить в лавки, но пришедшие гости, знакомые Ив[ана] Кар[ловича], помешали. Первый – полковник Граббе (почище Ивана Карловича), прекрасный молодой человек, потом другие, а теперь и родной Пузанов, родной брат тому, который женат на Драгневичевой, человек он не дурак, но собою не авантажен, а бакенбарды его ужасны, но он удивительно как полюбил нас, точно как родной с нами обедал и во все время нас не оставлял (этот должен был быть вроде Ноздрева). Прошли другие все артиллеристы, наконец показалась наша рота, все пошли смотреть, как она прошла мимо города в селение, называемое Даниловка, расстоянием в 10 верстах от Харькова, а мы весь тот день оставались в Харькове, с нами обедал Ган, адъютант графа Палена. После обеда я поехала с Амальей Ив[ановной] в лавки. Цены в разных продуктах никакой разницы с Кременчугом, хотя лавок здесь изобильнее. Улицы сухи, не так грязны, как в Полтаве. Мне очень хвалили магазин Витковского и что там можно все найти. Правда, есть довольно хорошие вещи, как то: фарфор, хрусталь, и все почти петербургской фабрики, бриллиантовые фермуары, но то, что нам нужно было, не нашли, и потому купили только на сто рублей. Потом я ездила с Иваном Кар[ловичем] в Спассков трактир, где продаются самые лучшие водки, ликеры и вина. Мы велели позвать хозяина, он приходит, и я узнаю в нем одесского, бывшего в Андросовой лавке. Он нам сказал, что отец его – содержатель трактира. Мы велели ему принести к нам на квартиру водки. Мы у него много купили, и он, ради моего знакомства, уступил на каждой бутылке по рублю дешевле. На другой день мы расположились рано выехать, но нас задержали письма, которые мы должны были писать в Херсон (вероятно, чтобы взять из нашего капитала 300 000, что нам принадлежит) и доверенность засвидетельствовать того же утра. Того ж утра приехал к нам граф Д’Олон. Я нашла, что он похудел, кажется авантажнее прежнего, а более, я думаю, генеральские эполеты и ордена. Он также и мне пофлятировал[72], сказал, что я ничего не переменилась. Клеминьку он нашел, что он очень похож на покойного (а кто был покойный – разве вы подавились бы, сказавши: отца?), просил нас остаться этот день и быть у него, но мы учтивым образом отговорились (еще бы, что делать Арнольди у порядочного человека). К нам опять пришел Пузанов (вот это каналья по нем, воображаю, что это была чисто гоголевская фигура), который с нами не расставался, проводил нас в карету, был уже 3-й час.
Иллюстрация к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Художник Л. Тимошенко
9 марта оставили мы Харьков, на ночь приехали в Даниловку. Квартиру имели в маленьком господском доме. По обыкновению все было одно. Мой Иван Кар[лович] пошел в баню, а я пошла спать. На другой день погода была очень дурная, туман, дорога тоже была очень дурная, сыпется снег сверху, а внизу вода. Мы уже отсюда должны были взять дорогу, противную маршруту и идти на Белгород по причине разлития реки, называемой Донец, в Волчанске, и хотя мы шли по Белгородской почтовой дороге, но с затруднением переезжали мелкие лощины, и все почти ехали шагом, потому нам переход до деревни Черемошни показался в 30 верст, а не более было 25. Деревня Черемошня летом показалась бы нам раем, ибо вся расположена между горами и небом, но по причине дурной дороги спуск с престрашных гор показался нам адом. Мы доехали до нашей квартиры, и я нашла уже, что мой Иван Кар[лович] (даже наши все знают, что он ваш, когда им делитесь с Марийкой, Наташкой и Филипповной) сидит с хозяйкою, изрядная, хотя и худая фигура, она нам отдала три комнаты. Переночевавши здесь, на другой день мы рано пустились в путь по такой же песчаной дороге. Погода все была пасмурная и туман, но, приближаясь к Белгороду, начинала переменяться, показалось солнце, и с горы мы увидели прекрасный Белгород, который, казалось, наполнен церквами и монастырями, и я от любопытства насчитала 13 церквей. Тут мы должны были спуститься с большой горы. Иван Кар[лович] прислал нам солдат навстречу, чтобы осторожнее спуститься с горы, и мы очень хорошо переехали через грязный мост. Мы остановились в доме русского купца против девичьего монастыря. Я тотчас спросила хозяйку, где жила грузинская царица, она мне сказала, что здесь, в этом монастыре, в котором также находится Корсунская божья матерь. На углу монастыря была маленькая часовня, и я видела монахиню с колокольчиком, она собирала на церковь. Я пошла к ней и спросила, кто у них игуменья, она мне сказала, что игуменья очень рада, если ее навещают, и что у них делают прекрасные ковры, я ей сказала, что приду к вечерне и зайду к игуменье. Тут я узнала, что в соборе лежит св. Иоасаф, которому тоже служат панифиды, и он многих излечивал. Итак вечером я пошла к вечерне, которая служилась в маленькой теплой церкви, которая уже этой игуменьей построена, с того дому, где жила грузинская царица. После вечерни я пошла к игуменье; она очень ласково приняла меня, расспрашивала меня обо всем и удовлетворяла мои вопросы касательно их образа жизни. Она живет не пышно, но чисто и порядочно, показывала мне образа, которые вышивает фольгой, и девушек, которые ткут ковры совсем иначе, чем те, которые в наших местах работают. Один мне очень понравился, я просила ее прислать к соседу, он направит Ивану Кар[ловичу], мы его купим. Она прислала, и мы заплатили 100 р., кажется, недорого. Так здесь была дневка, время было прекрасное, теплое, мы ходили с Амальей Ив[ановной] в собор, отслужили панихиду, прикладывались, и я видела лицо и руки, как у живого, только что высохшие и черные. Меня какой-то невольный страх объял. Священник дал мне немного хлопчатой бумаги, которой он обтер лицо и руки. Отсель пошли мы в монастырь слушать часы, ибо то был вторник. Выслушавши часы, игуменья пригласила нас к себе на завтрак, и мы с ней занялись. Мы увидели, что Иван Кар[лович] с братом Осипом Кар[ловичем] и с доктором приближался, и мы поняли, что время обедать. После обеда занялись обыкновенным нашим провождением времени, а Иван Кар[лович] всегда хлопочет: одно купить, другое починить, отдает разные приказания по службе (точно Наполеон), в забирании также фуража, подвод и пр.
На другой день поехали в деревню Шляхово, здесь в первый раз увидела я курные избы, точно курятники. Для нас нашли одну с печкой, но вся она черная, не вымощенная, только всего два окошка и темно, но я была рада, что не видели тараканов. Мы только переночевали, а на другой день зашли в деревню Новослободка, все такие же курные избы. Русские люди, женский костюм – носят на голове род повойника, но сверху покрывается полотенцем, но народ, кажется, очень беден, одеты точно нищие, хотя видим в них довольно хлеба. В этой слободе отвели нам квартиру у священника, здесь мы только переночевали; на другой день, вставши рано утром, узнали, что вечером, когда мы были уже в объятиях Морфея, приехал к нам полковник Мазараки, приятель и бывший под командой Ивана Кар[ловича]. Так как он со своей ротой стоит в местечке Корана в 13-ти верстах, которое мы должны проходить тот день, Иван Кар[лович] мой был очень рад его видеть, он мне сказал приятное известие, что только четыре дня он был в Курске и видел брата Митеньку и что он послал к нему нарочного сказать о нашем приезде. И так я опять поехала: ночлег был у одного помещика Сушкова, я была в вечере, но везде у него грязь и скука, и я рада была, когда оставила его жилище. Я приехала в Старый Оскол, который довольно просторный, в нем есть прекрасные дома, много лавок; мы стали в прекрасном купеческом доме, тут нам была дневка, и как от Старого Оскола до Воронежа не более 120 верст, это была уже последняя неделя поста, мне казалось, что я сумею там говеть, притом же мне Иван Кар[лович] советовал с уверением, что, по его расчету, он приобщится в 10 верстах от Воронежа в первый день Христова Воскресения и что он может приехать ко мне в первый день праздника. Хотя я долго колебалась, но при всем том решилась ехать в дормезе с Сашенькой, девкой и человеком, взяла подорожную на шесть лошадей. Иван Кар[лович] меня провожал до реки Оскола, которую должно было тут же в городе переезжать. В сухое время переезжают через мост, но теперь поверх моста была вода по брюхо лошадям, и как была маленькая опасность, то мне советовали переехать в лодочке, такой маленькой, что лишь я с Сашенькой могли сесть. Исправник сам был моим лоцманом, мы переехали очень хорошо, также и экипаж. Иван Кар[лович] переехал на ту сторону и тут же со мной простился. Мне было очень грустно, но утешала мысль, что я до первой станции имела бесподобную дорогу, и я полагала, что так будет продолжаться до Воронежа. Меня на станции подвезли к курной избе, вышли русские ямщики, собираются запрягать; я спрашиваю, кто здесь хозяин, записывать подорожную; мне отвечают: мы все хозяева, и подорожную не нужно записывать. Меня этот ответ удивил, и я просила скорее закладывать, но они начали мне отсоветывать ехать против ночи, что было уже 5 часов пополудни, уверяли меня, что дорога далее очень дурна. Я им не хотела верить и потому велела непременно запрягать. Когда все было готово, я видела, что на козлы сел 15-летний мальчик, а форейтор немного старее его. Я хотела переменить, но они сказали, что по череде им досталось. Не успели проехать полверсты, увидели, что снег показывается, и чем далее мы ехали, тем более находили снегу, так что отъехавши три версты, карета остановилась в снегу, и сколько ни было лошадей, никак вытащить не могли. Я принуждена была послать своего человека верхом, чтобы он привел людей нас вытащить и пару лошадей; между тем наступила ночь, но, к счастию, были светлые ночи, и месяц сделался довольно велик. С нетерпением я ожидала, я думаю – час, возвращения человека. Наконец он привел двух лошадей и людей, которые с помощью друков [вытащили], и еще взяли двух провожатых до будущей станции. Мы проехали всю ночь; не доезжая до станции, провожатые стали просить, чтобы и их переменить, что они прозябли, а как я сама очень устала, и жалко мне было своего человека, он почти всю станцию шел пешком, то я и велела заехать в избу самую лучшую. Хотела там отдохнуть до света; вошедши в избу, я испугалась, нашедши ее грязною, и горящая лучина, от которой был дым и угар. И так я уговорила Сашеньку здесь остаться с девкой, а сама пошла в корчму, где уснула немного, ибо вскоре начало светать, и мы со светом пустились в путь по весьма дурной дороге к городу, называемому Новодевицк, не доезжая коего версты три, на пребольшой горе, остановились лошади, коих было десять. Мы здесь стояли с час, и я хотела послать в город за людьми, но, к счастью, подъехал наш солдат, который был прежде послан за справками в Девицк. Он нам помог взъехать в гору, и я боялась, чтобы он не напугал Ивана Кар[ловича], написала ему записку карандашом и поехала прямо на почту, где переменила лошадей и, напившись чаю, тот же час поехала далее, полагая тот же день быть в Воронеже, но со мной исполнилась старая пословица: l’homme propose et Dieu dispose[73]. Проехавши версты четыре, опять заехали в такой снег, что одно колесо почти до половины было покрыто снегом. Как ни придумывали, как бы нам выехать, вдруг является солдат, проходящий мимо, подходит, начинает с большим усердием вытаскивать карету. Я спрашиваю, какого полка, и узнаю, что также артиллерийский, идет в отпуск в Воронеж. Я удивилась его усердию, а он почти один поднимал карету, пот лил ручьями с его лица, и точно бы можно с помощью вытащить восемь лошадей, но ямщики были такие мерзкие, не хотя принимать, жалея своих трудов, и потому все оставалось на одном месте. Потом подъехало много извозчиков, их просила нам помогать, в чем отказа не было, и начали тащить, я думаю, 20 человек, но и тут ничего не сделали, даже с места не стронули, но бог послал нам помощь. Исправник, проезжая для встречи роты, подъехал ко мне, просил не беспокоиться, видел, что вперед нельзя вытащить, велел подать назад, и тогда уже вытащили, запрягли лошадей и поехали через другой переезд (теперь, при железных дорогах, и во сне не приснится такое происшествие). Я очень благодарна была исправнику, но тут уже потеряла надежду быть тот день в Воронеже. Приехавши в селение Турово также прямо на почту, нашла смотрителя и узнала, что до Воронежа надобно переехать Дон на пароме, расстоянием от Воронежа в 10 верстах, да от Турова до переезда верст 30, хотя здесь версты меньше наших, здесь почти саженные, а у нас семисаженные. Однако было уже 6 часов пополудни, потому я осталась здесь ночевать. Меня было хотели везти к священнику, но как это было далеко от почты, не поехала, хотела ночевать на станции, но карета не подошла в ворота, а здесь обыкновенно, что каждый мужик имеет крытые ворота. Против почты я видела у мужика довольно высокие, велела вымерить и очень была рада, что карета могла ехать на двор. Хотя мне говорили, что изба курная, мне это не помеха и я нашла очень доброе семейство и довольно чисто. Хотя в избе были полати, но для меня их стащили на двор, и я нашла две чистые лавки, где велела сделать постель себе и Сашеньке. Вечером не велела топить, а вместо их лучинушки зажгла свою восковую свечу и этим услужила хозяйке, ибо она всю ночь просидела у свечи, поспешая к празднику шить рубахи, любовалась, что горит свеча, да еще восковая. А муж ее, старуха мать и дети, все влезли на полати и там ночевали. Я удивлялась, как они могли вынести такой жар. Внизу была такая теплота, что я открыла возле себя деревянное окно без стекла. Я удивлялась простоте этих людей, точно дикий народ! Все, что видели у меня, всему удивлялись. Я подарила ее дитяти шелковый платочек, она так была рада, точно помешанная сделалась, кланялась, на знала, как меня благодарить. Наречие их такое странное, особливо женщин, что я и мало понимала. На другой день, напившись горячего, поехали мы далее. Одно воображение, что через несколько часов я буду в Воронеже, меня восхищало, я начинала уже забывать ужасные беспокойства, страх, все претерпеваемые мучения, при том же и дорога была лучше. Беспокоила меня еще река Дон в деревне Самолуки. Подъезжая к берегу, не видела на той стороне ни деревни, ни почтового двора, спрашивала здесь, где я там возьму лошадей, мне сказали, что надо на сей стороне взять обывательских, с ними переехать, и они доедут до Воронежа. Итак, я послала отыскать старосту, велела ему собрать лошадей, а сама поехала к берегу. Река была очень узка и вода была чиста от льду, но меня уверили, что они замечают по воде, что скоро должен идти лед, и тогда нельзя будет переехать, и потому я очень поспешила и, благодаря бога, мне не было тут остановки, переехала очень хорошо на пароме и поехала по прекрасной и сухой дороге к Воронежу, который издали был уже виден (читая, вероятно, многие из них не читали Геродота: он, вероятно, видел какое-нибудь селение и спросил, как название; ему сказали, но притащили ворону – он в своем любопытном путешествии у скифов назвал это место Ворона, а ныне Воронеж). Приехали в город, я велела везти нас прямо к приятельнице своей Астромовой; ее муж там при должности губернского прокурора. К счастью, ямщик знал его квартиру. Проехавши небольшую улицу, он повернул влево и подвез меня к весьма хорошему двухэтажному дому. Взглянувши на свою любезную Julie, которая, по всему обыкновению, смотрела в лорнет, я не помню, как взбежала на лестницу и бросилась к ней на шею, она тоже обнимала с дружеским восторгом. Я нашла в ней большую перемену, она была желта, худа, причина сему была лихорадка, продолжавшаяся уже два месяца; она также нашла во мне некоторые перемены. Мужа ее не было дома, дети ее меня узнали. Она не знала, чем нас угостить. Они были после обеда, но она приказала сделать мне маленький постный обед, ибо была страстная пятница; сама она ничего не ела в тот день, дабы Господь избавил ее от лихорадки, и тот день она ожидала, но ее не было. Провели вечер очень приятно в разговорах. Хотя для нас была приготовлена комната внизу, но она не хотела отпустить меня одну до приезда Ивана Кар[ловича] и детей, и мне приготовлена была постель в гостиной, и Сашенька тоже со мной. На другой день поутру я ездила в церковь приложиться к плащанице и была все очень весела в надежде, что увижу Ивана Кар[ловича] и детей в первый день праздника, как вдруг приходит человек и говорит, что меня спрашивает офицер. Я вышла в залу, нашла там точно офицера Лихачова, он приехал с Усмани нас здесь встретить. Я была очень рада, когда он мне сказал, что сейчас едет далее, дабы найти роту, и так, поговорив с ним об наших новых квартирах, не удерживала его более. На другой день, светлое воскресение, вставши рано, я со Астромовыми поехала в церковь их прихода, не хотела ехать в собор, полагая, что здесь меньше будет народу, тем менее еще чиновников, но мы ошиблись: как тех, так и других была куча, теснота страшная, но мы стояли в таком месте, что нас не беспокоило, ранее других уехали домой, где любезной хозяйкой приготовлен был завтрак и кофий, все, что кто хотел. Но я не долго была весела. Явился опять наш Лихачов и сказал, что он вернулся, потому что никак нельзя переехать через Дон, по которому идет большой лед, что рота не пришла еще к берегу. Нечего было делать, как иметь терпение. Астромова пригласила нашего офицера обедать. Все утро приезжали с визитами, и по множеству экипажей я могла заключить о величине города; тут я нашла старого знакомого и мне по родне свояка, пастора Вебера: брат мой Шмаков женился на родной сестрице. Потом я видела много мужчин, в том числе губернатора, который в разговоре между прочим говорил, что ждет 17-ю конную роту, но река Дон так разлилась, что навряд ли через неделю может переехать, что меня очень огорчило. Я полагала, что губернатор, верно, известнее всех, так как он обязан споспешествовать в переходе войск: между тем время было бесподобное, солнце сияло, было тепло, и я не могла понять, отчего и откуда лед взялся. Офицер наш меня успокоил, что послал солдата проведать, проходит ли рота.
Воронеж в XIX веке
На другой день приезжали многие в дом, и милая Астромова, хоть не так здорова, принимала единственно для меня, чтобы меня развлечь. Познакомила меня короче с любезным семейством Дебальцевых. Он и она – препочтенные старики, имеют трех дочерей: старшая нехороша и ряба, но имеет что-то приятное и очень мила и скромна, вторая недурна собой, а третья – красавица, но ее еще не вывозят. Они екатеринославские помещики, богатые, получают доходы ок[оло] 40 000, но в Воронеже имеют дом и потому живут здесь. В прошлый год они провели шесть месяцев в Петербурге, дочери брали уроки у Фильда (Фильд был англичанин и сочинял des nocturnes[74], никто не мог играть их, как он их играл. Лист, когда был в Петерб[урге], играл их на одном концерте. Екатерина Андреевна Карамзина, которая часто слышала Фильда самого, мне сказала, что он несравненно играл лучше Листа. Я это сказала Листу, он мне сказал: «Elle est parfaitement raison»[75], он предпочитал игру Фильда игре Шопена), и они профитовали[76]. Это мне сказала Астромова, которая сама большая мастерица. Прочие дамы – порядочные карикатуры, исключая еще одной Шкидановой: прекрасная собою, недавно замужем и со вкусом одета. Еще я видела даму, у которой на фабрике делают шали наподобие турецких, я никогда бы не подумала, что она не настоящая, я, которой так известны турецкие шали. Астромова сказала, что они не будут как турецкие, но лучше, чем купавинские (купавинские делали у Юсупова. У помещицы Колокольцовой, кажется в Саратовской губернии, ткали шали. У императрицы Александры Феодоровны была пунсовая – ткань совсем особенная, и красная краска особенной красоты. Купавинские шали носили только купчихи).
На третий день праздника, то есть 27 марта, я увидела, что наши квартирьеры приехали, потом аптечный ящик; я уже не сомневалась, что рота переправится, потом я вижу, что все наши экипажи проезжают мимо дому, я послала их встретить. Первые приехали дети с Амальей Ив[ановной]. Хотя сказали, что нам отведены квартиры, и Иван Кар[лович] велел прямо туда ехать, но Астромовы не отпустили. Амалья Ив[ановна] сказала, что рота хотя переправляется, но к обеду не поспеет переправиться, и мы обедали, не дождавшись Ивана Кар[ловича]. После обеда мы увидели, что весь народ во всех углах бежит, и я догадалась, что наша рота идет, и не ошиблась. Рота шла во всем параде, в загородном селении река Воронеж разделяет сии селения. Я узнала, что мой Иван Кар[лович], проводивши роту, возвращается в назначенную для нас квартиру, велела запрячь карету Астромовой и поехала на квартиру. Не успела приехать, и он встретился; не могу выразить радость, которую я чувствовала (вы радовались и не знали, что он грешным образом пытался оскорбить вашу дочь, а когда Амалья Ив[ановна] ему сказала, что скажет вам, этот мерзавец ответил: «Я тебя убью, скверная старуха!»), я с ним тотчас поехала к Астромовым и успела познакомить его с ними; мы ужинали и легли опять внизу (и тут этот урод опять хотел меня оскорбить, но я убежала к Наташке).
На другой день дневки Иван Кар[лович] мой ездил к Столыпину и к своему старому знакомому, председателю Бедряге, а я была у Вебера, мне было очень приятно видеть пасторшу Екатерину Ив[ановну], она, мне кажется, помолодела, разговор наш был больше о Капнистовых и об моих родных. Вечером приехали Дебальцовы, с ними ужинали и провели время очень приятно. На другой день я должна была [проститься] с милыми Астромовыми, и мы по-прежнему потащились в поход, но дорога была изрядная. Мы еще две ночи ночевали, хотя только 60 верст от Воронежа до Усмани, на третий день в 11 часов приехали в Усмань, но еще за 7 верст были встречены чиновниками и помещиками, которые провожали нас в город, где при вступлении был молебен с пушечной пальбой. Усмань в Тамбовской губернии, в нем не более трех тысяч жителей. Мещане довольно зажиточны, судя по их наряду; женщины носят на голове гарнитуровые платочки всевозможных цветов. В старину попадьи их надевали. Однажды император Александр Пав[лович] встретил в коляске, а попадья была вся в розовом и в модной шляпке, хотел сказать Синоду, чтобы приказали одеваться поскромнее и носить потемнее, но это не состоялось, и ныне даже в деревнях эти дуры носят платья с хвостами и надевают их даже в церковь и не чувствуют, что им к лицу как корове седло. У усманских мещанок рубахи миткалевые, они носят в воскресенья и праздничные дни парчовые душегрейки, ожерелья из безрядных жемчугов, тоже и серьги; зимой эти душегрейки почти до колен и обиты куньим мехом. Они вообще красивы, но, по несчастью, белятся и сурьмятся, опять-таки зубы их черны. Мужчины носят кафтаны, обитые козьим мехом, летом в накидку на кумачовую рубаху, а зимой – в рукава.
Усмань
Дом, в котором мы жили, был, конечно, о пяти окон: три окна в зале, одно в диванной с дверью на балкон и одно в спальне полковницы и полковника, а за этим была наша комната для Амальи Ив[ановны] и для меня. Этот дом был странно построен: довольно высоко, как будто в два этажа, а между тем внизу ничего не было, кроме сплошной деревянной стены. На дворе были две комнаты, которые считались кабинетом Арнольди. Далее на дворе была кухня и огород, а налево от дома сараи и конюшни. Вправо от дома была гауптвахта, налево площадка, на которой был праздничный развод. Против дома была небольшая церковь, в которой никогда не служили, и перед церковью стоял юродивый в белой рубашке, подпоясанный красным кушаком, без шляпы и босой. Если ему бросали деньги, он своей длинной палкой их отбрасывал. Влево от площадки был собор. Братья мои спали в зале на тюфяках, одеяла – еще старые, одесские, парчовые, оранжевые с серебряными цветами. Они утром молились с Фридрихом «Vater Unser»[77]. Фридрих приютился в уголке на ночь у самого ватерклозета. А я ложилась с Амальей Ив[ановной]. Полковник обычно делал свой туалет на балконе; раздетый, как Вазари, по пояс, он блевал и утирал себя полотенцем, брызгал, фыркал, щипцами выдергивал волосы из ноздрей, а после этого я должна была нести чай. Вижу теперь эту чашку с крышкой. Я рассказывала Гоголю про его мытье, и он это вывел генералу Бетрищеву, с той разницей, что серебряная. Нам приказано было целовать эту наглую руку, мы прикладывались к ней и громко плакали. Приказано было звать его папенькой. Мы говорили: «Петрушка!». «Что вы сказали?» – спрашивал он гневно. «Мы сказали: папаша». Боже, что накипело негодования и злобы в наших детских сердцах! Карленька жил с Марийкой внизу, и его никогда не носили наверх. А он был болен, у него выходила кишка, и он был самый кроткий и милый ребенок. Одна наша добрая заступница Амалья Ив[ановна] всякий день к нему ходила. Полковница заставляла меня вышивать по канве шелком и все просто крестом и какой-то странный узор. Я беспрестанно ошибалась. Меня за это ставили в угол. Я к Амалье Ив[ановне] смело ходила, чтобы получить немного кофия, который она сама варила на конфорке и пила с густыми кипячеными [сливками]. Утром нам давали вечное молоко с булкой, а на второй завтрак в 12 часов Арнольди сказал, что довольно с нас пеклеванного. Делали тартины с маслом и редькой: он объявил Амалье Ив[ановне], что сыр слишком дорог. Иногда Дмитрий посылал нам тайком телятину или холодную говядину.
Я раз слышала ужасный крик у гауптвахты. Несчастный рядовой кричал: «Ваше высокоблагородие, за то, что одна пуговица худо пришита, 500 розог!». Амалья нас увела в сад. Нас водили гулять по усманским улицам, всего была одна длинная влево от дома, проходя мимо окошек капитана Паскевича, который сказал: «Une moche de chienne»[78] (его Арнольди назвал за это циником). Перед его окном стояла пьяная Улька, она никогда не шила, но переваливалась с ноги на ногу и была тоже юродивая. Он ей говорил: «Что, Улька, брат мой Федор глуп?» – «Глуп, а будет фельдмаршалом». – «А я?» – «Ты умен, с неба звезды хватаешь, а будешь вечно капитаном». – «А знаешь ли ты, что безногий черт задал рядовому 500 розог за то только, что у него одна пуговица была дурно пришита? Попадись он мне и Бремзену, как бы мы ему с радостью закатили 1000!». Паскевич никогда не был в нашем доме. Бремзен стоял не знаю где со своей батареей, был отличный командир и человек образованный и, конечно, не мог сойтись с неучем, как наш милый отчим.
«Жаль мне деток, – говорила Улька, – ведь он, говорят, грабит и пустит их по миру». Ведь юродивые все знают и видят, что в доме творится. В пять часов собирались офицеры в залу, где обедали. Он à la tête de la table[79], а возле него его адъютант болван Жданов. Мы на том конце стола с Амальей Ив[ановной]. Арнольди всегда находил случай оставить братьев без пирожного. Если были пирожки с вареньем, Амалья Ив[ановна] тайком их прятала в свой ридикюль, и он их выкрадывал у нее. После обеда запрягали коляску нашими старыми лошадьми, а кучер и форейтор были в каких-то странных армяках, подпоясанные красным кушаком. Мы один день ездили к полковнику Гакебушу, где нас угощали кофием, ягодами. У них росли оврикулы, которые мы называли звездочки, и пахучий калуфер. Как попал Гакебуш из Одессы в Усмань, мне неизвестно. Они были бездетны и большие приятели Амальи Ив[ановны]. А на другой день мы ездили в лес, где рыжий мужик нам давал прекрасный ржаной хлеб и соты с медом. В лесу мы собирали грибы и ягоды. За обедом полковник рассказывал турусы на колесах о своих воинских доблестях, потом потешался над Паскевичем и пьяной Улькой, ему Жданов, его лазутчик, все пересказывал. [неразб.] Противный Осип Кар[лович] тоже ко мне приставал. Он был красив и ловок, но очень развратен, женился на какой-то княжне Хованской. Она с горя умерла, а что с ним было, не знаю. Когда и где родился Саша Арнольди, не знаю. Для него наняли рыжую, рябую и гадкую няньку Аннушку. Осенью, когда нельзя было выезжать в коляске, мои братья обязаны были возить Сашу в санках по зале, и не будь Фридриха, они бы его ударили головой о какую-нибудь мебель.
Воскресенье для меня была чистая каторга. Меня завивали, причем маменька беспрестанно повторяла, что я урода, и я ездила с ней в собор, где была сумасшедшая женщина, которой я боялась, и она заставляла меня подавать ей медные пятаки. По возвращении домой приезжал на паре в дрожках хромой городничий Белелюбский поздравить с воскресеньем (это принято в губернских городах, и в Калуге к нам приезжали с поздравлением по чинам), потом стряпчий Баросов, совершенно испитой и вечно в пуху, от него несло сивухой, вечером он играл в бостон, какая-то старуха, которая родня какой-нибудь важной персоны, помещик Прибытков с женой и дочерью, помещик Федоров с женой и десятилетней девчонкой тоже оставались на бостон.
Эти Федоровы были совершенные Маниловы: льстили полковнику и полковнице самым отвратительным образом. Закатывая глаза к потолку, Федорова говорила: «Какое счастье для детей ваше второе замужество, что они нашли такого нежного и заботливого отца». На что последовал, конечно, утвердительный ответ, а подлую девчонку мне ставили в пример благодарности и нежной дочерней любви. Мне было так гадко, что я молчала. Верстах в десяти жили помещики Волховские, они были очень горды, потому что были потомки Волховских князей (последняя из княжон Волховских вышла замуж за мещанина этого города). Граф Блудов был тогда министром внутренних дел, она просила помощи у государя, который приказал ей выдать 10 000 асс. Она купила домик и была очень счастлива. Sic transit gloria mundi[80]. У Волховских было две дочери и при них была гувернантка француженка. Она для практики заставляла их играть комедию сочинения m-me Жанлис. Узнавши, что я говорю по-французски, от Волховских приехали звать маменьку погостить у них. Он очень сухо обошелся с Арнольди. Я играла у них в комедии «Les deux colombes»[81]. Рядом с нами жил Петр Ив[анович] Бунин, который звал нас к нему на именины. Петр Ив[анович] показывал саше, сделанное из бумаги, и на отделке вместо шелку был простой картон. Анна Ив[ановна], сестра его, была сочинительница очень плохих стихов и при сей верной оказии писала стихи брату. У них за обедом подавали буженину. Это блюдо совсем позабыто, оно очень вкусно приправлено разными специями по-старинному. Была также маринованная дрофа, по-фр[анцузски], кажется, outarde, по моему мнению, прегадкая, полусладкая утка. Было бланманже, красное или полосатое, кроме того, пирожное, и пили за здоровье дорогого именинника цимлянское. Гакебуш не посещал дом полковника Арнольди.
Вскоре получилось известие, что князь Яшвиль приедет делать смотр 17-й конной артиллерии. Лицо Яшвиля было очень неприятное, что-то суровое и холодное, и он участвовал в страшном убийстве в Михайловском дворце. Ему очистили залу, а братьев перевели вниз. Он остался доволен и прибавил, что надеется, что государь тоже будет доволен, что его на днях ожидают в Борисоглебске, где была батарея Бремзена, которым он был чрезвычайно доволен. Наконец получили известие, что приедет император. Весь дом очистили, выколачивали мебель, обили новым ситцем, выписали провизию из Воронежа на почтовых тройках. Государь и князь Петр Михайлович одни поместились в доме, нас всех перевели вниз. С государем был его камердинер и метрдотель Миллер, которому служил наш Дмитрий, к счастью, в трезвом виде. Матушка родила за две недели перед тем дочь. Государь изъявил желание ее видеть. Первая комната была завалена подковами, сбруей и прочей дрянью. Не обращая внимания на беспорядок, государь сказал: «Мы с вами старые знакомые, если ваша дочь не крещена, я хочу быть ее крестным отцом и желаю, чтоб ее нарекли Екатериной. Avez-vous quelque chose à me demander?»[82] – «Государь, я озабочена воспитанием детей». – «Вашу дочь я помещу в Екатерининский институт, брат Михаил, как артиллерист, будет платить за нее, а этих молодцов я беру на свой счет в Пажеский корпус: кажется, у вас есть еще сын Карл Александр – и его помещу туда же на свой счет». У царских особ особенная память: он не забыл, что обещал герцогу Ришелье нас не оставлять. Я сделала реверанс, а братья низко поклонились. «Vous êtes conditionnés, mes petits jeunes gens, j’espère que vous soyez dignes officiers et serviez avec zèle votre patrie»[83]. Государь выпил чашку зеленого чаю с молоком и отправился отдыхать и обедать. Арнольди не был при его посещении маменьки и не был зван на обед. На другой день был, по обыкновению, развод, батарея Бремзена пришла и соединилась с батареей Арнольди и стояла лагерем в поле вне города. Городничий Белелюбский всюду скакал во весь дух перед коляской государя, запряженной вороными лошадьми. Александр Пав[лович] любил весьма скорую езду и не терпел ожидать. На одной из польских станций явился маршалка в белых штанах, шелковых чулках и башмаках с пряжками, снял свою треуголку с черным султаном и сказал: «Ваше императорское величество! Польское дворянство имеет честь и проч.» – «Хорошо! Волконский, пора ехать! Форейтор, запрягать!» Маршалка сел на запятки, так что его никто не видел, кроме Ильи, и [проехал] 25 верст по страшной грязи, слез тайком и скрылся. Это мне рассказывал в[еликий] к[нязь] Михаил Павлович и помирал со смеху, воображая забрызганную фигуру маршалки. Вечером был смотр, и матушка взяла меня с собой в коляске. Государь подъехал к ней и сказал несколько самым приятным тоном, он был сердечкин и дамский кавалер, как выражаются губернские барышни. Во время посещения государя я видела в первый раз столовый прибор герцога Ришелье (его было 9 пудов, много vermeil[84]). Он мне подарил этот ящик, а мне не досталось даже чайной ложки. Полковник Арнольди был communard[85] и находил, что твое – мое, а мое – не твое. Государь был очень доволен батареями, особенно батареей Бремзена, были лошади всех шерстей: вороные, гнедые, рыжие, чалые, саврасые, соловые, пегие.
Князь Лев (Леван) Михайлович Яшвиль (Яшвили) (1772–1836) – генерал от артиллерии (1819), генерал-адъютант (1831).
Художник Д. Доу. 1823–1825 гг.
После его отъезда все пошло старым порядком. Наступила скверная осень. Грязь была такая, что не было возможности выходить. После уроков с Амальей Ив[ановной] по ее серой немецкой книге мы сидели, как мухи, по углам и шептались, потому что у матушки были страшные головные боли и на ее голову лили холодной водой. Наступила зима. Снег падал хлопьями так, что не видно было ни зги и не слышно было ничего. Мертвая тишина наводила какое-то чувство уныния и страха. Дверь отворилась, и вошел в комнату господин небольшого [роста], весь покрытый снегом. «Брат Александр! – воскликнул Иван Кар[лович]. – Как я рад тебя видеть! Вот дети жены, а мои уже спят. Наденька – брат Александр». Она вошла. Он ее поцеловал, и подали чай. У Александра Кар[ловича] были очень густые брови, из-под которых видны были серые глаза с весьма приютным и добрым выражением. Фридриху приказали приготовить постель в диванной. Александр Карлович был председателем Уголовной палаты в Тамбове, был человек честный, бескорыстный и всеми уважаемый. Он был женат на девице Молчановой, у которой было состояние. У него было восемь человек детей, в течение месяца все умерли от скарлатины, и жена умерла с горя. Александр Кар[лович] нас очень ласкал, мы казались ему жалкими. Он сказал матушке, что уроки Амальи Ив[ановны] недостаточны, учителей в Усмани нет, чтобы подготовить братьев в Пажеский корпус, а меня в Екатерининский институт, и предложил ей послать всех в Тамбов, оставить в его доме и сказал, что мы получим бесплатно приготовительное воспитание у его приятеля, генерала Недоброва. Генерал Недобров был из любимцев имп. Павла, как и Аракчеев. Аракчеев был очень умен и большой мизантроп, его угрюмый и слишком строгий характер не был в уровень с его умственными способностями. Сенатор Боратынский тоже был в числе любимцев вел. кн. Павла Петровича. Недобров получил 2000 душ, большая часть имения была в Васильевке Моршанского уезда, а в Кирсановском уезде, богатом дубовыми деревьями, была маленькая деревня Вельможка, где был маленький дом. Александр Кар[лович], видя наше грустное положение, нас очень ласкал. Он привез из Тамбова ящик конфект и дал его Амалье Ив[ановне] для нас, и у нас сердце екнуло. Он оставался не более недели и перед отъездом сказал, что Амалья Ив[ановна] не в состоянии нас приготовить: меня к вступлению в институт, а братьев в Пажеский корпус; по-русски нас учил также юнкер Коднер, очень учтивый и добрый молодой человек. И предложил матушке переехать весной в Тамбов, остаться в его доме, а он нас повезет к генералу Недоброву, у которого есть гувернер – немец, очень добрый и ученый, а его жена – гувернантка его маленькой дочери, которой десять лет. После его отъезда конфекты были конфискованы, ими пользовались Манилова-Федорова и ее противная дочка.
Весна была ранняя и прекрасная. Арнольди располагал батарейными лошадьми как своею собственностью. Кучера выезжали шестерик и четверик. Мы немало поплакали, прощаясь с доброй Амальей Ив[ановной], Карленькой и Аркаденькой, ему было шесть лет только (он скончался в нынешнем году в Москве на руках у своего верного слуги поляка Фрица, который ходил за ним как нянька, потому что последние года своей жизни он был великий и терпеливый страдалец. С ним я потеряла всех своих братьев, которых мне передал дорогой отец на смертном одре). Я сидела в дормезе с маменькой, а братья в четвероместной карете с Наташкой. К моему ужасу, я проснулась в четвероместной карете, и возле меня мерзавец лежал. Дверца была открыта, я вышла и позвала Наташку, которая сидела на запятках. Мерзавец пошел в дормез, и таким образом я доехала с братьями в Тамбов. Александр Кар[лович] нам обрадовался. Я спала одна, а в другой комнате Наташка, и дверь была немного отворена, я спала всегда очень крепко, проснулась с ужасом: возле меня лежал мой заклятый враг. Я вскочила, позвала Наташку, легла возле нее, и она заперла дверь на задвижку. Наташка мне сказала: «Я все расскажу Александру Карловичу». На другой день я слыхала, что Александр Кар[лович] ему сказал: «Ведь это уголовное дело, если ты еще тронешь Сашу, я же ее научу придти ко мне с жалобой и угоню тебя туда, куда Макар телят не гонял. Я слышал, что ты кому-то хвастал, что ты убил станционного смотрителя оглоблей. Если бы ты это сделал в моей губернии, я бы без суда повесил на первой осине. В нашей семье порядочных только три брата: Петр, Павел да я. Осип с детства был дрянь и бегал за девками, и ты был всегда жаден и зол и тоже бегал за девками. Отец наш был бедный, но честный человек, а ты немало горя ему причинил. Что ты хвастался своей деревяшкой? С 12-го года немало русских ходят на деревяшках: у Дризена отняли ногу до бедра, у Кульнева вся нижняя челюсть повреждена, он этим не хвастает. Берегись ты у меня, я пугать не люблю». Мы беспрестанно подходили к Александру Кар[ловичу], его целовали, даже его руку. С каким восторгом мы сели в карету с ним, когда поехали к Недоброву. Прощаясь с маменькой, мы ей все целовали руку и при ней мы все сказали: «Прощайте, Иван Кар[лович]», поцеловали Наташку, которой велели как можно лучше прятать фунт конфект, которые Алек[Сандр] К[арлович] нам дал и велел отдать их Амалье Ив[ановне] для Карленьки и Аркади.
Генерал Недобров принял нас очень ласково, сказал, что надеется, что нам будет приятно жить у него, и, оборотясь ко мне, сказал: «А ты, моя миленькая, будешь неразлучна с моей Варенькой, которой десять лет». Василий Александрыч был довольно высокого роста и плотный, волосы его были совершенно седые. Васильевка меня поразила своим великолепием. Большой дом был в два этажа, под зеленой крышей, окружен садом и цветниками, влево от дома был большой каменный флигель под красной крышей. Там жил гувернер, племянник генерала, сирота Данила Недобров, трое братьев Боратынских: Ираклий, Лев и Александр, сын гувернера и мои братья. У них была своя прислуга, туалет их был очень аккуратен, их купали в холодной воде, на это было несколько ванн. В большом доме жили две взрослые дочери Василия Алекс[андровича] – красавица Катерина В[асильевна] и Надежда В[асильевна], весьма приятной наружности смугляночка, очень живая и веселая, жена гувернера с дочерью Варей и я. Против дома была церковь во имя св. Петра и Павла, главы были позолочены, внутренность была восхитительная, все образа в золотых окладах, ризы священника и дьякона были богатые, в церкви был паркет, на одном крылосе пели женщины и девки, на другом мужчины. Церковь набивалась битком крестьянами и крестьянками, многие стояли на паперти. Богослужение отправлялось с возможной торжественностью, никому в голову не приходило не стоять молитв. В будни все собирались в большую залу, где уже был накрыт стол, на котором лежали груды тартин с маслом, разного печенья, кренделей, подковок, самовар уже кипел. Василий Алекс[андрович] входил в залу и читал громким и твердым голосом утренние молитвы, я слушала разиня рот, потому что кроме «Vater Unser» никакой не знала. Потом Василий Александр[ович] и все становились на колени, он читал молитву поминания дрожащим голосом и всегда поминал покойную жену и императора Павла. Он уходил один с Варей пить кофий у себя на балконе против церкви, где покоился прах его жены. Я не знаю, кто она была. А его старшие дочери разливали чай и кофий для прочих. Три повара работали на честную компанию, у которой от весеннего живительного воздуха был волчий аппетит. Потом все отправлялись учиться.
Читателю, может быть, любопытно узнать некоторые подробности о семействе Боратынских. Их род, говорят, происходит от князей Барятинских. Мать их была девица Черепанова, одна из лучших воспитанниц Смольного монастыря. Когда ее старшего сына Евгения отдали в солдаты, она помешалась и не выезжала из своего имения. Евгений был камер-пажем, задолжал и просил дядю, сенатора Боратынского, дать ему денег. Старик ему отказал. Когда тот ушел, в отчаянии нечаянно юноша увидел золотую табакерку с алмазами, принадлежащую его дяде, и продал ее, вероятно за бесценок. Дядя не пощадил красивого и даровитого племянника, его разжаловали в солдаты и сослали в Гельсингфорс. Там он влюбился в Аврору Карловну Шернваль и писал ей свои первые стихи:
Выдь, дохни нам упоеньем, Соименница зари. Всех румяным появленьем Оживи и озари. Сердце юноши не сводит…Далее не помню. Плетнев сообщил мне его последние предсмертные стихи:
Ты помнишь, что изрек Седой Мелхиседек: Рабом родится человек, Рабом и умирает.Пушкин был самого высокого мнения о его поэтическом даровании и уважал его как человека.
В Васильевке был биллиард, и в ненастные дни молодые люди играли на биллиарде, делали тут же гимнастику. После смерти жены генерал Недобров посвятил себя добрым делам. Как образованный человек он хотел, чтобы дети его соседей получили образование. У него был доктор для крестьян, больницы не было, но при церкви была комната, куда помещались те больные, которым нельзя было лежать дома.
Обедали в четыре часа и после обеда катались на линейках или гуляли, особенно в дубовом лесу, собирали грибы и на дубовых листьях орешки, из которых делали чернила. В свободные часы он сидел задумчиво, и с ним Варя. У нее была комната, на полках были всевозможные сервизы чайные и столовые, куклы большие, одетые, у которых был туалетный стол, была кукла в колыбели, миниатюрные комоды, тонкое белье для куклы. Я с ней тут часто сидела, один раз она меня спросила: боюсь ли я исповедоваться. Я вытаращила глаза и спросила ее, что такое исповедь. «Как, ты не знаешь? Надобно остаться одной с священником и говорить ему все свои грехи. Мне было семь лет, когда я в первый раз исповедовалась и надобно было говорить правду, что я шалила, дурно молилась богу, рассердилась. Это называют „быть на духу“. Когда будет пост, ты научи папеньку, и ты будешь исповедоваться и разговляться, а до семи лет приобщают детей без исповеди». Я все это намотала на ус.
В Васильевке был домашний оркестр, и в воскресные и праздничные дни были танцы. Александр Кар[лович] был влюблен в Екатерину Васильевну и откалывал с ней казачка (так выражались в Васильевке). Левушка Боратынский и я танцевали в костюме matelot, я не помню теперь, как и что это за танец, а Варя очень хорошо плясала русскую с Александром Боратынским. Василий Алек[сандрович] всегда присутствовал и приходил в восторг, когда его любимая дочь Варя плясала русскую в сарафане и повязке. Два раза мы ездили в Вельможку на линейках, веселая компания всю дорогу пела русские песни: «А я в три косы косила», даже камаринскую, «Ай, Феня, Феня, ягода моя, шла с царева кабака», «Деревня наша хороша, только улица грязна». На траве расстилали ковры, все садились, а лакеи, повара разносили холодные блюда, паштеты, жареные курицы и прочее, даже подавали цимлянское. Зачем и вызывать из Франции виноделов из Шампани, а бросать свои. О, русские неряхи!
Поздней осенью нас повез Александр Кар[лович] в гадкий Усмань, где он объявил Ив[ану] Кар[ловичу], что женится на Катерине Вас[ильевне] Недобровой, старшей дочери генерала Недоброва, и берет за [нею] 1000 душ и прекрасное приданое. Он был очень холоден с полковником, остался всего три дня, очень нас рекомендовал Амалье Ив[ановне], даже поцеловал ей руку. Я воображаю, что Арнольди скрежетал зубами. Нам очень обрадовалась добрая старушка, Карленька и Аркаденька, нашим рассказам не было конца. Опять учили немецкие слова по серой книге Амальи Ив[ановны], слово ungefähr мне не давалось. Молились опять «Vater Unser», братья с Фридрихом, я с Амальей Ив[ановной], ездили к Гакебушу и в лес к рыжему мужику. Один раз он мне сказал странную вещь. Была большая куча человечьего кала, а в середине большая зубчатая ромашка; он мне сказал: «Девочка, сорви, скушай и увидишь видение апостола Петра». Я сорвала и съела. Он мне сказал: «Ах вы, бедные детки, и учит-то вас немка. Старушка она хорошая, у нее немецкая Библия, и она учит вас священной истории. У тебя, девочка, пакостник отчим, ты не отдавайся ему». – «Я всегда убегала от него, а теперь он не смеет, у него есть брат в Тамбове, очень хороший, и он ему сказал, что это уголовное дело, и он меня научит жаловаться на него и его сошлют в Сибирь». – «Я знаю Тамбовскую губернию и уйду от него в Саровскую пустынь». Это, вероятно, был Серафим, русский Симеон Столпник. Его житие напечатано с его портретом.
Наступили трескучие морозы. Дмитрий начал пить, его по обычаю привязали к дереву и обливали холодной водой. Можно себе представить его крик. Я не понимаю, что он остался у этого изверга, а не последовал примеру Тимошки, которого никогда не отыскали, слава богу! У Арнольди была старая моська, которую я любила, у меня был поплиновый капот с бархатным воротником, его переделали для Кати, которую я очень любила. Она начинала говорить, и ее мамка говорила, что Катя «гуторит». Я нарядила моську в этот капот и пустила на грядки, можно себе представить, в каком виде явилась моська в этом капоте.
Не помню, в какой пост полковница пила кофий то с миндальным молоком, то белое молоко из фундовых орехов, то из белка; за обедом был суп с маслинами, пирожки, начиненные грибами, на пирожное левшанки с вареньем или оладьи и сироп. Она на неделю поехала в монастырь, игуменью звали Анфиса Пав[ловна]. Она была еще молода и очень хороша собой. В монастыре была схимница, ее черное платье было покрыто мертвыми головами, костями накрест и херувимами, все это было вышито. Она наводила на меня страх. Уроки Вари не были забыты. Я сказала игуменье, что минуло девять лет, и я ни разу не исповедовалась и не причащалась со смерти моего отца, что хотя он был католик, но очень часто приобщался, и мне было шесть лет, когда он скончался, и что мать моя не служила по нем панихиду. Просила исповедоваться, вынуть часть по отце у обедни и отслужить панихиду. «С чего ты это взяла?» – сказала мне полковница. «У Недоброва всегда так делали». Игуменья ей выразила свое удивление, сказала, что один пост не загладит грехов, и пригласила ее более часто приезжать в ее монастырь. «Вы можете в Усмани найти духовника». Раз я слышала необыкновенный и унылый звон колоколов в соборе, мне сказали, что умер священник, и всегда так звонят при смерти духовного лица.
К весне начали все укладывать – и в Грамаклею. Бабушка и Амалья Ив[ановна] плакали, а я слышала, что бабушка сказала, что выменяет образ Иоасафа. Тут был опять крик и шум, спор с дядей Дмитрием Ив[ановичем], и нежные родители поехали в Херсон. Дубницкого уже не было на свете, а в Херсонском банке Арнольди всех разругал в пух и в прах и взял 150 000 из нашего трехсоттысячного капитала. У бабушки оставили Карленьку, Катю и при них Марийку, а Наташку взяли с собой. Бабушка жила с Дмитр[ием] Ив[ановичем] и его женой, Вера Ив[ановна] жила в Баратовке после смерти Елизаветы Сергеевны. Приезжал только Илья Ив[анович] Чепелевский, привез бубликов из Виски и сам уплетал бабушкины сосиски. К светлому воскресению пекли пасху, что по-русски кулич, в нее вкладывали маленькие кусочки очищенного миндаля, что давало особый приятный вкус, конечно, и то, что у нас пасха, было необыкновенно вкусно, а писанки были гораздо милее красных яиц. Их крестьянские девушки окрашивали зеленой краской и делали на них красные глазки с белой каймой. Опять такой же обед и ужин, все в довольстве, а не с гнусным ругателем Арнольди. Где были Арнольди, я не знаю. Вероятно, в Крыму и в Бессарабии отвоевывали Куяльники и по процессу с Капниси. Поздно осенью они приехали и сказали, что мы едем в Петербург. Артемий Ефимович Вороновский просил, чтобы отвезли с нами его старшего сына Митю и передали его в Москве в семейство Прудниковых.
«На балу».
Художник В. Первунский
В большой карете ехал полковник с супругой, а напротив Клема, Митя и я. На козлах сидел крепостной Антон, его закадычный друг. В четвероместной крытой коляске Аркадя, Ося, Наташка и рыжая рябая девка Аннушка с маленьким Сашей Арнольди. Она знала, как угодить господам, и говорила, что мы дразним Сашу. Мы ехали то на колесах, то на полозьях. После 12-го года беглые солдаты укрывались в лесах, тогда дремучих. (Увы! Где они теперь! Гоголь вздыхал и говорил: «Леса рубят без толку, реки мелеют, а климат все суровее».) У князя Одоевского на вечерах я встречала г-на Штукенберга, он знакомых и незнакомых спрашивал: «А что Волга – мелеет или нет?». Он, говорят, написал очень дельную книгу о обмелении рек и вредном влиянии обмеления на атмосферу и на плодородие почвы. Река Москва до того обмелела, что, верно, куры в ней гуляют. От этого рыба исчезает, остается грязь. Мне раз принесли огромную устрицу, необыкновенно жирную, открытую, знать, дохлую. Это значит, что есть и речные устрицы. Москву-реку надобно купировать, и одеть берега камнем, и развести в ней рыбу. Барки из Касимова в Москву идут гужом шесть недель, а раз случилось, что в октябре надобно было выгружать зерно и везти его от Брод на телегах, отчего в Москве ужасно вздорожал хлеб. Под Лондоном то и дело, что ссыпают в реку и ее совершенно закрывают. На моих глазах в Калуге Ока опустилась на аршин. Однажды в лесу послышался свист, кучер наш стал ехать почти шагом и сказал, что лошади стали. Свист не переставал, кто знает, тут, может, была шайка капитана Копейкина и Дубровского. Антон, по обыкновению, был пьян. Арнольди вышел и сказал кучеру: «Если ты тотчас не поедешь во всю прыть, – ты видишь эту деревяшку, – я сам убью тебя костылем». Мимо нас проехала коляска во весь дух. Пожидор спешил из полости на воздух. У Пожидора на козлах сидел его шестой сын Минька, которого он очень любил. Мы благополучно приехали в Москву и остановились в доме родных Ивана Кар[ловича] каких-то Гееровых. Дом был маленький, грустный. Тут мы остались три дня и поехали в Петербург, тащились неделю то на полозьях, то на колесах по бревенчатой мостовой. Приехали в феврале и остановились в доме Галкина на углу Малой Морской и Большой Миллионной. Тотчас поехали к его родным, доктору Миллеру, женатому на девице Циргольц. У нее были две сестры – Елизавета Ив[ановна] и Дарья Ив[ановна]. Арнольди строил куры Дашеньке. Она была недурна, он ее колол в бока, прищелкивал языком и припевал, поддерживаясь на своей деревяшке: «Все на свете можно, только осторожно». После обеда у него он беспрестанно рыгал и говорил, что у него изжога (le fer chaud) и пил клюквенный морс. Жена Миллера была в чахотке. У них было два сына, один был похож на лягушку. У них был гувернер Шницлер, он писал очень дельную книгу об России и знает ее лучше русских бар. Она напечатана в Петерб[урге]. Циргольцевы были знакомы с Гречем и Фаддейкой Булгариным. Арнольди читал «Выжигина» и очень ценил этого подлеца. Говорил, что зачитывается «Северной пчелой», а особенно фельетоном Бранта. Пушкина он ни в грош не ставил, говорил: «Скверный, вольнодумный мальчишка!». Вот вкус!
Я сидела у окошка с рябой Аннушкой. Наконец полковница догадалась, что у нее есть родная тетка ее супруга. Мне надели белое платье, розовый кушак и повезли меня к Цициановым. Они жили в доме Галкина, почти у Трухмальных ворот. Дом был одноэтажный, из гостиной, где была лаковая мебель, был вход в сад. При входе в дом была зала, в одном конце стоял ломберный стол, и на нем раскладывал пасьянс бодрый и краснощекий старик, а возле стоял, заложив руки за спину, его камердинер Сергей Михеевич. «Ты кто?» – сказал мне дяденька. «Я Сашенька Россет». – «Ступай к бабушке». Меня встретила княжна Елизавета Дмитр[иевна], ей было 35 лет, наружность ее была приятная; она повела меня к матери, которая мне не понравилась. Она была сухая и смотрела строго. Меня повели к княжне Анне, она прекрасно рисовала по кости и брала уроки у итальянца Росси. Он был очень дурен, но она в него влюбилась и хотела выйти за него замуж. Они тогда еще не были совсем равноправны. Дедушка говорил, что все люди равны, но жена его совсем иначе думала и запретила Росси приходить в дом. В доме жила Каролина Ив[ановна] Витич, их экономка, она давно была православная, Варвара, но ее всегда звали Каролиной Ив[ановной], ее племянница Катенька Эвспиус, Иван Сергеевич и Мария Сергеевна Лутковские, которая была предметом всех забот старой княгини. У нее были расстроены нервы перед началом месячного очищения, призвали докторов Римана и Штофрана, который был доктором имп. Елисаветы Алексеевны. Они сказали, что не имеют способа ее вылечить. Она впала в состояние ясновидения и сама привила себе лекарства и была в этом состоянии шесть недель. Однажды утром спросила кусок бумаги и уголь, набросала пропасть крестов и над ними распятого Спасителя, приказала, чтоб живописец масляными красками написал этот образ; пока образ писали, ее припадки так увеличивались, что она лежала по несколько часов как мертвая, совсем не спала и ничего не ела. Когда принесли образ, она исповедовалась, приобщилась, служили обедню и Акафист Иоасафа, она приложилась к образу и стала твердо на ноги и была совершенно здорова. Этот образ находится теперь у княжны Селесты Дмитр[иевны] Цициановой, которая живет в Новодевичьем монастыре, но не монахиня.
Мне очень понравилась молельня княгини, она была в стороне и сверху до конца покрыта образами в золотых окладах. Тут была голова св. Анастасии в золотом окладе, украшенном бриллиантами, а сверху крест, рука Ефрема Сирина в филигранном окладе, украшенном бирюзой, рубинами и изумрудами. Неугасимая лампадка теплилась и придавала нечто таинственное этому уголку. Но там была другая прелесть, другого роду – тарелка, на которой были конфекты, и мне дали всю тарелку. У них жила арапка, которую звали Зетюльбе, это было ее истинное имя, а по крещению она была Аксинья Михайловна. Зетюльбе была скорее une mulâtre[86], она ходила в простом платье горохового цвета и на голове вязанная шапочка, обвитая белой кисеей. Она воспитывалась с княжнами, брала уроки французского языка у m-me Camerata и говорила по-французски, она была ловка и отлично танцевала. Не знаю, когда вышла мода на арапов – от Петра I, я полагаю, а как он приобрел Ганнибала, я не помню. Дмитрий Евсеевич всегда был рад случаю потратить деньги, он выкупил родителей Зетюльбе, их везли зимой в коляске, в которой была их поклажа; этот сундук беспрестанно толкал ее в голову; когда ее привезли, была с одной стороны шишка. «Зачем ты не сказала об этом отцу и матери?» – «Они крепко спали, я не хотела их беспокоить». Когда Цициановы совсем разорились, рекомендовали Зетюльбе в няньки княгине Кудашевой, рожденной Choiseul. Она была ослепительной красоты, любила мужа и уживалась с невестками – Корба, Вельской и Гербель. К Дмитрию Ев[сеевичу] хаживал иногда знакомец и ростовщик Ордынов, он раз пришел и говорит: «Ну, не нужны ли тебе денежки?» – «Нет, а впрочем, дай 8000 ассигнациями». – «Возьми», – и вынул пучок ассигнаций, тот схватил и не считал. Ордынов сказал: «Был недавно у княгини Дарьи, сидит с любовником, ох уж эти мне господа, только бы им послаще, да табачницу». Митрополит Филарет мне говорил, что он знал и уважал Ордынова – он брал только один процент, а если были люди честные и не состоятельные, он не брал ни процента, ни капитала, а теперь, подавая доверенность, берут после без зазрения совести. Он не знал, что с освобожденных крестьян брали до 12. Дмитрий Евсеевич завел Английский клуб в Москве и очень его посещает. Он всех смешил своими рассказами, уверял, что варит прекрасный соус из куриных перьев и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами. Он мне рассказывал, что Екатерина очень любила горячие калачи, а Потемкин его как флигель-адъютанта послал в санях с этими калачами; он ехал так скоро, что шпага его беспрестанно стукала о верстовые столбы, и в Петергофе к завтраку ее величества подали калачи. В знак благодарности она дала Потемкину соболью шубу. Он отправился в Москву, Потемкин был у обедни; по окончании обедни он подошел и объявляет ему о подарке. «Да где же она?». Он вносит ее, и она так легка, что полетела на паникадило. В Петербурге он продолжал жить открыто, продал Катунки за 500 000 р. и поместил деньги в стол и даже не запирал. Тогда дозволено было графу Головкину сделать лотерею из его имения Воротынец, у княгини было 200 000, и она взяла билеты на эту сумму, но не выиграла, по несчастью. Он давал обеды Нарышкину, Вяземскому, Мещерскому, генералу Потемкину, Сазонову и всегда приносил десерты княгине и фрукты – он всегда сам варил варенье за столом в серебряной чаше на серебряной конфорке.
Вера Петровна Желиховская Как я была маленькой (Из воспоминаний раннего детства)
Первые воспоминания
Знаете ли вы, дети, как я помню себя в первый раз в жизни?.. Помню я жаркий день. Солнце слепит мне глаза. Я двигаюсь, – только не хожу, а сижу, завернутая в деревянной повозочке, и покачиваюсь от толчков.
Кто-то везет меня куда-то…
Кругом пыль, жар, поблекшая зелень и тишина, только повозочка моя постукивает колесами. Мне жарко. Я жмурюсь от солнца и, лишь въехав в тенистую аллею, открываю глаза и осматриваюсь. Предо мной большой дом с длинной галереей. Какой-то старый солдат, завидев меня, издали улыбается и, взяв под козырек, кричит:
– Здравия желаем кривоногой капитанше!..
Кривоногой капитанше? Ведь это обидно, не правда ли? Я сообразила это позже; но в то время я еще не умела обижаться. Няня вынула меня из повозочки и понесла… купать.
Много времени спустя я узнала, что это было в Пятигорске, куда мама привезла меня лечить и жила вместе с бабушкой и тетями, которые сюда приехали из другого города для свидания с нами.
Мне был всего третий год…
Не диво, что это первое мое воспоминание.
Всякий день моя няня, старая хохлушка Орина, возила меня на воды купать в серной воде; а потом меня еще на целый час сажали в горячий песок, кучей насыпанный на маленькой галерее нашей квартиры. Хотя мне был третий год, и я все понимала и говорила, но не могла ходить. Впрочем, ноги у меня были только слабые, а не кривые, несмотря на прозвание «кривоногой капитанши», данное мне сторожем при купальне. А капитаншей он потому называл меня, что отец мой был тогда артиллерийский капитан.
Воды помогли мне: после Пятигорска я начала ходить.
Не помню, как мы расстались с бабушкой и как ехали домой. Я опомнилась совсем в другом месте, где уже не было родных моих, а все приходили какие-то офицеры, и один из них высокий, с рыжими, колючими усами, называл себя моим папой… Я никак не хотела этого признать: толкала его от себя и говорила, что он совсем не мой папа, а чужой. Что мой родной – большой папа (мы, дети, так называли дедушку) остался там – с маминой мамой и тетями, и что я скоро к нему уеду…
Помню, что мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу сидела за своей зеленой коленкоровой перегородкой и все что-то писала.
Место за зеленой перегородкой называлось «маминым кабинетом», и ни я, ни старшая сестра, Лёля, никогда ничего не смели трогать в этом уголке, отделенном от детской одною занавеской. Мы не знали тогда, что именно делает там по целым дням мама? Знали только, что она что-то пишет, но никак не подозревали, что тем, что она пишет, мама зарабатывает деньги, чтоб платить нашим гувернанткам и учителям.
В хорошие дни мы уходили в сад и там играли с няней Ориной или с Лёлей, когда она была свободна. В дурную же погоду я очень любила садиться на окно и смотреть на площадь, где папа со своими офицерами часто учили солдат. Я очень забавлялась, глядя, как они разъезжали под музыку и барабанный бой; как, гремя, переезжали тяжелые пушки, а мой папа на красивой лошади скакал, отдавая приказания, горячась и размахивая руками.
К нам часто приходило много офицеров обедать и пить чай. Мама не очень любила, когда они, бывало, начнут громко разговаривать и накурят целые облака дыма. Она почти всегда сейчас после обеда уходила и запиралась с нами в детской.
Зимою мама стала болеть чаще. Ей запретили долго писать, и потому она проводила вечера с нами. Она играла на фортепьяно, а Антония, молодая институтка, только что у нас поселившаяся, вздумала, шутя, учить сестру танцам. Мне это очень понравилось, и я тоже захотела учиться у нее; но так как я была очень толстая, а ноги все еще были у меня слабы, то я беспрестанно падала, желая сделать какое-нибудь па, и до слез смешила маму и Антонию. Но я не унывала и еще вздумала учить танцевать свою старую няню Орину. Бедная хохлушка никак не могла так повернуть ноги, как я ей приказывала; а я еще была такая глупая девочка, что из себя за это выходила, щипала ее за ноги и жаловалась, что у «гадкой Орины ноги кривые!»
Вдруг, сама не помню как, мы очутились в большом, красивом городе…
Я себя вижу в большой, высокой комнате. Я стою у окна, с апельсином в руке, и смотрю на море. Ух! Сколько воды!.. И не видно, где это море кончается?.. Точно уходит туда – далеко-далеко, до самого неба. И какое оно шумливое, неспокойное! Все бурлит сердитыми волнами, покрытыми белой пеной. У самого берега много качается кораблей, лодок, а вдали белеются паруса. «И как это им не страшно уходить так далеко от берега? – думаю я, глядя на них. – Как-то они вернутся?.. Верно утонут!?» И мне так и казалось, что на этих кораблях бедные люди должны уходить «туда», далеко в сердитое море, и навсегда там пропадать.
Мы жили в этом городе целую весну. Я много гуляла с Антонией и с новой гувернанткой-англичанкой. Особенно любила я сходить по широкой лестнице на морской берег и собирать там раковины и пестрые камешки.
После я узнала, что этот город – Одесса и что мама приезжала сюда лечиться.
После этого мы еще прожили все лето в очень скучном и грязном польском местечке (где стояла папина батарея), о котором я ничего не помню, кроме того, что раз мне подарили куклу, объявив, что я теперь большая, должна учиться читать и писать. Мне пошел пятый год. Учение, однако, было отложено, и я продолжала только играть, расти, шалить и толстеть. Сестра, на четыре года старше меня, уже училась серьезно с обеими гувернантками и музыке с мамою. Но бедная наша мама все становилась слабее и больнее, хотя трудилась по-прежнему. Ради ее здоровья, требовавшего правильного лечения, маме необходимо было согласиться на просьбы бабушки, и мы собрались ехать к ним в Саратов, чему Лёля и я ужасно были рады.
С этого времени я уж лучше помню и начну вам рассказывать по порядку все свое счастливое детство.
Приезд к родным
Было темно. Наша закрытая кибитка мягко переваливалась со стороны на сторону. Устав от дороги и долгого напрасного ожидания увидать город, куда всем нам ужасно хотелось скорей доехать, мы все дремали, прислонясь кто к подушке, кто к плечу соседа. Меня с сестрой совсем убаюкали медленная езда по сугробам, тихое завывание ветра да однообразные возгласы ямщика на усталых лошадей. Одна мама не спала. Она держала меня, меньшую, любимую дочку свою, на коленях; одной рукой придерживала на груди своей мою голову, оберегая ее от толчков, другою проделала себе маленькую щель в полости кибитки и, пригнувшись к ней, все высматривала дорогу.
Мне снилось лето. Большой сад с развесистыми деревьями. Какие большие, желтые сливы!.. И как больно глазам от солнца, светящего сквозь ветви!..
Вдруг я проснулась, пробужденная толчком, и в самом деле зажмурилась от яркой полоски света, пробежавшей по моему лицу.
– Это что? – спросила я, вскочив и протирая глаза. – Что это такое, мамочка?.. Фонарь?
– Фонарь, моя милая, – сказала мама, улыбаясь. – И посмотри, какой еще большой фонарь!
Вера Петровна Желиховская (1835–1896) – русская писательница, сестра Е. П. Блаватской, дочь Е. А. Ган, двоюродная сестра С. Ю. Витте.
«Правда и исполненный долг сами по себе уже составляют счастье и награду для честного человека».
(В. Желиховская)
Она отодвинула полость кибитки, и я увидела много огоньков, а впереди что-то такое большое, светлое, в два ряда унизанное светящимися окнами…
– Это дом, мама! Какой хороший!.. Кто там живет?
– А вот посмотрим, – отвечала мама. – Разве ты не видишь, что мы к нему едем?
– К нему? Разве это такая станция?!
– Нет, дитя мое, станций больше уж не будет. Разве ты забыла, к кому мы едем? Это город; а это дом папы большого. Мы приехали к бабушке и дедушке.
«Это дом папы большого!» – подумала я в изумлении. И все мои понятия о дедушке и бабушке разом перевернулись. Мне вдруг представилось, что они, верно, очень богатые, важные люди; а что этот блестящий фонарь, в котором они жили, должен быть очень похож на дворец царевны Прекрасной, о которой рассказывала мне Антония.
– Лёля! Лёля!.. – начала я теребить свою сестру. – Проснись! Посмотри, куда мы приехали… К дедушке и бабушке!.. Вставай! Да вставай же!..
– М…м… – промычала Лёля. – Убирайся!..
– Не сердись, – сказала ей мама, – Верочка правду говорит: мы приехали. Посмотри-ка: вот дедушкин дом.
Все встрепенулось и зашевелилось в нашей темной кибитке. Да она уж и не казалась нам темной теперь; полость откинули с одного боку, и свет, и шум городских улиц казались нам чем-то волшебным после сумрака, снежной мглы, тишины и нашей долгой скуки.
Мы въехали в каменные ворота большого дома, который я издали приняла за фонарь, и остановились у ярко освещенного подъезда.
Что тут произошло – я не могу никак описать! Все и всё перемешалось, перепуталось…
С маминых колен я попала кому-то на руки. На крыльце другие руки какой-то молоденькой барышни, оказавшейся меньшой теткой нашей, Надей, – перехватили меня и потащили на высокую, светлую лестницу. В передней было ужасно тесно. Все мы, моя мама, Антония, сестра, горничная Маша, мисс Джефферс, наша англичанка, – все перемешались с чужими, казалось, мне незнакомыми людьми, и все смеялись и плакали, ужасно меня этим удивляя.
Высокая, очень полная барыня, с добрым и ласковым лицом, в которой я не сразу признала свою дорогую бабушку, крепко обняла мою маму. Другая наша тетя, постарше Нади, тетя Катя, стала на колени перед Лёлей и крепко ее целовала. Высокий, седой господин с другой стороны держал маму за руку, обнимая ее тоже. Вся эта суета совершенно сбила меня с толку. Я ничего не понимала, обернулась ко всем спиной и пристально рассматривала какого-то огромного, синего человека, с длинными усами, белыми эполетами и белыми шнурками на груди. Он меня очень занял, этот голубой человек!.. Я боялась его немножко, но больше удивлялась, отчего это он один не смеется и не радуется, а стоит смирно, вытянувшись у дверей, и смотрит на все неподвижно, даже не сморгнув глазом?..
– А где же Вера? Где маленькая Верочка?.. – вдруг спросила бабушка, оглядываясь.
– Здесь она! – отвечал кто-то.
Все расступились предо мной, и высокий, худой господин в сером сюртуке поднял меня с полу и, поцеловав несколько раз, передал на руки бабушке.
Тут только узнала я в нем своего милого папу большого.
– Дорогая моя Верочка! – говорила, обнимая меня, бабочка. – Вот она, какая большая стала, моя крошка!.. Подросла, поправилась после пятигорских вод. Да посмотри же ты на меня!.. На кого это она так смотрит? – с удивлением обратилась бабушка к моей матери.
– Верочка! О чем ты думаешь?.. – спросила мама.
Я откинулась на руках бабушки и все продолжала пристально глядеть на голубого человека…
– Кто это такой? – шепотом спросила я, указав на него пальцем.
Все обратились в ту сторону, и все громко расхохотались.
– Жандарм Игнатий! – закричала, смеясь, тетя Надя.
– Вот смешная девочка! – переговаривались все, в беспорядке входя в большой, светлый зал. – Жандарма испугалась!
– Я совсем его не пугалась! – обиделась я, не понимая, чему смеются.
Но мой гнев еще больше насмешил всех, и я стала переходить с рук на руки. Меня обнимали и целовали без конца до того, что я готова была расплакаться и очень обрадовалась, когда очутилась под крылышком бабочки. Она усадила меня возле себя на высокий стульчик, и все принялись за чай, весело разговаривая.
Разумеется, я равно ничего из этих разговоров не понимала, да и не слушала их.
Сестра все убегала куда-то с Надей; что-то рассказывала мне, возвращаясь, весело перешептываясь с нашей тетушкой, которая была немногим старше ее самой, но я ровно ничего не понимала и в их рассказах. Я с наслаждением пила свой теплый чай и рассматривала очень внимательно большие портреты дам и мужчин, которые висели против меня на стене.
У одного из этих господ был тоже голубой сюртук, как у жандарма в передней; у него только не было усов, а вместо белых эполет и шнурков у него были белые волосы, белое кружево на груди и большая белая звезда. Что за странность! Вот и у дамы с розой на плече тоже высокие белые волосы!.. «Отчего это у них у всех розовые щеки и седые волосы?..» – думала я.
Мне было так хорошо, тепло!..
Лицо мое горело. Перед глазами, смутно глядевшими на портреты моих прабабушек и прадедушек, носились разноцветные круги, искорки, узоры… Наконец они окончательно слиплись, и голова моя упала на стол.
– А Верочка-то заснула! – услышала я над собою и вдруг почувствовала, что кто-то меня осторожно приподнял и понес…
Мне так трудно было открыть глаза и так сладко дремалось, что уж я и не посмотрела, кто и куда несет меня, и совершенно не помню, как уложили меня спать.
Крестины куклы
Много-много счастья и детских радостей помню я в этом милом, старом доме! Хотя в тот приезд наш в Саратов я была так мала, что многое слилось в моей памяти и, быть может, совсем бы из нее изгладилось, если б мне не привелось и впоследствии долго жить в этих местах, с этими самыми дорогими людьми.
Я уже говорила, что мы называли дедушку папой большим, в отличие от родного отца нашего, который, конечно, был гораздо моложе. Теперь надо еще сказать, что бабушку мы всегда называли бабочкой. Почему – сама не знаю! Но так как я пишу не выдумку, а всю правду о своем детстве, то не могу называть ее иначе. Вероятно, объяснение этому прозванию находилось в том, что бабушка моя, очень умная, ученая женщина, между прочими многими своими занятиями любила собирать коллекции бабочек, знала все их названия и нас учила ловить их.
Оба они, и дедушка, и бабушка, ничего не жалели, чтобы тешить и забавлять нас. У нас всегда было множество игрушек и кукол; нас беспрестанно возили кататься, водили гулять, дарили нам книжки с картинками. Было у нас также много знакомых девочек. Некоторые из них даже учились с нами вместе.
Одну из этих девочек, любимую мою подругу, звали Клавдией Гречинской. К ней в гости я любила ездить, потому что у нее было много сестер, которые всегда надаривали мне пропасть куколок, сшитых из тряпочек. Этих тряпичных куколок я любила гораздо больше настоящих, купленных в лавках кукол; может быть, потому, что сама могла раздевать и одевать их опять в разные платьица, которых у них бывало по несколько.
Вот послушайте, какая смешная история случилась раз со мною из-за такой именно куколки.
Надо вам знать, что дом дедушки, который я ночью приняла за фонарь, был в самом деле большой дом, с высокими лестницами и длинными коридорами. На нижнем этаже жил сам дедушка, и помещалась его канцелярия. На самом верхнем были две спальни: и бабушки, и тетины, и наши. На среднем же почти никто не спал: там всё были приемные комнаты, – зал, гостиная, диванная, фортепьянная. Ночью все эти комнаты были совсем темны и пусты. Другая девочка, пожалуй, побоялась бы и пойти туда вечером одна; но я была очень храбрая, и мне не приходило и в голову бояться.
Ну, вот раз я вернулась от Клавдии довольно поздно и привезла с собой в маленькой, качавшейся колыбельке крошечную куколку, спеленатую в простынки и закрытую красным атласным одеяльцем. Возле колыбели, в стеклянном ящике, в котором она помещалась, лежало белье и платье куколки; все такое крошечное, что можно было надеть на мизинец. Ужас, как я была рада и как полюбила свою новую куколку! Всем я ее показывала и даже, ложась спать, положила ее с собою. Но прежде этого, когда я прощалась с бабушкой, она меня спросила:
– А как же зовут твою куклу?
Я сильно задумалась и наконец отвечала:
– Не знаю!
– Как же это ты позабыла ее окрестить? – улыбаясь, продолжала бабочка. – Без имени нельзя. Надо ее завтра окрестить. Ты меня позови в крестные матери.
– Хорошо!.. А как же: ведь надо купель.
– Нет, купели не нужно. Ты знаешь, что водой нехорошо обливаться. Мы без купели окрестим ее Кунигундой…
– Фу! Кунигунда – гадкое имя! – сказала я. – Лучше Людмилой или Розой.
– Ну, как хочешь. А теперь иди спать…
Я ушла наверх и легла, уложив с собой куклу, но долго не могла заснуть, все думая о будущих крестинах без воды и о том, какое выбрать имя?..
Вдруг среди ночи я проснулась.
Все было тихо; все давно спали. Возле меня сестра, Лёля, мерно дышала во сне; на другом конце нашей длинной и низкой детской спала няня, Настасья. По всему полу, по стенам лежали длинные, серые тени и, казалось мне, таинственно дрожали и шевелились…
Я привстала на кровати и осмотрелась.
Тени шевелились, то вырастая, то уменьшаясь, потому что ночник, поставленный на пол, очень нагорел, и пламя его колебалось со стороны на сторону.
Я уж хотела лечь, как вдруг вспомнила о кукле, взяла ее и начала рассматривать, раздумывая над нею.
«Как тихо!.. Вот бы теперь хорошо окрестить ее! Никто бы не помешал. А то днем и воды не дадут… Не встать ли, да в уголку, около ночника и справить крестины?..»
Я тихонько спустила ноги с кровати.
«Нет! Здесь нельзя. Няня или Лёля проснутся… да и воды нет!.. А внизу ведь, в гостиной, и теперь стоит, – вспомнила я, – графин, полный воды: бабочке подавали, когда я прощалась, и, верно, его не убрали… Пойти разве вниз?.. А как услышат?.. Страшно!.. А зато как там теперь можно хорошо поиграть, одной, в этих больших комнатах! Можно делать все, что захочется… Пойду!»
Я тихонько спрыгнула на холодный пол, надела башмачки, накинула блузу и платочек и взяла куклу.
«А темнота? – вдруг вспомнила я. – Как же играть в темноте?.. Внизу ведь теперь нигде нет света».
Я огляделась и увидала на столе огарочек свечи. На цыпочках прокралась я к нему, взяла и, так же неслышно, осторожно ступая, перешла комнату и наклонилась, с замиранием сердца, зажечь его к ночнику.
Уф! Как крепко билось мое сердце! С каким ужасом косилась я на спящую няню. Как боялась, чтоб она не проснулась, и как я вздрогнула, перепугавшись не на шутку, когда черная шапка нагара, тронутая моим огарком, свалилась с фитиля в ночник и затрещала, потухая…
Насилу я успокоилась и собралась с силой двинуться с места. Сколько раз останавливалась я, со страхом прислушиваясь: не проснулся ли кто, не зовут ли меня? – я и счет потеряла! При каждом скрипе ступенек на лестнице, не смея идти далее, я вслушивалась в какой-то странный шум: то был шум и стук моей собственной крови в ушах; а я, слыша, как крепко колотилось у меня сердце, в ужасе останавливалась, думая, что это стучит что-нибудь постороннее!.. Наконец лестница кончилась. Вот я внизу, в длинном, темном коридоре. Я сделалась смелей: здесь уж никто меня не услышит! Я быстро пошла к дверям зала и взялась за тяжелую медную ручку.
Двери медленно отворились, и я очутилась в огромном, черном зале…
Мне что-то стало холодно, и мой огарок, при свете которого этот страшный зал казался еще черней и больше, крепко дрожал в моей руке, пока я старалась как можно скорее пройти его, к широко отворенным дверям гостиной.
«Ах! Что это?» – я чуть не упала от испуга на пороге гостиной: из глубины ее ко мне шла точно такая же, как и я, маленькая, бледная девочка, со свечкой в руках и вся освещенная дрожащим пламенем, большими, испуганными глазами смотрела мне в лицо!.. Я схватилась за дверь и уронила свой огарок…
И девочка тоже выронила свой огарок!..
«Ах! Это я себя увидала в большом зеркале, против дверей зала… Господи, какая же я глупая!»
Едва придя в себя от страха, еще вся дрожа, я подняла свой огарочек – хорошо, что, повалившись на бок, он не потух.
Ну, вот я и пришла.
Вот и вода, и стакан на столе. Теперь только выбрать местечко и играть себе хоть до рассвета!.. Я сейчас же устроилась в углу, между диваном и печкой, под большим креслом, между ножками которого был мой крестильный зал. Я поставила туда люльку, стакан с водою; вынула куклу и, раздев ее, приготовилась помочить ее в этой купели. Я видела раз крестины настоящего ребенка и помнила, что крестная мать его носит кругом купели три раза. Поэтому я взяла куколку, запела, как священник, «Господи помилуй!» и начала двумя пальцами обносить ее вокруг стакана…
Вдруг мне послышалось за стеной какое-то движение и вслед за тем: «Хр-р-р!..» – захрапел кто-то в передней или в зале – я не разобрала!
Я съежилась и притаилась, забыв о крестинах и о пении и крепко сжав в кулак несчастную куколку. «Вдруг это зверь, – думалось мне, и у меня снова заколотилось сердце. – Тот самый страшный зверь, который хотел съесть красавицу в лесу и потом на ней женился!.. И… вдруг он захочет на мне жениться?!. Фи! Глупости какие! – тотчас остановила я себя. – Ведь я маленькая. На мне нельзя жениться!.. А если это разбойники?..»
«Хр-р-р-р!..» – крепче прежнего раздалось за дверьми. Тут уж я думать перестала и, не помня себя от страха, бросилась на пол, подлезла под диван и забилась к стене лицом.
«Господи! Кто-то идет!.. Пол заскрипел… Ай-ай! Кто-то дышит!.. Разбойники!.. Нет… Зверь!!. Да какой черный!..»
В ушах у меня звенело от ужаса, и в глазах стало темно, но я все-таки одним глазком следила за всеми движениями черного зверя. Вот он подошел к стакану, в который я бросила мою бедную куклу… Ай! Он съест ее!.. Нет. Он только понюхал стакан, засопел, страшно фыркнул – и задул мой огарок!
Вот тут-то был страх! Я лежала под диваном ни жива ни мертва, съежившись в темноте и все ожидая, что вот-вот облапит меня страшный, черный зверь и съест совсем – с головою. Я хотела закричать, но от страху не могла. Да и кто меня услышит? Все спят наверху, далеко. О! Как я раскаивалась в своей глупости, в том, что ушла сверху сюда ночью, одна…
– Ах!.. – закричала я вдруг, почувствовав на лице своем крепкое дыхание зверя, уж подобравшегося ко мне. – Не ешь меня, милый черный зверь! Я отдам тебе все, все, что ты хочешь, только не ешь меня!..
Но зверь, не слушая моих просьб, лизнул мне лицо длинным, горячим языком…
Если б у него, вместо языка, показался изо рта огонь, как из печки, – я бы не могла больше испугаться. Я прислонилась беспомощно к стене и готовилась сейчас умереть.
Но… что за чудо? Страшный зверь вместо того, чтобы кусать меня и рвать на части, обнюхал меня всю кругом, еще раз лизнул мою щеку, зевнул и лег рядом со мною на пол.
Я немножко опомнилась.
«Что же это за зверь такой?.. – размышляла я, приходя в себя, словно оттаивая от своего страха. – Эге!.. Уж не Жучка ли это, наша добрая черная собака, что всегда ласкалась ко мне во дворе?..»
Мне вдруг стало страх как весело, даже смешно, но вместе с тем и как будто немножко стыдно.
– Жучка! – шепнула я, приподнявшись.
Черный зверь поднял голову, послушно подполз ко мне и лизнул мою руку.
– Жучка! – закричала я, ужасно обрадовавшись. – Уж как же ты меня напугала, негодная!..
И я от радости начала обнимать и целовать Жучку в самую морду!.. В это время немножко рассвело. Окна гостиной серыми пятнами вырезались на черной стене и чуть-чуть освещали комнату. Я выползла из-под дивана, мимоходом захватив из стакана свою вымокшую насквозь куколку, так и оставшуюся все-таки без имени, некрещеной, и, не оглядываясь, бегом пустилась из гостиной в зал, оттуда в коридор, на лестницу и перевела дух только в своей кроватке.
Тут я закрылась с головою одеялом, потому что вся дрожала, не знаю только, от холода или от страху?.. Свою бедную, чуть не утонувшую, холодную куколку я положила поближе к себе, стараясь отогреть ее, и, засыпая, крепко-накрепко обещала самой себе никогда больше не вставать по ночам и не делать таких глупостей.
Елена Петровна Блаватская (1831–1891) – русская дворянка, гражданка США, религиозный философ теософского направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуалист, путешественница, сестра В. Желиховской.
«Великие дела вершатся не сверхусилиями, а упорством».
(Е. Блаватская)
Сладко, крепко я заснула в теплой постельке, но утром вставать мне было очень стыдно. Жандарм Игнатий, которого голубым мундиром я любовалась в первый вечер нашего приезда, услышав на рассвете шум в гостиной, вышел из передней, где он спал вместе с Жучкой, и увидал, как я бежала по коридору. Он сказал об этом людям, а те передали нашей няне, Настасье. Старушка нашла в гостиной люльку и ящик с платьицами моей куколки, замоченные опрокинутым стаканом воды, и, подобрав их, вместе со стеариновым огарком, пошла все рассказать Антонии и маме.
Мама очень испугалась и рассердилась, и крепко бы мне досталось, если б не добрая моя бабочка: она за меня заступилась и взяла с этих пор спать в свою комнату.
Все, однако, узнали о ночных моих похождениях и долго подсмеивались надо мною, а я краснела, когда меня называли «полуночницей».
Даша и Дуняша
– Послушай-ка, Верочка, – сказала раз бабушка, входя в диванную, где я играла с двумя дворовыми девочками моих лет, Дашей и Дуней, – собирайся, – поедем: я тебя повезу сегодня в дом, где много-много девочек.
– Куда это, бабочка? К Гречинским или Бекетовым?
– Нет, в этом доме ты еще никогда не была; там живут и учатся много маленьких девочек. Мы повезем им конфет и пряников: тебе с ними будет весело.
Бабушка вышла.
– Это, верно, вас в приют повезут, барышня! – шепотом сообщила мне Даша, очень умная и хитрая девочка.
– А что это такое – приют? – спросила я.
– Это школа такая для бедных, простых детей. Там всё такие же, как мы, девочки; еще хуже нас! Не знаю, зачем вам туда? Лучше бы с нами играли.
Я не совсем поняла значение ее слов и предложила пока продолжать играть.
Игра наша была очень глупая, но она нас забавляла. Мы ставили соломенный плетеный стул на солнечное место и называли блестящие кружочки, образовавшиеся на полу под ним, виноградом. Дуня, простенькая, добрая девочка, изображала садовника; я приходила покупать виноград, а бойкая Даша представляла вора: она отдергивала стул в тень, чтоб кружочки исчезали, – что означало, что вор украл виноград, и бросалась бежать; а мы вслед за ней, догонять ее.
Наконец, устав бегать, мы расположились отдыхать на ковре. Даша первая прервала молчание.
– И счастливые эти господа, право! – объявила она, отбросив за плечи свои густые, светлые косы и обмахивая пятью пальцами разгоревшееся лицо. – Хотят – спят! Хотят – играют! Хотят – едят!.. Умирать не надо!
– А ты разве не играешь, не спишь и не ешь? – спросила я.
– Когда дают – и ем, и сплю, а не дадут – так и так! А вам всегда можно: вы барышня!..
– Хотелось бы и мне быть барышней! – протяжно заявила Дуня.
– Ишь какая! Кто ж бы не хотел?.. Были бы мы с тобою барышни, хорошо бы нам жить на свете!..
– Да!.. Не надо было бы учиться чулок вязать, – прервала опять Дуня.
– Какой там чулок! Всё б играли да ели.
– Ну, что ваш чулок! – сказала я. – Нам хуже: нам сколько надо учиться! И читать, и писать, и по-французски, и на фортепьяно играть.
– И-и! Это весело: этому-то учиться я б рада была! – сказала Даша.
– Нет, а я ни за что! – покачала головой Дуня. – Страсть, сколько бы надо учиться!
– Еще бы! – важно согласилась я. – Что такое ваш чулок? Глупость просто! А нам ужас сколько всего надо знать.
– А вот вы и не будете этого всего знать! – живо поддразнила меня Даша.
– Как не буду? Я уж и теперь много знаю…
– Ну, что вы знаете?.. – бесцеремонно прервала меня бойкая девчонка. – Я вон умею чулок вязать, а вы и того не знаете.
– Зачем мне чулок? – обиженно протестовала я. – Я читать должна учиться!
– Да и читать вы не умеете! Ну, что вы знаете против меня?.. Ну, скажите, что я буду вас спрашивать: откуда на зорьке солнышко встает и куда оно вечером прячется?.. А с чего оно огнем горит? А откуда снег да дождь берутся? А зачем трава зеленая, а цветы разноцветные? Кто их красит, а? Ну, скажите-ка! Отвечайте на все, что спрашиваю… Ну, что?.. Ан и не знаете!.. Вот и стыдно: ничего-то вы больше меня не знаете. А я больше вас знаю: чулок вяжу!
Пока Даша забрасывала меня вопросами, а я собиралась отвечать ей очень сердито, потому именно, что очень хорошо сознавала, что она права, что я никак не сумею объяснить ее вопросов, – вошла няня Наста с моею шубкой и капором. Даша сейчас же замолчала и присмирела: она была хитрая и перед старшими всегда смолкала; я же, бросив на нее сердитый взгляд, очень обрадовалась, что приход няни выводил меня из затруднения.
Я поехала с бабушкой очень задумчивая.
«Да, – думалось мне, – многое нужно мне знать, многому научиться. Нехорошо не уметь ни на что ответить… Вон, Даша спрашивает, отчего солнце светит; откуда берутся снег да дождь? А я и не знаю!.. Ишь, какой снег, славный! Какими красивыми звездочками он падает, прелесть! И всё разные!..»
И я принялась рассматривать снежинки, которые кружились в воздухе и садились мне на темную шубку.
– Бабочка, – спросила я, – отчего это снег падает такими хорошенькими звездочками? Как они делаются?
– Бог их делает такими, – ответила бабушка. – Он все в природе сотворил хорошо и красиво.
– А что это такое – природа?
– Природа – это все то, что есть на свете Божьем. Вот этот снег; реки, горы, леса; летом трава и цветы; солнце и месяц, – все, что мы видим вокруг себя, – все это природа, дитя мое.
– Бабочка, скажите мне: как это солнце восходит и ложится? И отчего это летом тепло, везде зелень, цветы, а зимою холод и снег? И отчего это солнце так ярко горит? – залпом выговорила я.
– Что это тебе пришло в голову? – удивилась бабушка. – Это трудно объяснить такой маленькой девочке. Вот вырастешь, будешь учиться, – многое узнаешь. А теперь довольно тебе знать, что все это создал Господь Бог, который и нас, людей, сотворил и велел нам пользоваться всей природой, чтоб мы не нуждались ни в чем. Он так устроил, что половину года солнышко долее остается на небе, горячее греет землю, и от этого снег на ней тает и на ней вырастают травы, фрукты спеют на деревьях, все зеленеет и цветет в лесах, а на полях созревают хлеба: рожь, пшеница, – все, что растет нам на пищу и удовольствие. Эта половина года называется летом, когда бывают длинные, жаркие дни и короткие ночи. А другую половину года солнце встает позже, не подымается на небе высоко, прячется гораздо раньше и почти не греет, а только светит. Вот как теперь: видишь, как оно стоит низко?..
И бабушка указала мне в ту сторону, где почти над крышами домов блистало красное, но не горячее солнце почти без лучей, так что я легко могла, прищурившись, смотреть на него.
– Оттого-то зимою дни бывают короткие, ночи длинные, и стоят холода и морозы…
– Ну, а снег-то откуда же?.. – прервала я.
– А разве ты не знаешь, что вода от холода мерзнет? Вот погляди на Волгу: летом вода в ней течет, лодки плавают; а теперь по ней люди ездят в повозках и санях и пешком ходят, как по земле, потому что она покрылась толстым слоем льда. Ну, вот от холода же и те капли воды, которые летом упали бы на землю дождем, зимою, пока летят, замерзают в воздухе и падают на нее снежинками. Холод же не дает им растаять, так что много-много таких снежинок, слежавшись на земле, покрывают ее как белым одеялом. Снег – это замерзший дождь, дитя мое…
– Да отчего ж снежинки-то все такие узорчатые? – опять прервала я очень неучтиво. – Капли дождя – просто капли, а ведь снег, посмотрите, какими звездами.
– Ну, мой дружок, этого нельзя объяснить! – улыбаясь, отвечала мне бабушка. – Тот, кто вырезает листья на деревьях, кто окрашивает и дает разный запах цветам, тот и эти звездочки вырезывает. Ты знаешь, кто это делает?..
– Бог! – отвечала я очень тихо.
– Да, моя милая: премудрый и добрый Бог, все устроивший в мире красиво и полезно.
– А как же, бабочка: разве зима полезна?.. Лучше бы всегда было лето, всегда росли цветы, ягоды, фрукты!.. Нехорошо, что Бог сделал холодную зиму.
– Нет, дитя мое: все хорошо, что сотворил Бог. Он умнее и добрее нас с тобою. Земле тоже нужен отдых, как нам, людям, нужен ночью сон. Зимою земля спит под своим пушистым, снежным покровом. Она сил набирается к лету, чтобы, когда солнышко весной ее пригреет, снег растает, теплый дождичек пройдет в нее глубоко и напоит в глубине ее корни деревьев и трав, – быть готовой дать человеку все, что ему от нее нужно. Тогда она и выпустит из себя зелень, колосья, ягоды; все, что во всю долгую зиму она заготовила внутри себя, под снежным своим одеялом. А мы, люди, все это будем собирать, заготовлять хлеб и овощи, лакомиться ягодами и фруктами и варить варенья на зиму, чтоб и зимой, когда земля, все нам давшая, будет отдыхать, было нам, что кушать. А собирая и кушая, будем мы благодарить Бога, все это для нас создавшего, все так хорошо, так премудро устроившего.
– А что это значит: премудро?..
– Премудро значит очень умно. Вот ты у меня теперь не очень мудрая, потому что маленькая; а когда вырастешь и всему выучишься, ты будешь мудрая.
– Нет, бабочка! Я никогда, кажется, не буду умная. Чтоб быть умной, надо столько учиться, столько знать.
– Это не очень трудно, дитя мое! Надо только желать научиться и научишься всему, чему захочешь. Вот мы и приехали: выходи. Посмотрим, как здесь умные девочки хорошо учатся.
В приюте
Мы вышли из саней и вошли в деревянный, одноэтажный дом, где в небольшой передней нас встретила старушка Анна Ивановна, надзирательница приюта. Все было так тихо, что я думала, что дом совершенно пуст, и очень удивилась, когда, войдя в следующую комнату, увидала в ней более двадцати девочек, смирно сидевших за работой, за длинными черными столами. Все они были опрятно одинаково одеты в серые платьица, и все, как одна, встали, когда мы вошли в комнату, и, дружно кланяясь, закричали:
– Доброго утра, Елена Павловна!
– Здравствуйте, детки, – приветливо отвечала бабушка. – Все ли здоровы? Все ли умны и хорошо учились? Связана ли моя шерстяная косынка?
– Все здоровы и старались учиться! – было дружным ответом. – Косынка почти готова: Зайцева ее каймой обвязывает.
Тут хорошенькая девочка, побольше других, встала и подошла показать большой лиловый шерстяной платок, в конце которого еще торчал ее деревянный крючок. Бабушка похвалила работу и сказала, погладив девочку по голове:
– Спасибо, Зайчик! Я тебе за это привезла капустки. Зайчики ведь любят полакомиться? А вот, посмотрите-ка, девочки, какую я вам привезла подругу: это Верочка, внучка моя. Хотите с нею поиграть?
– Хотим! Хотим! – закричали девочки; а мне ужасно хотелось спрятаться за свою бабочку от всех этих незнакомых детей.
Но я воздержалась, вспомнив, что Антония постоянно бранила меня за это.
– Идите теперь в приемную, дети, – сказала им Анна Ивановна, – играйте там с Верочкой.
Все шумно поднялись, попрятали свои работы и высыпали в зал, где окружили меня со всех сторон. Большие становились передо мной на колени, обнимали и целовали меня; маленькие тянули меня за руки, за платье; трогали мои волосы, бусы, бывшие у меня на шее. Я совсем растерялась и готова была расплакаться, с отчаянием поглядывая на дверь классной комнаты, в которой осталась бабушка. Мне казалось, что они разорвут меня!
Вдруг ко мне подошла та высокая, старшая девочка, которую бабочка называла «Зайчиком».
– Что это вы делаете? – прикрикнула она. – Оставьте Верочку! Зачем вы так окружили и надоедаете ей?.. Подите прочь! Она сама придет к вам, когда захочет.
Маленькие рассыпались от меня как горох. Осталось только несколько старших. Зайцева взяла меня на колени и успокоила.
– Хотите картинки смотреть, Верочка? – спросила она.
– Хочу, – отвечала я; хотя мне хотелось только одного: чтоб поскорее пришла бабочка и выручила меня.
Зайцева повела меня за руку в комнату, где стояло рядами много кроватей с чистыми, белыми подушечками и серыми одеялами. Но, когда меня посадили на одну из них, постель мне показалась очень твердой, а одеяла ужасно грубы. Все девочки засмеялись, когда я сказала, что одеяла кусаются.
– Кусаются? – повторяли они, смеясь. – Нет, ничего! Мы ими ночью закрываемся, и они никогда нас не кусали. Да у них и зубов нет. Кусаются только собаки!..
– Верочка хочет сказать, что они шершавые, – объяснила Зайцева. – Но для нас это ничего не значит: они теплые, и мы рады, что они есть у нас. Дома нам бы, может быть, и совсем нечем было закрыться зимою.
– К шелковым одеялам из нас никто не привык! – заметила одна большая девочка, вся в веснушках и с острым носом.
Она мне очень не понравилась.
– Благодарение Богу, что суконные есть! – отвечала Зайцева, как мне показалось, сердито глянув на нее. – Если б ваша бабушка, Верочка, сюда нас не взяла и не дала нам всего, многие из нас могли бы с голоду умереть.
– Как с голоду? – удивилась я. – Разве у вас нет повара, чтоб сделать обед?
Все девочки опять надо мною рассмеялись.
– Как не быть поварам! – вскричала опять остроносая. – Жаль только, что варить им нечего.
– Так что ж! – сказала я, чувствуя себя обиженной. – Разве вам бабочка обедать варит?
Тут поднялся такой хохот, что все уговоры и сердитые замечания Зайцевой не могли усмирить его. Девочкам показалось уже слишком забавно, что я такую высокую, полную старушку называю бабочкой.
– Какая бабочка? – говорили они. – Разве бабочки готовят кушанья?..
Я чуть не плакала и сконфуженно пробормотала:
– Я говорю про свою бабочку, про бабушку.
– Разве ваша бабушка летает? – продолжали они смеяться.
Но тут уж Зайцева окончательно рассердилась и объявила, что если они сейчас не уймут своего смеха и не перестанут говорить глупости, то она пойдет и скажет начальнице. Девочки поднялись и разошлись, фыркая, по углам; а Зайцева заговорила, обращаясь ко мне:
– Ваша бабушка такая добрая, Верочка, что другой такой, может быть, и на свете нет! Она обо всех нас заботится: мы ей всем обязаны. Она нас кормит и одевает и учит. А мне самой – она все дала!.. Если б не она – не только я, а моя мать и маленькие братья и сестры, – все бы умерли от холоду и голоду. Мы бедные: отец мой умер, мать болеет. Где ж нам взять денег, чтобы жить?..
– А разве без денег жить нельзя? – осведомилась я.
– Нет, душечка! – вздохнула Зайцева. – Без денег нельзя хлеба купить, а без хлеба приходится с голоду умирать. Ну, вот бы мы и умерли, если б бабушка ваша не узнала о нас и сама не пришла к нам. Пришла и прежде всего нас всех накормила; потом прислала доктора и лекарства моей маме. Потом меня взяла сюда и двух братьев отдала в школу. Потом матери дала работу, одела всех нас… Вот какая ваша бабушка, Верочка! – проговорила она со слезами на глазах и вся зарумянившись.
Я смотрела на нее, притаив дыхание, и слушала, как слушают сказку. Я не понимала в то время причины ее волнения, но чувствовала почему-то, что она хорошая, добрая девочка, и спросила:
– Так ты любишь мою бабочку?
– Очень люблю, Верочка!
– А как тебя зовут?
– Аграфеной. Мать Груней зовет меня…
– А мне можно так называть тебя?
– Можно, милочка. Отчего нельзя?.. Зовите и вы.
– Груня!.. А зачем ты говоришь мне вы?.. Это нехорошо. Я так не люблю! Говори, пожалуйста, ты!..
– Хорошо… Если только ваша мамаша не рассердится.
– Вот еще! Что ей сердиться? Мне все ты говорят. Это какая у тебя книга? Покажи.
Зайцева вынула из маленького сундучка, стоявшего под ее кроватью, хорошенькую книгу, но, держа ее в руках, совсем забыла, что хотела показать картинки. В книге оказались разные звери и птицы, одетые людьми; под каждым рисунком была подпись в стихах, часто очень смешная. Груня читала мне их, а я смеялась, глядя на картинки.
– А сама ты не умеешь еще читать? – спросила она.
– Нет, – отвечала я, очень покраснев. – Мне нет пяти лет: мама говорит – рано!
– Разумеется! Ты еще совсем маленькая… Я думала, что ты старше.
– А тебе сколько лет, Груня?
– О! Я старуха. Мне двенадцать лет. Больше чем вдвое против тебя.
Я очень полюбила Груню Зайцеву и начала просить ее непременно придти ко мне поскорее в гости.
– Поскорее нельзя! – улыбаясь отвечала она. – Нас выпускают только в воскресенье и праздники.
Елена Андреевна Ган (в девичестве Фадеева) (1814–1842) – русская писательница XIX века, постоянный автор журнала «Библиотеки для чтения» Осипа Сенковского и журнала «Отечественные записки», мать В. Желиховской
Я стала по пальцам считать, сколько еще дней осталось до воскресенья, и мне показалось, что оно так далеко, что никогда не настанет. Зайцева смеялась, утешая меня, что три-четыре дня скоро пройдут. Тут вошла бабушка с Анной Ивановной, и я бросилась просить ее, чтоб Груня пришла ко мне в воскресенье в гости.
– Какая Груня? – переспросила бабушка. – А! Зайцева?.. Вот как, вы подружились. Ты вот кого проси!
И бабушка легонько повернула меня к начальнице приюта. Та согласилась легко, и я бросилась от радости целовать Груню.
– А как же, Верочка, мы с тобой забыли наше угощение? – сказала бабушка. – Пойдемте, дети, в зал: там уже все приготовлено.
Мы вернулись опять в зал, где на подносе стояли привезенные бабушкой лакомства. Она сама раздала пряники и яблоки всем девочкам поровну, не забыв отложить всего на особую тарелку для надзирательницы.
– А что, детки, – сказала бабочка на прощание приютским девочкам, – не споете ли вы нам песенку?..
– Какую прикажете, Елена Павловна?
– Все равно. Какую вы лучше знаете. Только по-русски, хороводом, как я люблю.
И девочки стали все в круг, взявшись за руки, и дружно запели:
Уж я золото хороню да хороню! Чисто серебро стерегу да стерегу.Груня и тут отличилась: она была запевалой, стояла среди круга и управляла хором.
Весело мне было возвращаться из приюта. Я уж не думала ни о солнце, ни о зиме, ни о лете, а только о девочках и о милой Груне, которая придет ко мне в воскресенье и опять будет читать мне стихи и петь песни.
И, в самом деле, она пришла в воскресенье и стала часто приходить и занимать меня чтением и рассказами. Она пробовала даже научить меня вязать из шерсти шарфики моим куклам; но я была очень непонятливая ученица, и дело всегда кончалось тем, что Груня сама вывязывала всякую начатую для меня работу и прекрасно обшивала моих кукол.
Няня Наста
Чудесная старушка была наша няня. Она была стара: она вынянчила еще мою маму, дядю и тетей; а теперь, когда мы приезжали к бабушке, она по старой памяти всегда вступала в свои права и нянчилась с нами. Все в доме не только любили и уважали ее, но многие и побаивались. Няня без всякого гнева или брани умела всем внушить к себе уважение и страх рассердить ее. Мы, дети, боялись ее недовольного взгляда, хотя няня не только сама никогда не наказывала, а терпеть не могла даже видеть, когда нас наказывали другие. С большим трудом переносила она наше очень редкое стояние в углу или на коленях; а уж если, бывало, заметит, что нас – не дай Бог! – посечь собрались, – не прогневайтесь! Будь это мама или папа, няня Наста без церемонии нас отымет, не даст! С мамой-то она совсем не церемонилась.
– Это что ты выдумала? – прикрикивала она на нее в этих редких оказиях. – Мать твоя тебя вырастила, я тебя вынянчила, и ни одна из нас тебя пальцем не тронула! А ты своих детей сечь?!. Нет, матушка! Я тебя николи не била и твоих детей тебе не дам бить!.. Не взыщи, сударыня. Детей надо брать лаской да уговором, а не пинками да шлепками… Шлепков-то, поди, каждый им сумеет надавать; а от матери родной не того детям нужно!..
И так разбранит за нас Наста маму, как будто она и Бог весть какая строгая была. Оно правда, что мама становилась всегда построже, когда мы приезжали к бабушке, ужаснейшей баловнице нашей; именно потому, что боялась, что она нас совсем избалует.
Часто, бывало, няня отымет нас, уведет от сердитой мамы в другую комнату, а сама вернется, чтоб еще ее хорошенько за нас побранить; а мама весело-превесело рассмеется над ее гневом, так что и старушка не выдержит и, забыв о том, что мы недалеко, хохочут обе, сами над собой, не зная, что и мы тоже смеемся вместе с ними…
Не только ребенка, а каждое Божье создание няня жалела и берегла. Не дай Бог было при ней убить паука или мушку, или равнодушно наступить на какого-нибудь жучка.
– Ну и что тебе с того? – сердито вопрошала она убийцу. – Всех ведь не перебьешь! Ты убил одного – а на тебя налетят десять. Ведь ты ей жизни отнятой назад вернуть не можешь? Убить – убьешь, а воскресить-то не сумеешь? Не твоего это ума дело!.. Ну, так и убивать не смей. Пущай себе живут: коли Бог им жизнь даровал, значит, они на что-нибудь да нужны.
Точно так же сердилась няня, видя, что кто-нибудь животное обижает. Уж какая ведь добрая была, а всегда, бывало, замахнется, чем попало, и бежит своими мелкими старушечьими шажками отымать несчастную кошку, щенка или птичку.
– Вот я тебя, негодник! – няня ни с кем не церемонилась и всем в доме, кроме дедушки и бабушки, говорила ты. – Ишь ведь обрадовался, что силы больше, чем у котенка, и ну обижать!.. А ну, как у меня больше силы, чем у тебя?.. Вот я тебя сейчас поймаю да и отдую, здорово живешь!.. Что ж, умна я буду? А тебе-то сладко придется?.. Срам какой!.. Не озорничай! Оставь в покое Божью тварь, чтоб Господь на тебя самого не прогневался и не наказал за свое творение.
Вот какова была наша няня Наста, – а все-таки мы ее боялись! Как она, бывало, серьезно глянет из-под седых бровей своих да покачает строго головою, так хуже и наказания не надо!.. И хочется попросить няню, чтобы не сердилась, и страшно подойти к ней, пока она сама не взглянет ласковей и не подзовет к себе. В ее гневе было что-то особенное, какая-то особая сила. Не было возможности рассеяться, забыть, что она сердится; какая-то тяжкая скука на нас нападала во время ее гнева. А как только смягчалась няня, и на ее строгом, с мелкими правильными чертами, лице появлялась улыбка, – все будто бы разом прояснялось и веселело кругом.
Няня не одних нас, а вообще всех детей любила и жалела. Вечно, бывало, она вязала чулочки, фуфаечки, теплые шапочки для каких-нибудь бедных детей. Она плохо видела: шила с трудом, но вязала искусно. Поэтому она всегда бралась вывязывать по несколько пар чулок для горничных девушек с тем, чтоб они ей сшили какую-нибудь работу, и работа эта почти всегда бывала белье, платьице или одеяло для ребенка.
В нашей детской была печка с большой лежанкой. Я всегда удивлялась, зачем это няня вечно складывает на ней узелки с нашими старыми платьями и башмаками? Она никогда не говорила нам, что все это припасает для встречных бедных детей.
Я гораздо позже об этом узнала.
Няня была хорошая сказочница. Она знала множество сказок и рассказывала их отлично. Мы все были ужасно рады, когда нам удавалось упросить ее рассказать нам сказку, что было не совсем легко. Ее для этого надо было долго уговаривать, а если она была сердита или чем-нибудь опечалена, то ни за что не соглашалась.
Раз мы очень пристали к ней: «Расскажи, няня, да расскажи сказку!».
– Что вы? Господь с вами! – отвечала няня. – Нынче суббота – всенощная в Божиих храмах идет, а я им сказки стану сказывать!.. Нет, детки, сегодня никак нельзя. Завтра – дело иное. А субботний вечер – вечер святой. По субботам надо молиться Богу, а не выдумки рассказывать. Вот я сейчас затеплю у образов лампадку, а Наденька или Лёля Евангелие бы громко прочли. Вот это бы дело было!
– Нет, няня; я в театр поеду с Катей и с Леночкой, – так тети называли мою маму. – И Лёлю мы с собой возьмем, – отвечала тетя Надя.
Лёля запрыгала от радости и побежала к маме узнавать, не пора ли одеваться; а няня крепко заворчала:
– Ишь, нашли время комедии смотреть! Срам какой, во время службы Божией по театрам разъезжать. Ведь уж, слава Господу, не махонькие: должны бы понимать. А уж Елене Павловне просто стыдно не удержать девчонок.
Няня часто, по старой памяти, тетей и даже мою маму называла «детьми» и «девчонками».
– Эх ты, Наста! Воркотунья ты старая! – откликнулась, услышав ее слова, из другой комнаты бабушка. – Полно тебе ворчать! Какой тут грех – в театр ездить?.. Можно всему время найти: и удовольствию, и молитве.
– То-то я и говорю, сударыня, что всему свое время: бывает час молитве и час веселью, – не унималась няня. – Субботний вечер, известно, вечер святой! Божий вечер… Добрые люди недаром говорят: «Во все дни трудись, в субботу Богу молись, а в седьмой день, помолясь, – веселись». Православные люди так-то делают.
– Э! Полно, голубушка! – прервала ее бабушка. – Оставь молодежи веселье; а мы с тобой, старухи, будем за них молиться. Будет им время дома сидеть, когда жизнь надоест, а пока весело им – пусть веселятся во всяк день и час!.. Весельем мы Бога не прогневаем.
И бабушка принялась за свое прерванное занятие, а Наста еще долго качала седой головой и хмурилась, ворча себе что-то шепотом. Она тогда только унялась, когда, крестясь и вздыхая, принялась заправлять лампадку у киота.
Я смирно притаилась в уголке, в темной амбразуре глубокого окна, и оттуда пристально следила за няней.
Ярко освещенное лицо ее, темное, с глубокими морщинами, смотрело серьезно и даже как будто немного сердито. Ее худенькое, как палка, прямое тело, одетое в темный ситец и черную фланель, казалось мне какой-то тоненькой, деревянной подставкой к низко опущенной голове, с выбившимися из-под темного платка, повязанного шлычкой, седыми как лунь волосами. Она засветила фитиль лампады, осторожно подтянула ее вверх по шнурку, закрепила конец на гвоздик и мерно сделала два шага назад, не спуская глаз с сиявших высоко в углу образов. Суровое лицо ее разгладилось и смягчилось выражением доброты и чего-то другого еще – какого-то непонятного мне в то время, глубокого чувства, которое словно осветило ее всю, в то время как она, шепча молитву, осеняла себя широким русским крестом.
Я сидела не шевелясь, заложив в недоумении два пальца в рот, и не сводила с нее глаз.
«Была няня Наста когда-нибудь молодой?.. – размышляла я. – И… неужели она также была и маленькой?!. Какая же она тогда была?»
Я закрыла глаза и старалась представить себе нянино лицо ребячьим или хоть молоденьким, румяным, веселым… Старалась – но никак не могла!
«Бегала она? Смеялась? Шалила когда-нибудь?.. – продолжались мои размышления. – Или она всегда была как теперь?.. Это не может быть: она тоже прежде была маленькой, как я. И неужели… Неужели и я буду когда-нибудь такая же черная, седая?.. Может ли быть, чтоб и я сделалась такой старухой?..»
– Верочка! – услыхала я вдруг голос бабушки. – Поди сюда! Что ты там делаешь?
Я неохотно, медленно слезла с окна на пол и пошла в другую комнату, по дороге все оглядываясь на молившуюся няню.
– Иди ко мне, Верочка, – подозвала меня к своему рабочему столу бабушка, – посиди со мной. Няня, верно, молится? Не надо мешать ей.
– Я не мешаю, бабочка!
– Ну, все равно: не ходи к ней. Вот тебе кастеты: раскладывай их, подбирай по картинкам.
И бабушка, которая сама всегда бывала занята и умела найти всем дело – и большим, и маленьким, с особенным искусством, придвинула мне ящик с игрой, называемой casse-tête[87]. Вы верно знаете ее, дети?.. Она состоит из многих разноцветных кусочков дерева или картона, прямых и треугольных, из которых можно составлять разные узоры и рисунки по нарисованным бумажкам или самим выдумывать новые.
Нянина сказка
На другой день, только что мы встали из-за стола, а обедали мы поздно, зимою при свечах, все мы, не исключая и тети Нади, бросились просить няню исполнить ее обещание. Она сидела в детской и смотрела на трещавший в печи огонь; чуть ли даже она не задремала, потому что вздрогнула и испугалась, когда мы разом вбежали и набросились на нее:
– Няня! Сказку. Пожалуйста, хорошую сказку!..
– Ну-ну! Полно кричать, чего вы?.. Я думала невесть что!.. Погодите. Расскажу ужо, когда вечер придет.
– Да какой же еще вечер? Теперь уж совсем темно, – протестовали мы.
– Папа большой спать уж пошел! – сказала я, для которой все время во дню измерялось тем, что делал дедушка.
Впрочем, дедушка не для одной меня, а для всего дома мог служить вернейшими часами, до того был аккуратен. Папа большой кофе пьет – значит, шесть часов утра; закусить поднялся наверх, – двенадцать часов ровно; обедать пришел – четыре; проснулся и вышел в зал походить и съесть ложечку варенья – ровнехонько семь часов вечера, а приказал чай подавать – половина десятого. После этого часок или два дедушка проводил в гостиной, где всякий вечер были гости; играл в вист или бостон, но аккуратно в одиннадцать уходил к себе вниз, где еще немного занимался и ложился спать.
К этому порядку так все в доме привыкли, что, когда я сказала: «Папа большой уж пошел спать!», все поняли, что уж шестой час.
– После позовут чай пить, – говорили Надя с Лёлей, – ты не успеешь и кончить сказку, что, право!..
– Ну хорошо, хорошо, баловницы! Сказывайте, какую вам сказку говорить-то?
– Все равно! Какую хочешь, няня. Говори, какую сама знаешь.
– Про Ивана Царевича, – предложила я.
– Ну! Эту мы на память знаем, – сказала Надя.
– Ты бы уж лучше про мальчика Ивашку и Бабу-Ягу, костяную ногу, попросила, – засмеялась надо мною Лёля. – А ты, няня, расскажи новую!
– Ох! Уж ты – новая! Всё б тебе новости! – укоризненно заметила няня. – Ну, садитесь по местам и слушайте!
Мы поставили себе стулья полукругом у лежанки и ждали, сидя смирно и молча: мы знали, что няня не любит, когда прерывают ее мысли в то время, как она собирается «сказку сказывать». В длинной, невысокой детской не было света, кроме яркого огня в печи. Няня его еще хорошенько взбила кочергой, потом села, как раз напротив яркого света, и, положив руки вдоль колен, устремила глаза на огонь и задумалась.
Мы переглянулись, словно хотели сообщить друг другу: «Вот сейчас, сейчас начнет!..»
Вдруг няня встала и пошла к дверям на лестницу.
– Няня! Наста! – кричали мы все в недоумении и горе. – Куда ты? Что же это такое!?.
Няня не отвечала, а только успокоительно кивнула головой и вышла.
Лёля тихонько вскочила и на цыпочках побежала за ней.
– Ты куда?! – прикрикнула на нее няня из нижнего коридора. – Пошла на свое место!
Сестра, смеясь, вприпрыжку вернулась к нам и сказала:
– Я знаю, зачем она пошла: наверное принесет какого-нибудь лакомства.
Я запрыгала от радости, потому что была ужасная лакомка; но старшие прикрикнули, чтоб я сидела смирно. Няня скоро вернулась, и мы сразу увидели, что она несет что-то в своем черном коленкоровом переднике.
– Что у тебя там, няня? – спросила я, вскочив и заглядывая.
– Подожди, сударыня! Все будешь знать – скоро состаришься. А вы все встаньте-ко да отодвиньтесь, на часок, от печки.
Мы живо отодвинулись и ждали: что будет?
Няня нагребла на самый край печи мелких, горячих углей и посыпала на них чего-то из передника…
«Тр-тр-тр! Пуф-ф!» – защелкало и зашипело что-то в печке, и вдруг из нее к нашим ногам поскакали какие-то желто-белые, подрумяненные, пухлые зерна… Я бросилась было их собирать, но няня закричала: «Не тронь! Обожжешься!», и я опять села, удивленная.
– Это кукуруза, – шепнула за спиной моей Даша.
– Кукуруза?.. Это что такое?
– Сухие кукурузные зерна. Они на огне раздуваются и лопаются, оттого так трещат и сами из печки выскакивают, – объяснила она мне; а Дуняша прибавила шепотом:
– Они потом, когда остынут, чудо какие вкусные.
Обе они с восторгом следили за всей этой сценой, но говорили шепотом, потому что няня не любила, когда девочки много при ней болтали.
Зерна то и дело с треском вылетали из печки и падали то на пол, то к нам на колени, заставляя нас с криком и смехом прыгать в сторону.
– Точно из пушек стреляет! – не совладав с собою, восторженно вскричала Даша.
– Смотри, чтоб те язык-то не отстрелило! – тотчас же сурово остановила ее няня.
– Ну, детки, вот и мое угощение готово: сбирайте-ка да грызите, пока я стану рассказывать. Все же веселей, чем так-то сидеть и слушать, ничего не делая.
Мы живо подобрали каленую кукурузу, которая нам показалась очень вкусной; расселись снова полукругом и, с большим удовольствием грызя ее, приготовились слушать.
Няня посидела немного молча, потом выпрямилась и сказала:
– Расскажу я вам нынче сказку про попа и ужа.
«В кругу семьи».
Художник И. Хруцкий. 1854 г.
«Детство вообще счастливое время. А когда в детстве нас окружают и любят хорошие и умные люди – оно вдвойне счастливое!»
(В. Желиховская)
Мне очень хотелось спросить: «Что такое уж?», но я не посмела прервать няни и после узнала, что это такая змея.
Няня начала мерным, певучим голосом, раскачиваясь на стуле и глядя не на нас, а куда-то вдаль, поверх наших голов, с совсем особенной расстановкой, будто бы стихи говорила:
– Называется сказка моя: «Иван-Богатырь и поповская дочь».
«В некотором царстве, в некотором государстве жил да был удалой молодец, князь Иван-Богатырь. У того ль удальца-молодца была сила крепкая, сила страшная! Все боялись его: на сто верст кругом все разбойники разбежалися…
Раз пришел к нему деревенский поп; просит-молит его – дочку выручить! А ту дочку его лиходей увез: старый вор Черномор, что волшебствовал, околдовывал и разбойничал много лет в их местах.
Не задумался добрый молодец.
– Уж как я же его угощу ладком! – он возговорил. – Позабудет вор красных девок красть!
Оседлал Иван коня быстрого; в руки взял кистенек весом в десять пуд и поехал себе по дороге в лес.
А за лесом тем, в страшном притоне, жил колдун Черномор. Подъезжаючи к его терему, увидал Иван частокол кругом. Частокол тот был весь унизан вплоть черепами-костьми лошадиными да бычачьими.
Подъезжал Иван к тесовым воротам, колотил и кричал во всю моченьку… Показалася за стеной голова. Не людская то голова была: лошадиная, – побелевшая от ветров, от дождей; только череп один мертвой лошади…
– Что понадобилось добру-молодцу?.. Или смерти своей ты пришел искать? – она молвила громким голосом, громким голосом человечиим.
И захлопала белой челюстью, словно съесть его собираючись.
– Нет, не смерти своей я пришел искать, башка мертвая лошадиная! Отпирай запор да впускай меня… Красну девицу, дочь поповскую я пришел сыскать, у вора отнять – проучить его не разбойничать!
– Ох! Какой богатырь! – засмеялася башка мертвая. – Видно, ты еще не отведывал черноморского хлеба с солью?.. Убирайся-ка, пока цел, от нас! А не то сейчас Черномор тебя на куски разнесет: тело псам отдаст на съедение, а головушку неразумную высоко на кол вздернет он на забор… Оглянись ты кругом – посмотри: частокол из чего у нас? Мыслишь, то черепа лошадиные?.. Нет, соколик: они человечии… То головки всё молодецкие. Околдованы Черномором злым им убитые добры молодцы; его вороги, как и ты теперь, вызывавшие его в бой честной… Уходи ж ты скорей, пока спит злодей; как проснется он, не уйдешь тогда!..
Рассердился князь и мечом потряс.
– Замолчишь ли ты, башка глупая?.. Жаль, убить нельзя пустой череп твой… Ну, скорей отворяй! А не то как раз расшибу ворота и тебя заодно!
Отвечала ему башка бедная, тяжело вздохнув:
– Быть по-твоему, богатырь удалой! Отопру тебе, только слушай меня: я не мертвый конь – человек я живой!.. Зачарован я колдуном лихим, чтоб казаться таким всем людям честным… Отопру тебе я лишь с условием: если ты победишь врага лютого – не забудь и меня, под подушкой его лежат ключики – каждый весом в пуд: не забудь ты их, забери с собой! Как одним ты ключом отопрешь подвал; а в подвале том моя душенька, человечая. Она вылетит, возвратится ко мне, стану я опять добрым молодцем!.. Как второй-то ключ самого тебя из беды спасет: за ним заперта жизнь злодейская – запасная жизнь чародейская… Если ты его, князь, и убьешь теперь да волшебный ключ позабудешь взять, жаба, мать его, из земли сырой тотчас выползет; ключ возьмет – отопрет во норе своей ларчик спрятанный, где хранится у нее пузырек с водой, с не простой водой – а с водой живой! Той водой она как дотронется до убитого, встрепенется он, и душа его возворотится… Оживет тогда злой колдун Черномор и погонится за тобою вслед. Жди тогда беды, горя лютого!
– Ну, болтай себе! – отвечал Иван. – Разболтался как пустой череп твой!.. Отпирай скорей, не замай меня!.. Расходилася, раззудилася рука крепкая молодецкая. Поиграть мечом захотелось мне!.. Уж как съезжу его вдоль по черепу, не поможет ему жабы знахарство: не восстанет он, не отдышится!
Отперлись ворота, в них проехал князь…
Он ударился прямо к терему, вызывал колдуна громким голосом:
– Эй, колдун, выходи! Дай померимся с тобой силою. Богу я помолюсь, а ты в помощь зови силу черную, чародейскую.
Услыхал Черномор, вскипел злобою! Он затрясся весь и дубину взял.
– Хорошо, молодец; мы померимся – распотешимся! – он Ивану сказал, грянув ввстречу ему.
Тут Иван принимал грудью ворога; он кистень свой поднял, замахнулся им; в душе крест сотворил – и отвел от себя ту дубину врага!.. Налетал на него много раз Черномор; но Иван, все крестясь, с Божьей помощью поборол наконец злого недруга. Повалил он его и ногой ему наступил на грудь… Тогда вынул меч свой и им голову пополам раскроил колдуну!..»
Няня вдруг замолчала. Мы сидели, вытянув шеи, и не сводили с нее широко открытых глаз. Я помню, что я даже рот открыла от ожидания и страха за участь бедного Ивана-Богатыря. Всю сказку она говорила мерно, однообразным голосом и только последние слова проговорила сильнее, так что, когда она замолчала, у меня дух захватило в горле…
– Няня! Что же ты? – тоскливо проговорила я.
Няня не шевельнулась. Она пристально смотрела на огонь и, казалось, о нас забыла. Пламя теперь уже не вспыхивало так ярко и светло, как в начале ее рассказа, а обливало всех нас, в особенности морщинистое лицо няни, красноватыми, неровными отблесками, которые таинственно перебегали по темной комнате; то вспыхивая, то потухая в самых отдаленных углах. Я припала к няне и опять спросила:
– Ну, что же дальше, няня? Говори же!
– Няня! Насточка! – пристала и Лёля с Надей. – Что же ты остановилась?..
– А то, что довольно на сегодня, вот что! Будет с вас! – решительно сказала няня.
– Да как же довольно? Где же поп? Где же уж?.. Как же можно сказки не кончить?
– А так и не кончу. Нехорошо детям сказок под ночь долго заслушиваться. Ишь, вон Верочка-то и глазенки на меня как выпучила, словно испугалась. Полно, родная моя! Ведь это сказка! Пустяк!..
– Ну, пустяк, так и доскажи до конца! – просила ее Лёля.
– Сказано, не доскажу – и будет с тебя, вертунья! – рассердилась няня. – В другой раз окончу. Оправьтесь-ка да ступайте вниз: никак барин уж пришел в зал.
Конец няниной сказки
Только на следующий вечер узнали мы, что произошло впоследствии с Иваном и поповской дочкою.
– Захрапел Черномор, на Ивана взглянул – и издох! – так ровно через сутки продолжала упрямая наша старушка свой рассказ.
Тогда князь Иван-Богатырь отправился искать по терему красную девицу, совершенно забыв о наказе лошадиной головы, и насилу ее разыскал в высокой светелке: она спряталась там, ожидая, что придет злой колдун, и совершенно теряется при виде нежданного красавца. Он же, вообразив, что она от него «схоронилася», гневается, что девица так отвечает в благодарность за его подвиг и услугу и, рассердившись, даже не глядит на нее; а она не осмеливается, видя гнев его, объяснить ему, в чем было дело, и молча, послушно садится с ним на коня его. Так они доезжают до погоста, где Иван сдает поповну отцу ее и матери и, не слушая их благодарностей, возвращается «шагом тихим в свою отчину»… Между тем бедный молодец, «обороченный приворотом злым в коня мертвого», – то есть та голова лошадиная, что предупреждала богатыря о ключах, оказывается правой: едва выехал он, с Аннушкой за седлом, из ворот Черномора, как «жаба, мать его, из норы выползала своей, брала ключики те волшебные» и спешила скорей за водой живой. Вода эта мигом затянула раны и возвратила сына ее, чародея, к жизни, и он, недолго думая, погнался за Иваном, настиг его на мосту, у леска, возле его усадьбы, и, обратившись «в силу черную, силу страшную, заградил ему путь», и… тут-то и произошло самое интересное событие во всей няниной сказке:
«Что-то жуткое с князем сталося! Голова его закружилася, потемнело в глазах… Богатырский меч из руки упал; ничего не видал, ничего не слыхал бедный витязь и вдруг как-то смалился и… с коня соскользнул, прямо в рытвину… Бедный молодец, князь Иван-Богатырь, впал в беспамятство. Он и сам не знал, сколько тут пролежал, но опомнившись, захотел своей душой, хоть в могиле сырой, свое горе сокрыть: он заснул молодцом, а проснулся – ужом!.. Завернув длинный хвост, уж забился под мост и задумался»…
И было чего думать! Злой колдун вообразил, что он Аннушку увез, потому что сам ее любит, и, чтобы навеки разрушить его счастье, объявил, что он навсегда останется змеей; что до той поры не бывать ему человеком опять, пока его, «гада скверного, змея лютого», не полюбит красна девица. Несколько часов бедный околдованный богатырь продумал о своем несчастии и о том, что не бывать бы этой беде, если б он был не так самонадеян и забывчив, послушался бы лошадиного черепа и захватил с собою золотые ключи. Вдруг он слышит, что на мост над ним кто-то выехал: это был поп, отец Аннушки, со своей женой…
«Тут наш уж вылезал, попу путь заграждал, и хвостом он махал и сердито кричал:
– Поп, постой-погоди! Ты с тележки сходи, чтобы съесть мне тебя вольной-волею! А не слезешь, – и съем не тебя одного, а с тобою и мать-попадью!»
Поп начинает упрашивать его не есть их, предлагая дать за себя какой угодно выкуп. Уж требует одну из дочерей попа в жены себе, и, возвратясь домой, поп начинает убеждать старших своих дочерей обвенчаться со змеей, жалея меньшую, Аннушку, вырученную недавно из плена колдуна. Но старшие только смеются и грубят родителям, говоря, что беда невелика, если уж их проглотит, потому что им и так уже «помирать пора»… Меньшая пристыжает их и объявляет, что готова идти хоть на смерть за отца с матерью. Попадья и слышать об этом не хочет, но отец, поразмыслив, говорит так:
«Делать нечего! Видно, ей судьба горемычная. А ведь, может, уж будет добрый муж! Божья воля на все!.. Может, сам Господь наградит ее за родителей!..»
На другой день Аннушка села в тележку с отцом и матерью и при громких насмешках злых сестер отправилась в лес выкупом за отца и мать. Она ожидала лютой смерти, но ошиблась: уж оказался предобрым и прекрасным мужем. Он выстроил ей домик в лесу; рано вставал, чтобы всю работу успеть окончить, рубил дрова, воду таскал, набирал для жены ягод, стряпал ей кушанье. Аннушка надивиться не могла, «что за уж такой ее муж родной? Говорит и поет словно бы человек, и так светятся у него глаза то печалию, а то ласкою, что нельзя не любить его бедного!.. Хоть он телом и гад, но душою своей добрей многих людей!» Раз она начала его расспрашивать, и уж признался ей, что он не змея, а околдованный Черномором богатырь. Аннушка изумилась и спросила: не за то ли он потерпел, что спас какую-нибудь девицу, точно так, как ее самое спас Иван-Богатырь? Говоря это, она зарумянилась, а муж ее, змея, притворился, что ревнует ее к князю, спасшему ее от колдуна; что уж, верно, «богатырь ей мил, – муж-змея постыл?», и объявил, что, желая ей счастья, пойдет сейчас к реке и утопится, для того чтоб она могла обвенчаться с Иваном-Богатырем. Говоря это, он пополз к двери избушки…
«За ним Аннушка поднималася и слезами вся обливалася. „Ты куда же, мой уж? Разве ты мне не муж?.. Нужды нет, что змея, а люблю я тебя: добр ты был до меня, – не пущу я тебя на смерть лютую! И зачем ты меня оставляешь!?. На кого ж ты меня покидаешь?..“ Говоря так, она со земли подняла ужа бедного; и лаская его, обнимаючи, ко груди ко своей прижимаючи, вдруг горючей слезой прямо на сердце ему капнула… Диво дивное тут содеялось! Жаром вспыхнула кровь горячая, молодецкая! Обновился князь, с глаз туман пропал, золота чешуя в парчовой кафтан обратилася, и на месте змеи – гада лютого, очутился вдруг удалец, князь Иван-Богатырь!.. Так и ахнула молодая жена, увидав, кого обнимала она. Тут за руку брал ее князь наш удал, и к родителям приводил и просил ласки-милости попа-батюшки, тещи-матушки, молодых сестриц… Но сестрицы тут рассердилися: „Так-то ты нас надула, сестра? Всех моложе ты нас, так не стать бы меньшой под венец идти первой-напервой!.. Ишь, какого ужа подцепила в мужья! За такого б и мы не прочь выйти!“. Тут вмешалася мать-попадья: „Кто ни мать, ни отца не жалеет, тому счастья не будет от Бога!“. Так сказала она, и, надувшись, ушли прочь сестрицы в светлицы свои. А наш князь молодой со княгинюшкой стали жить-поживать да добра наживать. Я сама там была и мед с пивом пила, только в рот-то мне мало попало!..»
Этой присказкой няня обыкновенно кончала свои сказки.
Исповедь
Зима прошла так скоро, что мы ее и не видали. Наступил Великий пост. Я заметила его только потому, что нам, детям, с папой большим подавали обыкновенный обед, а всем остальным – постные кушанья. Когда я узнала, что бабушка и тети едят постное и часто ездят в церковь потому, что Великий пост – именно то время, в которое злые люди, не поверив, что Иисус Христос – наш Бог, взяли Его, мучили и убили, я тоже непременно захотела поститься. Но мне не позволили. Пришел наш доктор, длинный-длинный, не то немец, не то француз, такой противный, с утиным носом и длинными баками (няня Наста его терпеть не могла и говорила, что у него «баки как у собаки», – с чем мы были все согласны!), и запретил давать мне постные кушанья. Я помню, что меня очень занимала перемена погоды. Я сидела на окне и смотрела, как твердый белый снег превращался в какой-то жидкий кофейный кисель и бесшумно проваливался под полозьями и колесами. Морозного скрипа и визга, ледяных, прозрачных, как стеклянные палки, сосулек уже не было и в помине! Все разрыхлело, таяло, и вода текла по улицам; а Волга смотрела черной, исполосованной и взбудораженной, будто бы кто-нибудь ее нарочно всю перекопал и запачкал. Мама и бабочка жаловались, что езды совсем нет; на полозьях ездить – лошадям тяжело, а в колесных экипажах еще страшно. Во всем доме была суета: всё мыли, чистили, прибирали.
Бабушка чаще обыкновенного советовалась с маленькой, круглой, как шарик, ключницей Варварой и дольше вечером держала старшего повара Максима, когда он приходил к приказу.
По мере того, как толстая Варвара или баба Капка, как ее все в доме называли, озабоченнее погромыхивала связками ключей и чаще и громче ворчала, ссорясь то с дворецким, то с горничными, наша няня Наста становилась все тише и все менее принимала участия в домашних хлопотах. Вообще она за весь пост только и делала, что чистила ризы на образах, перетирала киоты и зажигала в них свечи и лампады. Она говела на первой неделе и второй раз на страстной. По вечерам мы знали, когда няня в церкви; по утрам же никто не мог замечать ее отсутствия, потому что она ходила к заутрене и к ранней обедне. Я рассказываю о ней потому, что она производила сильное впечатление на меня в то время, и я с величайшим интересом наблюдала за ней. Я не давала бабочке покоя расспросами о том, как может няня постоянно молчать и так часто молиться у всех икон? И как это она может ничего не есть? И отчего это она не только сказок больше говорить не хочет, но постоянно уходит от нас, чтоб и не смотреть на наши игры и не слышать песен наших и смеха?.. В самом деле, няня притихла к концу поста до такой степени, что голоса ее не было никогда слышно. Во всю страстную неделю она съедала только по одной просвире в день; а в пятницу и субботу совсем ничего в рот не брала. Я помню, что смотрела на нее в это время не только с уважением, но с чувством недоумения, весьма похожим на страх.
В среду вечером пришел священник с дьячком и отслужил в нашем зале всенощную. Весь дом, все люди, даже повара и кучера сошлись в зал или к отворенным в переднюю и коридор дверям. Я очень усердно крестилась и становилась на колени, стараясь во всем подражать большим, но должна признаться, что не могла молиться: мысли самые разнообразные занимали меня. Я осматривалась с удивлением и, по обыкновению, заготовляла сотни вопросов, с которыми на другой день должна была обратиться к бабушке или Антонии.
После всенощной все тихо разошлись, в зале потушили почти все свечи, но священник остался у аналоя в углу, под ярко освященным образом Спасителя.
– Что это будет? – шепотом спрашивала я, крепко стискивая руку мамы, когда она уводила меня в соседнюю гостиную.
– Мы будем исповедоваться – говорить наши грехи священнику, – объяснила она.
Я хотела допросить ее яснее, очень мало поняв из ее ответа; но что-то в лице мамы заставило меня замолчать и только смотреть на все еще внимательнее, отложив вопросы до другого времени.
Все мы вышли в гостиную и плотно заперли в нее двери; в зале остался один дедушка.
Я смотрела на дверь и, сама не зная, чего боюсь, со страхом ожидала, что будет?..
Андрей Михайлович Фадеев (1789–1867) – саратовский губернатор (1841–1846), позднее высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник. Дед В. Желиховской
Дверь скоро приотворилась, и папа большой сказал, не сходя с порога, бабочке:
– Иди, chère amie[88], я пойду теперь к себе вниз.
И дедушка пошел к коридору, а я так и впилась в отворенную дверь зала. Темная фигура священника мелькнула предо мною, на светлом фоне освещенного угла пред аналоем, спиною к нам, и двери снова затворились: бабушка, крестясь, вошла в зал… Я вздрогнула, когда Лёля вдруг шепнула над самым моим ухом:
– И я тоже буду исповедоваться. Я большая. А ты не будешь! Ты еще глупая, маленькая!
– И тебе не страшно? – с ужасом спросила я.
– Страшно! Вот еще глупости! Чего тут бояться?..
– Как чего?.. Нет! Я бы боялась идти туда.
И я продолжала смотреть со страхом на эту тяжелую дверь, за которой происходило что-то неведомое мне, но очень важное и даже, как мне казалось, не совсем безопасное… Я радовалась, что мне не нужно идти туда. Я совершенно не понимала, что значит – исповедоваться, но боялась за каждого, шедшего в темный зал, и вздыхала свободно, когда все по очереди оттуда возвращались целы. Когда пришел черед Лёли идти, я взглянула на нее и заметила, что, несмотря на ее хвастовство, она очень бледна… Мне сделалось так жаль ее и так за нее страшно, что я невольно припала к дверной щелке…
– Верочка! Отойди. Как можно смотреть? – сказала мне тетя Катя.
Я отошла, но очень обрадовалась, когда сестра к нам возвратилась. Я смотрела на нее теперь с особенным уважением и каким-то ожиданием: словно предполагала, что она совершенно должна измениться. Я очень удивилась, убедившись, что Лёля точно такая же, как и была. Нас усадили после исповеди чистить изюм и миндаль для бабок и мазурок, и сестра несколько раз принималась шалить и хохотать – чем меня очень неприятно изумляла.
– Тише, дети, – останавливала нас мама, – разве можно так смеяться накануне причастия?.. А ты-то, Лёля, большая девочка, только что от исповеди и громче всех хохочешь! Не стыдно ли?
Бабушка ничего не говорила, только ласково смотрела на нас, и, хотя губы ее не смеялись, зато добрые темные глаза ее и все ее милое, приветливое лицо улыбались нам против воли.
В монастыре
На другой день нас рано утром повезли причащать в женский монастырь. Во все время обедни я рассматривала с большим любопытством монахинь и очень сожалела маленькую, худую женщину, игуменью монастыря, которой, по моему мнению, должно было быть ужасно жарко во всех этих длинных суконных мантиях, в клобуке и суконной шапочке, на лбу и вокруг щек опушенной мехом.
Тут же была очень красивая, высокая и полная монахиня, которая иногда бывала в гостях у бабушки. Я ее очень любила и теперь сожалела, зачем не она тут самая главная? Мне казалось, что гораздо было бы лучше, если б она опиралась на тот высокий посох с крестом, и ей бы все другие монахини кланялись в ноги, а не этой маленькой женщине, с желтым сморщенным личиком…
Я причастилась без особого чувства, потому что была еще слишком мала, чтоб понимать торжественность этой минуты. Меня гораздо больше заняло, что я сама запила причастие вином и взяла просвиру со столика… После обедни игуменья пригласила нас пить чай. Мы с бабочкой пошли к ней, а мама и тети поехали в собор, смотреть, как архиерей будет омывать ноги священникам.
Напившись чаю с вареньем в маленькой, жарко натопленной келье игуменьи, бабочка велела нам поцеловать ее руку и стала с ней прощаться. На прощание игуменья надела мне и Лёле на шею перламутровые четки с большими резными крестиками и приказала проводить нас маленькой девочке в ряске и черном колпачке на русой головке.
– Бабочка! – сказала Лёля. – Мы теперь пойдем к Алеевой? Да?..
Алеева была знакомая нам красивая монахиня; я очень обрадовалась, услыхав, что мы к ней идем. Девочка в черном колпачке меня чрезвычайно занимала, и я тихонько спросила бабушку:
– Неужели эта маленькая девочка тоже монахиня?
– Нет, душечка, – улыбаясь отвечала бабушка, – это просто монастырская воспитанница. Их здесь много учится; но только других к празднику отпустили домой, а эта сиротка – ей некуда идти, потому она и осталась.
– А ее насильно не сделают монахиней? – спросила Лёля.
– Какие ты глупости говоришь! – остановила ее бабочка. – Насильно никого не берут в монастырь.
– А зачем же она так одета?
– Все воспитанницы так одеты; когда она выйдет из ученья, тогда сымет и ряску, и черный колпачок и наденет цветное платьице. Монастырского только всего в ней и останется, что она будет умница, будет уметь читать и писать и отлично знать всякие работы. Правда, девочка?..
И бабушка легонько ущипнула ее за румяную щечку.
Мы поравнялись с дверью, на пороге которой стояла Алеева. Она весело встретила нас, заговорив с бабушкой по-французски, да так скоро и оживленно, что я удивилась; а Лёля шепнула мне, что это совсем не по-монашески. Расцеловав нас, Алеева вынесла нам из-за перегородки, разделявшей ее просторную келью на гостиную и спальню, целую корзиночку с прелестными яйцами, отделанными ярким бархатом, атласом, фольгой и блестками, и сказала, чтобы мы их рассмотрели и выбрали себе каждая по два; сама же она ушла в глубину комнаты и села с бабушкой на диван. Она сняла с головы свою круглую шапочку и черное покрывало и осталась простоволосой. Мы увидали, что густые волосы ее темно-каштановые, с проседью, подстрижены, и лицо ее, разгоревшееся от оживленной беседы, показалось нам еще красивее.
Просторная келья Алеевой была гораздо более похожа на комнату богатого дома, чем на жилище монахини; она казалась еще полнее и красивее после голых стен помещения игуменьи. Мебель была мягкая; по окнам стояли цветы: гиацинты, левкои, наполняя комнату чудесным запахом. На стенах висели картины, а одна большая картина, изображавшая дом и большое дерево, над прудом, стояла недоконченная на мольберте у окна. Мы поняли, что это рисовала она сама, и очень этому удивились.
Тут же, на письменном столе, лежало несколько книг в красивых переплетах. На одной, синей бархатной, был вытиснен золотой крест; мы не трогали ее, догадавшись, что это молитвенник. Но нас заинтересовала другая, алая бархатная книга, с надписью: «Album». Лёля, не выдержав, приоткрыла его немножко, и мы на первой же странице увидали рисунок того же деревенского дома, что и на большой картине; а на следующей был нарисован господин с длинной бородой и очень умным лицом.
– Он на нее похож! – шепнула я Лёле, глазами указывая на монахиню.
Лёля кивнула головой и собиралась перевернуть третий листок, как вдруг Алеева оглянулась на нас и сказала:
– Что вы там рассматриваете, дети? Оставьте! Это не для вас.
Мы отошли от стола пристыженные, а монахиня встала, взяла альбом и понесла показывать его бабочке.
Мне показалось, что лицо ее вдруг сделалось очень печальным… В самом деле, я узнала потом, что портрет этот был снят с ее брата, умершего где-то далеко – в Сибири. Он был очень несчастен, а сестра так его любила, что, когда он умер, она бросила свет и свое богатое имение и пошла жить в монастырь.
Приготовление к празднику
Два последних дня пред Пасхой прошли так скоро, что мы их и не видали. Мы красили яйца, завертывали их в разноцветные шелковые тряпочки и варили, отчего они делались как будто мраморные. Бабочка нарисовала мне несколько прекрасных яиц, с букетиками, ангельчиками и гирляндами. Приходили еще какие-то хохлушки с писанками, то есть с яйцами, расписанными по красному фону желтыми, зелеными и белыми узорами; кроме того, дедушка накупил нам золотых и фарфоровых, прекрасных яичек, а тетя и мама навезли сахарных. У нас их было по целому ящику. Я распределяла заранее, которыми из них я буду христосоваться со знакомыми, с приютскими девочками и с нашими горничными девушками. Для няни Насты было у меня припасено прекрасное яйцо с распятием на одной стороне, а на другой с образом Воскресения Господня. Я знала, что няня будет ему рада и сейчас же подвесит его к своим образам.
Рано утром в Страстную субботу нас повели в собор, который был как раз против нашего дома, прикладываться к Плащанице. Я в первый раз видала ее и помню, что, вернувшись, долго не могла успокоиться и все расспрашивала бабочку: как смели злые люди убить Христа? Зачем им позволили это?.. Я очень радовалась, что Господь наш воскрес, ожил опять и вознесся живым на небо. Чтобы я оставила в покое бабушку, очень занятую хозяйственными распоряжениями, мама увела меня к себе в комнату, где сидела Антония, спешно кончая какую-то работу, и попросила ее рассказать мне о распятии и воскресении Спасителя, что она охотно исполнила. Антония часто за работой, которую никогда не оставляла, рассказывала мне и Лёле разные интересные вещи. Я прослушала ее до самых сумерек, пока не позвали нас обедать, и за обедом упорно отказывалась от скоромных кушаний. Я и без того чуть не плакала, оттого что меня не хотели брать в церковь к заутрене; а тут еще все постничают, няня совсем ничего не пила и не ела, а я стану котлетки говяжьи есть?.. Да ни за что на свете! Мама с бабочкой, видя мое горе, сжалились надо мной и позволили мне есть постное, чему я очень обрадовалась.
После обеда я тихо сидела в детской, думая обо всем, что слышала сегодня, как вдруг вбежала Лёля.
– Верочка! – кричала она. – Иди скорее в диванную. Посмотри, чего туда нанесли из кухни: какие бабки огромные! Пасхи, мазурки какие чудесные! И разные кушанья! Иди!..
Я побежала вслед за нею. В зале накрывали уж большой стол и расставляли на нем посуду и серебро. Бабочка же все сначала оглядывала в диванной, куда баба Капка, Максим в белом фартуке и другой повар, Аксентий, сносили из кухни, погреба и кладовой всевозможные кушанья и печенья. Весь круглый стол был занят высокими бабами и куличами, в огромной корзине лежали разные колбасы, копченые птицы и языки; другая была полна мазурками, покрытыми белой глазурью. Варвара перетирала и клала в вазу красные яйца. Бабушка указывала, что на какое блюдо класть и нести в зал, а что оставить про запас для людей. Аксентий с поваренком стояли у дверей, держа какой-то поднос или жаровню, на которой лежали жареные индюшки, гуси и куропатки. Тетя Надя и Лёля вертелись у другого стола, где стояли сладкие пироги и торты, разукрашенные конфетами и цветами.
Я в жизнь свою никогда не видала столько съедобного и так удивилась, что, остановившись среди комнаты и, по своей очень дурной привычке, заложив два пальца в рот, воскликнула:
– Кто ж это все съест?!
– О!.. Посмотришь, сколько у нас будет завтра гостей! – отвечала тетя Надя. – Да и нас самих разве мало? Одних людей чуть не сорок душ.
И это было правда. В те времена у всех было очень много прислуги; бабушка была из очень старинного, богатого дома; привыкла жить окруженная множеством слуг и любила, чтоб не только в нашей столовой, но и в людских всего было вдоволь, особенно в такие большие праздники. Она сама была прекрасная хозяйка и славилась своим хлебосольством.
Немного позже, когда стол в зале был накрыт, яйца, сырные пасхи и бабы для освящения в церкви отобраны и все бабочкины хлопоты окончены, она сидела в диванной, отдыхая, и подозвала меня.
– Верочка, – сказала она, – а знаешь ты, что еще у нас завтра, кроме Пасхи?
Я устремила на нее большие глаза и покачала головой.
– Завтра еще твое рождение, дурочка: тебе пять лет. Смотри же, поумней до утра; ведь ты завтра будешь целым годом старше и за ночь вырастешь на аршин.
– Как на аршин, бабочка?
– Непременно на целый аршин, – улыбаясь пошутила бабушка.
Но я была такая глупенькая, что серьезно об этом задумалась и даже начала беспокоиться о том, какое же я надену платье, если настолько вырасту из своих?
– Ну, что ж тебе завтра подарить? – прервала бабушка мои заботы.
– Не знаю! – отвечала я.
– Подарите ей, бабочка, ту большую куклу, что, помните, мы видали в лавках? Или медведя, который лезет на столб!.. А то краски! Мы будем красить картинки. Так весело!.. Хочешь, Вера, краски? – вмешалась Лёля.
– Ну, милочка! Ты столько наговорила, что всего и не вспомнишь. А знаешь пословицу: qui veut tout, – n’a rien?..[89] Смотри, чтобы с тобой не случилось как со стариком и колбасой в сказке.
– А что с ними случилось?
– Сегодня не время рассказывать. Напомни – завтра расскажу, – отвечала бабушка. – А теперь пойдем чай пить: вот папа большой уж кончил ходить по комнатам и, верно, хочет чаю.
В этот вечер нам с Лёлей крепко не хотелось ложиться спать, потому что никто в доме не ложился в ожидании заутрени. Но нас все-таки уложили, и я уснула так крепко, что и не слыхала ни звона колокольного, ни общего возвращения из церкви.
Пасха и мое рождение
Зато все еще спали, утомленные бессонной ночью, когда я проснулась, пробужденная частым, веселым звоном колоколов во всех городских церквах. В одну секунду я вспомнила, что бабочка говорила мне о сегодняшнем дне, и вскочила на своей постельке. Бабушка всегда рано вставала и не терпела ставень, а потому солнце ярко светило в окно, за которым чирикали воробьи и ворковали голуби, важно похаживая по откосу крыши.
Я протерла глаза, огляделась и… что же я увидала?!.
Около моей кроватки стоял маленький стол, застланный скатертью. На нем блестел медный самоварчик и маленькая чайная посуда, разрисованная голубыми и розовыми цветочками. В сахарнице был сахар, в молочнике – сливки, а возле на подносе стояла настоящая маленькая бабка, вся покрытая сахаром, миндалем и изюмом. Но этого мало! У столика были поставлены два соломенных стульчика: на одном сидела, в ожидании чая, большая кукла, а на другом лежал красный шерстяной сарафан для меня самой. Я часто говорила бабочке, что ничего на свете не желала бы так иметь, как русский красный сарафан. И вот теперь он был предо мною, весь расшитый галунами и золотыми пуговицами, и к нему еще была бархатная повязка на голову, тоже вышитая золотом и бусами. Вот-то была прелесть!..
Я сначала окаменела от восторга. Потом, недолго думая, вскочила на постель к спавшей бабочке и ну душить ее объятиями и поцелуями!.. Я так обрадовалась, что и не сообразила, что могу испугать ее. В первую минуту она действительно испугалась, но, увидя меня, тотчас поняла, в чем дело. Она засмеялась, расцеловала меня и позвала няню одеть меня в новый сарафан.
Только что я оделась, прибежала Лёля, разодетая в новое шелковое платье; она держала подаренную ей мамой книгу с картинками, а бабочка ей подарила прекрасный ящик с красками. Я не отходила от своего столика и не выпускала из рук куклы; я так была ими занята, что даже совсем забыла, что сегодня Пасха и надо христосоваться. Мне напомнила это первая няня Наста. Она вошла в комнату серьезная, одетая в темное шерстяное платье и шелковый платок; торжественно подошла она к бабушке, три раза с нею поцеловалась, обменялась яйцами и, поклонившись ей в пояс, перехристосовалась таким же образом со всеми в комнате. Я засуетилась, разыскивая между множеством своих яиц то, которое приготовила няне; она ему была очень рада. По ее примеру мы все стали христосоваться и меняться яйцами, только я все забывала каждому, кто говорил мне: «Христос воскрес!» – отвечать: «Воистину воскрес!».
Одевшись, мы все пошли к дедушке вниз пить с ним кофе; а потом поднялись в зал, где нашли очень много гостей: всё мужчины, в мундирах, вышитых золотом, из-за которых я не узнавала очень многих знакомых, потому что никогда не видала их такими блестящими. Бабушка, мама и тетя Катя всех угощали за длинным столом, покрытым бабами и разными кушаньями; только я заметила, что все очень мало ели и всё куда-то спешили. Пришли священники и певчие; пропели «Христос воскрес» и все комнаты окропили святой водой.
Приехал архиерей Иаков, высокий, красивый старик с длинной белой бородой. Все подошли под его благословение и целовали ему руку. Он прошел с дедушкой и бабушкой в гостиную, где тотчас же смолкли громкие разговоры и смех гостей, и все они стали разговаривать очень тихо и серьезно. Я все это, по своему обыкновению, наблюдала и думала свою думу, рассматривая внимательно блиставшие на груди архиерея звезды и кресты с разноцветными каменьями.
«Какой он высокий и важный! – размышляла я. – Вот и Алеева такая же красивая и высокая… Жаль только, что у нее нет таких звезд!.. А какой красивый белый крест у него на клобуке. Как блестит!..»
Когда он уехал, я сказала тете Наде:
– Надя! А, Надя! Как ты думаешь, ведь хорошо было бы, если б Алеева обвенчалась с архиереем?
«Пасха».
Художник И. Прянишников. 1885 г.
– Что?.. – расхохотавшись, вскричала тетя. – Ты хочешь обвенчать их? Отлично!.. Маменька! Леночка! Послушайте-ка, что тут Вера рассказывает: она предлагает женить архиерея на монахине Алеевой.
Все так расхохотались, что я чуть не заплакала, покраснев и не зная, куда деваться.
– Ну, что же такое? – говорила я сквозь слезы. – Я только потому, что они оба старые и такие красивые, важные… Я только так сказала… Что же такое? Он монах, и она тоже…
– Он монах, и она монахиня, – так потому их и женить? – поддразнивала меня Лёля.
– Дурочка, ты моя дурочка! – смеясь сказала мама. – Монахи и монахини не могут ни жениться, ни замуж выходить.
– Вот еще! Отчего не могут? – спросила я таким голосом, будто бы это меня очень обижало, и в ту же минуту, не совладав с собою, закрыла лицо руками и горько заплакала.
– Эх, ну что, право! – подоспела ко мне на выручку бабушка. – Перестань плакать, Верочка. Раздразнили тебя, бедную!.. Полно же, полно!
В эту минуту отворилась дверь, и, шурша длинной рясой, в зал вошла сама Алеева. Я стояла на стуле, куда меня поставила возле себя бабушка, и поспешила спрятаться за нее. Монахиня, поздоровавшись со всеми, с удивлением спросила, глядя на меня:
– Что это с Верочкой? Чего она так плачет?
Все ей отвечали одними улыбками и смехом.
– Да, вот из-за вас! – сказала бабочка, стараясь сдержать улыбку, чтоб меня еще больше не раздразнить.
– Из-за меня?! Как так? – удивилась Алеева.
Мама начала рассказывать ей сквозь смех:
– Да вот, видите ли, сейчас был у нас Преосвященный Иаков и так понравился Верочке, что она непременно захотела его с вами обвенчать и вот сердится, зачем мы сказали, что вы не можете за него выйти замуж…
Уж и не знаю, как это я решилась тут взглянуть одним глазком на монахиню… Я видела, как она приподняла вверх свои широкие брови, как дрогнул ее красивый рот, удерживая веселую улыбку… Но в ту же минуту она ласково взяла мою руку и проговорила совершенно серьезным голосом:
– А, вот что!.. Ну, что же? Спасибо Верочке, что она так обо мне заботится!.. Прекрасную партию она для меня нашла. Спасибо!.. Вот тебе за это золотое яичко.
Я, не подымая головы, взяла из рук ее яйцо и только после усиленных уговоров бабочки решилась отереть слезы. В моем яйце оказались ножницы, наперсток, игольник, а в другой половине – крошечный молитвенник с картинками.
– Это значит, что тебе скоро пора уметь шить и читать, – объяснила мне Алеева.
Тут приехали новые гости и Анна Ивановна, которая шепнула мне, что привезла Груню Зайцеву. Я сейчас же убежала показывать ей свои новые игрушки. Скоро приехали Клава и Юля Гречинские, и мы превесело провели весь день, играя в куклы и катая яйца в длинной галерее. Мы столько набили их, что баба Капка разворчалась, что больше нет у нее красных яиц. Но мы только смеялись, не веря ей; мы знали очень хорошо, что в кладовой у нее целая кадка с опилками и красными яйцами.
Вечером, когда папа большой ушел спать, гости разъехались, и все сидели в желтой диванной, мы не забыли напомнить бабочке об обещанной сказке, о старике с колбасой.
– А!.. Вспомнили! – улыбнулась нам ласково бабушка. – Ну садитесь, слушайте.
Мы живо разместились возле нее на диване и навострили уши.
«В те далекие-далекие времена, когда на белом свете еще водились колдуны и волшебники, – начала рассказывать бабушка, – жили-были старик со старухой. Они были очень бедны. Раз сидели они перед пустым камином, которого им нечем было истопить, и печально разговаривали.
– Ах! – молвил старик. – Хоть бы явилась нам какая-нибудь добрая фея и дала все, что нам нужно!
– Да! – согласилась жена его. – Это было бы большое счастье. А что бы мы у нее попросили?
– Нам, правда, нужно столько, что я не знал бы, чего прежде просить? – заметил старик.
– Вот глупости! – накинулась на мужа старушка. – Мало ли что?.. Я бы попросила полную кадку золота, вечную молодость, красоту!..
– Та-та-та! – рассердился муж. – Сейчас видна баба. На что тебе красота?.. Уж лучше проси здоровья да хороший ужин, а то у меня от голоду даже желудок подвело.
– Старый обжора! – закричала жена. – Дурень! Были бы деньги, а ужин найдется!..
Так они сидят да ссорятся, вдруг слышат тоненький голосок:
– Перестаньте! Стыдно браниться!
И в ту же секунду из каминной трубы спустилась маленькая, блестящая волшебница…
Старики так и ахнули!
– Ну, – сказала ласково фея, – позволяю вам сделать три желания, которые я тотчас исполню.
Бедный старичок был так голоден, что сам не успел опомниться, как сказал:
– Чтоб сейчас же предо мной явилась хорошая колбаса!..
Колбаса тут как тут очутилась пред ним на тарелке, да еще и с ломтем хлеба в придачу.
– Ух! – как рассердилась старуха, что он сделал такое глупое желание. Вдруг она как крикнет. – Ах ты, старый дуралей!.. Да чтоб эта колбаса тебе к носу приросла!..
И послушная колбаса прыгнула с тарелки и в тот же миг приросла к носу бедного старика…
– Ай, ай, ай! – завопил старик. – Что я буду делать!? Куда мне, горемыке, деваться?.. Все люди будут смеяться, что у меня вместо носа – колбаса! Ах, я несчастный!
Что тут было сделать старушке? Ведь она любила своего мужа… Нечего делать: пришлось пожелать, чтобы колбаса от носа отвалилась…
– Ну, вот я и исполнила все три ваши желания! – сказала, смеясь, волшебница и исчезла.
А бедные, глупые старики так и остались ни с чем, кроме одной колбаски, которую тут же и скушали».
– Вот вам и вся сказка, дети, – заключила бабушка. – Как же вы думаете: какой ее смысл? Чему она учит?
– Не ссориться, – сказала было я.
Но сестра Лёля расхохоталась так громко, что моего предположения никто и не слышал, и с уверенностью закричала:
– Я знаю! Эта сказка нас учит всегда желать чего-нибудь получше немецкой колбасы.
Все засмеялись, но бабочка сказала, покачав головою:
– Нет, душа моя. Нравоучение этой сказки именно и заключается в той пословице, которую я вчера вам сказала: кто многого желает, тот ничего не получает.
– Или, по-русски: «за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь!» – пояснила мама.
Очень усталая и счастливая легла я в этот вечер спать, хотя и не выросла, как обещала мне бабочка, не только на аршин, а даже ни на вершок.
Наша дача
Вскоре после Пасхи наступила настоящая весна. Двойные рамы вынули из окон; бабушка выставила свои цветы из гостиной и диванной, где они стояли пред окошками на горках, на балкон; солнышко весело светило и грело, а широкая Волга разлилась, затопила синими водами все островки и берега.
Я сидела подолгу на любимом месте своем, в детской на окне, теперь часто открытом, прислушивалась к веселому шуму на улицах, к журчанью воды, грохоту давно не слышанных колес, птичьему гаму на бульваре соборной площади, где все аллеи еще сквозили, непокрытые зеленью, и к неумолчному воркованию голубей на нашей крыше. Помню, что голуби меня ужасно занимали. Я следила за всеми их движениями, когда они прохаживались под моим окном, заставляя железные листы крыши слегка погромыхивать; за кокетливыми изгибами и поворотами их хорошеньких головок, за турухчанием и воркованием их, стараясь им подражать и придумывая, что бы такое они друг другу рассказывали?..
Недельки через две все зазеленело светлой, молодой листвой, и нас каждый день стали водить гулять. Мы собирались после уроков возле собора на бульваре: играли в разные игры с подругами, бегали и веселились, так что стон стоял по аллеям от нашего смеха и криков.
Но больше всего любила я ездить с бабушкой на нашу дачу. Она в ней распоряжалась поправками к летнему житью; а я бегала в липовых аллеях и на лугу перед рощей, собирая фиалки, радуясь, что со всяким днем все лучше зацветает.
Но вот было счастье, когда нас перевезли туда. Дача наша совсем была недалеко от города, на опушке рощи, которая становилась все гуще, спускаясь к Волге, и наконец превращалась в настоящий лес.
Дом был старинный, каменный, с расписными потолками в цветах и амурах; с двумя балконами, опиравшимися на толстые колонны, с густым сиреневым палисадником. Один балкон спускался в него боковыми ступеньками; другой, побольше, выходил к трем густым липовым аллеям, которыми начиналась роща. Невдалеке аллеи эти перерезывал провал, все увеличивавшийся от дождей и превращавшийся далее, влево, в глубокий овраг, приводивший к Волге. Направо от аллей начиналась бахча, то есть поле, засеянное арбузами, дынями и огурцами; налево, с обеих сторон оврага, шла прелестная лужайка, поросшая разноцветным шиповником и цветами, где мы, бывало, ловили бабочек. Далее, впереди оврага, продолжалась роща, выводившая к так называемой большой даче, о которой речь будет впереди, – в это лето она стояла пустая; а за оврагом, в конце прямой аллеи, ведшей от этой большой дачи, был пруд, за которым уж роща обращалась в лес. Но ближе к нам, рядом с обеими дачами, был чудесный грунтовой сарай. Вы не знаете, может быть, что это такое?.. Это большое место, закрытое высокой стеной от северных ветров, с дощатой крышей, которой прикрывают его на зиму от снегов и мороза, а на лето снимают, заменяя ее только сеткой от прожорливых воробьев. В этом сарае содержат непривычные к холодам плодовые деревья. Уж как я любила, разжарившись, ловя бабочек или собирая цветы на лугу, зайти в этот тенистый грунтовой сарай, где с высоких, зеленых деревьев висели – ах! какие славные черно-красные или янтарные, наливные шпанские вишни!.. Нас всегда там угощали и даже позволяли самим рвать и делать из ягод красивые букетики.
Если, не сворачивая, идти, бывало, прямо по единственной, тогда не тронутой еще провалом, правой липовой аллее, то она скоро приводила к нескольким дорожкам, расходившимся звездой, в разные стороны рощи, а как раз в средине этого перепутья стояла деревянная беседка – круглый большой павильон, с круглым же куполом на столбах, – место многих наших увеселений.
Я смалу была ужасная фантазерка и часто выдумывала сама для себя целые истории обо всем, что мне на глаза попадалось. Я очень любила одна забираться в рощу и ничего в ней не боялась. Усажу, бывало, усталую няню на ступеньки беседки, сказав, что только нарву букет и сейчас вернусь, а сама заберусь в чащу да и забуду о цветах. Хорошо было в нашей тенистой, прохладной роще!.. Стою я себе, опустив руки, неподвижно среди высоких белых берез, под которыми, пробиваясь сквозь бурую насыпь прошлогодней листвы, белеются пахучие ландыши словно жемчуг, нанизанный на тонкие стебельки; стою, любуюсь и прислушиваюсь… Как тихо! Казалось, будто жучки, пчелы, стрекозы и всякие букашки, так весело жужжавшие на полянах, залитых солнцем, боялись лесной темноты и сюда не залетали. Даже птицы не заливались хором, как в саду и в аллеях, а изредка несмело чирикали и посвистывали в одиночку где-нибудь на верхушке дерев. Только муравьи да длинноногие пауки быстро бегают, мелькая среди подвижного узора светлых пятен, у ног моих на серой земле… Смотрю я на них и думаю: «Чего они бегают, суетятся? Что они ищут, куда спешат?..» А то закину голову вверх и любуюсь: как славно отделяются кудрявые макушки деревьев на светлом небе!.. Как трепещет высоко в воздухе какой-нибудь молоденький листок. «Бедняжечка! – думала я. – Такой он маленький, слабенький! Ветер так его и треплет: сейчас оторвется и закружится, полетит на землю…» Я даже и руку протягивала, готовясь на лету поймать его. Но листок и не думал падать. Он крепко держался стебельком за мать-березу и с каждым днем рос и креп, пока стояло красное лето; а осенью, когда все листья желтели и падали на землю умирать, я, наверное, его бы не узнала, такой он был тогда большой, красный и высохший.
Бог знает, о чем только я не передумывала в такие одинокие прогулки?.. Теперь забыла свои мысли, но знаю, что их было много и что часто мне представлялось, что я не одна думаю свои думы, а что все, что меня окружало: березы, тихо шептавшие над головой моей, и ландыши, приветливо глядевшие на меня из-за темной зелени, и чирикавшие птички, и бабочка, садившаяся неподалеку на цветок, – все, одним словом, знает мои мысли, понимает меня и молча со мною соглашается… И так хорошо, так весело бывало мне одной в милой роще, как никогда не бывало с шумливыми подругами.
Хотя в то время роща казалась мне дремучим, бесконечным лесом, в котором легко было набрести на что-либо такое, о чем в сказках говорится, но я в ней никогда не знала страха (кроме одного случая, о котором расскажу после). Я искренно верила, что стоит только пройти подальше, и непременно набредешь на Бабу-Ягу с ее домиком на курьих ножках и ступой перелетной вместо экипажа; встретишь лешего, разбойников и чуть ли не самого Змея Горыныча! Все эти чудеса занимали меня ужасно, но совсем не пугали.
Очень часто, забравшись в такую чащу, что ничего кругом, кроме стволов древесных да просветов неба над головою, и видно не было, я чутко прислушивалась: не идет ли кто? Не летит ли?.. Не слышно ли чьего голоса или лошадиного топота? Не раздастся ли посвист молодецкий или плач королевны, заведенной девкой-чернавкой на съедение волкам? Я зорко вглядывалась, уверенная, что могу увидеть что-нибудь таинственное, и не раз сердце мое замирало и крепко билось от ожидания.
Нечего и говорить, что я была такая храбрая именно потому, что со мной никогда ничего в роще не случалось; а, не дай Бог, представься мне только что-нибудь необыкновенное, я бы, пожалуй, со страху умерла, потому что, в сущности, я была большая трусиха, что доказала моя история с Жучкой и еще докажет следующая глава.
На пруду
Раз Лёля зазвала нас за бахчу на далекий пруд, куда мы никогда не ходили. Это был не тот пруд в роще большой дачи, о котором я выше говорила: тот был гораздо ближе. Мы отправились, позавтракав, прямиком чрез бахчу, где на взрытой, пригретой солнышком земле зрели арбузы и желтые дыни. Из-под наших ног то и дело взлетали стаи воробьев, нисколько не боявшихся расставленных во всех концах чучел, воробьиных пугал. Я должна признаться, к своему стыду, что мы, идя по меже, то и дело уподоблялись этим прожорливым воришкам, потому что, нисколько не стесняясь, рвали молоденькие чужие огурчики и с большим аппетитом их ели. Вот в стороне блеснул пруд, весь заросший травой и желтыми водяными лилиями, кувшинчиками, блиставшими на солнце, качаясь на своих широких круглых листьях.
– Точь-в-точь печеная репа на зеленых тарелках! – объявила Лёля.
Мы подошли ближе. Вокруг пруда росли кусты, и стояла, опустив серебристые ветви в воду, старая, сверху подрубленная, ива; в средине же его, весь заросший камышом, был маленький островок, по которому ходило стадо крошечных гусенят, пощипывая травку. Они, как желтые пуховые шарики, переваливались с ножки на ножку, толкаясь, отряхивая крошечные крылышки, гогоча вокруг матери-гусыни, которая важно поворачивала длинную шею, чистя носом свои перья. Серый гусь плавал в стороне, между лилиями, высоко держа голову, не поворачиваясь ни вправо, ни влево, только изредка перебирая под водой широкими красными лапами.
Лёля взобралась на пень и распевала какую-то песню, с разными руладами, размахивая руками и обращаясь к нам, будто актриса к зрителям. Надя старалась какой-то палкой с крючком на конце зацепить и сорвать лилию; а я, любуясь на гусиную семью, вдруг сказала:
– Как бы я хотела, чтоб и маленькие гуси спустились в воду!
– Ну что ж! Их сейчас можно согнать, – сказала сестра, спрыгнув с пня на землю и нагибаясь за камешком.
– Ах! Нет, – остановила я ее за руку, – не бросай камнями, пожалуйста! Еще попадешь в гусенка.
– Вот еще глупости! Нежности какие!.. Я их сейчас прогоню с островка.
– А вдруг они еще не умеют плавать? Вдруг они утонут? – кричала я в ужасном беспокойстве.
– Гуси-то? – расхохотались надо мной тетя Надя и Лёля и начали кричать, спугивая гусей, махать палкой и бросать в них чем попало.
Гуси всполошились. Мать, присевшая было отдохнуть на солнышке, беспокойно поднялась и, озираясь, гоготала, сзывая своих детей, которые, толкаясь и бросаясь в разные стороны, спешили за нею в пруд, кувыркаясь и клюя носиками воду. Гусь, не обращая никакого внимания на догонявшую его встревоженную семью, поплыл быстрее к другому берегу.
«Заросший пруд».
Художник В. Поленов. 1879 г.
Один маленький гусенок все отставал, жалобно пища и напрасно стараясь догнать уплывавшую мать…
– Оставь! Оставь, пожалуйста! – уговаривала я, хватая Лёлю за руки. – Ведь уж они в воде! Ведь уж плывут!.. Оставьте же! Зачем еще бросать?
Но Надя с Лёлей не унимались. Не слушая меня, одна из них схватила с земли большую палку и пустила ее вслед уплывавшим гусям.
Те метнулись с громким криком в разные стороны; большие даже взмахнули сильными крыльями и полетели, но гусыня сейчас же снова тяжело опустилась на воду, собирая и подгоняя своих перепуганных детей. Один гусь только, поджав ноги и распустив широко крылья, продолжал лететь прямо к шалашу, которого мы совсем не заметили. Наконец вся птичья семья добралась до земли. Переваливаясь, с громким криком все стадо пустилось бежать к тому же шалашику… На взбаламученной воде, расходившейся кругами и рябью, остался только один маленький гусенок, что давеча все отставал, но только теперь он уж не плыл, а, повернувшись беленьким брюшком вверх, неподвижно качался на воде…
Увидав, что они наделали, Надя с Лёлей беспокойно переглянулись; а я закричала и залилась слезами.
– Убили! Вы его убили! – неутешно повторяла я. – Злые! Гадкие!.. Я говорила вам!..
– Молчи! Говорят тебе – молчи! – унимали они мои крики. – Уйдемте поскорее!.. Вон женщина идет сюда из шалаша. Скорее! Это сторожиха!..
И они бросились бежать.
Я взглянула и увидала быстро шедшую к нам женщину с очень сердитым лицом. Забыв слезы, я бросилась вслед за ними; а женщина, увидав убитого гусенка, тоже побежала за нами вдогонку.
– Ах, вы, негодные девчонки! – кричала она нам вслед. – Бесстыдницы! Гусенка убили. Бросать каменьем в чужую птицу!.. Вот я вас!
И женщина, преследуя нас, не переставала кричать и браниться до самой рощи.
Мы бежали. Надя и Лёля с громким смехом впереди; я – сзади, отстав, как давешний гусенок, с ужасом прислушиваясь к топоту за мной и ожидая, что вот-вот поймает меня эта страшная женщина…
Но, слава Богу, – вот и дача. Мы стремглав, едва переводя дух, повернули в аллею.
– Ишь улепетывают! Хороши барышни! Озорницы эдакие!.. – раздавалось за мною. – Вот догоню я вас, стойте!.. Я вам задам!
Вдруг женщина в недоумении остановилась, увидав, что мы бежим к балкону, где в ожидании обеда собрались все наши.
– Ишь их! – укоризненно пробормотала она. – А еще губернаторские!..
Она повернула и пошла назад, тяжело отпыхиваясь.
Мы вбежали на крыльцо. Надя села на ступеньки, едва переводя дух от усталости и смеха; Лёля вбежала на балкон, подпрыгнула и с хохотом повисла на шее тети Кати; а я бросилась к вечной своей заступнице – бабочке.
– Что с вами, дети?.. Чего вы испугались? – спрашивали нас.
– Да Вера на бахче гусенка убила! – закричала Лёля.
– Ах! – успела я только ахнуть в негодовании.
– Неправда! – вскричала тетя Надя. – Ну зачем ты, Лёля, глупости говоришь и неправду? Не Верочка убила – а мы.
И Надя рассказала все, как было.
– Фу, срам какой! Ну не стыдно ли вам так вести себя? – сказала бабушка.
– Ничего не делают! Не учатся совсем они теперь, – заметил дедушка, прохаживаясь по балкону. – Этого мало, что они с Антонией Христиановной занимаются: надо, чтоб к ним сюда из города ездили учителя. А то они совсем исшалились. Надя большая уж, чуть не взрослая девушка, а тоже не прочь с племянницами колобродить!.. Не стыдно ли, сударыня?..
Надя, не отвечая ни слова, встала и ушла. Она очень не любила, когда ей делали замечания. Лёля присмирела, усевшись у ног тети Кати, с улыбкой разглаживавшей ее серебристые, курчавые, как у барана, волосы, которые сейчас же топорщились, вздымаясь из-под тетиной маленькой ручки.
– Это, верно, сторожихины гуси, – сказала бабочка, – с бахчи?.. Надо ей заплатить за гусенка… Большой он, Верочка?
– Нет, крошечный! Такой бедненький, маленький!.. Все отставал… Я говорила, что они убьют его, – они не слушались. Так мне его жалко! – говорила я, снова чуть не плача.
– Ах ты, мышка, мышка черноглазая! – взял меня дедушка за подбородок. – Чуть ли ты не умнее старшей сестрицы и тетушки своей, а?..
– Еще бы! Конечно, умней! – смеясь, подтвердила моя добрая, дорогая бабочка с такой уверенностью, будто это и в самом деле была правда.
С этих-то пор я и не хотела больше гулять с Лёлей и Надей, а всегда ходила с большими или тихонько убегала совсем одна. Это тоже было нехорошо. Хотя роща наша была, как сад, со всех сторон закрыта, но пятилетнего ребенка мало ли что может напугать!.. Сейчас расскажу вам, какого я раз набралась страху в моей любимой роще.
Медведь
Случилось это в начале лета. Няня Наста была не совсем здорова, и потому ко мне временно приставили для игр и прогулок молодую горничную Парашу. В одно утро мы с нею в палисаднике играли в городки! Она ломала ветки белой и лиловой сирени и, втыкая их в землю, делала аллеи; из щепочек и колышков мы строили дома; из кусочков стекла, обложенных землею, устраивали пруды и колодцы, из прутиков выводили заборы и ворота. Таким образом у нас росли целые города, по которым мы водили гулять моих кукол.
Вдруг Жучка, лежавшая неподалеку, свернувшись клубочком, подняла голову и, насторожив уши, зарычала.
– Цыц! Чего ты, глупая? – прикрикнули мы на нее; но собака не слушалась и, поднявшись на ноги, все сердитее ворчала.
Параша стала на палисадник, чтоб заглянуть чрез кусты в поле, отделявшее дачу от города. В ту же минуту там забарабанили, защелкали, загремели чем-то железным, а Жучка рванулась, залаяла как бешеная, хрипя, вся ощетинившись, и в один прыжок исчезла за калиткой. Мы тоже бросились за ней во двор и увидали в воротах каких-то мужиков с двумя огромными медведями на цепях. Вокруг них, приплясывая под барабан, щелкая деревянными челюстями, увивался мальчишка, одетый козой. Мужики барабанили, выкрикивая свои приказания медведям; те становились на задние лапы, рычали и гремели цепями; Жучка заливалась лаем; кутерьма была страшная! В первую минуту я испугалась; но потом, когда все высыпали на крыльцо смотреть медвежью пляску, я очень смеялась, глядя на их косолапые штуки. Один из них, очень большой сильный медведь, особенно смешно представлял, «как тихо бабы на барщину ходят и как с барщины скоро домой бегут»; «как ребятишки горох воровать крадутся, а красные девушки в зеркальце смотрятся».
Мужикам заплатили; Михайлу Иваныча и Марью Михайловну Топтыгиных угостили хлебом, сахаром и водкой, которую они очень ловко выпили, взявши стаканы в свои мохнатые лапы, и они ушли восвояси, а я вернулась в палисадник к своим постройкам.
Перед обедом я шла наверх, в детскую, чтоб оправить волосы и платье, когда меня остановил на лестнице испуганный шепот Даши.
– Барышня! А, барышня! – говорила она. – Знаете? Медведь-то большущий самый убег!.. Сорвался с цепи и убег в рощу. Вот страх какой!..
– Неправда. Кто тебе сказал?..
– А кучер Фока сказывал. И Ванька-«фолетор» тоже видал… Они оба в рощу побегли вожакам помогать изловить его. Вот, барышня, теперь полно в рощу-то бегать: страшно!
– Vérà, – раздался голос Антонии, – que faites vous là bas! Venez, je vous arrangerai pour le diner[90].
Антония никогда с нами не говорила иначе как по-французски. Я даже была уверена долго, что она по-русски совсем не умеет, – так она нас уверила, чтобы мы скорее выучились.
За обедом я передала известие о медведе Елене, и она сейчас же громко это всем объявила.
– Неужели это правда? – обратилась бабушка к служившим за столом лакеям.
Дворецкий Яков отвечал, что слыхал, но наверное не знает; а молодые лакеи, Константин и Петр, подтвердили рассказ Даши.
Бабушка встревожилась. Тети и дядя Ростя, приехавший к нам на лето из Петербурга, где он учился в артиллерийском училище, начали ее успокаивать тем, что у медведя нет ни когтей, ни зубов.
– Да на что ему когти и зубы? – говорила бабушка. – Он просто задушить может при встрече.
– Да, разумеется, в медвежьи объятия попасть не совсем приятно, – согласилась мама.
А папа большой сказал, что прикажет узнать достоверно, и что если это только правда, то его поймать нетрудно, окружив рощу облавой.
– Верочка, что ты так испуганно смотришь? – обратилась ко мне тетя Катя.
– Что ты глаза выпучила, будто подавилась? – закричала Лёля.
– Какие прелестные выражения! Как не стыдно так глупо говорить? – остановила ее мама. – О чем ты задумалась, Верочка, что с тобой?
Я отвечала, что ничего, так себе…
– Ты не вздумай бояться, – продолжала мама. – Медведя, если он убежал, сегодня же поймают.
– Я не боюсь! – отвечала я.
Но это была неправда: как я ни старалась, никак не могла забыть, что огромный медведь поселился в нашей роще и во всякую минуту может свободно явиться к нам.
С вечера поднялся ветер; зашумели высокие деревья, ставни наши заскрипели, и то и дело хлопали где-нибудь двери. Мне стало еще страшней. Я все прислушивалась и поминутно вздрагивала. Когда меня уложили в постель, я никак не могла заснуть; мне все казалось, что вот-вот отворится дверь, и вместе с воем ветра раздастся страшное медвежье рычание…
Как я жалела, что няня была больна и не могла рассказать мне сказки!.. Пробовала я попросить Антонию разговаривать со мной; но она отвечала, что очень занята, и продолжала писать в смежной комнате. Пришла Лёля ложиться, а я все еще не спала.
– Ты чего не спишь? – спросила сестра.
– Не знаю… Лёля, ты не слышала: поймали медведя?
– Ах, нет! – важно покачала она головой. – Говорят, он спрятался в нашем овраге.
Она переглянулась с маменькиной горничной Машей, которая ее раздевала вместо няни Насты, и заговорила шепотом:
– А ты знаешь, что медведи по ночам всегда за добычей выходят?.. А овраг-то близко!
– Ах! Не говори! – вскричала я, затыкая себе уши.
Лёля села в одной рубашке на край своей кровати, обхватила руками колени и, раскачиваясь туда и сюда, заунывным голосом запела давно знакомую нам старую сказку:
Я – скрипун-скрипун медведь Да на липовой ноге. Уж все села спят, все деревни спят; Одна девочка не спит – на моей коже сидит! Мою шерстку прядет, мою лапу сосет!.. А пришел-то я затем, Что я ту девчонку… съем!..И с этим последним словом, которое она громко закричала, Лёля неожиданно набросилась на меня, еще громче крича:
– Ай! Вот он! Медведь!.. Спасите!!
Не могу рассказать, что тут случилось. Знаю только, что я так ясно представила себя в лапах косматого медведя, что вскрикнула не своим голосом и бросилась, вся дрожа, на шею к прибежавшей в испуге Антонии.
Мы такого наделали шуму, что снизу прибежали тети узнать, в чем дело, и мама с бабушкой уже хотели всходить на лестницу; но тетя Катя, боясь за маму, которая была больна, закричала им сверху, что это пустяки, что я перепугалась чего-то во сне и теперь уж успокоилась. Бабочка, проводив маму назад в гостиную, где они играли с папой большим в карты, все-таки вернулась к нам, беспокоясь обо мне. Я лежала, еще вся дрожа, в своей кровати; а Антония сидела возле, успокаивая меня и браня Лёлю, и без того сильно сконфуженную. Крепко ей досталось и от бабушки, хотя я и уверяла, что это ничего, что уж я больше не боюсь…
Мне действительно было очень стыдно своего глупого испуга, наделавшего переполох во всем доме.
Несколько дней после этого я все-таки еще помнила о медведе и боялась оставаться в сумерки одна на балконе; а гуляя, постоянно оглядывалась при каждом шорохе. Наконец впечатление страха изгладилось, и я совершенно забыла, как и другие, о медведе и обо всей этой истории.
Страшная встреча
В один день утром мы все, то есть Надя, Лёля и я, собрались идти в рощу за бабочками в сопровождении Натальи, старшей бабушкиной горничной, и еще двух или трех горничных, с сетками и ящиками. Я ведь говорила вам, что у бабушки были большие коллекции всяких насекомых?..
Ее кабинет был полон замечательных коллекций не только бабочек, но разных зверей и птиц, древностей, монет, окаменелостей и всевозможных редкостей. Многие ученые люди были в переписке с бабушкой и нарочно приезжали издалека, чтоб с нею познакомиться и посмотреть ее кабинет… Но я расскажу вам о нем подробнее позже, хотя в то время я еще была слишком мала, чтоб замечать то, о чем придется мне говорить с вами, когда я дойду до описания ее кабинета.
Я тогда только знала, что бабушка накалывает бабочек и жуков рядами в стеклянных ящиках с надписями над каждым из них; но зачем ей были они нужны – меня совсем не занимало.
Итак, мы отправились с сетками на плечах, очень довольные предстоявшей прогулкой. День был чудесный; солнце ярко горело в безоблачном небе, птицы заливались, и пчелы неумолчно жужжали в цветущей липовой аллее. Когда мы вышли на лужайку, за оврагом, у нас глаза разбежались на яркие цветы, пестревшие в нескошенной траве, на белый, желтый и розовый шиповник, на множество мотыльков, букашек и мушек, порхавших между кустами, жужжа и переливаясь в горячих лучах света.
Мы горячо принялись за работу, но, правду сказать, более разгоняли бабочек, чем их ловили. Я даже вовсе не ловила; мне так было жалко бедняжек, когда Наталья или Матрена, тетина горничная, придавливали им головки и полумертвых клали в картонный ящик, что почти каждый раз, как попадалась ко мне в сетку пестрая бабочка, я, полюбовавшись ею, пускала ее на волю.
Радостно следила я, как она вылетит из сетки, трепеща крылышками; бросится, будто от страха, в одну сторону, в другую, потом полетит плавнее и пойдет спускаться с одного цветка на другой, облетая каждый, будто выбирая лучший… Наконец выберет – легонько уцепится тоненькими лапками и качается вместе с цветком, медленно закрывая и распуская пестрые крылышки… Мурлыкая себе какую-то песенку, беспрестанно останавливаясь, чтоб сорвать цветок или поближе рассмотреть какую-нибудь козявку, заползавшую в чашечку шиповника, я направилась к опушке рощи. Мне было очень жарко; меня манила туда тень и прохлада.
Я оглянулась…
Лёля с Надей растянулись в тени большого куста шиповника в пахучей траве и громко смеялись, о чем-то разговаривая; три девушки разбрелись в разные стороны, занятые ловлей бабочек; на меня никто не обращал внимания… Я дошла до рощи, сняла с шеи платочек, сбросила шляпку с разгоревшегося лица на спину и побрела себе, сама не зная зачем, в самую частую чащу. Мне очень хотелось зайти как можно глубже в лес – спрятаться от палившего меня жара, но странно! – чем более подвигалась я между деревьями, они словно редели предо мною… Чаща расступалась, убегала все дальше и дальше как заколдованная, и я никак не могла в нее углубиться.
«Сяду-ка я, отдохну немножко!» – подумала я, лениво раздвигая ветви березняка и едва переступая от усталости. Я подошла к высокой березе и села у подножия ее, разроняв все набранные мною цветы и сетку бросив в сторону. «Хорошо бы было подложить под голову все эти цветы, – думалось мне уже сквозь сон. – Так бы славно заснуть на колокольчиках и ландышах… И сколько их тут еще растет… белеется кругом… Сейчас нарву еще и подложу вместо подушки»…
Но я не успела исполнить этого, потому что глаза мои сомкнулись, голова прислонилась к стволу березы, и я сладко уснула.
Долго ли я проспала? Не знаю. Я вдруг разом проснулась, испуганная каким-то, показалось мне, рычанием или ревом…
Я села, сразу выпрямившись и широко открыв глаза, прислушивалась.
«Что это? Показалось мне это или в самом деле?.. Да где же это я?.. Ах! Да это я в лесу заснула, и уж, кажется, вечер?.. Да где же все?..»
«Сватовство майора».
Художник П. Федотов. 1848 г.
«Надя! Лёля!» – собралась я было закричать… но вдруг что-то опять невдалеке от меня засопело, и я так и застыла с открытым ртом, словно захлебнувшись собственным голосом.
Захрустели ветви, зашелестел кустарник, и поднялось из-за него что-то темное, большое, прямо надо мною.
«Медведь!» – как молния блеснула мне мысль, и я, не помня себя, с громким криком повалилась лицом на землю. Нехорошую минутку пережила я тут, лежа в ужасе, вся похолоделая, ожидая… Что-то подошло ко мне, наклонилось и вдруг, облапив, приподняло с земли.
В ушах у меня зазвенело, в глазах стало темно, и с громким криком я рванулась и, размахнувшись что было силы, ударила медведя по лицу!..
– Верочка! Что ты?!. – закричал медведь, отшатнувшись в удивлении.
Но я его не слушала и, крича изо всей мочи, отбиваясь от него руками и ногами, продолжала колотить его по чему попало: по голове, по плечам, по лицу.
– Господи!.. Вера! Верочка, да что с тобой? – кричал медведь, стараясь поймать мои руки.
Тут я решилась открыть зажмуренные от страха глаза и сквозь слезы узнала… лицо своего дяди Рости.
Я так изумилась, что даже замолчала. Но только на одну минутку, потому что слезы душили меня. И стыдно мне было, и досадно, и все еще страшно!.. Я так была уверена, что это пришел съесть меня медведь, что никак не могла опомниться и понять, что никто меня есть не намерен и что я лежу не в лапах косматого Мишки, а на руках у своего молодого, доброго дяди Ростислава, одетого в юнкерскую шинель нараспашку. Он было рассердился, когда я начала его бить, но потом испугался, не понимая, что со мною сделалось?
– Не узнала ты меня, что ли? – спрашивал он, стараясь меня успокоить.
Я через силу, всхлипывая, объяснила:
– Я… дума…ла… вы… мед… ведь!
Дядя расхохотался.
– Ах ты, мышь этакая!.. – воскликнул он. – Храбрая какая!.. Так это ты хотела медведя побить? Да как это ты забралась сюда одна, скажи, пожалуйста?..
И дядя, все смеясь и называя меня храброй мышью и воинственной куропаткой, повел меня домой.
Дома все были встревожены моим отсутствием. Наталья, только что вернувшаяся из рощи с Надей и Лёлей, была уверена, что я шла впереди: очень испугавшись, она собиралась идти искать меня, когда из липовой аллеи вышел дядя, держа меня, сконфуженную и заплаканную, за руку.
– Вот, – сказал он, – рекомендую вам храбрую куропатку, которая воевала в лесу со страшным медведем. Медведь хотел ее съесть – но она не испугалась и так его поколотила, что он убежал!.. Ах ты, мышка, мышка! И не жаль тебе было бедного медведя? – пошутил дядя, ущипнув меня за щеку, и ушел, смеясь и не отвечая ни слова на расспросы, с которыми все к нему приставали.
Сестра и тетя Надя приступили ко мне.
– Какой медведь? Как ты его побила? Где ты была?..
Но я также ничего не хотела объяснять им, потому что мне было очень стыдно своей новой глупости.
Я надулась и, отбиваясь от них локтями, сердито ушла наверх. Я ужасно боялась, чтобы дяде Росте не вздумалось рассказать об этом происшествии за обедом; но, спасибо ему, он верно понимал мой страх и только раза два улыбнулся, называя меня храброй мышью, но никому не рассказал ничего.
Рождение брата Леонида
Была середина лета. Роща наша потемнела; прошла пора не только фиалок, ландышей и сирени, но отцвели и липы, а вместо разноцветных диких роз на шиповнике вызревали красивые семена.
Раз после обеда мы сидели с тетей Надей и сестрой одни в гостиной. В доме была какая-то суета; все старались не шуметь, ходили на цыпочках, плотно притворяли двери; горничные чаще бегали по всем комнатам, прислуга перешептывалась; тетя Катя и Антония смотрели озабоченно и рассеянно относились к нашим вопросам; одним словом, мне было ясно, что происходит что-то необыкновенное, о чем Надя с Лёлей знали, но не хотели рассказать мне. Я напрасно целый день искала бабочки или няни Насты: их совсем не было видно!
Дедушка уехал в город, и за обедом даже никого не было, кроме дяди, нас да урывками тети Кати.
– Верно, мама больна? Мама или бабочка, потому что их нигде нет, – решила я.
– Никто не болен, – отвечала тетя. – Сидите только смирно. Самое лучшее, идите ко мне наверх, с мисс Джефферс и будьте с нею!
Идти сидеть со скучной англичанкой! Да ни за что! Мы выпросили позволение оставаться в гостиной. Надя и Лёля стали играть в карты, а я села на ковер и строила карточные домики.
Но игра их плохо клеилась. Они обе то и дело выбегали на балкон, в палисадник и все шептались между собой и пересмеивались. Мои домики тоже не держались на ковре; я перенесла свое хозяйство подальше, на пол, и наконец успела-таки вывести высокий дворец в несколько этажей.
– Смотрите, смотрите, какой я дом выстроила! – кричала я в восторге.
Оставалось только поставить последние две карты: острую крышу. Я тихонько, с бьющимся сердцем выводила этот окончательный свод, забыв обо всем, думая только, что вот сейчас отойду и буду любоваться своим произведением издали… Как вдруг с силой распахнулась дверь и – фр-р-р! – тетя Катя, взмахнув платьем, вмиг разнесла мой дом по всей комнате.
– Ах, тетя, гадкая! Противная тетя! – в избытке отчаяния закричала я, чуть не плача.
– Что, моя милая? Что я такое сделала? – бросилась ко мне тетя.
– Как что!? Весь дом повалила!..
– Дом? Какой дом?.. Ах, да! Карточный!.. Ну, это ничего: я тебе после лучший выстрою. А ты перестань плакать… Послушай лучше, что я тебе скажу!
Тетя села, посадила меня к себе на колени, а Лёлю взяла за руку и сказала, весело улыбаясь:
– Дети! У вас родился брат. Слышите? Маленький-маленький братец!
– Брат?.. – закричала Лёля и, вскочив, запрыгала на одной ноге вокруг комнаты, припевая: – Брат, брат, брат!..
– Тише, тише, – остановила тетя ее веселье, спуская меня на пол. – Не шуми, Лёля!
– А что такое? Разве он спит? – спросила Лёля.
– Разве Леночке нехорошо? – испугалась тетя Надя за нашу маму.
– Нет, ничего; только все же не надо шуметь.
– Какой же это брат? – опомнилась наконец и я. – Покажите мне его! Я хочу его посмотреть!..
– Подожди: увидишь. Теперь нельзя, а после тебе покажут, – и тетя поспешно вышла в другую комнату писать какое-то письмо.
– Ну, что же это такое, право? – закапризничала я. – После! Когда после? Я теперь хочу!.. Сейчас. Я пойду туда, к маме… Лёля, а, Лёля! Пойдем к маме!..
– Отстань! Пошла прочь! – отогнала меня сестра, шептавшаяся о чем-то с Надей.
Они забились в угол и о чем-то горячо рассуждали и спорили.
– Пожалуй, только мы оттуда ничего не увидим, – говорила Надя.
– Ну вот еще! Я же знаю: отлично все увидим! Пойдем, попробуем! – убеждала Лёля.
– Хорошо, пойдем.
И, взявшись за руки, они выскользнули в балконную дверь и крепко ее за собой притворили.
– Куда вы? – закричала я, оставшись одна. – Пустите меня! И я хочу с вами… Пустите! Мне одной скучно!.. Отворите!.. – отчаянно заревела я, дергая ручку дверей вверх и вниз.
– Ах ты, противная девчонка! – вскричала Лёля, быстро приотворив дверь. – Не кричи! Пошла вон, слышишь?..
– Не пойду! Я тоже с вами хочу!.. Куда вы идете?
– Пусти ее, Лёля: пускай идет с нами, – сказала Надя. – Я ее подержу… Иди, Вера.
– Да как же она пойдет с нами? Она ведь свалится.
– Не свалится. А если бы и упала – не беда! Здесь невысоко.
И тетя Надя продернула меня в дверь.
Был уже вечер; тихая теплая облачная ночь, полная запахом цветов, резеды и душистого горошку, которые цвели в палисаднике. Свет от окон ложился яркими полосами на гряды и кусты; только крайнее, угловое окно маминой спальни светилось тускло. Сердце во мне замирало: мне было и весело, и страшно чего-то: я угадывала, что мы сейчас что-то такое особенное сделаем, – но что именно? Я сгорала любопытством и ожиданием.
– Кто пойдет первый? – шепотом спросила Елена.
– Все равно. Хочешь, я?..
– Нет! Лучше меня пусти вперед! – бойко вызвалась сестра.
– Хорошо, иди!
– Да куда это? – спросила я, вся замирая.
– Молчи! – прикрикнула Лёля.
Она подошла к крыльцу, шедшему вдоль стены, и, не спускаясь на ступеньки, держась за карниз и подоконники, к стене лицом, осторожно пошла вдоль по узенькому выступу, шедшему вокруг нижнего этажа дома. Подобравшись под окошко спальной, она остановилась, вглядываясь в стекла.
– Что? Видишь что-нибудь? – шепнула ей издали Надя.
– Вижу! Все вижу. Иди скорей!
– Ты лучше оставайся, – сказала мне Надя, – постой здесь, а то еще упадешь.
– Нет, нет. Не упаду. Я тоже хочу посмотреть!..
Надя отправилась вслед за сестрой по карнизу, а я за ней шаг за шагом, с бьющимся от волнения сердцем. До земли было не более двух аршин, но я уверена, что, будь подо мною бездонная пропасть, я бы точно так же отправилась за ними.
Ветки кустарника били меня по ногам, задевали по лицу, цеплялись за платье и волосы. Я не обращала ни на что внимания, глядя на Лёлю, которая припала к стеклу лицом и, казалось, о нас и забыла… Это мамино окно мне представлялось чем-то волшебным: дойти бы только, – взглянуть, – а там будь, что будет!..
И вот мы добираемся до заветных стекол – добрались! Я припадаю к ним, жадно смотрю… но ничего не различаю в большой, сумрачной комнате.
Надя с Лёлей перешептываются:
– Вон видишь там, на диване, белое!? Видишь?..
– Да это просто две подушки кто-то положил.
– Как же, просто!.. А между подушками-то он и лежит, ребенок!.. Я сейчас его видела: бабочка его открывала.
– Где? Где?.. Покажите мне его! – умоляла я.
Вдруг в комнате произошло движение: все ярче там осветилось, кроме кровати, на которой, я знала, лежала мама. Я ясно увидела на диване что-то белое и впилась в это глазами, надеясь увидать своего маленького брата.
– Ай! – вдруг вскрикнула Лёля. – Маменька нам грозит!
В самом деле, я увидала над подушками руку в белом рукаве, медленно грозившую нам пальцем. В ту же минуту тетя Катя быстро подошла к окну, вглядываясь в наши лица. Черные брови ее были нахмурены, но она улыбалась… Погрозив нам, она пошла к дверям.
– Убежим! – закричала Лёля и спрыгнула в кусты; за нею и Надя, и уж не знаю, которая из них меня толкнула, только я сорвалась с карниза и покатилась в траву…
Испуганная падением, я перепугалась еще больше, услышав на балконе тетин сердитый голос:
– Идите сюда, шалуньи! Вот мама велела надрать вам уши и сейчас отправить к мисс Джефферс.
Раздался визг: я поняла, что Лёля попалась тете Кате, и хотя очень хорошо знала, что в этом ровно ничего нет страшного, но вскочила, будто бы за мною кто-нибудь гнался, шмыгнула в калитку палисадника, оттуда за ворота, спрыгнула в неглубокую, сухую канавку и забилась под мостик.
Не пролежала я там и минуты, как услышала невдалеке стук колес и обомлела, вспомнив, что каждый въезжавший в ворота должен был проехать по этому мостику.
Мне вмиг представилось, что мостик должен непременно провалиться и экипаж с лошадьми задавить меня… Я хотела закричать, хотела выскочить и убежать, но, слава Богу! – не успела сделать ни того, ни другого, как над моей головой уже раздался оглушительный топот, стук и гром, из щелей посыпался на меня сор и пыль, и дедушка благополучно проехал к крыльцу дачи. Успей только я исполнить свое намерение, – лошади могли бы испугаться, и Бог весть какое несчастье случилось бы из-за моей глупости!
Бледная, грязная, кашляя от пыли, вылезла я из-под канавного мостика и тихонько побрела в дом.
Там, за общей суетой, никто меня не хватился; няня одна, раздевая меня после чаю, удивилась, где я могла так перепачкаться?.. Но я ей побоялась рассказать, в чем дело, и так никто много лет не знал, каким происшествием ознаменовался для меня день рождения брата Леонида.
Последний месяц на даче не был так весел для меня, как начало лета. Роща наша очень изменилась: поредела, опустела и наводила скуку шуршанием желтых листьев под ногами и завыванием ветра в деревьях. Еще в солнечные дни она была красива, вся пестрая, с яркими гроздьями калины и рябины, выглядывавшими из-за кое-где уцелевшей, темной зелени и с красивыми шишками шиповника, из которого я любила низать коралловые ожерелья. Но дожди стали перепадать все чаще и чаще, а в серые, ненастные дни куда как скучно смотрела наша дача!.. Раз я очень обрадовалась: у мамы, плохо поправлявшийся после болезни, затопили печку, и нас позвали смотреть, как купают братца. Я была в большой дружбе с его кормилицей Ольгой – высокой, здоровой бабой, которая так смешно говорила: совсем по-деревенски. Раз или два она дала мне подержать укутанного в одеяльце Лиду, чем я очень была довольна; но теперь, увидав его в первый раз, прикрытого только одной мокрой пеленочкой, какой он лежал красный да крошечный, – я даже испугалась! Мне все казалось, что Ольга его нечаянно утопит, что он, бедненький, захлебнется, и с тех пор я долго боялась брать его на руки.
Вскоре мы переехали в город. Я была рада вернуться в наш большой дом, увидать снова бульвар наш, хотя и он показался мне очень некрасивым и пыльным. Когда мы уезжали, из-за зелени его возвышался только купол собора да колокольня; а теперь он весь был сквозной, так что даже не закрывал проходивших по аллеям людей.
Эта осень ознаменовалась тем, что меня начали гораздо больше и серьезнее занимать уроками. Не только Антония, но и мисс Джефферс перешла от наглядного обучения к английскому букварю. До этого времени она со мной еще не занималась грамотой, а только разговором и обучением слов, за которое она бралась очень оригинально. Усадив меня рядом с собою, она начинала с того, что перекашивала еще больше свои и без того косые глаза, из которых один был карий, а другой – зеленый, и, тыкая пальцем в разные предметы, нараспев восклицала:
– О! – Book… О! – Flower… О! – Chair… О! – Table…[91] – и так далее, пока не перебирала всего, что было в комнате, с трудом заставляя меня повторять вслед за нею.
Ее длинная, безобразная фигура и мерные, заунывные восклицания до того меня смешили, что я с трудом могла воздерживаться от смеха…
Тем не менее «мисс», как называли ее все в доме, добилась того, что менее чем в два года мы с сестрой совершенно свободно говорили с ней и между собою на ее родном языке.
Новая зима
– Со снегом поздравляю вас! – разбудила нас утром няня. – С первым снежком – заячьим следком!.. Вставайте-ка скорее: поедем в санках кататься.
– В санках, няня? – радостно вскричала я. – В самом деле?.. А как же вчера была такая грязь?..
– Ну что же? Вчера была грязь, а ночью подул ветер, нагнал снежные тучи, мороз прохватил землю, и вот к утру все оделось снегом, – отозвалась нам бабочка, выходя из своего кабинета. Она всегда, и лето, и зиму, вставала в шесть часов. – Посмотрите, как славно все на дворе: светло и бело! – и она отдернула занавес окна.
Лёля, до сих пор лежавшая клубочком под теплым одеялом, вдруг вскочила и босиком подбежала к окну.
– Лёля, Лёля! – закричала на нее бабочка. – Простудишься! Пошла в постель, надень чулки и башмаки – тогда бегай сколько хочешь.
Меня Наста уже одевала. Я тряслась, совсем не от холода, а только потому, что, заглядывая в окно, воображала, как там должно быть холодно. Все за окном было ослепительно светло от яркой белизны первого снега, пушисто облегавшего крыши, деревья и все, что было у меня перед глазами. Воздух был испещрен его крупными, мохнатыми хлопьями, мягко ложившимися на землю. Все было тихо, словно и люди, и звери притаились. Не слышно было ни уличного шума, ни стука экипажей, ни лая, ни чириканья птиц; не видно никакого движения, кроме падавших белых хлопьев, которые безостановочно летели вниз, догоняя друг друга, цепляясь на пути, мелькая частой сеткой в ослепительной желтоватой мгле…
«Катание на санях».
Художник Ф. Кеммерер. 1850-е гг.
У меня зарябило в глазах. Я отвернулась, закрыв лицо руками, и спросила:
– Бабочка! Отчего так тихо? Где все люди и птицы?..
– Люди сидят по домам, а птицы тоже попрятались. Посмотри, вон под навесом крыши, по карнизу, сколько сидит, нахохлившись, голубей. Они жмутся к стенке – от снега прячутся; а как только он перестанет идти, они все и слетят за кормом. И воробьи тогда вылетят, зачирикают, запрыгают по двору, да, пожалуй, еще и передерутся от радости, что зима пришла…
– А вон там ворона! – перебила я бабушку, показывая на черную птицу, тяжело перелетавшую с соборного купола на колокольню. – Ишь, как каркает!.. Она, верно, снегу не боится?
– Вороны – зимние птицы; они холоду не боятся. Погляди, сколько их на колокольне! Кресты соборные, словно черным бисером, ими все унизаны.
– Гадкая птица ворона! Я ее не люблю, – сказала Лёля.
– Чем же она гадкая?
– Некрасивая, неуклюжая, черная, толстая!.. А как захочет запеть, так так противно каркнет!
– Чем же она виновата, что ее Бог такою сотворил? – сказала бабушка. – Значит, ты всех некрасивых не любишь?.. Ну, вот и я тоже толстая, неуклюжая и петь не умею, так ты и меня за это не будешь любить?
– Ну, вот еще, бабочка! Что это вы говорите, – сконфуженно пробормотала Лёля, вся покраснев, но тут же расхохоталась. – Разве вы птица?.. Зачем человеку петь?.. Вы отлично играете на фортепиано, рисуете, сколько знаете разных работ!.. Вышиваете шелками, вяжете кружева, клеите из картона и раковин разные вещи! Делаете такие прелестные цветы!.. Господи! А знаете-то вы сколько!.. Всему вы можете учить: и истории, и географии! На скольких языках вы говорите! Собираете древности, монеты… Боже мой, Боже! Чего только вы не знаете!..
– Та-та-та! Затараторила!.. – прервала ее бабушка. – Ты, кажется, в самом деле думаешь, что я, как ворона в басне, сейчас и уши развешу на твое лисинькино пенье?.. Ах ты, Лиса Патрикеевна!.. Ты лучше не перебирай, что я знаю и чего не знаю, а старайся лучше говорить мне уроки, чтобы самой больше знать.
И бабушка обняла Лёлю, целую ее курчавую голову, а я сама к ней бросилась, уверяя, что другой такой доброй да умной и во всем свете не сыщешь! Я в том была убеждена и тогда, и теперь осталась на всю жизнь уверенной. Бабушка моя, Елена Павловна Фадеева, была такая замечательная женщина, каких на свете мало.
Она очень любила серьезные занятия и такая была ученая, что все изумлялись ее глубоким знаниям. Но еще больше наук и всего на свете она любила свою семью, в особенности нас, своих внуков.
Она и учила нас, и умела нас забавлять, как никто другой не мог. Я ничего так не любила, как ее чудесные рассказы, и могла их слушать по цельным часам.
В пять-шесть лет у детей немного уроков; я обыкновенно кончала свои до завтрака, а потом гуляла, играла и могла делать все, что хочу. А хотела я, всего чаще, тихонечко пробираться наверх, в комнаты бабушки. Если я не находила ее в спальной за каким-нибудь рукоделием, то уж я знала, что она в кабинете – рисует цветы или занимается чем-нибудь «серьезным»…
Кроме всяких вышиваний, вязаний, плетений бабушка умела делать множество интересных работ. Она делала цветы из атласа, бархата и разных материй; она клеила из картона, раковин, цветной и золотой бумаги, из битых зеркальных стекол, из бус и пестрых семечек такие чудные вещи, что чудо! Она переплетала книги. Сама, бывало, напишет что-нибудь, сама разрисует, сама и в книгу переплетет… Но всего лучше она рисовала, особенно цветы. Мы, дети, были уверены, что не было на свете такой работы, которой бы бабушка не знала!
Но все эти занятия считались ею пустяками, только отдыхом от серьезного дела… «Серьезно» занималась бабушка у себя в кабинете. Там она читала и писала на нескольких известных ей языках; разбирала свои собрания редкостей: камней, раковин, растений; разных насекомых, зверей и птиц; разных древних вещей – окаменелостей, монет (старинных денег), рукописей. Все это она сама распределяла, надписывала и красиво устраивала в шкафах и ящиках под стеклом, на полках и по стенам своего кабинета.
Не диво, что я любила в этот кабинет забираться! Чего-чего в нем не было?!.
Рассказы моей бабушки
Приотворяла я тихонечко в него дверь и заглядывала… Если бабушка подымала голову из-за своего рабочего стола и, выглянув из-за массы живых цветов, всегда ее окружавших, ласково мне улыбалась, – я входила смелей и поближе к ней подсаживалась. Если же не замечала моего прихода или, еще того хуже, – увидав, оставалась серьезна, нахмурив озабоченно брови, – тогда я быстро садилась, где попало, поодаль и там ждала, притаившись, пока она меня подзывала.
Иногда мне подолгу приходилось этого ждать, но я не унывала и не скучала. В бабушкином кабинете было на что поглядеть и о чем призадуматься!.. Стены, пол, потолок, все было покрыто диковинками. Днем эти диковинки меня очень занимали, но в сумерки я бы ни за что не вошла одна в бабушкин кабинет!
Там было множество страшилищ.
Один фламинго уж чего стоил!..
Фламинго – это белая птица на длинных ногах, с человека ростом. Она стояла в угловом стеклянном шкафу.
Вытянув аршинную шею, законченную огромным крючковатым, черным клювом, размахнув широко белые крылья, снизу ярко-красные, будто вымазанные кровью, – она была такая страшная!.. На беду, моя старшая сестра-шалунья рассказала мне целую сказку об этом набитом чучеле.
Будто фламинго ночью оживает, крыльями хлопает, разевает клюв и челюстями постукивает; а потом идет разыскивать себе пищу…
– А ест он, знаешь, что? – сочиняла моя сестрица. – Маленьких детей!.. Да! Он им носом голову пробивает, кровь их пьет и, наевшись, вытирает клюв крыльями… Оттого-то они у него и такие красные – кровавые!..
Разумеется, бабушка, узнав о выдумке сестры, ее побранила, а меня разуверила. Я и сама понимала, что чучело не могло ходить, но все же побаивалась… И не одного фламинго! Было у него много еще страшных товарищей – сов желтоглазых, хохлатых орлов и филинов, смотревших на меня со стен; оскаленных зубов тигров, медведей и разных звериных морд, разостланных по полу шкур.
Но был у меня между этими набитыми чучелами один самый дорогой приятель: белый, гладкий, атласистый тюлень из Каспийского моря.
В сумерки, когда бабушка кончала денные занятия, она любила полчаса посидеть, отдыхая в своем глубоком кресле, у рабочего стола, заваленного бумагами, уставленного множеством растений и букетов.
Тогда я знала, что наступило мое время.
Весело притаскивала я своего атласистого друга за распластанный хвост к ногам бабушки; располагалась на нем, как на диване, опираясь о его глупую, круглую голову, и требовала рассказов.
Бабушка, смеясь, ласково гладила меня по волосам и спрашивала:
– О чем же мне сегодня тебе рассказать сказку?
– О чем хотите! – отвечала я обыкновенно.
Но тут же прибавляла, указывая на какую-нибудь мне неизвестную вещь:
– А вот об этом расскажите, что это за штука такая?
И бабушка рассказывала.
Рассказы ее совсем были не сказки, хотя она их так шутя называла; но никакие волшебные сказки не могли бы меня больше занять. Некоторые из них я до сих пор прекрасно помню.
Прислоненное к стене кабинета стояло изогнутое бревно – как я прежде думала: круглый, толстый ствол окаменелого дерева. Вот я раз и спросила: что это такое?.. Бабушка объяснила мне, что вовсе это не дерево, а громадный клык животного, жившего на свете несколько тысяч лет тому назад… Этот зверь назывался мамонтом.
Он был похож на слона, только гораздо больше нынешних слонов.
– А вот и зуб его! – раз указала мне бабушка. – Ты этого зубка не подымешь.
Куда поднять! Это был камень в четверть аршина шириною и вершков семь длиной. Я ни за что не верила! Думала – бабушка шутит!.. Но рассмотрев камень, увидала, что он точно имеет форму зуба.
– Вот был великан! – вскричала я. – Как я думаю, все боялись такого страшилища! Он, верно, ел людей и много делал зла?.. Ведь такими клыками можно взрывать целые дома?
– Разумеется, можно. Но мамонты не трогали ни людей, ни зверей, если их не сердили. Они, как и меньшие братцы их – слоны, питались только травами, фруктами, всем, что растет. Мамонты не ели ничего живого, никакого мяса, – зачем же им было убивать? Но были в те далекие времена – гораздо прежде потопа – другие страшные кровожадные звери, которых теперь уж нет. Они гораздо больше нынешних диких зверей. Больше тигров, львов, крокодилов; даже больше жирафов, гиппопотамов и китов! Их было такое множество, что бедные люди, не имевшие тогда никакого оружия, уходили от них жить с земли на реки и озера. Они себе строили на воде плоты из бревен, а на плотах сколачивали хижинки или шалаши вместо домов и на ночь снимали сходни, соединявшие их с берегом. Но и то плохо помогало! Ведь и в водах жили громадные чудовища, вроде ящериц, змей или крылатых крокодилов.
Заслушивалась я бабушкиных рассказов, открыв рот и уши развесив, до того, что мне порой представлялось, что набитые звери в ее кабинете начинают шевелиться и поводить на меня стеклянными глазами…
Я вздрагивала и со страхом заглядывала: здесь ли бабушка?
Раз она поймала мой тревожный взгляд и спросила:
– Что с тобой?.. Чего ты испугалась?
– Ничего! – отвечала я, вспыхнув. – Я так себе думаю.
– Ты, кажется, трусишка, боишься, что тебя набитый медведь укусит, – смеялась надо мной бабушка.
Заметив, что такие рассказы меня пугают, бабочка чаще стала мне рассказывать о нынешних зверях, а больше о птицах, бабочках и жуках, которых у нее было множество и в рисунках, и настоящих, только не живых, а за стеклом. Она удивительно искусно и красиво умела устраивать их на веточках, на цветах; будто птицы на воле сидят, летают и плавают; а бабочки и мотыльки порхают по цветочкам. Вода у нее была сделана из осколков стекол, разбитых зеркал и разрисованной бумаги. Выходили целые картины.
На одной стене всё сидели хищные птицы: орлы, ястребы, соколы, совы; а над ними, под самым потолком, распростер крылья огромный орел-ягнятник. Бабушка мне сказала, что так его зовут потому, что он часто уносит в свои гнезда маленьких барашков. Что в Швейцарии, где много таких орлов в горах, даже люди его боятся, потому что он крадет с поля маленьких детей; сталкивает с обрывов в пропасти пастушков и там заклевывает их, унося куски их тела в скалы, в свое гнездо, орлятам на обед…
Этот орел был тоже мой враг!.. Он, пожалуй, еще страшнее, чем краснокрылый фламинго, смотрел на меня сверху, своими желтыми глазами… Я тогда была еще такая глупенькая, что мне часто думалось: а ну как он слетит?!. Как вцепится лапищами, с громадными когтями, в волосы или в тело?.. Недаром бабушка меня часто трусишкой называла; а сестра подсмеивалась, рассказывая мне разные страшные сказки.
Но что за прелестные были в бабушкином кабинете крошечные птички-колибри!.. Одна была величиной с большую пчелу и такая же золотистая. Эта крохотная птица-муха, как ее бабушка называла, больше всех мне нравилась. Она сидела, со многими своими блестящими подругами, под стеклянным колпаком, на кусте роз, которые сделаны были тоже самой бабушкой. Другие колибри были чудно красивы! Их грудки блистали, как драгоценные камни, как изумруды и яхонты, зеленые, малиновые, золотистые! Но моя колибри-малютка была всех милей своей крохотностью.
Есть далеко, за морями, жаркие страны, где эти маленькие, разноцветные красавицы летают во множестве, как у нас воробьи… Я думаю, что их там можно принять за летучие цветы!
В такой жаркой стране – она называется Индия – много интересных вещей. Люди там темнокожие, кофейного или медного цвета, и от жаров ходят почти голые – точно наши допотопные предки. Только у них на руках и на ногах всегда много браслетов с бубенчиками и побрякушками – от змей… Змей в Индии много, и есть очень ядовитые. Они боятся звону, а потому жители и носят на ногах погремушки, чтоб они уползали, заслышав их, и не кусали их голых ног. Слоны служат там людям, как лошади; обезьяны бегают на воле, как наши собаки, а попугаи – белые, красные, зеленые – летают, как у нас черные вороны да галки.
Но самое чудное там украшение – это растения. Великолепные цветы и громадные деревья – пальмы, которые раскидываются саженными листьями, как гигантские веера, а некоторые покрыты яркими цветами – величиной в тарелку. Представьте себе огромные деревья, покрытые красными, розовыми, белыми и лиловыми подсолнечниками!..
Обо всем этом я впервые узнала, когда была маленькой, из рассказов моей милой, родной бабочки и видела на рисунках в ее больших, чудесных книгах.
И перечесть нельзя множества интересных вещей, которые я узнала в этом кабинете!.. О каких бы зверях, насекомых, камнях или растениях я ни спрашивала ее – бабушка все знала и обо всем рассказывала самые интересные истории.
История Белянки
Рядом с моим белым другом, тюленем, лежал набитый морж: он тоже был гладкий, как атлас, но только черный. Того я не любила: у него была злая морда и два крепких белых клыка, изогнутых книзу…
Бабушка, шутя со мной, называла тюленя и моржа – сестрицей и братцем, Белянкой и Чернышом.
– У меня еще был и Серко! – шутила она. – Серый тюлень из Балтийского моря; да того, бедного, моль так поела, что осталась одна кожа. Пришлось его выбросить!.. А жаль! Красивый был, с черными разводами и пятнами по гладенькой серой спинке. Тот уж был родной братец Белянке, хотя при жизни с ней не был знаком: он плавал в северных морях, ко мне из Петербурга приехал, а она – астраханочка! В южном Каспийском море родилась и проживала. А господин Черныш им братец двоюродный – похож, да не совсем! Хоть одного рода они – посмотри!
И бабочка показывала мне и объясняла отличительные приметы моржей и тюленей: толстое, длинное тело, аршин до двух и более длиною; к хвосту оно суживается, а хвост – веером, как руль, чтоб удобнее было плавать; лапы с перепонками, лапчатые, как у гусей; передние – коротенькие, а задние очень длинные, но не отдельные, а вытянутые вдоль по телу и соединены с ним и с хвостом тонкой, очень растяжною кожей. Морды у них – собачьи, с очень умными, добрыми черными глазами; на носу клапаны, чтоб вода в ноздри не вливалась, когда они ныряют, и пресмешные, длинные усы щетиной, как у котов.
Моржи и тюлени могут жить и в воде, и на земле; они не умирают на воздухе, без воды, как рыбы, но только им очень трудно по земле двигаться: ноги их неудобно устроены для ходьбы, потому они еле переваливаются ползком. Но напрасно у людей вошло в поговорку: неуклюж как тюлень! Никто не может быть проворней и ловчее тюленя в море, так быстро и ловко они плавают, так ныряют и кувыркаются, особенно на заре при солнечном восходе… На землю они редко выползают: только самки, чтоб покормить детей. Они ведь кормят своих детенышей молоком, как все земляные животные. Дети в море не идут, пока не подрастут и не окрепнут. Их матери кладут к себе на спину и учат плавать.
– В Каспийском море мне часто приходилось видеть, как тюленихи плавают, а над их блестящей, как белый шар, головой торчит другая головенка, и оба пресмешно поводят черными глазенками и длинными усами шевелят! – рассказывала бабушка. – Моржи сильнее и храбрее тюленей, потому что больше и хорошо вооружены. Видишь, какие у них крепкие и острые клыки!.. Они часто и на крупную рыбу нападают; а бедным Белянкам защищаться нечем, не только что на других нападать. Едят они мелкую рыбешку, слизняков, а всего больше водоросли, морскую траву. Моржи живут в самых холодных, северных морях – на полюсах, где плавают целые горы вечных льдов. Они там вместе с белыми медведями проживают. К человеку морж никогда не привыкнет, а тюлени очень легко становятся ручными… Да вот эту самую, набитую мою Белянку, я часто из своих рук кормила.
Я так и напала на бабушку:
– И не жаль вам было потом убить ее, бедняжечку? Ах, бабочка, какая злая!
– Не я убила ее, а один калмык, охотник-рыболов, – оправдывалась бабушка. – Ты знаешь калмыков? Видала их на картинках у меня?.. Это такой народ живет на юге России, больше всего в устьях Волги, в Астраханской и Саратовской губерниях. Они все такие коренастые, небольшие, но широкоплечие; тело у них желтовато-красное, как медь. А живут калмыки не в городах и не в домах, а кочуют в кибитках – то есть в таких войлочных палатках, которые легко складывать и перевозить с одного места на другое… Когда мы жили в Астрахани, – рассказывала бабушка, – твоей маме велели доктора пить кумыс, питье, которое калмыки делают из кобыльего молока. Для этого мы переехали одним летом на дачу, неподалеку от их улуса – улусами называются кочевья калмыцкие, где они в своих кибитках располагаются. Море от нас было близехонько, и каждый день мы ходили купаться и гуляли по берегу – рыбок кормили, бросали в воду крошки хлеба, рубленое мясо и всякие остатки. Немножко подальше нашей купальни был пустынный заливчик между камнями. Рыбы в нем множество водилось; к нему повадилась приплывать и Белянка и так скоро привыкла ко мне, что совсем перестала людей бояться… Я думаю, что в этом заливчике она, верно, своих деток выводила…
Великая княжна Елена Павловна Долгорукая. Бабушка В. Желиховской.
Художник В. Боровиковский. 1799 г.
– А вы их видали? – прервала я.
– Нет, не привелось! Может быть, и увидала бы после, если бы ее, бедную, вскоре не убили… Наши калмыки узнали, что я охотно покупаю разные звериные шкуры. Тюленей бьют ради их жира. Они легко жиреют, а сало их продают на смазку. И горит их жир отлично. Калмыки им освещают свои кибитки. Но этого убили не на топку; а принесли прямо ко мне. Он, верно, подплыл поближе, увидав человека, думая, что кормить его пришли, а калмык в него и выстрелил, не зная, что он ручной…
– А вы как же узнали, что это Белянка? – допытывалась я.
– Да потому, что она больше не приплывала ко мне, – отвечала бабушка. – Прежде, бывало, только подхожу к заливчику – Беляночка тут как тут! А теперь, сколько я ни бросала в воду корму, сколько ни ходила по берегу – не стало моей Белянки! Мне было очень жаль ее, право!
– А я бы этого гадкого калмыка побила! – вскричала я.
Но бабушка засмеялась и объяснила мне, что не за что было бить калмыка – что он не был ни в чем виноват.
* * *
Узнав историю Белянки, я еще больше полюбила ее чучело.
Бывало, сидя на ней, в ожидании, когда бабушка перестанет заниматься и подзовет меня, гладила я ее атласную шерстку, ее круглую головку, засматривала в ее черные, теперь уж не живые, а стеклянные глазки, и думала:
«Бедная ты, Беляночка, бедная!.. Плавала ты на воле по синему, глубокому, широкому морю! Выставляла из прозрачных, пенистых волн эту самую, кругленькую, глупую головку. Порой и сама, неуклюжая, выползала на пустынный бережок покормить малых деточек, погреть свое блестящее, жирное тело на солнышке; а чуть что – бултыхалась назад, в глубь морскую, ловить зазевавшихся рыбок себе на обед…
Никогда ты зла не чаяла! Никогда даже не видывала человека, как подметила тебя добрая барыня; стала тебя прикармливать, и полюбила ты ее на свою погибель!.. Думала ты, что все люди такие же, как она, добрые, а вышло не так: пришел злой калмык – выстрелил и убил тебя наповал!.. Ты, бедняжечка, хлебца ждала, а тут охотник откуда-то взялся и пулей тебя угостил!
И вот взяли тебя люди, сняли с тебя кожу с беленькой шерсткой; из мяса твоего жир вытопили и в лампах сожгли или колеса им смазали; а шкуру твою трухой да паклей набили, сделали из тебя чучело и положили людям под ноги, в комнате, на полу…
Думал ли ты, горемычный тюлень, живя в морском приволье, – что когда-нибудь будет на тебя садиться маленькая девочка, как на подушку или в кресло какое-нибудь?.. Будет сидеть, думы свои думать да рассказы слушать!
И рассказы-то о чем?.. О тебе самом! О том, как тебя же пристрелили и чучело из тебя набили, – а ты будешь смирно лежать!.. Не рассердишься, не окунешь ее за это в глубокое море – рыбам да своим деткам на съедение!.. Бедный ты, бедный тюлень – морской белый увалень!»
Мои первые театр и бал
Началась зима со своими короткими днями и морозными ночами, с бесконечными вечерами у печек, оживлявших веселым жаром и треском березовых дров наши детские игры и беседы; с катанием в санях по замерзшей Волге и бесконечным смехом между уроками по утрам, когда нас отпускали поиграть в снежки и покататься в салазках по двору. Старшие уже не участвовали в этих шумных играх; но мне бабочка отстояла это право, и я не знала большего веселья, особенно по праздникам, когда приходили ко мне девочки из приюта и другие подруги.
Зато Лёля часто ездила с большими в театр, чему я очень завидовала. Слушая рассказы Нади и Лёли, их бесконечные беседы и смех над виденным и слышанным в театре, мне казалось, что там должно быть чудо как весело! Бабочка и мама уверяли меня, что я там ничего не пойму и соскучусь; но я не верила и упросила один раз, чтобы меня взяли.
Я очень горько разочаровалась в своих ожиданиях!
Во-первых, мне показалась очень тесной и неловкой крошечная комнатка без передней стены, где нам пришлось сидеть в ожидании, когда подымут занавес, расписанный цветами, за которым должны были открыться все чудеса, забавлявшие столько сестру. Во-вторых, я ровно никаких чудес не увидала…
– Когда же начнется? Когда подымут занавес? – приставала я ко всем.
– Сейчас. Не надоедай! – отвечали мне. – Слушай музыку.
Но мне было совсем невесело слушать музыку. Я принялась смотреть вниз, где сидело очень много мужчин, и раскланивалась со знакомыми, усердно кивая им головой; но никто не обращал внимания и не отвечал на мои поклоны, что меня очень обижало…
Наконец занавес поднялся, и я жадно обратилась к сцене.
Там был лес, но не настоящий, а очень гадко сделанный. Впереди, на деревяшке, сидел какой-то господин в черной коленкоровой тальме и широкой черной шляпе с огромными полями и о чем-то самому себе рассказывал… Я слушала внимательно – но ничего не понимала. Мне очень хотелось спросить маму, что это за сумасшедший – сам с собой разговаривает?.. Но я не посмела.
Вдруг к нему подошел какой-то другой господин в красном бурнусе и, хлопнув его по плечу, спросил:
– Старик! Скажи мне: что такое жисть?
– А это что же такое – жисть? – шепотом спросила я, глядя на всех в недоумении.
Мама с тетей Катей переглянулись, улыбаясь.
– Жизнь, – отвечала мама. – Ну, вот ты живешь, я живу! А когда умрем – жизнь наша кончится.
– Я это знаю!.. А зачем же он говорит: жисть? Это другое совсем слово…
– Нет, не другое! – засмеялись опять тетя с мамой. – Что же с ним делать, что он так дурно говорит!
– Ах! Верка, не мешай! Дай слушать, – сказала Надя.
– Вот, я так и знала, что она только будет мешать! – капризным голосом прибавила Лёля.
Я замолчала и стала опять слушать, стараясь понять, в чем дело. Но уж далеко не с таким интересом.
На сцену пришло еще много народу, все громко кричали, спорили… Но я все-таки разобрать ничего не могла и с горя опять начала рассматривать знакомых в ложах и партере. Мне очень было скучно, я поминутно зевала и наконец сказала:
– Я устала!
– Садись ко мне на колени, – предложила мама.
– Нет, нет, Леночка! Ты устанешь, – сказала тетя Катя, – дай я ее возьму.
– Не надо… Я лучше там сяду! – указала я в угол ложи, возле двери.
– Да там ведь ничего не видно!
– Ничего! Мне надоело смотреть… Глазам больно от этого света.
Меня пустили. Я уселась на пол и начала рассматривать раёк.
– Лёля, а, Лёля! – вдруг вскричала я в удивлении. – Посмотри! Там наверху, под потолком, наш Яков сидит!
Это мне казалось крайне удивительно и забавно, что я увидала там нашего дворецкого. Но Лёля и даже сама мама обернулись ко мне, сердито говоря, что нельзя говорить так громко в театре.
Кончилось тем, что я заснула, и меня отправили домой, завернув в мамину шубу, с этим самым дворецким Яковом, которому я помешала таким образом видеть второе действие этой трагедии или драмы.
Больше уж я никогда не просилась в театр и очень долгое время была убеждена, что там никогда ничего другого не бывает, а все только господин в красном плаще спрашивает другого, в черной тальме: «Старик! Скажи мне, что такое жисть?..»
На тети Катины именины у нас было очень много гостей, играла музыка и танцевали. В первый раз в жизни видела я бал и ужасно радовалась, что мне позволили сидеть до двенадцати часов. Мне только ужасно не нравилось, когда мужчины схватывали меня и высоко кружили, уверяя, что со мною танцуют.
– Пустите, – сердито вывертывалась я, – не хочу!
– Отчего не хочешь, Верочка? Пойдем танцевать.
– Что это за танцы? Разве так танцуют?
– Чем же это не танцы? – смеясь отвечали мне. – Как же иначе танцевать?
– Танцуют ногами! – сердито отвечала я. – А я до полу не достаю, когда вы меня на воздухе кружите.
– Какая сердитая, – смеялись вокруг меня.
А наш доктор Троицкий – не тот француз, которого мы не любили, а другой, русский и очень добрый, начал уговаривать меня протанцевать с ним галоп по-настоящему, но я не захотела.
Зато Лёля весь вечер без устали танцевала и очень рассердилась, когда я этому выразила удивление.
– Вот дура! – вскричала она. – Точно я маленькая!.. Мне одиннадцатый год, и я такая большая ростом!
– Где же одиннадцатый?.. Тебе еще и десяти нет!
– Не все равно? Через три месяца мне пойдет одиннадцатый!.. Ты бы послушала, как я разговариваю с большими, как мне весело со своими кавалерами. Вон, князь Сергей говорит, что со мной гораздо веселей танцевать, чем со взрослыми барышнями…
– Ох, уж ты, хвастунья, – перебила я.
– Глупая! – выбранилась она опять. – Да ты бы послушала, что все мне говорят: что я такая умная и забавная! Вот, вот уж за мной и идут!
И сестра, кокетливо тряхнув головой, взглянула на меня с многозначительной важностью и отправилась танцевать кадриль с каким-то офицером.
Я заметила, что Надя, напротив, все уходила и не хотела танцевать, хотя с ней действительно все обращались как со взрослой барышней. Ей уж было тринадцать лет, но она не любила и тогда, как и во всю свою жизнь, впоследствии, большого общества, балов и танцев.
Елка
Ровно через месяц после этого я, также впервые, увидала рождественскую елку. Это была прекрасная богатая елка, кроме всяких сладостей изукрашенная гирляндами зелени и цветов, искусно сделанных бабушкой из цветной бумаги и коленкору. Я онемела от изумления и восторга, когда, просидев целый день одна наверху в детской, увидала ее еще издали, из коридора, среди зала, всю залитую светом!.. Много прекрасных игрушек нашли все мы, дети, под нею; подарки там были для всех: и для взрослых родных, и знакомых, и для прислуги. Кроме свечей, горевших на дереве, длинный стол был опоясан, как огненным кольцом: весь он был унизан тарелками с лакомствами для дворовых людей и детей их, и в каждую, среди сладостей, была поставлена зажженная свеча. Прислуга постарше, все женщины и горничные девушки стояли в самом зале; остальные – в передней и коридоре, и все получили подарки на праздники…
Бабушка всегда говорила, что «плохо то барское веселье, которого с барами заодно не делит вся прислуга». За то же и любили ее люди, как, я думаю, мало господ на свете бывали любимы.
Несколько дней спустя я сидела с бабушкой в диванной, когда ей доложили, что приехал купец Горов и желает ее видеть. Бабушка приказала принять и вышла к нему в гостиную, куда, разумеется, и я за ней скользнула. Оказалось, что Горов приехал просить всех нас к себе на елку. Он усиленно кланялся бабушке и просил, чтоб она сама, и мама, и тетя, и мы с Лёлей, все «сделали ему честь» приехать; а о папе большом сказал, что «не смеет просить его».
Я очень удивилась таким речам! Мне казалось, что Горов нам желает сделать удовольствие; но какую мы ему сделаем честь, я решительно не понимала. Еще менее могла я понять, почему он так странно сказал о дедушке: почему он нас смеет приглашать, а его просить не смеет?.. Я сильно задумалась об этом и, верно, спросила бы сейчас у бабочки, если б приезд новых гостей не помешал мне, а потом я об этом позабыла. Мне суждено было еще многому удивляться на другой день, когда мы были у Горовых, и много наготовить вопросов на разрешение бабушки.
В шесть часов вечера возок наш остановился у большего каменного дома, и мы, с трудом выпутав ноги в теплых сапогах из шуб, с помощью лакея Петра стали выбираться на подъезд. Одна Лёля, ловко выпрыгнув, миновала его руки; меня же, хотя я очень желала последовать ее примеру, Петр без церемонии захватил одной рукой, другой захлопнул дверцу, крикнув кучеру: «Отъезжай!». И понес меня по ярко освещенной лестнице, вплоть до передней, где хозяйка и дочери ее помогали бабушке, маме и тетям раздеваться. Дочерей Горова я знала – особенно старшую, хромую Машу: у них была дача недалеко от нашей, и мы раз у них завтракали; но жену его я в первый раз видела, и ее пестрое платье, синяя бархатная мантилья, серьги, множество колец и в особенности ее черные-пречерные зубы так меня поразили, что я совсем забыла, что надо слезть с залавка, на котором раздевал меня Петр. Мне об этом напомнила Маша, целуя меня.
– А! Здравствуйте, Верочка! – сказала она, помогая мне сойти на пол. – Пойдемте в зал.
Все, кроме бабушки, уже туда входили. В дверях внимание мое опять было остановлено какою-то старушкой, в темном платье, с головой, по самый лоб повязанной черным шелковым платком, как у няни Насты. Она спокойно, но неприветливо, нисколько не суетясь и без всяких улыбок, как хозяин и его жена, смотрела на нас исподлобья и каждого встречала низким поклоном.
– Матушка моя, ваше превосходительство! – сказал, указав на нее бабушке, хозяин дома. – Не изволите, кажется, знать?..
– Нет, я хорошо знаю вашу матушку, – приветливо отвечала бабушка, остановившись возле также молча ей кланявшейся старухи, – мы часто встречались с нею в больнице и богадельне… Еще недавно я видела вас, когда вы, на первый день праздника, кажется, – привозили белый хлеб и пироги в богадельню. Не правда ли?..
– Точно так, ваше превосходительство, – с довольной улыбкой отвечал Горов. – Это уж завсегда так, каждый праздник матушка сами калачи пшеничные и пироги с говядиной возят в богадельню и в острог также-с. Это уж обычай у нас такой от прадедов ведется… И, признаться, матушка мне говорили, что часто там с вами встречаются, но я думал, что вы их не изволили заметить.
– Если б я даже ее и не заметила, то не могла бы не слышать о вашей матушке: о добрых делах ее знает весь город.
Я держала бабушку за руку, нарочно отстав от всех, и слушала внимательно. Меня удивляло серьезное, почти суровое выражение лица старушки Горовой. Она ничего не отвечала бабушке, а только, продолжая кланяться, промолвила, не подымая даже глаз, указывая на зал:
– Просим пожаловать.
Зато сын ее много и весело говорил и, мне показалось, с большим удовольствием поглаживал свою бороду, из-за которой просвечивала большая круглая медаль на красной ленте.
«Богадельня!.. Острог! – повторяла я незнакомые слова. – Непременно завтра спрошу, что это такое?..»
В большой комнате, которую хозяева называли «залом», хотя пунцовая мебель в ней стояла такая, как в гостиных, мы нашли много знакомых: всех сестер Бекетовых, которых я очень не любила с тех пор, как они отказались играть у нас с моей милой Грушей Зайцевой, назвав ее «cette petite servante»[92], Варю и Олю Лихачевых и толстенькую Катю Полянскую и еще многих девочек и мальчиков со своими родными и гувернантками. Едва мы успели со всеми перездороваться, как отворилась дверь в другой зал, из которого послышалась музыка, и хозяин просил всех пожаловать «в органную»…
«Еще новое слово!» – подумала я; но сейчас же о нем забыла, так поразило меня зрелище блиставшего белого зала, залитого светом канделябров, люстр и сотен восковых свечей, горевших в средине комнаты на огромнейшей елке, которая до того густо была увешана, что ветки ее гнулись под тяжестью конфет и украшений.
Чего тут не было! Какие прелестные бонбоньерки, шкатулочки, игрушки, фигурки и блестящие разноцветные гирлянды и цепи из леденцов и золотых и серебряных шариков. У меня как и всех детей глаза разбежались на все это великолепие.
Особенно красивыми казались мне разные фрукты: яблоки, груши, апельсины, сливы и персики, прекрасно сделанные из сахара, и огромный пряничный дом, украшенный фольгой вместо окон, с шоколадными дверями и миндальными ручками, который стоял на самой верхушке дерева.
«Званый обед».
Художник Д. Тиссо. 1850-е гг.
Во все время, не умолкая, на хорах в глубине зала играл прекрасный, дорогой орган – то есть большая, заведенная ключом шарманка. Потому-то хозяин и называл эту комнату органной.
Нас подвели к елке и начали угощать и усердно просить рвать все, что нам угодно, с елки; от чего мы, разумеется, отказывались. Тогда хромая Маша и ее сестры вооружились ножницами и начали сами срезать все хорошенькие вещицы и конфеты, неотступно прося нас указывать, что нам нравится. Чернозубая наша хозяйка все улыбалась и кланялась, потчуя всех фруктами и вареньями, которыми был заставлен весь стол. Она взяла нас за руки и, подведя ко множеству хорошеньких бонбоньерок, просила выбрать себе какие угодно.
Надя отговаривалась, конфузясь, но наконец принуждена была взять первую попавшуюся коробочку; Лёля же и я были сговорчивее и выбрали самые хорошенькие: сестра – корзинку с цветами, а я – уморительную обезьянку с блестящими глазами, которая поворачивала головой и хлопала в бубен, когда открывали ящик с конфетами, стоявший сзади нее. Мне еще, кроме того, подарили пряничный дом, который мне так понравился на верхушке дерева. На Крещение я угостила им пришедших ко мне в гости приютских девочек, которые очень удивлялись моим рассказам о великолепной елке.
Но бабушка, не знаю почему, осталась недовольна елкой Горова… Еще в возке, на обратном пути, я помню, она говорила, что очень жалеет, что мы все были на этой «глупой елке». Мама с тетей Катей смеялись, успокаивая бабушку; они говорили, что нельзя было Горова обидеть, не быть у него или детям отказаться от «навязанных» подарков.
– Да, – сказала Надя, – мне ужасно было досадно, когда они приставали ко мне с этой бонбоньеркой и своими угощениями!.. Особенно, когда потчевали вареньями, которые всем приходилось есть с одной ложки.
– Ну, за это их нечего осуждать, – отвечала бабушка, – это уж так у них, по-купечески. Но очень неприятно, что он потратил такие большие деньги, чтоб нас угостить. Это уж просто глупо!
– Отчего глупо, бабочка? – вступилась я. – Он – добрый!.. Мне было очень весело.
– Ну, слава Богу, что хоть тебе было весело, – засмеялась бабушка.
– А мне совсем не было весело! – важно объявила Лёля. – Это все так по-мещански. Вот и Бекетовы тоже говорили, что им скучно… Мы всё смеялись над этой хромоногой…
Мама прервала ее строгим замечанием, что это очень стыдно: что смеяться над чьим-нибудь природным недостатком грешно и показывает злое сердце; а я, как всегда не задумываясь, сказала:
– Да вы, мама, не верьте: это Лёля выдумывает! Ей очень было весело, а она только так говорит, чтоб к большим приравняться. Бабочка сказала, что напрасно поехала, – и она за ней повторяет!
Все засмеялись, а сестра рассердилась на меня очень, но, впрочем, ненадолго; она никогда не помнила зла и вообще была очень добрая, хотя мы с нею часто ссорились, как чуть было не вышло на другой день после елки у Горовых.
Рассуждения
По случаю праздников уроки еще не начинались, мы сидели наверху, в нашей классной, возле кабинета бабушки, куда дверь была отворена, и перебирали все хорошенькие вещицы, подаренные нам Горовыми накануне.
Вдруг я вспомнила о его посещении и спросила:
– Лёля, отчего это Горов, когда звал всех нас на елку, сказал, что папу большого он просить не смеет? Как ты думаешь, отчего же нас всех он смел, а его нет?..
– Вот прекрасно! – презрительно отвечала Лёля. – Как же ты не понимаешь?.. Еще бы какой-нибудь простой купец смел к себе звать губернатора!.. Ведь наш большой папа – губернатор! Ты что думаешь?..
– А это что такое: губернатор? – спросила я.
– Губернатор – самый главный человек в губернии. Понимаешь: в губернии!.. А в одной губернии может быть тридцать или сорок городов и несколько тысяч деревень, – начала она сочинять.
– Ай, ай, ай! Как много!.. Так, значит, большой папа – важный?..
– Еще бы! Очень важный.
– А кто важнее его?.. Царь – важнее?
– Господи! Дура какая!.. Царь – один в России! У царя может быть миллион таких губернаторов!
– Неужели? – удивлялась я. – А это сколько миллион?
– Миллион?.. Ну, это много… очень много… Все равно ты не сумеешь сосчитать!
– Ну, а кроме царя, кто еще важнее папы?
– Важнее папы?..
Лёля на секунду задумалась…
– Ну вот министр важнее!
– Ну?!. А он кто такой, этот министр? – добивалась я.
– Ах ты, Боже мой! Кто такой!.. Ты ужасно глупая, Вера!.. Министр – министр, вот и все!
Но я все-таки не поняла, что это за штука такая – министр, и спросила:
– А он где же живет?
– В Петербурге, с Государем. Их там много. Они все графы, князья… И там… управляют.
– Управляют! – не унималась я. – Чем?..
– Ах ты, Господи! Дура какая! – окончательно рассердилась Лёля. – Всем управляют. Отстань.
– А здесь есть такой министр?
– Здесь нет.
– Так кто же здесь важнее папы?
– Говорю тебе, что здесь никого нет. Он – самый главный…
– О чем это вы говорите, дети? – раздался вдруг голос бабушки из ее комнаты. – Кто это главный?
– Я говорю, что здесь, в Саратове, никого нет главнее папы, – покраснев, но храбро отвечала Лёля.
– А вам что до этого за дело, дети?
– Да вот Верочка спрашивает, отчего Горов сказал, что не смеет приглашать папы…
– Ну и что же ты ей отвечала?
– Что это, верно, оттого, что ведь папа – губернатор… А Горов – простой купец! – отвечала сестра уже довольно сконфуженным голосом.
– Какие ты глупости говоришь! – возразила бабушка и позвала нас к себе.
Я вприпрыжку побежала в ее кабинет; а Лёля тихо последовала за мной. Бабушка ласково, но очень серьезно взяла ее за руку и сказала:
– Сколько раз я просила тебя, Лёля, не рассуждать о том, чего ты не понимаешь. Не рассуждать и никогда ничем не важничать, потому что это стыдно и очень глупо!.. Ну, что ты сейчас сказала? Что это значит: простой купец? Горов – простой купец, а папа большой – простой губернатор! Какая же тут разница? Оба люди. Вот если б Горов был дурной купец, или папа – дурной губернатор, тогда было бы нехорошо, потому что дурными людьми быть грешно и стыдно! А если оба хорошие, честные люди, так это совершенно все равно, кем бы их Бог ни сотворил: барином ли, купцом или мужиком. Родиться тем или другим от людей не зависит, но быть умным и добрым зависит от каждого из нас. И гораздо лучше быть хорошим мужиком, чем дурным господином… Чего бы, например, было тебе гордиться пред Машей, что ты родилась барышней, а она – горничной девушкой?.. А между тем ты гордишься!.. Я сама слышала, что ты ей вчера говорила, что она должна уважать тебя, потому что ты – барышня. Подумай: умно ли это? Разве это твоя заслуга?.. Ей за это тебя еще уважать не приходится, а скорей ты должна уважать ее за то, что она такая хорошая, исполнительная девушка, так о тебе заботится, так хорошо тебе служит и, наконец, потому, что она гораздо старше и умнее тебя. Прежде вырасти и поумней, тогда требуй уважения; а пока будь благодарна за то, что тебя любят и прощают твои глупости и недостатки… Вот, хоть бы теперь: ты вздор сказала Верочке! Горов потому только сказал, что не решается приглашать папу, что знает, как крепко папа занят, и, разумеется, не смеет отрывать его от серьезных дел для какой-нибудь детской елки, которая не может доставить ему удовольствия. Вот и все!.. А ты знай вперед, Лёля, что нет на свете, для людей умных и честных, ни важных, ни простых людей; а есть только люди полезные, добрые, умные или дурные да глупые. Первые всегда будут главными, и все их будут уважать. А вторых никто не будет ни уважать, ни любить, как они ни важничай и ни чванься без всякого на то права.
Лёля ушла очень сконфуженная выговором; а я уселась возле бабочки, на своем приятеле, набитом белом тюлене, и, положив голову ей на колени, спросила:
– Бабочка! Скажи мне, душечка, отчего вы говорили вчера, что вам досадно, что вы были на елке?..
Бабушка оставила свое дело и, посмотрев на меня с минуту, улыбаясь и о чем-то думая, наконец сказала:
– По-настоящему мне бы тебе следовало сказать, что это не твое дело, потому что нехорошо маленьким девочкам слушать и расспрашивать обо всем, что говорят между собою большие, но, пожалуй, я скажу тебе. Мне жаль, что Горов потратил столько денег на вздор, тогда как на них можно было сделать так много добра бедным людям.
– Что же такое, бабочка! Он такой богатый!.. Они и без того много добра делают, вы сами сказали… Вон его мать возит же бедным калачи и пироги…
– А ты и это слышала?.. Ну, вот видишь: они только хлеба им по праздникам возят; а на те деньги, что стоила эта елка, не только бы накормить их можно было, но дать дров на целую зиму и, пожалуй, еще и одеть.
– А зачем же вы нам делали елку?
– Мы делали елку для вашего удовольствия – это правда; но наша елка стоила недорого. Немножко можно истратить для удовольствия; но много тратить на пустяки – глупо и даже грешно!.. Когда вырастешь, ты сама поймешь это.
Я задумалась, а бабушка принялась за свое рисование.
– Я теперь знаю, – заговорила я через минуту, – эта старушка, мать Горова, наверное, думала то же!
– Отчего ты так думаешь? – спросила бабушка, снова внимательно глядя на меня.
– А оттого, что она так сердито смотрела на всех… А в зал, где была елка, вовсе даже и не вышла. Верно, она и видеть не хотела такой глупости, жалея бедных людей, у которых отняли тепло и платье… Правда, бабочка?..
– Правда, дорогая моя умница! – похвалила меня бабушка. – Тебе то же пришло в головку, что думалось и мне. Правда, видно, что стар да мал в мыслях сходятся!
И бабушка, ласково притянув меня к себе, крепко-крепко меня поцеловала.
Тут вошли мама с тетями, и бабушка рассказала им наш разговор.
– Старуха Горова, говорят, староверка, а староверы ведь не едят с православными, – сказала тетя Катя. – Верно, она оттого и не пришла в зал.
Разумеется, я сейчас же пристала к бабушке с расспросами, что значит староверы и православные? И хотя объяснить это такой маленькой девочке было довольно трудно, но бабушка всегда умудрялась мне все на свете объяснять.
– Ты знаешь, что Христос жил на земле очень давно, когда еще никто не говорил по-русски, – сказала она. – Те люди, которые первые писали о Нем, как Он родился, страдал и умер распятый на кресте, писали на тех языках, на которых тогда говорили: по-гречески, по-еврейски, по-латински. Потом, все другие народы начали переводить священные книги и молитвы на свои языки, и мы, русские, тоже. Только русские перевели нехорошо: наделали много ошибок, которые пришлось после поправлять. Один умный, очень ученый человек, патриарх Никон – это все равно, что архиерей, – поправил все ошибки и велел напечатать другие книги, уже совсем верно переведенные с греческих молитвенников. Мы ведь переняли свою веру у греков; когда больше будешь, то будешь об этом учиться. Мы все стали читать молитвы и служить в церквах так, как было напечатано в книгах патриарха Никона; а некоторые необразованные, бедные люди не поверили, что он исправил только ошибочный перевод, а вообразили, что Никон совсем переделал их! Свои молитвы сочинил, новую веру выдумал. Ну и стали они говорить, что молиться по этим новым книгам грешно, а что надо держаться книг старой печати. Поэтому они назвали себя староверами, в знак того, что они по-старому, по-настоящему будто бы верят и в отличие от нас, православных, которые, по их мнению, выдумали себе новую веру… Это совсем не правда! В сущности, и мы, и они верим тому же Богу, Иисусу Христу и святым, а староверы совершенно ошибаются, считая нас неверными старой, истинной вере. Надо надеяться, что эти бедные, простые люди поймут свою ошибку, когда больше будут учиться, и все мы, русские, будем одинаково веровать, одинаково молиться и славить Бога в наших православных церквах.
Дорога
Зима промелькнула быстро, а с приближением новой весны мама начала поговаривать, что пора собираться нам в дорогу, что ей жаль бедного папу, крепко по нам соскучившегося. Папа писал, что теперь его батарею перевели в хорошее место в Малороссии, где тепло и маме хорошо было бы жить. Он очень просил ее вернуться весною. Несмотря на горе и просьбы бабушки переждать хоть до лета, мама решила, что выедет ранней весной.
Мне было очень жаль расставаться с родными и особенно с дорогой моей бабочкой, которая не могла решительно смотреть на нас без слез и много плакала, по целым часам разговаривая, запершись с мамой в своем кабинете. Но я все-таки с удовольствием думала о предстоявшем путешествии. Все дети – охотники до перемен и очень любят дорогу. Она так занимала меня со всеми приготовлениями, покупками, укладкою и прочими подробностями, что я без особенного горя прощалась со своими знакомыми и даже скоро перестала плакать, расставшись окончательно с родными, провожавшими нас далеко за город.
Ехали мы в двух экипажах: в карете сидели мама, Антония и я между ними, а впереди – горничная Аннушка с Леонидом на руках и доктор, который провожал маму по просьбе дедушки, или горничная девушка Маша, когда доктор пересаживался в тарантас, к нашей косой мисс Джефферс. Она уверяла, что не может ехать в закрытом экипаже, что у нее голова болит. Лёля всю дорогу путешествовала из кареты в тарантас и обратно. Но подолгу ей ни тут, ни там не сиделось; а на каждой почти станции с ней случались самые неожиданные происшествия! Она была такая бойкая, живая шалунья, что с ней много дела и бед бывало гувернантке. Один из таких случаев во время нашего путешествия я запомнила хорошо, потому что он во всю последующую жизнь не переставал нас смешить.
На одной станции, на крыльце сидел какой-то проезжавший офицер в расстегнутом сюртуке и шапке на затылке. Он смотрел на все исподлобья мутными глазами, не то сонно, не то сердито, и, громко пыхтя, курил из длинного чубука. Мама нам не велела подходить к нему, и я держалась подальше, тем более что сама боялась его свирепого вида. Лёля же поминутно проходила мимо него, вертелась, поглядывала на него, стараясь обратить его внимание и с ним заговорить. Она ужасно любила разговаривать с посторонними… Но сердитый проезжий не обращал на нее никакого внимания, кряхтя и не выпуская изо рта трубки.
– Посмотри, Верочка, – с улыбкой заговорила Елена, – точно такая трубка как у нашего маленького папы… Помнишь?
Я совсем этого не помнила и, с упреком взглянув на сестру, отодвинулась еще дальше. Тогда Лёля, подпрыгнув, храбро обратилась к самому офицеру:
– Какая у вас длинная трубка!
Он медленно приподнял на нее свои красные, опухшие глаза, но не промолвил ни слова.
– У нашего маленького папы тоже такая, – бойко продолжала она, сделав к нему еще шаг.
– У… маленького папы! – хрипло промычал офицер. – И… что же это такое… маленький папа?.. А?.. Что это такое?..
Лёля немножко отодвинулась, но, продолжая весело и задорно смотреть на него, объяснила:
– Маленький папа – наш отец. Он вот курит точно такие трубки с длинными чубуками, как и вы…
– Что-о?!. – заревел на это офицер, таким густым басом, что я в испуге отскочила к дверям. – Длинные трубки?.. А… зачем у тебя такой короткий нос?.. А?!. – вдруг приподнялся он.
Тут и Лёля растерялась и, сделав несколько шагов назад, в недоумении смотрела на страшного офицера. Но вдруг тот опять опустился на свое место, вытянул ноги по полу, закинул назад голову и вместо баса заговорил тоненьким голоском:
– Девчонка, ты, девчонка! И чего ты вертишься?!.
Это восклицание как громом поразило сестру! Ей стало еще обидней и досаднее от хохота Аннушки, слышавшей все из кареты, где она сидела возле спавшего брата.
– Вот видишь! – говорила я, следуя за ней в комнату, куда нас звала англичанка. – И чего ты в самом деле вертелась?
– Не твое дело! – еще более рассердилась Лёля.
Но после этого случая она перестала обращаться с разговорами к незнакомым людям.
В последнем городе мы нашли присланных за нами лошадей и поехали дальше на своих. Узнав об этом, я каждую минуту ждала, что мы сейчас приедем, сейчас увидим папу, которого я неясно помнила. Оказалось однако, что мы ехали и никак не могли доехать!.. Дорога шла зелеными полями, мимо хорошеньких дубовых рощ и хуторов, закрытых садиками. Вокруг так все было весело: летали бабочки, птички заливались, порхая в зелени, столько было цветов по дороге, что так бы и побежала я рвать их на полях и в рощах! А тут тащись в душной карете, переваливайся со стороны на сторону. Скука смертная!..
«Гувернантка».
Художник Р. Редгрейв. 1844 г.
– Когда же город? – спросила я.
– Какой город? – отозвалась мне мама.
– Тот город, где живет папа, куда мы едем жить! – объясняла я.
– Там города нет. Мы будем жить в деревне.
– В деревне!? – удивилась я. – В чьей?
– Да ни в чьей. В государевой. Разве ты не помнишь, как мы прежде по деревням жили?.. Где папину батарею поставят, там и мы будем жить.
– Да!.. – вспомнила я. – Батарея – это солдаты?
– Солдаты, и офицеры, и пушки… Много солдат.
– Я уверена, – заговорила со мной Антония, как всегда, по-французски, – что ты в нетерпении увидеть папу?.. Не мешай маме, – прибавила она тихо, – говори со мной.
– Да, – нерешительно отвечала я. – Мне хочется его увидеть, только… я нехорошо помню!.. Он разве такой же рыжий, как брат Лида?
– Отчего ты так думаешь? – засмеялась Антония.
– Оттого, что, я помню, у него рыжие усы, и он всегда меня колол, когда целовал.
– Так ты только и помнишь, что его рыжие колючие усы?.. – смеясь, сказала мама, ущипнув меня за щеку. – А помнишь, как ты в Гадяче учила танцевать свою старую няньку Орину?..
– Ах, да, няня Орина! – припомнила я. – И она тоже здесь, мама?
– Нет, детка, она осталась там, в своей деревне.
– Ах! Как жаль!.. Отчего она не здесь?
– Она не хочет к тебе ехать, – вмешался наш доктор, посмеиваясь, – говорит, что ты ее крепко щипала и била, когда учила танцевать. Боится, что ты опять ее в танцовщицы запишешь.
– Ах, перестаньте, пожалуйста, – сказала я с досадой.
Я терпеть не могла этого противного доктора! Это был тот самый, про которого няня Наста говорила, что «у него баки как у собаки»… К тому же он умудрился еще недавно разобидеть меня до слез, выбив щелчком шатавшийся у меня зуб, и вечно приставал, будто я задумываюсь «о небесных миндалях», – что меня очень сердило. А я в самом деле часто задумывалась, сама не зная о чем, так глубоко, что меня трудно было дозваться…
Мы давно уже поднимались в гору, часто останавливаясь, чтоб дать вздохнуть усталым лошадям; но как ни старался наш солдат-кучер, как ни махал вожжами и ни перевешивался с высоких козел, как ни свистал, ни кричал и ни суетился с кнутом в руках наш повар Аксентий, кончилось дело все-таки тем, что лошади стали.
– Говорил я, чтобы шестерку, так нет!.. Буде и четверки: пушки, говорят, возят!.. Вот те и пушки!.. – ворчал кучер.
– Что ж теперь делать? – тревожилась мама. – Нельзя ли мне пересесть в тарантас, чтобы скорее доехать?
Но доктор этого ни за что не позволил, говоря, что тряска очень вредна маме. Решили послать за подмогой верхом Аксентия, и хоть наш ленивый повар и отговаривался тем, что дороги не знает, но кучер его пристыдил:
– Ты, хлопец, пусти только лошадь: она сама тебя прямиком к батарейным конюшням вывезет!.. Тут рукой подать! Только что вот гора эта несподручна, – прибавил он, – а как выберемся, так и лагеря тут же.
Нечего делать! Взлез Аксентий на спину лошади и поехал, высоко подпрыгивая, взмахивая локтями и своей серой развевавшейся шинелью, подпоясанной ремнем. Мы все смеялись, глядя ему вслед…
Кучер наш спокойно закурил коротенькую трубочку, а все мы, кроме мамы, лежавшей с закрытыми глазами, стараясь заснуть, вышли из кареты и разбрелись вокруг. Я с пряником в руках села недалеко, на меже, любуясь на множество жаворонков, суетившихся на полях. Они вылетали, шурша крылышками, из травы; взвивались, как стрелы, и исчезали в высоте, откуда слышались тысячи их серебристых песен. А то так же прямо и быстро спускались на землю, мелькали задорными хохликами, переваливаясь в посевах, и снова исчезали, юркнув в траву.
– А ну-ка, сударь! Ну-ка, барышни! Садитесь. Лошади вздохнули: авось теперь лучше вывезут.
– А как же тарантас? Ведь из него лошадь выпряжена! – спросила Антония, которая сидела на большом камне у дороги, забавляя Лиду.
– Тарантас-то легкий! Его и пара увезет. Чем стоять да ждать, поедемте с Богом пока что!
Лагерь
Мы уселись. И в самом деле, отдохнувшие лошадки подхватили дружно и, не дождавшись никакой подмоги, в полчаса вытянули нас на гору. Кучер наш говорил правду: сверху горы раскинулись пред нами поля и леса, а среди зелени ближайшей рощи на красивой поляне белелись палатки батареи. Все мы загляделись на красивую картину… Но что это?.. Кто это такие?
К нам навстречу вперегонку, запыхавшись, бежало несколько офицеров. Какой-то совсем молоденький опередил всех, смеясь, крича что-то товарищам; двое-трое других его догоняют… У всех такие веселые лица…
Мама оживилась, припав к окну, называя их по фамилиям.
– А вот, смотрите, дети! – вскричала она. – Вон и папа бежит! Видите?..
– Где? Где?.. – спрашиваю я.
– Я вижу папу! – весело кричит Лёля, хлопая в ладоши.
– Да где же он? Который?.. – чуть не плачу я.
– Да как же ты не видишь? – смеясь, указывает мне мама на отставшего дальше всех, высокого толстого господина. – Ишь переваливается!.. Запыхался! Верно давно по горам не бегал, – весело пошутила моя милая мама, здороваясь с прибежавшими навстречу ей знакомыми.
Карета остановилась; передовой офицер быстро отворил дверцы, и мы сами побежали навстречу папе.
Как весело провели мы этот чудесный вечер! Нам был приготовлен домик на хуторе, но мы остались пить чай в лагере. Все сбежались с приветствиями, с поздравлениями. Накрыли стол пред папиной палаткой; все снесли сюда всё, кто чем богат: кто варенья, кто сухарей, кто молочник сливок или лимон. Музыке велели играть невдалеке… Все маму любили, все были рады ее возвращению, а уж про папу и говорить нечего!..
Он подложил свою шинель под ноги маме, чтоб она не простудилась, и все возился со своим новым сынишкой, подбрасывая его на воздух и любуясь, как он заливался веселым, звонким хохотом, знакомясь со своим папой. Мы с Лёлей, пока Антония с мисс Джефферс хозяйничали у чайного стола, успели с Машей сбегать в рощицу и вернулись с букетами, которые положили перед мамой.
Нам было очень весело!.. Мы дождались восхода полной луны, и все пошли провожать нас с музыкой и песенниками на хутор, где нам была приготовлена чистенькая хата.
Мы прожили тут несколько дней и совсем заморили нашу бедную англичанку, то и дело бегая в лагерь, в рощи и назад домой. Мама ужасалась нашему безделью и, вздыхая, говорила только о том, чтоб поскорее приехать на место да начинать аккуратно учиться.
– Вы совсем отвыкли от уроков и избаловались за дорогу, – говорила она.
– О! Yes, – нараспев поддерживала ее наша мисс. – Learn [учиться] – нэт! Quite [совсем] избаловаль and все забиль.
– А вот и нет – не все забиль! – передразнила я ее. – Я помню, как вы меня учили.
И, став среди комнаты в торжественную позу, я начала указательным пальцем дотрагиваться до носу, рта, глаз, приговаривая:
– О! – Nose!.. О! – Mouth!.. О! – Eyes!.. О! – Chin!..[93]
– Ну, уж ты смотри у меня, шалунья! – прервала меня мама, погрозив мне пальцем.
– Oh! Naughty little girl!..[94] – согласилась наша кривая англичанка; а я выбежала из хаты, схватила за руку Лёлю и ну бежать с нею вниз с горки, к папе в палатку.
Наконец папина батарея выступила, и мы отправились шаг за шагом вместе с нею. Мама так устала от долгой дороги, что доктор ей советовал так медленно ехать. Потому мы два дня ехали 80 верст до местечка, где должны были жить, но мне было ужасно весело все время. Погода была прекрасная, мы останавливались обедать и пить чай среди дубовых рощ, на зеленой траве, много гуляли и бегали, даже играли в горелки с двумя молодыми офицерами и Антонией. А раз папа взял меня к себе на лошадь. Вот тут-то было торжество!.. Солдаты шли впереди с веселыми песнями; офицеры скакали на лошадях, а я важно ехала с папой на его большой рыжей лошади, весело поглядывая на всех.
Один из офицеров, увидав, что я еду с папой, хотел непременно слезть и посадить на свою лошадь Лёлю. И Лёле этого ужасно хотелось! Она вся вспыхнула, и голубые глаза ее загорелись… Но мама этого ни за что не позволила и даже рассердилась на папу, когда он стал просить об этом.
Узнав, о чем шла речь, мисс Джефферс пришла в такой ужас, что ее белый глаз совсем закатился, а темный подошел к самому носу.
– О! For shame, miss Lolo! О, how shocking!..[95] – кричала она.
Лёля грозно на нее посмотрела, но, увидав, что ничто не помогает, что все против нее, тряхнула своими белыми волосами и с горя начала браниться с ней по-английски, с Антонией – по-французски, а с доктором – по-русски, успевая всем разом ответить.
Наша гувернантка кричала и обо мне, когда папа сажал меня на лошадь, что это стыдно; но мама с Антонией успокоили ее тем, что я еще маленькая.
Подъехав к месту нашего роздыха, кто-то из офицеров научил солдат закричать мне:
– Ура!.. Здравия желаем новой командирше!.. – что заставило всех, даже нашу чопорную мисс, рассмеяться.
Папа крепко поцеловал меня, спуская с лошади на руки денщика Воронова; а я так была довольна, что даже не заметила, уколол ли он меня на этот раз своими усами…
К вечеру, в тот же день мы приехали в хорошенькую малороссийскую деревню, где должны были долго прожить. Но я так устала, что ничего вокруг себя не видела, и, едва напившись чаю, крепко заснула.
На новых местах
Проснувшись рано на другой день, я выглянула в окно и торопливо начала одеваться. Перед окнами был густой вишневый садик, и я начала будить Лёлю, чтоб скорее погулять с ней; но она была такая соня, что я успела набегаться вдоволь, пока она поднялась.
Славные у нас были тут домик и сад, совсем простой, заросший, но такой тенистый, что в нем отлично бывало играть в прятки. В одном конце его стояла белая хатка хохлушки-сторожихи, у которой было множество птицы, не только домашней, а также перепелов, дроздов и голубей, с которыми я целые утра возилась до самых уроков, убегая к хохлушке в гости.
Так у нее было славно, в ее чисто выбеленной внутри и снаружи хате, в палисаднике, засаженном подсолнечниками и высокими, разноцветными цветами ржи; такая она сама была хорошая, веселая да забавница, что мы часто с Лёлей заслушивались ее бойких речей, хотя не совсем их понимали. И какие вкусные она варила галушки да пышки пекла – прелесть! Не только мы, и мама сама с удовольствием их кушала с утренним чаем. Мы очень подружились с нею и называли не иначе как хозяйкой, хотя дом наш совсем принадлежал не ей. Это был хороший деревянный дом о нескольких комнатах, просторных и светлых. Я жила в одной комнате с Леонидом и Антонией; Лёля спала рядом с мисс Джефферс; а у мамы была угловая комната, спальня и вместе кабинет, где она проводила часто целые дни и вечера за работой. Ей теперь было гораздо лучше, чем в прежних стоянках папиной батареи, где, бывало, ее рабочий стол отделялся от нашей детской одной коленкоровой занавеской. С высокого крыльца нашего, выходившего по другую сторону сада в большой зеленый двор, был прекрасный вид – на далекие поля, темные дубовые рощи да вишневые садики, из-за которых по утрам живописно подымался голубой дымок спрятанных за ними хат, расстилаясь по долине.
Мы часто ходили на дальние прогулки, в соседние хутора или в большой фруктовый сад какого-то помещика, который никогда тут не жил. Антония редко с нами ходила; у нее было много дела, и она любила больше оставаться с мамой, которая по-прежнему часто болела. Мы отправлялись почти всегда в одном порядке: впереди шла наша англичанка, за нею Аннушка везла Лиду в деревянной повозочке; потом шла Маша, а мы бегали во все стороны, то опережая их, то отставая. В этих прогулках я часто засматривалась на высокую фигуру нашей некрасивой мисс Джефферс. Меня удивляли ее вечное спокойствие и неподвижность!.. Как прямо шла она, уткнувшись носом и устремив свои косые глаза в английскую книгу, которую держала высоко перед собою, потому что была очень близорука. Изредка обращалась она к нам, в особенности к Елене, с каким-нибудь вопросом или замечанием, которого сестра никогда не слушалась; на что в свою очередь и мисс не обращала ровно никакого внимания и продолжала важно шагать перед нами, как какая-нибудь длинноногая цапля на болоте. На обратном пути обыкновенно происходила перемена: Лида бывал уж на руках няньки, а Маша везла обратно повозочку, полную слив, вишен или хороших дынь и арбузов с дальней бахчи.
Мы каждый день аккуратно учились; особенно Лёля очень серьезно занималась с гувернанткой английским языком, а французским и еще многим другим – с Антонией; кроме того, к ней откуда-то приезжал три раза в неделю учитель музыки. Несмотря на много уроков, Лёля все-таки находила время шалить, такая уж она была проворная!
Я тоже была порядочная шалунья, но все-таки не такая; я никогда не умела выдумать так хитро, как Лёля, и, кроме того, я была послушнее. В особенности я слушалась всегда Антонию. Я очень ее любила!.. Прежде, в Саратове, где у меня было столько родных, моя баловница-бабушка, столько развлечении и удовольствий, так много знакомых, я не так была близка к ней, как теперь. Теперь же я гораздо больше с нею училась, и так как мне совершенно не с кем было играть, кроме Лёли, то я вообще проводила с нею гораздо более времени. Когда было ей время, никто не умел так забавить меня игрой, а еще чаще рассказами, как милая моя Тонечка – так она приучила меня называть себя в редких случаях, когда я говорила с ней по-русски, чего, впрочем, почти никогда не случалось, так как она сумела уверить меня с четырехлетнего возраста, что она ни слова по-русски не знает. Антония так любила детей вообще, а меня в особенности, что умела ради нашего удовольствия, играя с нами, сама превращаться в ребенка и искренно веселиться вместе с нами. Она была удивительно деятельна: всегда занятая с утра до вечера и даже во время наших уроков, она не переставала шить или вязать.
Раз я читала ей громко историю маленького Шарля, который, не желая учиться в школе, по дороге туда заговаривал со всеми встречными: с лошадью, с собакой и с пчелкой; а Антония, разложив на полу что-то очень большое, кроила, ползая на коленях с ножницами в руках и, не глядя на меня, поправляла каждую мою ошибку. Я очень удивлялась, как она может безошибочно знать каждое слово, не глядя в книгу?..
– Это совсем нетрудно, – отвечала она, улыбаясь, на мой вопрос. – Ты сама будешь делать то же, когда вырастешь.
– О! Нет, я никогда не буду знать всего, что вы знаете! – отвечала я с таким же недоверием к своим будущим знаниям, какие выражала когда-то бабушке по дороге с нею в приют.
– Вот вздор какой! Ты ведь уверяла же меня прежде, что никогда не будешь говорить по-французски. Помнишь, как я тебя уверила, что не знаю по-русски?.. Ты капризничала, говоря, что никогда не поймешь меня и не будешь отвечать; а я спорила, что очень скоро научишься. Кто же был прав?.. Ты тогда была такая маленькая дурочка, что поверила, что я сразу забыла русский язык. Помнишь?
– Да, еще бы не помнить! И как я удивлялась, когда вы нам читали русские сказки!.. Я была совершенно уверена, что вы не забыли только читать, но ничего не понимаете.
– Видишь ли, как удалась моя хитрость?.. Теперь уж незачем больше и обманывать тебя: ты сама иначе не говоришь со мной, как по-французски.
– Да когда по-французски, как-то ловче!
– Ну и слава Богу, что ловче. По-русски можешь говорить со всеми, а со мной и с мисс надо русский язык оставлять в стороне.
– Так, пожалуй, и мисс нас обманывает, – вскричала я, – может быть, и она знает по-русски, а только с нами говорить не хочет, чтоб мы скорее по-английски научились?..
– What, – отозвалась из другой комнаты англичанка, – what about miss?..[96]
Антония засмеялась.
– Нет, – сказала она, – мисс Джефферс в самом деле не знает ни русского языка, ни даже французского, а не то я рассказала бы ей, в чем дело. Теперь, так как я не говорю по-английски, – приходится нам позвать Лоло на помощь… Ты ведь еще не сумеешь ей сама объяснить?
«Бабушкин Сад».
Художник В. Поленов. 1878 г.
Я отрицательно покачала головой.
Позвали Лёлю, и она мигом рассказала англичанке, о чем мы говорили. Она сначала слушала беспокойно, перекосив свой светлый глаз на темный и высоко закинув, по своему обыкновению, голову назад; потом успокоилась и начала уверять меня, что не может выучиться по-русски, потому что стара для этого; а что мне самой надо скорее научиться говорить по-английски и петь «pretty English songs»[97]… Я сделала гримасу, не находя ровно ничего хорошего в ее песенках. Мисс мне ужасно надоела со своей единственной песней про какого-то короля, который в казначействе считал свои деньги в то время, как королева ела хлеб с медом, а их бедная служанка вышла развесить в саду белье, и вдруг прилетела маленькая черная птичка и выклюнула ей нос… Я совершенно справедливо находила эту песню ужасно бессмысленной и горячо доказывала, что королевские служанки белья в садах не развешивают, а маленькие птицы никак не могут склюнуть человеческого носа… Тем не менее я к концу лета уже порядочно болтала по-английски, не только с «мисс», но и с сестрою.
Мама ужасно радовалась нашим успехам, а папа говорил, что напрасно мы не учимся его родному, немецкому языку, вместо любимого мамою английского.
– Постойте вот, – говорил он, – повезу вас к бабушке, она заговорит с вами по-немецки, а вы не понимаете!.. Вот и будет и вам, и маме стыдно.
– Вот еще! – закричала я. – Бабочка не станет говорить с нами на чужом языке… Она сама много языков знает, а говорит всегда по-русски.
– Дурочка! Я не про ту вашу бабушку, что в Саратове живет, говорю. Это другая: моя мама… Она не так далеко отсюда. Вот соберемся – съездим к ней в гости.
– Я не хочу!.. Какая там еще новая бабушка?.. У меня одна бабушка – бабочка!.. Другой я не хочу.
Мама и Антония остановили меня.
– Стыдно большой девочке так глупо говорить!
– Ты еще не знаешь этой бабушки – папиной мамы; а когда узнаешь, наверное полюбишь так же, как и мамину маму.
– Никогда! – протестовала я, не запинаясь. – Как я могу другую полюбить так, как свою родную, милую бабочку?.. Ни за что на свете!
– Перестань же, глупенькая! – сказала мама серьезным голосом; но я видела, несмотря на ее строгий тон, что чудесные, добрые глаза ее улыбались мне ласково.
– Покормит тебя бабушка конфетами, ты и ее крепко полюбишь, – заметил папа.
Я только что хотела сердито отвечать ему, когда Антония взяла меня за руку и, пока мама заговорила о чем-то с папой, тихо и строго сказала, уводя меня в другую комнату:
– Молчи! Как не стыдно тебе огорчать отца?
– Чем? – удивилась я.
– Тем, что говоришь, что не хочешь поехать к его маме. Это его обижает и огорчает!.. Подумай, если бы кто-нибудь стал бранить твою мать – приятно ли бы это тебе было?..
– Да я совсем не браню… – сконфуженно бормотала я, – я только говорю правду, что никого так не могу любить, как бабочку…
– Никто тебя об этом не спрашивает. И, наконец, почем ты можешь знать это, не зная совсем бабушки Васильчиковой?.. – мать моего отца по второму браку была Васильчикова. – Когда узнаешь и увидишь, какая она добрая и как вас любит, тогда другое запоешь…
И Антония долго говорила на эту тему.
Я молчала… Сколько она меня ни старалась уверить, я все-таки была твердо убеждена, что не может быть другой такой бабушки в целом свете, как моя родная бабочка, и что я никогда не полюблю папину маму так, как ее.
Однако Лёля, которой удивительно легко давались языки, сама вызвалась учиться по-немецки и начала три раза в неделю аккуратно заниматься с Антонией. К осени она уже много понимала и читала совершенно свободно. Папа хвалил ее и в шутку назвал ее раз «достойной наследницей своих славных предков, германских рыцарей Ган-Ган фон дер Ротер Ган, не знавших никогда другого языка, кроме немецкого»…
– Значит, папа, они были очень необразованные, – сказала я, – потому что мама говорит, что все образованные люди должны знать несколько языков…
Папа засмеялся и, целуя меня, сказал, что желал бы, чтоб я была очень образованной девицей, а потому и попросит Антонию Христиановну заняться и со мной немецким языком.
Болезнь
Вскоре после нашего приезда я раз легла спать очень рано, с головною болью, и проснулась вдруг, как мне показалось, среди ночи, но, вероятно, это был вечер, потому что Антония еще не ложилась, и веселые голоса мамы и ее слышались из соседней комнаты и почему-то ужасно меня испугали: мне казалось, что случилось, верно, что-нибудь страшное… Я быстро вскочила, чувствуя, что вся горю, и отбросила одеяло. В ушах у меня звенело, все тело мое чесалось, и мне страшно хотелось пить…
– Antonie! – вдруг закричала я сердитым и вместе испуганным голосом. – Venez donc Ici! Où êtes vous?[98]
Мама и Антония вбежали вместе, испуганные моим криком. Я схватила маму за руку и, сидя на решетке своей кровати, вся дрожа, спросила:
– Кто это там?.. В углу!
– Где?.. Кто?.. Кого ты видишь?..
– Да вот! – махнула я рукою в угол. – Этот высокий серый человек, с поднятой рукою?.. Монах…
– Что ты, Христос с тобою? Никакого монаха здесь нет, – мама пощупала мне голову и беспокойно прибавила: – Да у тебя жар!
– Ах! Какой там жар? Мне холодно. Меня кусают муравьи!.. И зачем этот серый монах тут стоит?.. Прогоните его! Смотрите: какая от него длинная тень ложится по всему полу!.. Зачем он так высоко поднял руку и держит прямо-прямо?..
Мама села возле меня, стараясь меня успокоить, а Антония побежала, чтоб послать за доктором. Я ни за что не хотела лежать смирно, разбрасывалась и с ужасом смотрела на серого человека.
Странно, что это видение моего воображения преследовало меня во всякой болезни, все мое детство. Едва я впадала в бред, как высокий серый человек, одетый монахом, с поднятой вверх ладонью и длинной черной тенью на полу, являлся и стоял неподвижно, где-нибудь поодаль – в дверях или простенке, и никогда не изменял положения. Он даже часто снился мне, но я боялась его только в болезни.
Особенно на этот раз он казался мне страшен.
– Да прогоните же его! – кричала я. – Я не хочу оставаться с ним! Возьмите меня отсюда!.. Эти муравьи меня съедят.
Мама села возле меня, стараясь меня успокоить, и я скоро забылась, припав к ее руке.
Когда я пришла в себя, среди ночи, оказалось, что меня перенесли в мамину комнату и навалили на меня несколько одеял и шубу, которую я поспешила сбросить с себя на пол, попросив воды напиться. На голос мой мама приподнялась на кровати, а Антония встала с дивана и начала поспешно закрывать меня опять салопом, по самое горло, а вместо воды дала мне чего-то теплого, противного…
– Что это за гадость? – закричала я. – Я хочу холодной воды.
– Не говори пустяков: холодного тебе нельзя, потому что ты пила малину и должна теперь закрываться как можно теплее. Скорей, скорей спрячь руки под одеяло.
И Антония натянула мне шубу на самый нос.
Намучилась я в эту ночь от жару и жажды; зато больше не видала монаха, и к утру прошла вся моя крапивная сыпь. Через два дня я встала, а дней через пять-шесть мне позволили выйти в сад.
То-то была радость! Я больше всего скучала эти дни о своих птицах, которых так любила кормить на чистеньком дворике хохлушки. Я нашла их всех очень изменившимися: желтые гусенята и цыплята, которых я оставила пуховыми шариками, ужасно подурнели! Они стали такие неуклюжие, в редких торчащих перышках на крыльях и хвостиках. Зато голуби и перепела были всё такие же хорошенькие… А вишневые-то кусты как изменились!.. За последнюю неделю вишни так созрели, что густая зелень вся была покрыта исчерна-красными, сочными ягодами, смотревшими очень аппетитно.
– Вот прелесть! – говорила я, любуясь.
– Ну уж! Нашла прелесть! – презрительно отозвалась Лёля. – Дрянные вишни!.. Вспомни-ка, что теперь в грунтовом сарае, на нашей даче, в Саратове!
Я вспомнила и глубоко вздохнула. Как ни мил был наш садик, но, разумеется, он не мог сравниться с саратовской рощей. К тому же я очень часто скучала о родных и особенно о доброй своей бабочке, и слова сестры заставили меня пригорюниться.
– Ну, чего ты насупилась? – засмеялась она через минуту. – Что ж делать? Дача далеко; а у нас здесь тоже недурно. Давай играть в прятки!
И Лёля вскочила и побежала в самую глубь сада прятаться. Она, по своему обыкновению, принялась сначала бегать, влезать на деревья, перелезать в соседние садики через плетень – хотя и то, и другое нам было строго запрещено – и вообще ужасно шалила. Но шалости, как и все на свете, ей очень скоро надоедали: она беспрестанно меняла расположение духа. Благополучно спустившись на землю со старой груши, на которой только что звонко куковала, бросая в меня неспелыми фруктами, Лёля бросилась в высокую, некошеную траву и начала смешить меня разным вздором и выдумками, на которые была большая мастерица.
Она уверяла, будто бы один из папиных офицеров – маленький, толстый капитан, который очень много ел, ужасно нравился нашей разноглазой, косой англичанке, тоже любившей покушать. Что будто сама она, Лёля, слышала, что он ей говорил: «Мисс! Я бы сейчас на вас женился – если б вы хоть один разочек на меня пряменько взглянули!..» Косыми-то глазами! Наша бедная мисс ни на кого не могла смотреть прямо.
– Он ведь, ты знаешь, лысый! – говорила Лёля. – Накладку носит. Так я мисс уже обещала, что если она выйдет за него замуж, так я непременно в день их свадьбы заберусь в церковь и той самой удочкой, что недавно папа мне подарил, чтоб ловить рыбу, зацеплю и стащу паричок с его лысенькой головки!.. Непременно! И если б ты знала, как мисс этого боится, – ужас! Я думаю, она ни за что не посмеет за него выйти замуж!..
Я очень хорошо знала, что Лёля все это выдумывает; но она так смешно рассказывала, что нельзя было не смеяться, глядя на совершенно серьезное лицо, с которым она болтала такие пустяки.
Вареники
Дня через два мы опять играли в саду, когда к нам подошла хозяйка, хохлушка наша, прося нас придти к ней в хату попробовать, какие она, ради Божьего праздника – а было воскресенье, – вкусные вареники с вишнями сварила.
– Вареники?.. Ах! Как жаль, что нам нельзя! – с глубоким сожалением воскликнула я.
А дело было в том, что мне после болезни, а Лёле по случаю недавнего расстройства желудка было строжайше запрещено есть вишни. Отпуская нас в сад, Антония нам еще раз это напомнила, и мы ей дали слово не рвать вишен, что до сих пор свято исполняли. Но тут, выслушав приглашение, Лёля закричала:
– Отчего нельзя!?. Вот еще глупости!
– Да как же, мы Антонии обещались?..
– Что обещали? Глупая! Ведь мы обещали не есть вишен – а не вареников с вишнями!..
– Разве это не все равно?
– Конечно, не все равно: сырые вишни или вареные!.. Вареники – это все равно что варенье; а ты знаешь, что тебе давали даже лекарство закусывать малиновым вареньем. Пойдем!
– Ходыть до мене, гарненьки мои барышни! – уговаривала нас хохлушка, не знавшая, что нам запрещены были вишни. – Поиште варенычков моих пшенычных. Яки ж воны смачны!
– Ну пойдем! – не выдержала и я, вставая.
И мы направились к хозяйкиной хате!
Уж и вареники же, в самом деле, какие вкусные были! Из белой муки, с отборными, спелыми вишнями и все залиты свежим, сотовым медом. Просто на славу!.. Наша добрая хохлушка была хозяйка домовитая: у нее тут же в палисаднике и свои ульи стояли. Мы боялись, из-за пчел, ходить туда и только издали любовались его кудрявой липкой и высоким тыном, увитым хмелем, из-за которого красиво пестрели подсолнечники, рожи да бузиновые кусты.
Ай да вареники!.. Мы ели да только облизывались. Глиняная мисочка, поставленная перед нами на стол, уже совсем почти опустела, когда вдруг… о, ужас! В маленькое окошечко из саду раздался голос горничной девушки, Маши.
– Лёля! Верочка!.. Где вы?.. – кричала она.
Мы так и замерли с деревянными ложками в руках и варениками во рту!
Что тут делать? Нас ищут; сейчас откроют, что мы, две больные, объедаемся варениками с вишнями, скажут Антонии, маме!.. Какой стыд! Боже мой, куда нам деваться?.. Куда бы спрятаться?.. Изобретательная Лёля сейчас нашлась:
– Молчи! – шепотом прикрикнула она на удивленную хозяйку. – Не говори, что мы у тебя! Скажи, что ты нас не видала, – а не то нас будут бранить.
Говоря это, она лезла сама и меня тащила за собою, на хозяйкину кровать, под высокую перину… Я забилась туда рядом с сестрой, и мы притихли; хотя я с ужасом чувствовала, что не совсем успела спрятаться, что кончики моих ног торчат из-под взбитой горой пуховой перины.
Голос все раздавался в саду громче и нетерпеливее. Ясно, что опасность приближается, а тут эти ноги выставились напоказ, и я никак не могу втянуть их. Уф! Измучили меня они!.. Я бы, кажется, позволила их обрубить совсем с башмаками, только бы избавиться от мучительного сознания, что их видно на целую четверть.
Вот ближе, ближе голос и наконец раздался у самого окна:
– Что, наших барышень нету здесь?
Я прижала носки к перине и замерла.
– Ни! – громко отвечала хохлушка, будто бы доставая что-то ухватом из печки. – Тут их не бывало.
– И в саду не видала ты их? – продолжала несносная Маша, пригнувшись к низенькому оконцу.
– Да ни же, ни! И в саду не бачила… Не было их туточки… – солгала хозяйка, стуча горшками и ухватом.
– Вот оказия-то! – удивлялась Маша. – Да где же это они?.. Уж не через плетень ли в чужой сад перелезли?
И она пошла себе, снова выкликая нас по именам.
Едва она отошла, Лёля выскочила из-под перины с хохотом, вся красная, растрепанная, и запрыгала, забила в ладоши от удовольствия. Хозяйка тоже смеялась… Улыбалась и я… Только мне было немножко стыдно.
– Пойдем домой, – сказала я тихо.
– Нет! Подождем, чтоб Маша совсем в другую сторону отошла! – с необыкновенным оживлением отвечала Лёля. – Тогда мы вылезем в окно и пробежим прямо к нашему крыльцу, будто разминовались с ней. Никому и в голову не придет, что мы были здесь.
Мы так и сделали и благополучно вернулись домой, солгав, что мы все время играли по другую сторону сада. Никто не узнал нашего обмана, пока мы сами чрез долгое время не рассказали о нем; но я должна сказать, к своей чести, что воспоминание об этом происшествии не только никогда меня не забавляло, но, напротив, было очень неприятно. В особенности мне было стыдно перед мамой и Антонией! Сознание, что я обманула их доверие, долго меня тяготило.
Поездка в Диканьку
За учением и шалостями время шло так скоро, что мы и не заметили, как пришел конец лета. Запестрели дубовые рощи, закраснелись рябина и калина, а во фруктовых садах уж груши и яблоки были сняты.
Осень в этом году была хорошая. Яркое солнце освещало своим холодным, но веселым светом рощи и опустевшие поля, на которых уже убрали жатву, где летали длинные нити блестящей паутины. Я любила ловить эту паутину, которую мы называли Богородицыными волосами. Я наматывала ее на руку и бежала, оглядываясь, смотря, как она расстилается за мной по воздуху, переливаясь серебром на солнышке.
Но настало время, когда нам пришлось прекратить прогулки: пришли серые, ненастные дни. То дождь, то ветер, взметавший желтые листья, пасмурное неприглядное небо. Перестали турухтать и ворковать мои перепела и голуби; насупились, взъерошили свои перышки и чаще стали прятаться в свои домики, настроенные для них во дворе, от холода и непогоды.
Скоро и нам пришлось попрятаться – настала поздняя холодная осень.
Но до ее окончательного наступления мы сделали еще раз славную прогулку, почти путешествие. Мы знали, что мама иногда ездит в одно богатое имение Диканьку, откуда привозит всегда чудесные цветы, книги и ноты и о котором она рассказывала нам много интересных вещей. Мне очень хотелось побывать там, и вот, в ясный сентябрьский день, желание мое исполнилось. Я всегда думала до сих пор, что ничего не может быть богаче и красивей нашего саратовского дома и рощи на даче. Но, походив с мамой по садам, парку, оранжерее с цветами, подобных которым я никогда не видывала, по великолепным залам, убранным картинами, статуями и зеркалами, по галереям с мраморными колоннами и полами из цветных узоров, – я увидала, что очень ошибалась и что такой дом и такие сады мне и во сне не снились!.. Это было имение очень богатых князей, которые этим летом в нем не жили. Особенно любовалась я красивым, пестрым цветником, разбитым как ковер турецким узором, прямо перед широким крыльцом, украшенным вазами и вьющеюся зеленью. Из средины цветника высоко бил фонтан, упадая облаком пены и брызг в белый мраморный бассейн.
«Диканька».
Художник М. Беркос. 1890-е гг.
Пока мама возилась с книгами в библиотеке княгини, ставя на место прочитанные и выбирая новые, я все стояла на террасе, любуясь цветами и фонтаном. Наконец я вошла в зал, где меня занял блестящий паркет, отражавший мое белое платьице и ноги точно зеркало. Пройдя несколько больших, красивых комнат, я вошла в угловой, небольшой кабинет княгини, весь сплошь обитый чем-то голубым, мягким, точно как бывают обиты внутри дорогие бонбоньерки, с такою же мягкою голубою мебелью и прелестными вещами по стенам и этажеркам. Большое окно или стеклянная дверь, занимавшая чуть не целую стену, была отворена в сад, а неподалеку от нее стояли мама и Антония, рассматривая у письменного стола какой-то альбом или портфель. Мамино довольное, улыбавшееся лицо сейчас же привлекло мое внимание; обе они как-то странно улыбались, с любопытством рассматривая картинки в альбоме. Поодаль, в других дверях, стоял благообразный старичок в черном фраке, который все нам показывал, ходя везде с нами.
– Так княгиня это сама рисовала? – спросила мама, весело взглянув на старика.
– Сами-с, – почтительно отвечал он. – Они по этому рисунку изволили еще и другую картинку, немного поболее, нарисовать масляными красками; но только ту они с собою, в чужие края увезли.
– Много занимается живописью княгиня?
– Большие охотницы. И все больше из своей головы. То есть вот, что только прочтут или вздумают, сейчас карандашиком набросают, а после наверх, в мастерскую; возьмут палитру да кисти и другой раз по целым часам и не сходят.
– Можно видеть эту мастерскую?
– Отчего же-с? Их сиятельство все вам приказали показывать. Других мы не смеем до всего допускать: разве что сады, оранжереи там или вот дом… Ну, а вашей милости все от самой княгини велено: что только будет вам угодно! Книги, картины, цветы…
Я остановилась среди комнаты и с удивлением смотрела на старика и слушала.
– Очень уж им понравились книжечки ваши, сударыня! – продолжал он рассказывать. – Изволили видеть в библиотеке, в какой богатый переплет их сиятельство сочинения ваши отделали?.. Бывало, как выйдет что-нибудь новенькое, только и речи у них, что о «Зинаиде Р-вой», – как вы подписываться изволите. Уж на что мы, слуги даже, бывало, за обедом или вечером с гостями всё, слышим, о вас да о сочинениях ваших разговор идет. Так, что и мне, старику, стало любопытно: достал я у управляющего журнал, прочел эту самую вашу «Теофанию Аббиаджио», что у них вот тут, на картинке изображена…
– Qu’est ce qu’il dit?..[99] – шепотом и в величайшем недоумении спросила я Антонию; но она так была занята рассказом старика, что, казалось, не замечала и не слышала меня.
Мама тихо опустила на стол открытый альбом, и я впилась в него глазами.
Там была нарисована какая-то женщина, вся в белом, с черными, распущенными по плечам волосами. Она стояла на высокой скале. Внизу, под скалой, было темное море, и волны его, и платье, и длинные волосы женщины словно были приподняты и развеяны ветром…
– Пойдем, Верочка, пора домой! – сказала Антония и, взяв у меня альбом из рук, закрыла его и пошла из комнаты вслед за мамой, тихо разговаривая с нею.
Старик шел вслед за нами. В зале он вынул из воды великолепный букет цветов и подал его маме, сказав, что он нарочно для нее приготовлен.
– Не угодно ли еще будет вам захватить корзиночку дюшес и яблок-ренетов с собою, сударыня? – говорил он, провожая нас на крыльцо. – Признаться, я всю неделю собирался отослать их вам, да управляющий уезжал на ярмарку: всех почти лошадей забрал, так и не пришлось.
Мама поблагодарила учтивого старичка, и мы уехали.
Не знаю, чем именно я развлеклась в дороге так, что забыла спросить, что говорил он и какая женщина нарисована в альбоме?.. Только на другой день вечером мне удалось расспросить об этом Антонию.
Новые мысли, новые чувства
Я запомнила этот вечер отлично.
Мы с ней сидели на крыльце нашего дома. Солнце уже садилось, и темные тучи, выползавшие ему навстречу, закрыли его от нас раньше времени; солнца не было видно, но кое-где ближние хаты с садиками светились яркими пятнами на синем фоне дали, уже покрытой тенями. Мы только что кончили уроки. Антония села с работой на крыльце, предложив мне поиграть на дворе, но я уселась у ног ее и любовалась яркими лучами солнца, расходившимися по всему небу, как стрелы из-за темной тучи.
– Погода испортится, конец ясным дням! – сказала Антония, взглянув туда же. – Посмотри, какие красивые тучи: точно волны на море.
– Ах! – вдруг вспомнила я при этом слове. – Я хотела спросить вас: что это за картинку вчера вы рассматривали в Диканьке? Какая это женщина на скале у моря?.. И что такое рассказывал вам этот старик?
– Что он рассказывал?.. Вот видишь ли, ты знаешь, что мама твоя, каждый день почти, по несколько часов пишет у себя в комнате?
– Да, знаю. Ну, что ж?
– Ну, то, что она пишет, у нее берут и печатают в книгах… Книги эти – ее сочинения. Она пишет славные вещи, которые всем нравятся. Все их читают, и вот эта княгиня, хозяйка Диканьки, прочла одно ее сочинение и нарисовала к нему картинку.
– На мамину книгу?
– Да. Не на всю книгу – а на одно место в ней, которое ей понравилось.
– А какая же это женщина, с распущенными волосами?
– Та, которой историю мама написала. Ее звали Теофания Аббиаджио…
– Мама ее знала? – прервала я.
– Нет, мама ее не могла знать, потому что ее никогда в самом деле на свете не было. Она сочинила ее историю…
– Как сочинила? Как же она могла?.. Почем она знала? И кто же ей поверит? Ведь все могут узнать, что она все это выдумала!..
– Не выдумала, – улыбаясь поправила меня Антония, – а сочинила. Это разница, которой ты еще не можешь понять… Все знают, что она пишет не о живых людях, но она так хорошо о них рассказывает, так верно и живо описывает, что когда ее книги читают, то все забывают, что этого в самом деле не было.
Я задумалась глубоко и чрез минуту спросила:
– Ну, а как же эта княгиня могла нарисовать портрет Теофании – как ее?.. Ведь она же ее не видала?
– Конечно, не видала; но представила ее себе по маминому рассказу и так ее и нарисовала.
– А если мама скажет, что она ее совсем не так нарисовала? Что она не похожа?..
– Мама этого не скажет! – рассмеялась Антония. – Она нарисована так, как мама описала ее в книге.
– А мне можно прочитать эту книгу?
– Нет, теперь нельзя, потому что ты ничего не поймешь в ней; но, когда будешь большая, ты непременно прочтешь все, что напишет мама.
– Ах! Как же это она пишет?.. Как бы я тоже хотела уметь!.. Кто же это ее сочинения печатает?
– Печатают их не здесь, в Петербурге. Ты видела большие желтые и зеленые книжки, которые к нам с почты привозят?.. Они называются журналами. В них печатают сочинения разных людей и платят им за это деньги.
– И маме тоже платят деньги?! – удивилась я.
– Да. Много денег.
– Да за что же? Кто ей платит?
Антония, как могла понятней, объяснила мне журнальное дело и прибавила, что платой за то, что она пишет, мама платит жалованье англичанке, учителям и выписывает себе и нам нужные книги…
– И вам она тоже платит? – спросила я.
– Нет, – покраснев, отвечала Антония, – мне она ничего не платит. Я получаю деньги от царя, а живу с вами потому, что никого на свете так не люблю, как вашу маму.
– А своих родных?
– У меня нет родных.
– Как? Неужели никого?.. Ни отца, ни матери, ни братьев, ни бабушки?..
– Решительно никого… Кроме одного брата, которого я совсем не знаю.
– Как же можно не знать своего брата? Вот!..
Антония промолчала, а моя мысль перепрыгнула на другой вопрос:
– А за что же царь вам платит деньги? Он разве вас знает?
– Какая ты смешная девочка! – засмеялась она опять. – Все тебе знать надо!.. Ну, царь платит мне деньги за то, что я хорошо училась.
– За то, что вы хорошо учились?.. Вот как!.. А если я буду хорошо учиться, он и мне будет платить?
– Не знаю! Может быть, и будет. Только прежде всего надо начать очень хорошо учиться!.. А теперь довольно тебе расспрашивать; вот уж совсем темно. Скоро свечи и чай подадут… Пойдем-ка в комнату.
Антония ушла, но я не пошла за нею, а, поставив локти на колени и подперев руками голову, глубоко задумалась, глядя в темневшую даль, о своей доброй маме, трудившейся для нас. О том, какая она умная, как это она так хорошо умеет рассказывать о небывалых людях и вещах, что даже большие ей верят и думают, будто она правду рассказывает!.. Прежде я никогда не думала о том, чем она занята в своем кабинете. Теперь эти занятия получили для меня особый смысл и интерес, и сама она как будто сделалась другою – не только моей мамой просто, как прежде, а еще чем-то новым, другим!.. Чем-то таким особенным, чего я никак не могла объяснить себе, но что заставляло меня смотреть на нее совершенно иными глазами.
С этого вечера я начала часто, подолгу засматриваться на ее бледное лицо с карими чудесными глазами, с ласковой улыбкой. «Отчего это мама улыбается так странно?.. – думала я. – Не так, как другие: невесело!.. И какие у нее глаза – большие да темные. И вместе блестящие такие!.. Моя мама – очень хорошенькая, и я ужасно люблю ее!..» – заканчивала я всегда свои мысли.
Часто мама ловила мой взгляд и, рассмеявшись, спрашивала, что со мной?.. Почему я так смотрю на нее? Я конфузилась и не знала, что отвечать ей; но все чаще и дольше за ней наблюдала, и впервые здоровье мамы начало меня беспокоить. Она в шутку прозвала меня своим сторожем… Особенно любила я забираться тихонько в ее комнату и, приютившись, незамеченная ею, где-нибудь в уголке, следить, как быстро летала ее маленькая, беленькая ручка по бумаге. Как она останавливалась, перечитывая листы; задумывалась, рассеянно устремив глаза в одну точку, иногда улыбалась, словно видя что-нибудь пред собою, иногда хмурила свои тонкие брови, и лицо ее делалось такое серьезное, грустное… Она снова бралась за перо и писала не отрываясь, пристально, быстро.
Мне кажется, я только с этих пор начала сознательно любить свою маму. Вообще я очень изменилась в эту зиму. Мне начали приходить в голову новые мысли, я как-то иначе стала относиться ко всему окружающему; чаще задумывалась, старалась вглядываться во все и прислушиваться внимательнее к разговорам больших. Особенно занимали меня долгие беседы Антонии с мамой, когда они, сидя вечером на мягком диванчике, то поочередно читали, то разговаривали о вещах, часто совсем мне непонятных, но которые я старалась понять или дополнять непонятное своим воображением. Я теперь не приставала к Антонии так часто, как прежде, с расспросами о пустяках; но несколько раз замечала, что мои вопросы приводят ее в замешательство. Раза два-три даже случилось так, что она не могла или не хотела мне ответить и отделывалась общим замечанием, что я узнаю обо всем этом, когда вырасту…
– Да когда же это будет? Боже мой! Когда же я наконец вырасту, чтоб обо всем говорить и читать, и все понимать?.. Когда же наконец я буду большой?!. – восклицала я часто.
И мне искренно казалось в то время, что этого никогда не будет.
Неожиданности
Пришла зима. Занесло, замело все поля, все дороги снегом. Садик наш стал непроходим: только узенькая тропка от нас к хозяйкиной хате была протоптана мимо огорода; деревья стояли мохнатые, опушенные насевшими на ветви хлопьями, а окрестные хутора так осели в рыхлый снег, словно спрятаться в него хотели. Если бы не встрепанные, голые садики да не сизые дымки по утрам, дальних деревень нельзя было бы и отличить… Заперлись, законопатились окна и двери, затрещал яркий огонь в печках; пошли длинные-длинные вечера, а серые деньки замелькали такие коротенькие, что невозможно было успеть покончить уроков без свечей.
До самых рождественских праздников я не запомнила ни одного случая, который бы сколько-нибудь нарушил однообразие нашей жизни. Перед Рождеством папа ездил в Харьков и навез оттуда всем подарков и много чего-то, что пронесли к маме в комнату под названием кухонных запасов. Занятые своими книжками с картинками, мы не обратили на это никакого внимания.
Вечером нас позвали в гостиную, где мы увидали, что все собрались при свете одной свечи, и ту папа задул, когда мы вошли.
– Что это? Зачем такая темнота? – спрашивали мы.
– А вот увидите, зачем! – отвечала нам мама.
– Не шевелись! – сказала Антония, повертывая меня за плечи. – Стой смирно и смотри прямо перед тобою.
Мы замерли неподвижно в совершенном молчании… Я открыла глаза во всю ширину… но ничего не видала.
Вдруг послышалось шуршание, и какой-то голубой, дымящийся узор молнийкой пробежал по темной стене.
– Что это? – вскричали мы.
– Смотрите! Смотрите, какой у мамы огненный карандаш! Что она рисует!.. – раздался веселый голос папы.
На стене быстро мелькнуло лицо с орлиным носом, с ослиными ушами… Потом другой профиль, третий… Под быстрой маминой рукой змейками загорались узоры, рисунки…
– Читайте! – сказала она.
И мы прочли блестящие, дымившиеся, быстро тухнувшие слова: «Лоло и Вера – дурочки!».
– Ну вот еще! – с хохотом закричала Лёля, бросившись к маме. – Покажите, мамочка! Что это такое?.. Чем вы пишете?
– А вот чем! – сказала мама и, чиркнув крепче по стене, зажгла первую виденную нами фосфорную спичку.
Серные спички явились в России в начале сороковых годов. Ранее того огонь выбывали кремнем.
– Что это за палочки такие? Отчего они горят? Зачем они?..
– Затем, чтобы не бегать на кухню за огнем, а всегда иметь его под рукою.
И мама зажгла свечу, стоявшую на фортепиано. Мы продолжали стоять смирно и, раскрыв рты от удивления, смотрели на пламя свечи, ожидая, что и с ней сейчас произойдет что-нибудь необыкновенное; но видя, что она горит себе, как всякая другая, огорчились и стали просить еще огненных рисунков. Но мама сказала, что «хорошенького понемножку», что это опасная игра, и для того, чтобы мы сами не вздумали повторять этих опасных опытов, благоразумно спрятала спички в свою шкатулку.
Наступил канун 1842 года.
Скучный, пасмурный, грустный канун!.. Почти с самого утра мы всё были одни: мама – сказали нам – нездорова, и, зная, что она часто не выходит из спальни, когда больна, мы нисколько не удивлялись ни тому, что Антония целый день от нее не отходила, ни даже тому, что отец почти не показывался. Он только пришел, когда мы обедали втроем с мисс Джефферс; поспешно съел свой борщ, посмотрел на нас через очки, улыбаясь, ущипнул меня за щеку, пошутил с Лёлей и ушел, сказав, что ему некогда.
После обеда мисс Джефферс исчезла тоже.
Мы с Лёлей уселись смирно в полутемной комнате, вспоминая с затаенными вздохами о наших прошлогодних праздниках, о подарках бабушки, о чудесной елке Горова и недоумевая, сделают ли в Саратове без нас елку или сочтут Надю слишком большой для этого…
За окном, в желтом сумраке, быстро, частой сеткой, мелькали снежные хлопья, и ветер уж начинал подвывать в трубах свою тоскливую, ночную песню.
«За вышиванием».
Художник В. Борисов-Мусатов. 1901 г.
Не только я, но даже беззаботная, всегда веселая Лёля присмирела. Мне же было очень жутко и тяжко на сердце…
Вдруг отворилась дверь, и вошла Аннушка с Леонидом на руках, а за нею – ее толстая сестра, Марья, жена папиного денщика Воронова, наша ключница и швея. Они обе улыбаясь, сели у стенки, поглядывая то на нас, то на дверь, – словно ожидая чего-то. Мы еще ни о чем не догадывались. Я только успела обратить внимание на великолепный расписной пряник, который наш рыжий толстяк держал в пухлых ручонках, обсасывая с него сахар, когда снова отворилась дверь, и мамина горничная, Маша, вошла с еще более веселым лицом.
– Барышни! – сказала она. – Идите скорее! Вас маменька к себе зовут!..
– Ах!! – вскрикнула тут Лёля, хлопнув себя по лбу. – Я знаю зачем!..
И, выпрыгнув за дверь, она бросилась к маминой комнате. Я, разумеется, за ней, но только добежав до порога спальной, поняла в чем дело. Совсем неожиданная, разукрашенная елочка блистала огнями среди комнаты. Под нею лежали игрушки, а вокруг стояли мама, Антония, папа, мисс, и все улыбались, очень довольные, что, целый день провозившись с елкой, нас так искусно обманули.
Я и рассказать не могу, как обрадовалась! Для меня тут был большой деревянный кукольный дом с тремя или четырьмя комнатами, меблированными и украшенными очень красиво. Папа с мамой целую неделю его оклеивали и убирали гостиную, спальную и кухню. Над ним была красная, высокая, как следует, крыша с трубами, а в комнатах сидели и стояли разные куклы. Меня особенно занял лакей-араб в красной куртке, который подавал на подносе чай барыне, сидевшей на диване. Мама отлично сделала этого араба: она ему вышила красные губы, белые глаза с черными бисеринками вместо зрачков, а из шерсти – черные, курчавые волосы. Другие куклы тоже были все маминой и Антоньиной работы и очень нарядно одеты.
Я заглядывала на них в двери и окошки, удивляясь, как это их могли там рассадить, когда папа, подойдя, приподнял немного крышу и опустил всю переднюю стену моего дома, так что он сразу открылся сверху и с главного фасада. Увидав такой широкий вход в мой дом, Лида начал к нему тянуться, капризничать и кричать до тех пор, пока его не усадили в главной гостиной, где он сейчас же начал так бесцеремонно хозяйничать, что привел меня в отчаяние!.. Хорошо, что мама успела вытащить его оттуда, уговорить и забавить какою-то другой игрушкой.
Что случилось в кукольном доме
Но, к его несчастью и великому моему горю, негодному мальчишке понравилось, вероятно, помещение в моем доме. Через несколько дней, войдя в комнату, где стоял мой дом, я услышала в нем необыкновенные шум и движение. Бросившись к нему, я увидала в окно, что Леонид Петрович сидит там, поджавши ноги, с карандашом в руках и во всю мочь разрисовывает пол, потолок и стены, не жалея ни картин, ни обоев.
Кто посадил его туда и закрыл за ним доску? Не знаю, но дело в том, что, увидав его злодеяния в моем парадном зале, я пришла в такую ярость, что совершенно забыла об этой открывающейся стене, а, поймав его за руку в одно из окон, ну тащить его оттуда и таким образом таскать его вместе с домом по всей комнате!..
На наш крик, слезы и шум сбежался весь дом. Я, вся красная, выбившись из сил, продолжала таскать брата за руку, выходя из себя, что не могу его вытащить чрез крошечное оконце кукольного дома; он, несчастный, опрокинутый внутри своего тесного помещения, с рукою, вытянутой чуть не до вывиха, бился о стенки моего зала и кричал изо всех сил… С трудом поняв, в чем дело, разняли нас и, вынув его, злополучного, избитого, красного, как рак, из сильно попорченного им кукольного помещения, уняли его крики и усмирили нас обоих.
– Верочка! Что с тобою сталось? – с удивлением говорила мама. – Злая девчонка! Я не ожидала от тебя такого ребячества и злости!..
Я сама никак не могла понять, как это случилось? Чтоб я, такая «благоразумная» девица, могла так рассердиться на маленького брата?.. Когда я увидала несчастное лицо нашего бедного толстяка, долго не перестававшего жалобно всхлипывать, его измученную, красную ручонку, синяки на лбу его и вспухшие щеки, мокрые от слез, мне стало очень стыдно и жаль братишки; но я сейчас же постаралась скрыть эти добрые чувства.
– Allez dans vôtre chambre, mauvaise petite fille![100] – сердито сказала мне Антония. – Maltraiter ainsi son petit frère, pour un joujou![101]
– Да! – проворчала я, глядя на нее исподлобья. – Зачем он испортил мой дом?
– Важность какая! Тебе игрушка дороже брата?.. Поди в свою комнату сейчас и не смей выходить оттуда! Я не хочу тебя видеть, и ни я, ни мама тебя больше не любим!
Я пошла с горьким чувством на сердце, изо всех сил стараясь сдержать слезы, чтоб не показать своей слабости… «Вот еще! Пускай лучше думают все, что мне все равно и совсем не жаль Лиду!..» – со злостью думала я. Я постаралась придать своему лицу самое сердитое и даже насмешливое выражение и уселась в своей комнате на окно. Но мне скоро стало очень скучно… Я сначала надулась и наконец, не совладав с собой, горько заплакала.
– Voilà qui est bien mieux que de bouder! – заметила мне мимоходом Антония. – Гораздо уж лучше плакать, чем злиться.
Я еще пуще залилась слезами, и вдруг мне показалось, что я такая бедная, такая несчастная, что другой такой и на свете нет горькой девочки!.. В самом деле! Меня же обидели, меня же наказали и моим же слезам радуются!
«Хорошо же! Пускай радуются, я буду плакать. Я буду так плакать, что заболею! Пускай тогда радуются моей болезни… Я, может быть, так сильно заболею, что даже умру!.. Что же такое? Пусть умру! Я очень рада!.. Тогда все они узнают, какая я несчастная была. Соберутся все вокруг меня и будут жалеть, и вспоминать, и плакать!.. Будут хвалить меня и раскаиваться, – да уж не помогут!..»
От этих мыслей я плакала все сильней и сильней.
Мне представились мои собственные похороны и горе моей бедной мамы, и всеобщее удивление и жалость, не столько о смерти моей, как о всем том, что я вытерпела, как страдала, обиженная всеми!..
Вся эта трагедия представилась мне так ярко и живо, что я не могла вытерпеть и, рыдая, высказала в несвязных словах свое горестное будущее.
– Хорошо, хорошо! – бормотала я. – Браните меня… Вы, может быть, раскаетесь, когда будет поздно…
– Не мне, а вам надо раскаиваться, злая девочка! – хладнокровно возразила Антония, и ее жестокосердие окончательно меня возмутило.
– C’est bien![102] – опять повторила я угрожающим и вместе таинственным голосом. – Когда я, может быть, скоро умру, вы этого не скажете!
К величайшему моему негодованию, Антония засмеялась.
– Когда вы умрете? Ну, будем надеяться, что до тех пор ты еще успеешь исправиться!.. От злости, мой дружок, не умирают. Если же ты умерла бы теперь, такою злою, то это было бы очень для тебя худо! Злых детей, поверь мне, не любят ни люди, ни Бог.
– Бог видит, что я не злая, а несчастная! – с убеждением возразила я.
– В самом деле? – опять засмеялась Антония. – Оттого, что от злости чуть не вывихнула брату руки?
Вдруг Антония взглянула на меня сурово и, переменив тон, заговорила очень серьезно:
– Ты должна стыдиться себя! Я считала тебя умной и доброй девочкой, а ты вдруг делаешь и говоришь такие глупые и злые вещи!.. Это стыдно и грешно. Благодари лучше Бога за то, что все обошлось благополучно: ты могла убить бедного маленького брата. Вот тогда бы ты была действительно несчастна! И на всю жизнь. Слава Богу, что мы прибежали вовремя!.. А теперь, вместо того чтоб стараться загладить свое поведение, ты еще продолжаешь злиться и выдумывать пустяки?.. Несчастные дети на тебя не похожи, дружок мой: они не смеют злиться, ворчать и тем более обижать кого-нибудь, как ты сейчас обидела Лиду. Напротив, их все обижают и бьют безнаказанно.
Антония замолчала, задумавшись о чем-то. Я тоже притихла, чувствуя, что она права.
– У тебя есть мать, родные. Все тебя любят и берегут, – через минуту заговорила она, – какая же ты несчастная?.. А есть на свете такие несчастные дети, которые никогда не видят ласки и рады-радешеньки, когда их только не обижают. Я не считаю себя особенно несчастной, а сколько натерпелась, когда была твоих лет!.. Не дай Бог тебе и вполовину столько видеть горя. Семи лет я уж прислуживала всем в доме и чуть бывало не угожу, так голова потом целый день болит от щипков да пинков. А я даже и плакать не смела, не то что жаловаться!
– Кто же вам мог помешать? – спросила я как будто совсем равнодушно, но в самом деле сильно заинтересованная.
– Убеждение, что если я посмею жаловаться, меня побьют еще сильнее.
– Кто же смел вас бить?.. Разве мать ваша была такая злая?..
– У меня не было матери. В том-то и было самое большое мое несчастье!..
– А отца? Где же был ваш отец?
– Отец мой был вечно болен и слишком занят службой, чтоб знать, что делается в семье. А мачеха меня терпеть не могла…
– Эти мачехи всегда злые как ведьмы!
– Нет, это вздор! Ты в сказках об этом начиталась; а мачехи бывают очень хорошие, добрые женщины. Мое горе было в том, что моя мачеха была грубая женщина, почти мужичка; она считала любовью к своим детям страшнейшее баловство, а мне не могла простить, что отец меня любил наравне с ее детьми.
– Вот славно любил! – воскликнула я с негодованием. – Какая же это любовь, когда он позволял так обижать вас?..
– Он не знал этого. При нем мачеха удерживалась и старалась быть справедливей. А я так ее боялась и жалела отца, что никогда не хотела ему рассказывать. Когда он умер, мне стало еще хуже! Меня уж совсем обратили в служанку. Одевали в такие грязные тряпки, что мне самой себя было стыдно и гадко, а зимой я мерзла от холода. Я должна была каждое утро приносить воды из колодца для всего дома: это была самая тяжелая работа для меня зимою, пока я не привыкла, оттого, что башмаков у меня никогда не было, кроме стареньких сестриных, которые мне едва лезли на полноги, потому что она была на три года моложе меня. По утрам, бывало, бегу я во всю мочь по снегу или по замерзшей грязи через двор за водою; а у колодца, пока вода наберется, прыгаю, прыгаю с одной ноги на другую, оттого, что пятки мне мороз словно огнем жжет… Прибегу с ведром вся синяя, трясусь, так что зуб на зуб не попадет, и должна в комнатах выметать, прибрать все, приготовить сестрам и братьям одеться, помогать их мыть, чаем поить. А потом опять бежать на мороз, за водою или в лавочку за чем-нибудь, мачеха пошлет.
– А вам чаю? – прервала я.
– Ну, и мне иногда давали; только мне было мало времени думать о нем, потому что дела было много… То той, то другой сестренке моей что-нибудь понадобилось; то братья кричали и звали меня на помощь. Кроме меня была у нас одна только старая, полуслепая кухарка. Она меня любила и жалела, только не могла ничем помочь, разве что воду за меня иногда набирала.
– Я бы на вашем месте всех этих ваших сестренок и братьев колотила! – злобно заметила я, сделав жест так, словно крепко, с особенным удовольствием, щиплю кого-нибудь.
– Вот славно было бы! – возразила Антония. – Чем же они-то были виноваты, бедные дети? Они и сами много терпели от нашей бедности и от грубости своей матери.
– Vilaine diablesse![103] – вскричала я, не справясь со своим негодованием.
Антония улыбнулась.
– Fi! Quel vilain mot![104] – сказала она. – Où l’avez-vous entendu?[105] Не надо говорить дурных слов, тем более, что они никогда ничему не помогают.
– Где же теперь они все?
– Мачеха и сестры и один брат мой умерли, все в один месяц, от холеры. А меньшой брат мой живет со старшим, с моим родным братом, доктором, в Петербурге и учится там.
– А как же вы как-то говорили, что у вас нет родных? Вот есть же брат?
– Есть, но я почти его не знаю… Раза два-три только видела в институте.
– А кто же вас отдал в институт?
– Я сама не знаю! – засмеялась Антония. – Господь Бог, верно!
– Как Господь Бог? Как же это? Расскажите, пожалуйста! – пристала я, совсем забыв свое горе и слезы.
– Ma chère amie[106], – отвечала Антония, – это длинная и грустная история! Лучше я расскажу ее тебе в другой раз.
Но я так начала просить и умолять ее не откладывать – рассказать мне все сейчас же, что Антония не могла отказать мне и в тот же вечер рассказала всю свою историю.
Рассказ Антонии
– Ну, вот видишь ли, – начала она, сложив свое шитье, потому что уже стемнело, и принимаясь за чулок, в то время как я умостилась на любимое свое место на скамеечке у ее ног, – я тебе еще не сказала, что мы жили, когда я была ребенком, в маленьком городке, в Финляндии. Моя мать была дочь пастора; а отец служил на русской службе, помню как сквозь сон, что я с братом, который лет на пять старше меня, были очень счастливы, пока была жива мать моя, и жили хорошо, потому что она была отличная хозяйка и помощница во всем отцу. По утрам, пока он был на службе, к нам приходило много девочек и мальчиков, и мама учила до самого обеда, а после обеда переписывала для отца нужные бумаги или садилась шить что-нибудь, пока мы играли тут же возле нее.
Летом, я помню, часто ходили мы на большое озеро, недалеко за городом. Отец любил удить рыбу. Иногда он брал и нас с собою в лодку и катал по гладкому озеру. Я очень боялась, когда брат купался и заплывал слишком далеко в озеро. Мы, сидя с матерью на берегу под высокой скалою, далеко-далеко врезывавшейся в воду, кричали ему и делали знаки, чтоб он вернулся, не плыл дальше; но он часто не слушался нас, и тогда я принималась плакать и со слезами кричать отцу, что Эрнест тонет. Отец только смеялся и называл меня трусихой. Он говорил, что мальчику надо быть храбрым, уметь плавать, стрелять и управлять лодкой, и что нечего за него бояться.
Но раз, в воскресенье, мы отправились после обеда на озеро; отец сел в лодку и, по обыкновению, взял весла, поставив Эрнеста у руля, а я с матерью остались на берегу. Она села в тени нашей скалы, а я принялась искать разноцветные камешки, раковины и мох, которого очень много росло в расщелинах скалы, кругом озера. Он был разных сортов и теней с мелким белым и розовым цветом. Я любила играть им, устраивая сады, беседки и красивые узоры из цветных раковинок. В этот раз я так занялась игрою, что забыла обо всем, как вдруг меня перепугал громкий крик матери, которая в ту же минуту пробежала мимо меня с протянутыми вперед руками, точно хотела сама броситься в воду. Я вскочила и в страхе смотрела на озеро… Там, далеко от берега, виднелись две лодки; одна, в которой плыл отец, а другая меньше, рыбачья лодочка с белым парусом. Но не туда смотрела мать, а мимо, в другую сторону, где я ничего не могла сначала рассмотреть, потому что солнце ослепительно блестело, переливаясь золотыми струйками по мелкой расходившейся ряби. Хотя сердце у меня крепко билось, но я ничего не могла понять, пока не разобрала отчаянных криков матери: «Эрнест! Эрнест!.. О, Боже мой, Боже мой!».
Тогда я тоже принялась кричать и плакать, зовя брата, и тут только заметила в середине солнечного отражения что-то черное, мелькавшее из воды. Оно вынырнуло раз… другой… и потом исчезло в глубине…
В эту минуту мы заметили, что отец изо всех сил поворачивает лодку и гребет в ту сторону; но маленькая рыбачья лодка была ближе к месту и неслась тоже туда, совсем пригнувшись белым, раздутым парусом к воде. В нескольких саженях оттуда человек, в ней сидевший, закричал что-то отцу, чего мы не слыхали, спрыгнул в воду и исчез… Долго ли он искал брата и как он спас его – не знаю! – но только дело в том, что Эрнест непременно бы погиб, если б не он. В том месте, где он пошел ко дну, был сильный водоворот, и надо было быть очень искусным и сильным пловцом, чтоб избежать самому опасности и вытащить другого.
«Курсистка».
Художник Н. Ярошенко. 1883 г.
Этот человек сделал это. Он был здоровый и сильный рыбак, почти взросший на воде, знавший все опасные места в нашем озере так же хорошо, как углы своей хижины, стоявшей на другом берегу. Туда они повезли брата, и туда побежали и мы с бедной моей матерью, почти обезумевшей от страха и горя. Господи! Как мы были счастливы, когда, прибежав, усталые, едва не падая, мы увидели брата, хотя очень страшного, но все-таки живого! Мать моя едва не упала без чувств от радости и счастья!.. Она не знала потом, что делать, бросалась к Эрнесту, к отцу, к рыбаку, его спасшему, к сестре его, всех обнимая, плача и смеясь в одно время!.. Когда мы добежали до хижины, Эрнест только что пришел в себя. Его долго откачивали и оттирали на берегу, прежде чем он очнулся. Слава Богу, что бедная мать не видала его в таком состоянии! Она не знала, как благодарить рыбака… Когда, вскоре потом, его сестре понадобилось идти в услужение, мать с радостью взяла ее к нам, в няньки, и хотя скоро увидела, что она – ленивая и капризная девочка, но не решалась отказать ей от места из благодарности к ее брату. Эта девушка и сделалась потом нашей мачехой…
– Как? Этой скверной?.. – невольно прервала я Антонию.
– Да, она была дурная женщина, а главное, глупая и грубая…
– Как мог отец ваш на ней жениться?
– Что же делать? Он не знал ее… Когда мать умерла, эта Ида была у нас в доме всем на свете: она смотрела за нами, хозяйничала, казалось, любила нас, пока у нее не было своих детей. Отец думал, что нам будет хорошо, если он на ней женится. Но вышло не так. Брата спасли его года; он в первое же время возненавидел мачеху, стал ужасно грубить ей и упрекать отца. Она не смела при нем обращаться со мной слишком грубо… Но он скоро уехал к деду нашему, пастору, который в это время жил уже в Петербурге, а потом поступил там в училище и больше не возвращался домой. Тут, года через три, умер отец, и за меня уж совсем не было кому заступиться; так что, верно, я так бы и осталась на всю жизнь горничной-замарашкой, если б сам Бог надо мной не сжалился.
– Как же это? Душечка, расскажите! – не могла я снова не прервать ее.
– Да я же и рассказываю! – улыбнулась моему нетерпению Антония. – Не знаю, по просьбе ли отца или сам от себя, только дедушке моему удалось записать меня кандидаткой на казенный счет в Екатерининский институт. Но дело в том, что таких кандидаток, как я, там было, конечно, несколько сот, а потому попасть в институт всем было очень трудно. Такое уж мне счастье Бог послал… Мне было тогда десять лет, и жила я уж не у мачехи, а у кистера той церкви, где дедушка был когда-то пастором…
– Как это?.. Отчего?
– Так. Раз зимою, в очень холодный и бурный вечер, мачеха так рассердилась на меня, что выгнала на улицу, совсем забыв, верно, что в такой холод я могла замерзнуть. Дело было в том, что меньшой брат, тот самый, что теперь учится в Петербурге, любимый сын мачехи, опрокинул стол с целым столовым прибором. Это бы еще ничего, если б он только разбил все и пролил, но вместе со столом полетела на пол кастрюля с горячим картофелем и сильно ушибла и обожгла его, облив остатком кипятку. На ужасный стук и крик бедного мальчика вбежала мачеха и, не разобрав в чем дело, сгоряча прямо накинулась на меня, которой дети были, по обыкновению, поручены. Она кричала, что это я во всем виновата, что я это сделала нарочно, со злости обварила ребенка; жестоко меня избила и, когда я стала пытаться оправдать себя, едва открыла рот – она пришла еще в большую ярость и, не помня себя, вытолкала меня из сеней на улицу и заперла дверь на ключ.
Мороз был крепкий!.. Я была совсем как помешанная от испуга и побоев и, сама не знаю зачем, побрела под снегом и ветром, куда глаза глядят…
На мне было одно старое, дырявое платьишко, но я не чувствовала холода, хотя, вероятно, тряслась и коченела, сама того не замечая. Я шла до тех пор, пока не упала обессиленная возле какого-то порога.
Случай ли или старая память прошлых посещений дедушки, только я забрела на церковный двор, где жил он когда-то, и упала у кистерова домика. Наш кистер – это все равно что дьякон – был славный старичок, служивший еще у дедушки и знавший мою мать ребенком. Возвращаясь в этот вечер домой, он ужасно удивился, наткнувшись на меня, а когда меня внесли в комнату и он меня узнал, то страшно испугался. Меня оттерли снегом, уложили в постель и напоили чем-то горячим; а когда я на другой день совершенно опомнилась и рассказала все, прося и моля со слезами, чтоб меня не отсылали опять к мачехе, то эти добрые люди сами плакали надо мною и, как ни были бедны, решились оставить меня у себя и обо всем написали дедушке.
Так я у них и осталась… Хотя мачеха несколько раз присылала за мной старуху кухарку и уверяла, что хотела только попугать меня, тотчас вышла за мною сама на улицу и посылала меня искать везде в тот же вечер, – но добрая кистерша не отдала меня. Мачеха грозила, что будет жаловаться, насильно вытребует меня к себе; а они ей отвечали, что объявят начальству о ее жестоком обращении со мной, о том, что она едва не уморила меня, выгнав ночью на мороз!.. Так оно и осталось, потому, верно, что она сама боялась огласки… Только добрая старуха Катерина, наша кухарка, ушла от нее тогда же, побранившись с нею из-за меня, и так как мачеха почти ничего не могла платить, то и осталась, бедная, совсем без прислуги, с тремя детьми.
– Вот еще: бедная! Есть кого жалеть! – вскрикнула я.
– Конечно, бедная, – спокойно повторила Антония. – Она тоже была очень несчастна. Весною добрый старик кистер получил от деда деньги, чтобы отправить меня к нему, вместе с уведомлением, что мне посчастливилось в баллотировке, что я принята за казенный счет в институт. Они все радовались и поздравляли меня; а я хоть и боялась немножко, не понимая, куда меня повезут и что со мной будет, но была счастлива тем, что увижу деда и избавлена навсегда от мачехи. Какой-то купец, ехавший в Петербург, взялся довезти меня, и я скоро отправилась…
Перед отъездом я ходила прощаться с братьями и сестрой и очень плакала, потому что их я очень любила и жалела… Не знала я, что больше никогда не увижу двоих из них: в то же лето пришла страшная холера, и они умерли вместе со своей матерью. Брат ее, рыбак, взял меньшего сына ее к себе, а несколько лет спустя отправил его к Эрнесту, который тогда уже был на службе.
– А вы? – спросила я.
– Я была в институте, и так как брат был очень занят, то я почти их никогда не видала.
– А когда вышли из института?
– Когда вышла, меньшой брат был в школе, а старший совсем уехал из Петербурга. Я поступила в гувернантки к одной даме, с которой и приехала три года назад в Полтаву… А там познакомилась с твоей мамой и вот теперь сижу с маленькой, злой дурочкой и по ее капризу вспоминаю старину!
– Ну хорошо! А Катерина же что? Старый кистер? – не унималась я.
– Кистер и Катерина уж, верно, давно померли, потому что были очень стары. Я ничего не знаю о них теперь…
– Как жаль!..
– Очень жаль. Но отчасти и хорошо: пора идти к маме, а ты потребовала бы и их историю, если б я ее знала! – засмеялась Антония.
– Да! А за что же царь вам деньги платит? – спохватилась я.
– Я уже сказала: за то, что я хорошо училась! Я должна была получить награду, золотой шифр, и государь Николай Павлович, приехав сам на акт в институт, подозвал меня, говорил со мною, спрашивал: кто мои родные? Что я думаю делать по выпуске из института? И, узнав, что я сама не знаю что, потому что ни родных, ни состояния никакого не имею, он расспросил еще начальницу и приказал во всю мою жизнь выдавать мне пенсион в 120 р. с. в год или оставить пепиньеркой в институте, если я захочу… Я захотела прежде попробовать на свете счастья и, вот видишь, – нашла его! Вожусь с несчастной девчонкой, которая думает, бедняжка, что несчастнее ее и на свете не может быть ребенка!..
– Нет, душечка! – бросилась я на шею к своей милой, доброй Антонечке. – Это я всё глупости говорила! Я, слава Богу, очень-очень счастлива!
– А когда так, так пойдем от радости в столовую, напьемся чаю да, кстати, узнаем, зажила ли Леонидова ручка и нельзя ли как-нибудь поправить беды, которые он наделал в кукольном доме?..
Мамино пение
В эту зиму мама так часто болела, что ей не позволяли доктора так много заниматься, как она любила. Чтобы ее оторвать от дела и сколько-нибудь развлечь, папа наконец собрался съездить к своим родным в Курск. Наша новая бабушка жила там в деревне у своей дочери. Разумеется, она хоть и очень была к нам ласкова, так же как и новые тети, но у нас к ним не явилось и тени тех чувств, какие мы имели к маминым родным. Мы слишком недолго у них прогостили да к тому же инстинктом чуяли, что эти новые папины родные стараются показать нам ласку и любовь, а не просто любят, как дорогая наша «бабочка» и «папа большой».
Мы, разумеется, в то время не могли понять, что эта бабушка нас впервые видит; от сына отвыкла, а маму нашу почти не знает…
Впрочем, Лёля скоро подружилась с двоюродными братьями и сестрами и весело бегала с ними по всему дому; но я как приехала, так и уехала от родных совсем чужою. Глядя на бабушку Лизавету Максимовну Васильчикову, веселую, нарядную старушку, очень еще красивую и живую говорунью, я поняла, в кого у Елены такие курчавые, белые волосы!.. Она и лицом, и живостью походила на бабушку.
Возвращаясь домой, мы опрокинулись в глубокий снег. Все перевернулось в нашей кибитке, и меня так завалило подушками и поклажей, что папа насилу нашел и откопал меня. Все испугались, не ушиблена ли я? Но только была перепугана, но совершенно невредима.
Испуг ли на нее подействовал, или простудилась мама в дороге, но только что мы вернулись домой, она слегла в постель. Послали в Харьков за доктором, который уже раз или два приезжал к маме. Он покачал головою, сказал, что маме нужно лечиться серьезно, и звал ее переехать в город. Но когда он уехал, мама сказала, что ни за что не переедет в Харьков; а уж если будет нужно, то она весной лучше съездит полечиться в Одессу.
Через недельку мама встала скоро и, по-видимому, совершенно оправилась. Я ужасно радовалась ее выздоровлению и по-прежнему начала наблюдать за ее занятиями и долгими беседами с Антонией.
Все удивлялись моей перемене в течение этой зимы: говорили, что я вдруг сделалась такая тихая и серьезная, совсем как большая. Мне шел седьмой год, и я помню, что действительно с этого времени перестала быть совсем ребенком и часто думала о вещах, которые прежде мне и в ум не приходили.
Мне очень нравилось по вечерам, незаметно присев где-нибудь в уголке, слушать чтение больших и не подозревавших о моем присутствии и выводить свои заключения. Папа иногда пристраивался также к большому столу и слушал, рисуя пресмешные карикатуры или лошадей и пушки, а иногда и портреты своих знакомых, которые у него тоже всегда выходили очень смешные, хотя и похожи. Но чаще случалось, что его не было дома. Лёля готовила уроки или занималась с мисс Джефферс. У меня же по вечерам занятий не было, и потому я всегда присаживалась к Антонии и маме.
Но больше всего на свете я любила слушать мамину игру на фортепиано и пение. Чем бы я ни занималась, едва, бывало, заслышу стук крышки на рояле, я все бросала и бежала в зал. Там я забивалась за дверь, за печку, куда-нибудь в уголок, где бы мне не мешали и откуда бы я могла хорошо видеть ее лицо, и вся превращалась во внимание и слух. Мне казалось, что никто в мире не может петь, как моя мама, и никого нет красивей, чем она, на свете.
Помню, раз вечером на дворе бушевала метель, вьюга завывала, и ветер засыпал наши окна мерзлым снегом. В углу топилась печка; дрова трещали, и ярко вспыхивало пламя, освещая комнату неровным светом. Мама давно, с самых сумерек, тихо ходила по комнате, а Антония сидела на диване и вязала чулок, бряцая спицами в полутьме. Я смирно сидела у ног ее на ковре, положив голову к ней на колени, следя за всеми движениями мамы: за игрой света на лице ее и яркой полоской, перебегавшей по низу платья ее каждый раз, как она проходила мимо дверной щелки из ярко освещенной комнаты Лёли.
Мама вдруг остановилась и, взяв на рояле аккорд, сказала:
– Вот когда «Бурю» хорошо спеть!
И она села к роялю. Я насторожила уши.
Мама прежде сыграла что-то такое грустное, тихое; потом запела:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То как зверь она завоет, То заплачет как дитя!..[107]Я вслушивалась жадно в пение ее и в чудесные слова. Когда она дошла до того места, как старик в ветхой, темной избушке просит старушку спеть ему песню:
Спой мне песню, как синица Тихо за морем жила; Спой мне песню, как девица За водой по утру шла!..Я от восторга едва усидела на месте! Так и хотелось броситься маме на шею и крепко расцеловать ее… если б только возможно было это сделать, не помешав ее чудному пению. Сладко звучал мамин голос, прерываемый только завываниями ветра, будто бы вправду шатавшего нашу избушку, то жалобно плача, как дитя, то завывая, как дикий зверь…
Бедная лачужка «стариков», их одинокая, печальная жизнь; приунывшая за веретеном своим старушонка и старик, выпрашивавший со скуки песню, так живо мне представились; мне так стало их жалко, что я слушала, слушала и вдруг… горько заплакала.
Мама обернулась, удивившись, и, увидав, что я плачу, подошла ко мне, встревоженная.
– Ничего, душечка мама! – сквозь слезы говорила я, досадуя на себя за то, что глупым своим беспричинным плачем прервала ее пение. – Пойте! Пожалуйста, пойте дальше!.. Это так хорошо! Я ведь ничего!.. Только жаль!.. Старички эти бедные!
– Ах, ты дурочка маленькая! – удивилась еще больше мама.
Она села на диван, взяла меня к себе на колени и ласкала меня, улыбаясь и утешая тем, что «старичкам», напротив, очень весело – что они поют песни и пиво пьют из кружки.
Я уж и сама смеялась и только упрашивала маму продолжать. Но она сказала:
– Нет, на сегодня довольно с тебя! – и, обернувшись к Антонии, тихо прибавила: – Je vous demande un peu!.. Qu’en dites vous? Ce sont les nerfs, Dieu me pardonne!..[108]
Тут принесли несносные свечи, и, сколько я ни упрашивала, мама не стала больше петь в этот вечер.
Опять в Одессе
Еще снег не совсем стаял; была серая, мокрая, холодная весна, когда мама собралась ехать в Одессу. Мы: дети, обе гувернантки, Аннушка с Машей, даже повар Аксентий – все уезжали. Бедный папа опять оставался один со своим усатым денщиком Вороновым да толстой женой его Марьей. Но в то время я совсем его не жалела, радуясь, что еду в красивую Одессу, увижу опять море и, что в особенности меня занимало, увижу дом, где я родилась! Мне казалось, что этот дом никак не может быть обыкновенным домом; а непременно какой-нибудь особенный дом, от всех отличающийся.
– Почему же ты так думаешь? – удивленно спросила, услыхав от меня об этом, Антония.
– Как же! – отвечала я. – Да я ведь в нем родилась!
– Ну, так что же? – рассмеялась она, к моему большому смущению и досаде. – Ты что же за диво такое?.. Каждый человек родился в каком-нибудь доме, а дома-то все же оставались обыкновенными домами и нисколько не изменялись.
Такой взгляд на вещи меня озадачил, и я перестала говорить об этом доме, но все-таки, про себя, интересовалась им.
Когда пришлось расставаться, все были очень печальны, так что и я приуныла, глядя на бледную, больную маму и на встревоженное лицо папы, по которому одна за другой катились слезы: как он ни старался незаметно стряхнуть их, они скатывались по длинным усам его на грудь.
Одесса в XIX веке
Много дней мы тащились по холоду и грязи. Мама была печальна и больна, и всем нам было очень скучно. Я очень удивилась и огорчилась, в первый раз увидев море. По рассказам домашних, более чем по своим собственным воспоминаниям, я представляла себе море чем-то светлым, блестящим, чудно красивым; и вдруг увидала сквозь туман и дождь что-то такое мутное, серое, далеко разбегавшееся сердитыми, белыми волнами, которые сливались с таким же, как оно, взбудораженным тучами, темным небом.
– Что это такое? – огорченным голосом восклицала я, стоя у поднятого окна кареты, в которое хлестали ветер и дождь. – Разве такое море?.. Море голубое, светлое! Оно переливается и блестит на солнце, – а это?.. Шевелится себе какой-то грязный кисель. Вон: колышется, возится, ходит… Словно белые бараны по грязи бегают…
Мама засмеялась, тихонько потрепав меня по надутой щеке.
– Скажите, пожалуйста! – сказала она. – Тоже света и блеска захотела… Ах ты, поэтическая натура!.. Погоди: насмотришься, даст Бог, и на светлые дни… да не обойтись и без серых!.. Дай только тебе Бог поменьше их на своем веку видеть!..
Мама вздохнула, и я не посмела спросить ее, хотя не поняла ее слов. Антония тотчас ко мне наклонилась и тихонько начала объяснять, что море не всегда одинаково; что в первый же ясный, солнечный день я не узнаю его – такое оно будет яркое и красивое.
– Ты лучше сюда посмотри! – дернула меня за рукав Елена, смотревшая в другую сторону. – Вот и Одесса показалась. Видишь? Церкви, дома!
И мы занялись новым, красивым городом, многолюдными улицами, высокими домами.
Мама бедная так утомилась дорогой, что пролежала несколько дней по приезде. Скоро, однако, она почувствовала себя гораздо лучше и бодрее и встала. Мы с нею иногда гуляли и ездили кататься на берег моря, которое я действительно не узнала в первый же весенний денек.
У мамы в Одессе было много хороших знакомых. Больше всех я полюбила семейство Шемиот, старых приятельниц моих родных. Вся семья состояла из старушки матери и трех уже взрослых дочерей: Бетси, Женни и Евлалии. Они были удивительно милые, веселые и гостеприимные хозяйки и к тому же варили чудесные варенья, что немало способствовало моей личной приязни.
К нам также очень часто приходил один высокой старик, генерал Граве, с длинными-предлинными усами. Он был предобрый; всегда ласкал меня, называл своей невестой и рассказывал часто разные занимательные истории, пока я сидела у него на коленях и заплетала ему усы. Усы у него были необыкновенно длинные!
Он обещался непременно отрезать их и к Пасхе заказать из них парик мисс Долли – моей безносой кукле, чему я ужасно радовалась.
Раз Антония, войдя в комнату, увидала такую сцену: я примостилась на коленях генерала, заплела ему из усов косы и, сложив их в корзиночку, по тогдашней моде, приколола шпилькой, помирая со смеху над его прической!.. Он тоже смеялся моему веселью, но Антония не засмеялась.
– Что ты делаешь, Вера?.. – вскричала она в негодовании. – Большая семилетняя девочка садится на колени к гостям?.. Встань сейчас же, и чтоб этого никогда больше не было!
Я встала очень сконфуженная. Переконфузился и мой старичок, не зная, что ему делать: смеяться или расплетать свои усы?.. Наконец он сделал и то, и другое вместе и сказал:
– Вы, Антония Христиановна, уж слишком строги. У меня такие внучки есть, как Верочка.
Уходя поспешно из гостиной, я услыхала, что и Антония засмеялась и отвечала совсем не сердитым голосом:
– Извините меня, пожалуйста, генерал! Вас это, разумеется, не касается; но она – ребенок и не поймет разницы обращения с людьми… А между тем в этом именно возрасте и прививаются легче всего привычки. Ей таких фамильярностей позволять нельзя.
С этого дня я больше уж никогда не садилась на колени к мужчинам и не плела кос из усов.
В то же почти время мне еще раз крепко досталось от Антонии. И за дело! Вот что случилось.
Мои шалости и прегрешения
Были мы в гостях у Шемиот. Мама с Антонией, взяв нас с собою, оставили у них, а сами пошли с Бетси в лавки. Мы играли в разные игры, и наконец Лёля вздумала костюмироваться. Она сделала себе маску с бородой и надела капот старушки Шемиот; а меня Евлалия нарядила в рубашку и поддевку своего племянника. Я все смотрела в зеркало и объявила, что мне очень бы хотелось остаться так навсегда. Все нашли, что я – отличный мальчишка, и Евлалия с Женни решили не раздевать меня до прихода наших из лавок. Лёля же начала упрашивать их идти навстречу к ним, не раздевая меня.
– Как это будет весело! – кричала Лёля. – Мама ни за что ее не узнает! Пожалуйста, пожалуйста, пойдемте, душечки мои!
– Что же?.. Пожалуй, пойдемте, – отвечала Женни.
– Чтоб только мама ваша не рассердилась, – нерешительно переглянувшись со своей сестрой, заметила Евлалия.
– Ну, вот еще! Чего маме сердиться? – бойко возразила Лёля. – Она еще посмеется, что Верочка сделалась таким славным мальчиком.
– А Антония что скажет? – вопросила я со страхом, невольно вспоминая нотации о приличиях и укоры по поводу моего нескромного поведения.
– Что же Антония? Ничего она ровно не скажет!.. Важность какая! Отчего же не пошутить маленькой девочке?..
– А может быть, это неприлично, – важно сказала я.
Но тут все расхохотались над тем, что я говорю точно большая, расцеловали меня и повели с собою.
Сначала мне очень неловко было идти мальчишкой по улицам: мне все казалось, что все на меня смотрят и все узнают. Но мало-помалу я ободрилась, а когда мы пришли на бульвар и я встретила целую толпу детей, где много было знакомых, то я так разыгралась, что совершенно забыла о своем костюме, а Женни даже пришлось меня просить не входить так хорошо в роль мальчишки-шалуна. Евлалия с Лёлей пошли искать маму и Антонию в магазинах Пале-Рояля одни, потому что я ни за что не хотела прерывать своих игр. Вдруг кто-то из мальчиков сдернул у меня шапку и побежал. Я, разумеется, за ним, с полным намерением догнать и хорошенько отделать своего врага. Мальчик был старше меня и бежал скорее. Иногда он останавливался, чтоб подразнить меня, и снова бросался бежать с моей шапкой. Мне бы никогда не догнать его, если б какой-то встречный господин, желая, вероятно, услужить мне как меньшему и обиженному, не задержал его…
Запыхавшись, растрепанная и вся выпачканная в сыром песке, потому что только что упала на бегу, я добежала до барахтавшегося в руках господина мальчишки, с решительно поднятой рукой, готовясь ударить его изо всей силы, как вдруг надо мной раздались восклицания:
– Господи, помилуй!.. Да что же это такое?.. Ведь это Верочка!..
– Как Верочка?.. Где?..
Я окаменела… Руки у меня опустились, и, вся красная от усталости, гнева и стыда, я не смела взглянуть на стоявших предо мною маму и Антонию.
Они не встретились с Женни, не видали Елены с Евлалией и, ничего не зная, решительно не могли понять, что значит мое появление на бульваре в мальчишечьем костюме?..
Мой обидчик, воспользовавшись общим смятением и удивлением господина, заступившегося за мальчишку-буяна, вдруг оказавшегося барышней Верочкой, вырвался из рук его и убежал, бросив мою шапку на землю. Я все стояла молча, растерянным взглядом ища своих сообщниц, которых не было нигде видно. Наконец и Антония, и мама быстро подошли ко мне, приглядываясь, еще не веря своим глазам, и вопросы посыпались на меня как град.
– Откуда ты?.. Что это значит?.. Зачем ты так оделась?.. С кем ты пришла сюда?..
– Я… с Женни… с Евлалией и Лёлей… – чуть слышно отвечала я, едва сдерживая слезы.
– Да где же они?.. Зачем тебя одели мальчиком?..
– И привели сюда, – сердито прервала маму Антония. – На бульвар! И оставили тебя одну, и ты тут дерешься?..
– Оставьте ее!.. После! – тихо сказала ей мама и, взяв меня за руку, велела надеть свою шапку и, едва сдерживая улыбку, отвела в сторону от окружавшей нас публики.
Немного ободренная, я рассказала все последовательно и повела их к дальней скамейке, на которой отдыхала Женни Шемиот. Пока мы шли, мама смеялась и уговаривала Антонию не сердиться… Но, несмотря на мамины просьбы, Антония крепко побранилась за это с обеими сестрами; а уж мне с Лёлей и говорить нечего, как дома досталось. Кроме глупого, неприличного переодевания, я еще могла до того забыться, что без всякого стыда чуть-чуть не подралась с каким-то мальчишкой, на глазах у всех, среди бульвара!.. Я сама не могла понять, что это со мною сделалось?.. Очень долгое время потом я не могла вспоминать об этом ужасном происшествии иначе, как вся вспыхнув от стыда.
Как ни стыдно мне, но я должна сознаться здесь еще в одном своем великом прегрешении – гораздо худшем, чем эта шалость.
Раз мы пошли гулять, Лёля и я с мисс Джефферс. Ей понадобился замок; она повела нас в ряды и зашла в железную мелочную лавочку. Пока она выбирала замок, я с сестрой остановилась у дверей, где были поставлены ящики, а в них насыпаны гвозди, разных величин кольца и разные металлические мелочи. Между ними и увидали какие-то остренькие крючочки о двух концах, которые мне показались такими странными, что я спросила – на что они?
– Как?.. Ты не знаешь? Это же удочки, – объяснила мне Лёля. – Вот, которыми ловят рыб.
– Из моря? – спросила я.
– Из моря, из рек, – отовсюду. Вот, – как приедут сюда наши из Саратова, да поедем мы с бабочкой в ее деревню, которая здесь, близко, – помнишь, мама рассказывала?.. Там есть пруд, где много-много карасей. Мы тоже будем ловить их такими удочками.
– Да как же такими коротенькими?
– Глупости! Так ведь их же привязывают к длинному шнурку, а шнурок – к длинному-предлинному пруту. Тогда на крючок сажают приманку: говядины кусочек, мушку или червячка и закидывают крючок как можно дальше от берега. Вот рыбка завидит добычу на воде, а человека-то ей не видно. Подплывет она, схватится за нее, да сама, глупая, и попадется!.. Уж с этого крючка ей не уйти!.. Видишь, как он устроен?
Лёля показала мне устройство удочки и отошла; а я начала мечтать, как бы хорошо было, если б у меня была такая удочка. Я бы тоже ею рыбок ловила!.. Шнурочек и прут всегда можно найти, а вот удочки такой – сама не сделаешь!..
– Лёля! Как ты думаешь, сколько стоит такая удочка?
– О, вздор какой-нибудь! Я думаю их две или три на копейку дают.
– А у тебя нет копейки?
– Нет!.. Да на что тебе?.. Ведь мы еще в деревню не едем.
И она отошла.
«В деревню не едем!.. А разве здесь, в море нельзя ловить?.. Вот, должно быть, приятно поймать рыбку!.. Я бы так рада была!.. А вот одна удочка упала… На полу лежит. Что ж? Значит, я могу ее поднять?.. Все равно что нашла… Она все равно затеряется – такая маленькая… Упадет в щель – и пропадет! Непременно, непременно пропадет. Стоит ее немножко ногой толкнуть – и нет ее! Лучше ж я ее подыму… Их здесь такая гора! На что купцу эта одна, маленькая удочка?»
– Come, little ones! – услыхала я голос англичанки. – Пойдемте домой. Что вы там засмотрелись? Идемте, дети, пора.
– Сейчас! – вскричала я нагибаясь. – Я только поправлю ботинок.
Я пригнулась к полу, поправила обувь, которая в том совсем не нуждалась, захватила с полу крючочек и, сжав его в руке, вся красная, побежала вслед за сестрой и гувернанткой.
– Отчего ты такая красная? – удивилась сестра.
– Не знаю, – солгала я. – Мне жарко!
Но только что мы пришли домой, я сама себя выдала с головою. Совсем позабыв, что воры должны быть осторожны, размечтавшись о том, как я буду рыбу удить, я сейчас же бросилась хлопотать, чтоб достать длинный прут, веревочку, а главное – мастера, который бы мне устроил это орудие для будущего улова морских рыб.
«Надо попросить Аксентия! – думалось мне. – Он – повар! Он должен наверное уметь сделать удочки!»
Почему мне так казалось, что повар должен быть рыболовом? Сама не знаю!.. Но так я решила и тотчас хотела бежать на кухню. Но, на мою беду, увидала меня Антония.
– Vérà!.. Où courez vous ainsi?.. Куда это вы бежите в шляпке, совсем одетая?
– А в кухню! – ответила я весело, привыкнув всегда говорить правду.
– Зачем?.. Что вам делать на кухне?!
Я стала в тупик, сообразив, что сглупила, так как тут же была Лёля, да и мисс Джефферс остановилась в следующей комнате и вошла к нам, в то самое время, как я, путаясь и страшно краснея, объясняла свое намерение Антонии, а сестра смотрела на меня, улыбаясь и укоризненно качая головой.
– Удочку?.. На что тебе удочка? – говорила Антония. – И где ты взяла этот крючочек?.. Покажи. Им можно страшно наколоться!.. Кто тебе его дал?
– Никто не давал… я… я…
– Как же никто!?. Где же ты взяла его?
Тут подошла англичанка и подозрительно перекосила глаза на мою удочку, которую Антония рассматривала.
– What’s that? – спрашивала она.
– Это удочка, которую Вера принесла из лавок, – отвечала Лёля по-английски, улыбаясь.
– А fish-hook? – протянула та. – Откуда же она взяла удочку?..
– Я не знаю!.. Там, в лавке, много их было.
– Что ты говоришь, Лоло? – обратилась к ней Антония, не понимая.
Но я вдруг рассердилась, ожидая, что Лёля скажет и ей, откуда у меня этот противный крючочек, и поспешила сказать, что я его подняла – нашла на земле.
– На земле?.. На улице? – строго переспросила Антония.
– Нет! – прошептала я чуть слышно. – В лавке!
– Oh! For shame! – вскричала мисс. – Скажите же, Miss Lolo, скажите, что там в лавке продавались такие крючки, и что эта негодница (this wretched little thing) просто его украла!
При этом слове – впервые прямо назвавшем мне, что я действительно сделала, – я так и залилась слезами, бросившись лицом в колени своей Антонечки. Я знала, какой ужасный грех и стыд – воровство, и теперь искренно была убеждена, что погибла!.. Антония меня не утешала. Напротив – она очень строго и сурово меня пристыдила и, чтобы навеки запечатлеть в моей памяти раскаяние в моем постыдном поступке, она решила, что я сейчас же возвращусь обратно в лавку и отдам сама эту злополучную удочку продавцу, извинившись в своем «воровстве»…
Ох!.. Вот этот эпилог моего преступления был долго ужаснейшим воспоминанием моего детства!.. Но зато он навеки, с корнем вырвал из меня малейшее поползновение покушаться на чужую собственность, будь то простая булавка.
О, Господи! И поныне не забыла я насмешливо-жалостливой усмешки, с которой на меня глядел старик-еврей, продавец железных изделий, пока я ему объясняла свой казус: «Не знаю-де, как это случилось, что я занесла удочку… Вероятно, за рукав мой она зацепилась!..»
И представьте себе мой стыд, когда беспощадная мисс Джефферс, поняв мою хитрость, перебила меня восклицаниями.
– O, no! O, no! It was not so! – опровергала она решительно мои показания. – Это не так было! Не лгите, мисс Вера!.. Это еще стыднее: красть и потом лгать!.. Ай-ай! Какой стыд!..
Да! Это был действительно ужасный и – слава Богу – единственный стыд такого рода в моем детстве. Никогда я более не совершала такого великого греха.
И радость, и горе
Через месяц или два по приезде в Одессу мама объявила нам, что к нам сюда едут из Саратова все наши родные. Уж какая это была радость – я и сказать не могу! Наша бедная, дорогая мама, которая все это время то оправлялась, то вдруг опять заболевала, разом ожила и повеселела. В свои хорошие дни она хлопотала, искала квартиру, где бы папе большому, бабочке и всем было просторно и удобно поместиться. Такое помещение наконец нашлось, немного далеко, правда, но мама была этому рада: подальше от пыли, от стука экипажей и шума. При этой квартире был, уж не помню, сад ли, или просто двор засаженный, но только оттуда был вид на море, которое все больше и больше мне нравилось. Я ужасно любила смотреть на суда, на лодки, качавшиеся по волнам, быстро их рассекая; на многоэтажные белокрылые паруса барок, надутые ветром как пузыри, и особенно на красивые пароходы, за которыми расстилались два хвоста: сверху, по воздуху, – черный дым, а внизу, на волнах, – белая пена от колес, расходившаяся серебристым кружевом и брызгами. А в темные вечера за пароходами расстилались огненные хвосты искр, и все они светились яркими, разноцветными огнями люков и фонарей, красиво отражавшихся в темном море… Чего только, каких сказок не сочиняла я самой себе, любуясь этим зрелищем!
«Cемейная картина».
Художник Ф. Славянский. 1851 г.
Болезнь мамы редко теперь позволяла Антонии оставлять ее, но иногда она приходила посидеть со мною, полюбоваться морем, и тогда я по старой памяти засыпала ее вопросами. Предметов разговора было множество! И солнце, спускавшееся к золотисто-красным облакам, уходившее за море, им же окрашенное в пурпур и золото. И светлый месяц, который то серебрил все море, рассыпая по мелкой ряби свои лучи, то одним цельным блиставшим столбом падал в глубь, перерезав всю бухту. И небо, и земля, и море, – все меня окружавшее неустанно задавало мне тьму вопросов, за решением которых я привыкла обращаться к Антонии. Иногда она беседовала со мной охотно; но чаще слушала рассеянно, глубоко задумываясь, и не раз я ловила ее слезы, как незаметно ни старалась она отереть их…
– Pourquoi pleurez-vous, Antonie?..[109] – спрашивала я иногда и тут же сама отвечала: – Знаю! Вы плачете, потому что мама больна.
И самой мне становилось так тяжело на сердце, и я начинала вместе с нею плакать…
Обнимет она меня, бывало, крепко-крепко и скажет:
– Oh! Que je voudrais que votre grand-maman vienne plus vite!..[110]
Я сама хотела этого!.. Мы все, начиная с мамы, ждали и дождаться не могли приезда милой, дорогой бабушки. Нам всем казалось, что с приездом родных все поправится и мама скорей выздоровеет.
Глядя на нее, как она со всяким днем менялась, худела и ослабевала, я часто задумывалась и хоть не имела никакого ясного понятия о смерти, но безотчетно пугалась и плакала. Раз, когда целый день мы не видали мамы, я села у дверей ее комнаты и не хотела ни обедать, ни чай пить, ни идти спать, пока меня не впустили посмотреть на нее. Она лежала бледная, слабая в постели, но улыбнулась мне и притянула к себе. Расцеловав ее, я улеглась в ногах на ее кровати и так и заснула…
Чаще и чаще приходили такие дни, что нас не пускали в комнату мамы, а она давно сама из нее не выходила. Мы видели докторов, проходивших к ней и выходивших от нее с серьезными лицами. Мы жадно прислушивались к говору домашних, но все умолкали, завидев нас, а мы, как настоящие дети, часто развлекались и забывали горе и страх за нашу маму.
И вдруг, в один чудесный весенний день, приехали наши давно жданные, дорогие родные, и маме сделалось в самом деле гораздо лучше. То-то были радость и счастье! То-то наступили ясные, безмятежные дни! Эта счастливая весна и до сих пор вспоминается мне таким радостным золотым временем моего раннего детства, какого я никогда уж более не переживала!.. Словно этот цветущий, яркий май был дан нам в последнее воспоминание о счастливой жизни нашей с мамой. Ей стало так хорошо, что все за нее успокоились, даже большие; нашему же детскому счастью и пределов не было. Я постоянно торжествовала! С утра просыпалась я с мыслью о своем счастье; о том, что здесь, со мною все те, кого я люблю, – особенно моя добрая, несравненная моя баловница, бабочка, – и день мой весь проходил в беспрерывном веселье.
Об уроках не было и помину! Бабочка как приехала, сейчас объявила, что летом уроков не бывает. День наш начинался играми в саду, прогулками на бульвар, на берег моря или в лавки, откуда мы возвращались всегда с игрушками и лакомствами – совсем как в Саратове! Почти всякий день мы ездили купаться, и я с этих пор полюбила купанье в море больше всех других удовольствий. Как весело бывало лежать у самого берега на мокром песке и собирать раковины и пестрые камушки в ожидании, что вот-вот прихлынет прозрачная, кипучая волна, приподымет легонько и отбросит на два-три шага вперед, залив все белой шипучей пеной. Отхлынет бурливая волна, вскочишь и бежишь за нею по открытому берегу и снова ложишься и ждешь, замирая, нового прибоя, с ужасом оглядываясь на подступающий грозно вал, хотя прекрасно знаешь, что он не потопит, а только оторвет от земли и мягко отнесет на прежнее место. А сколько бывало волнений и страхов! То поймаешь блестящий морской кисель, прозрачный, как стекло; то попадется зеленая креветка; а то вдруг померещится поблизости морской рак или черная безобразно распластанная каракатица!.. Тут-то подымутся шум, крик!.. Конца нет смеху и шалостям.
Я была ужасная трусиха: не могла видеть, когда бабушка или тети отплывали далеко… А они очень любили плавать и плавали отлично и смело. Надя взялась было учить и нас. С Лёлей уроки шли превосходно; но я и слышать не хотела!.. Мне несравненно больше нравилось плавать по-своему: лежа у бережка, держась за землю, ждать прибоя.
Я столько собирала «драгоценностей» на дне морском, что у меня дома были целые коллекции ракушек, трав и разноцветных камней.
Вернешься, бывало, с купанья усталая, но такая сильная и здоровая, что чудо! На балконе или в нашем большом светлом зале накрыт уже чайный стол. Мама сидит в большом кресле, издали улыбается и расспрашивает: «Как гуляли? Кого видели? Хорошо ли купались?..»
Весело болтая, напьешься чаю; а там присядешь на колени к бабушке и, несмотря на восклицания Антонии, что это стыдно, что бабушке тяжело, – так славно, уютно примостишься к ней; так сладко задремлешь, положив голову на плечо ее, под нежную ее, ласкающую руку, прислушиваясь к ее речам.
– Вот, как поправится мама, – тихо рассказывает бабушка, – мы все поедем ко мне в деревню – недалеко отсюда. Поживем там немножко; будем ловить в пруду карасей, собирать клубнику, варенья наварим… А там, даст Бог, мама совсем выздоровеет, и поедем мы все назад в Саратов! Дача наша милая уж давно нас ожидает!.. А девочки-то наши знакомые: Клава Гречинская, Катя Полянская – как обрадуются тебе! Прибегут навстречу, принесут все свои куклы! Вот будет всем вам веселье!
Слушаешь, бывало, в сладкой дремоте эти рассказы и не знаешь, точно ли это говорит милая бабушка, или снятся такие славные, золотые сны?
И точно, дети, это счастливое время, данное нам Богом пред величайшим несчастьем, пред вечной разлукой с дорогою нашей матерью, было похоже на сон и в моей памяти так и осталось навеки золотым, волшебным сном, который закончил мое раннее детство…
Теперь вы знаете, что было, когда я была совсем маленькой… В другой книге я расскажу и о том, что было со мной дальше, когда я стала постарше и поумнее, чем в эти ранние, счастливые года золотого детства. Я думаю, что читать правду, как и рассказывать ее, занимательнее, чем слушать вымысел; а потому и надеюсь, что не надоем вам своими невыдуманными воспоминаниями.
Примечания
1
Нечто (фр.).
(обратно)2
Опасно слишком предаваться очарованиям дружбы, ибо она отбивает вкус к общению с другими людьми (фр.).
(обратно)3
Излить чувствительное сердце можно лишь на груди подруги, той же чувствительностью охваченной (фр.).
(обратно)4
Иммортель – бессмертник, растение с сухими лепестками.
(обратно)5
Высший свет (фр.).
(обратно)6
У меня с ним одни вкусы. Все мое счастье
В любезном разговоре с ним.
Когда он танцует – и я бы танцевала,
В разлуке с ним мне ничто не мило (фр.).
(обратно)7
Именно в дни скорби ищет душа успокоения, изливаясь душе друга с той доверчивой откровенностью, которая присуща дружбе. Те, кто полагает, будто дозволено из деликатности таить свои горести от тех, кого любишь, оскорбляют дружбу, ибо самое пленительное ее свойство – брать на себя горести друга и разделять его радости. Не любит или не уважает своего друга тот, кто отнимает у него право чувствовать все то, что испытывает он (фр.).
(обратно)8
Когда души понимают друг друга, умы могут быть и не схожи; мы, быть может, более любим того, кто отличается от нас. Нет необходимости в полном подобии характеров, если основа чувств одна и та же (фр.).
(обратно)9
Амур, ты ранишь в одно мгновенье, ты медленно исцеляешь душу, которой коснулся! (фр.)
(обратно)10
О небо, какое драгоценное благо – время. Оно истребляет все, и одна только любовь властна над ним (фр.).
(обратно)11
Дружба, сколько в тебе очарованья! Блажен, кто внушает это чувство, еще блаженнее тот, кто его испытывает (фр.).
(обратно)12
Как счастливы те, чьи чувства согласны с добродетелью и кого не омрачают угрызения совести (фр.).
(обратно)13
Дни следуют друг за другом, но не схожи между собой (фр.).
(обратно)14
Душа есть некий фокус, от которого во все стороны расходятся лучи света. В этом фокусе и сосредоточено бытие человека. Все наблюдения и все философии должны обращаться к этому «я», вместилищу и образу наших чувствований и наших идей. Разумеется, бедность нашего языка вынуждает нас пользоваться неверными выражениями и повторять вслед за другими: такой-то умен, или чувствителен, или обладает воображением и т. д. Но если бы люди захотели понимать друг друга с первого слова, достаточно было бы сказать: в нем есть душа, у него много души. Вот это-то дуновение и выражает собой всего человека (фр.).
(обратно)15
То, что происходит в тайниках души, более научает нас любить, нежели самая искусная метафизика… Предпочитая кого-либо всем другим, мы исходим отнюдь не из того или иного его достоинства, и все любовные вирши выражают великую философскую истину, всячески повторяя, что любят за «нечто неизъяснимое». Это «нечто» – та целостность, та гармония, которая предстает нам через любовь, через восхищение, через все те чувства, кои открывают нам в сердце другого самую глубину его, внутреннюю его сущность (фр.).
(обратно)16
Бог создал сладостную мечту
Для счастливых безумцев юных лет,
Для старых безумцев – честолюбие
И науку – для мудрецов (фр.).
(обратно)17
Написано П. Керном. (Примеч. А. П. Керн.)
(обратно)18
Тоже. (Примеч. А. П. Керн.)
(обратно)19
Написано Е. Ф. Керном. (Примеч. А. П. Керн.)
(обратно)20
Как медлит прийти счастье,
Как быстро счастье пролетает (фр.).
(обратно)21
Отсутствующие всегда неправы (фр.). Здесь по смыслу близко к русской поговорке: «С глаз долой – из сердца вон».
(обратно)22
Невежество в праздных людях столько же доказывает сухость души, сколько и легкомыслие ума. Подобный мужчина не заслуживает со стороны рассудительной женщины никакой привязанности (фр.).
(обратно)23
Люди холодные и себялюбивые находят особое удовольствие в том, что высмеивают чувство страстной привязанности и готовы объявить неестественным все, чего сами не испытывают (Сталь) (фр.).
(обратно)24
Когда мы устрашены мраком ночи, нас часто пугают не опасности, коими она подстерегает нас, а ее соприкосновенность всякого рода утратам и страданиям, коими она в нас проникает. Солнце же, напротив, есть как бы эманация божества, как бы сияющий провозвестник услышанной молитвы, лучи его нисходят на землю не для того только, чтобы сопутствовать человеку в его трудах, но чтобы изъяснить природе свою любовь (фр.).
(обратно)25
Цветы поворачиваются к свету, чтобы принять его в себя: они закрываются на ночь, а утром и вечером своим ароматом словно выдыхают хвалебные гимны. Когда цветы растят в темноте, они утрачивают присущую им яркость красок; но стоит их вынести на свет, как солнце отражает в них, словно в радуге, многоцветные лучи свои, и кажется, будто оно горделиво любуется собой в той красоте, коей их украсило (фр.).
(обратно)26
Лессинг написал о франкмасонстве Диалог, в котором светлый его ум обнаруживается в высшей степени. Он утверждает, что содружество это имеет целью объединить людей, вопреки тем преградам, что установлены обществом; ибо если общество и образует некую связь между людьми, подчиняя их власти законов, оно же их и разъединяет, благодаря различиям в общественном положении и месту в управлении. Идея братства, этого подлинного образа Золотого века, в франкмасонстве слилась со многими другими идеями, столь же благими и нравственными. Нельзя закрывать глаза на то, что по самой своей природе тайные содружества влекут умы к независимости; однако они весьма способствуют и развитию просвещения, ибо все то, что люди делают по собственной воле и без принуждения, сообщает их суждениям большую силу и широту (фр.).
(обратно)27
Из всех чувствований энтузиазм доставляет нам наибольшее счастье, действительно подлинное счастье, то единственное счастье, которое способно заставить нас переносить человеческую жизнь во всех тех положениях, в которые может поставить нас судьба (фр.).
(обратно)28
Возможно ли людям общаться с природой без энтузиазма? Разве могли бы они поведать ей о своих холодных расчетах, о жалких своих желаниях? Как откликнулись бы море и звезды на мелкие, ежедневные дела, на суетные стремления каждого человека? Но если душа ваша взволнована, если она ищет во вселенной некое божество, пусть даже алкает она славы и любви – с ней говорят облака, ей внемлют бурные потоки, и кажется, будто ветерок, пробегая по вереску, благосклонно шепчет вам что-то о вашем любимом (фр.).
(обратно)29
Какого только очарования не заимствует язык любви у поэзии и изящных искусств! Сколь это прекрасно – любить и сердцем и мыслью! Варьировать таким образом, на тысячу ладов, чувство, могущее быть выраженным всего одним словом, но для выражения коего все слова на свете кажутся бедными! Проникаться совершеннейшими созданиями воображения, кои вдохновлены были любовью, и в чудесах природы и человеческого гения находить новые выражения, дабы раскрывать собственное сердце (фр.).
(обратно)30
Именно в браке чувствительность сердца является необходимостью; во всех других человеческих отношениях можно удовольствоваться одной добродетелью; но в браке, где судьбы тесно переплетены друг с другом, где два сердца бьются, так сказать, единым порывом, глубокая привязанность есть условие почти обязательное (фр.).
(обратно)31
Одной бороться с судьбой, все ближе подвигаясь к могиле, и не иметь подле себя друга, который поддерживал бы вас, который бы вас пожалел, – это такое одиночество, что даже одиночество в Аравийской пустыне может дать о нем лишь слабое представление. И когда оказывается, что все сокровища вашей юности растрачены понапрасну… вам представляется, будто вас лишили даров божьих на земле (Сталь) (фр.).
(обратно)32
О, сколь сладостны заблуждения любви! Льстивые слова ее в некотором смысле правдивы; разум здесь молчит, но говорит сердце. Влюбленный, восхваляющий в нас несуществующие совершенства, в самом деле видит их такими, какими он их себе воображает. Он не лжет, изрекая ложь. Он льстит не из раболепия, и если ему и нельзя верить, то, по крайней мере, его можно уважать (фр.).
(обратно)33
Терпение горько, но плод его сладок (фр.).
(обратно)34
Сбывшаяся надежда бывает омрачена долгим ожиданием (фр.).
(обратно)35
Я так тебя люблю (фр.).
(обратно)36
– Что это за маленькие белые перья?
– Это снег, дитя мое.
– Откуда он?
– С неба, дитя мое, как и все, что есть на Земле (фр.).
(обратно)37
Иди играй со своим мячом, это тебя не касается (фр.).
(обратно)38
«A как ее зовут?» – «Александра Осиповна». – «Так это дочь моего лучшего друга, шевалье де Россет! Я хочу ее видеть» (фр.).
(обратно)39
Мои дорогие друзья, ваш отец был гений, обладавший самыми лучшими душевными качествами, прочным и разносторонним образованием. Без него мы никогда не взяли бы Очаков. Суворов не любил иностранцев и не дал оценить его по заслугам. За взятие Очакова он получил на шею орден св. Духа, осыпанный бриллиантами на голубой георгиевской ленте, золотую очаковскую медаль и шесть тысяч десятин земли… (фр.)
(обратно)40
«Дорогой герцог! Вы знаете, как меня мучит совесть. Юг России достался мне от нее в наследство; этот край богат зерном, но помещики видят, как гниет их урожай, не имея возможности вывезти его. Я даю вам полную власть и прошу вас возможно скорее установить регулярные сношения между Малороссией, Турцией и портами Средиземного моря». – «Государь, – отвечал герцог Ришелье, – я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие, прошу вас лишь об одном условии: я никогда не обнажу свою шпагу против француза». – «Тогда идите, дорогой герцог, я знаю вас» (фр.).
(обратно)41
Шевалье де Россет насчитал сейчас двести пятьдесят кораблей в одесском рейде, а население достигало 40 000 (фр.).
(обратно)42
Груши дюшес (фр.).
(обратно)43
С изображением (фр.).
(обратно)44
Я знала вашу мать. Мы были в Одессе, вся наша семья и Изабелла Валевская, жена Сергея Гагарина, которую вы хорошо знаете. Герцог Ришелье пригласил нас на вечер, предупредив, что мы увидим самую красивую и милую женщину в мире. Когда ваша мать взошла, в обществе произошло движение. На ней было белое платье из индийского муслина. Ее черные волосы были причесаны à la Titus и стянуты красным шерстяным шнурком. Единственным ее украшением были круглые серьги с маленьким бриллиантом-застежкой; линии ее неподвижных рук были восхитительны. Следом за ней шел красивый старик в завитом парике. Герцог нам ее представил, она поздоровалась и отвечала смущенно и очень просто; она и не подозревала о своей красоте. Герцог был привязан к ней как отец и радовался ее успеху. Знаете ли вы, моя дорогая, что когда она овдовела, а в Одессу приехал Киселев, посланный императором, чтобы сопровождать герцога в Петербург, он до безумия влюбился и просил ее руки, но она ему отказала. Киселев – человек высоких достоинств, она была бы очень счастлива с ним (фр.).
(обратно)45
Княгиня, вы очень красивы, ваша мать была красивее вас, а ваша бабушка была самой красивой из всех женщин, каких я видел (фр.).
(обратно)46
Я первый владею этой землей и я нарекаю ее именем нашего общего предка (фр.).
(обратно)47
Вы видите, мадам, что мои маленькие ученики делают мне честь (фр.).
(обратно)48
Ваше высокопревосходительство Doria, вижу, что нужно разбить этих скотов турков (ит.).
(обратно)49
«Когда вы видели Антонио Рицци?..» – «Он был вчера и жаловался на головную боль; он сидел в этом кресле». – «Велите его скорее унести, дорогая мадам, он ночью оперировал чумного, порезался и сегодня утром скончался; только бы нам не понести еще потери. Моя милая Сашенька, твоя кормилица тоже умерла от чумы». – «Ришенька, я не любила свою кормилицу, не знаю отчего, а потом мама мне сказала, что евреи распяли Иисуса Христа, а это большой грех, и я о ней не сожалею» (фр.).
(обратно)50
Ты мой друг, мое самое любимое дитя, обещай мне заботиться о твоих братьях, давать им добрые советы. Я не тревожусь за ваше будущее: герцог обещал мне представить вас императору и его благодетельнице-матери, ты будешь воспитываться в каком-нибудь институте, а твои братья в кадетском корпусе. С хорошим образованием можно быть уверенным, что всегда проложишь себе путь в бескрайном человеческом мире. Что касается вашего состояния, то оно поручено герцогу и вашему дяде Дмитрию (фр.).
(обратно)51
Обещайте мне, милая мадемуазель Шредер, никогда не покидать дорогих детей. У их матери слишком много важных дел, чтобы она могла отдаться их воспитанию. Она слишком любила своего мужа и слишком любит своих детей, чтобы снова выйти замуж (фр.).
(обратно)52
«Ришенька, женитесь на маменьке, и мы поедем с вами в Париж». – «Это невозможно, мое дорогое дитя. Ваша матушка должна остаться, чтобы уладить свои дела и окончить свой процесс с Капниси. Чтобы руководить ею, я даю ей прекрасного Дубнецкого из Харькова, а для домашних дел этого доброго…» (фр.).
(обратно)53
Боже, помилуй наших детей! (нем.)
(обратно)54
У турков – сундук, у нас – анбар. Сундук мы тоже у турков позаимствовали. (Примеч. автора.)
(обратно)55
Тунца (фр.).
(обратно)56
Морской тунец – деликатес во Франции (фр.).
(обратно)57
Прошу вас (нем.).
(обратно)58
Картофельный салат с селедкой и гренки (нем.).
(обратно)59
Это хорошо против кашля (нем.).
(обратно)60
«Если император не повысит мне жалованье, я не буду кормить этих каналий котлетами» (фр.).
(обратно)61
«Как что я делаю, сударь? У вас очень плохая память; я крайне недоволен беспорядком, который нашел здесь, и назначу другого генерал-губернатора» (фр.).
(обратно)62
Хромой черт (фр.).
(обратно)63
«Я хочу к бабушке. Я не хочу видеть этого человека». – «Да, малыш, вы поедете к бабушке» (фр.).
(обратно)64
В тени дома (ит.).
(обратно)65
Боже мой, у нее будет солнечный удар! (нем.)
(обратно)66
Коровяк (лат.).
(обратно)67
Ворсянка лесная (лат.).
(обратно)68
Алтей, пустырник сердечный, хатьма тюрингенская, мелколепестник, камфора, чертополох (лат.).
(обратно)69
«Мой милый шевалье, я очень сожалею, что втянул вас тоже в эту спекуляцию. Этот ненасытный Наполеон наложил эмбарго на ваши корабли, только при государственном перевороте вы сможете вернуть ваш капитал». – «Дорогой Дюк, я пригласил Лоде и Сикара присоединиться ко мне, они беднее меня, мы должны понести убытки сообща». Герцог, обнимая его, сказал: «Я знал, кому доверял» (фр.).
(обратно)70
Стесняло (от фр. gêner – стеснять).
(обратно)71
Мешок для защиты от комаров.
(обратно)72
От фр. flatter – льстить.
(обратно)73
Человек предполагает, а Бог располагает (фр.).
(обратно)74
Ноктюрны (фр.).
(обратно)75
Она совершенно права (фр.).
(обратно)76
От фр. profiter – извлекать пользу.
(обратно)77
Отче наш (нем.).
(обратно)78
Букв.: грязная собака (или: грязная скотина) (фр.).
(обратно)79
Во главе стола (фр.).
(обратно)80
Так проходит слава мира (лат.).
(обратно)81
Две голубки (фр.).
(обратно)82
Хотите ли о чем-либо просить меня? (фр.)
(обратно)83
Вы подготовлены, мои маленькие молодые люди, я надеюсь, что вы будете достойными офицерами и с усердием послужите своему отечеству (фр.).
(обратно)84
Позолоченное серебро (фр.).
(обратно)85
Коммунар (фр.).
(обратно)86
Мулатка (фр.).
(обратно)87
Головоломка (фр.).
(обратно)88
Милый друг (фр.).
(обратно)89
Кто хочет всё, тот ничего не получит (фр.).
(обратно)90
Вера, что вы там делаете! Приходите, я приготовила для вас ужин (фр.).
(обратно)91
Книга… Цветок… Стул… Стол… (англ.)
(обратно)92
Этот маленький раб (фр.).
(обратно)93
Нос!.. Рот!.. Глаза!.. Подбородок!.. (англ.)
(обратно)94
О! Шаловливая девчонка!.. (англ.)
(обратно)95
О! Стыдно, мисс Лоло! О, как ужасно!.. (англ.)
(обратно)96
Что-что насчет мисс?.. (англ.)
(обратно)97
Прелестные английские песни (англ.).
(обратно)98
Иди сюда! Где ты? (фр.)
(обратно)99
Что он сказал? (фр.)
(обратно)100
Иди в свою комнату, скверная девчонка! (фр.)
(обратно)101
Это жестоко, так обращаться с маленьким братом из-за игрушки! (фр.)
(обратно)102
Это хорошо! (фр.)
(обратно)103
Гадкая дьяволица! (фр.)
(обратно)104
Фи! Что за гадкое слово! (фр.)
(обратно)105
Где ты это услышала? (фр.)
(обратно)106
Мой милый друг (фр.).
(обратно)107
А. С. Пушкин. «Зимний вечер».
(обратно)108
Я попрошу вас немного!.. Что скажете? Это нервы, прости меня Господи!.. (фр.)
(обратно)109
Почему вы плачете, Антония?.. (фр.)
(обратно)110
О! Я хочу, чтобы ваша бабушка быстрее приехала!.. (фр.)
(обратно)


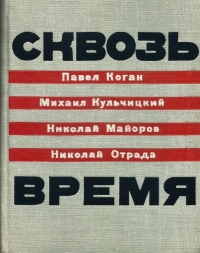
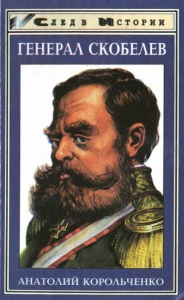

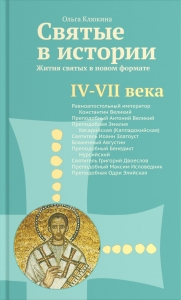


Комментарии к книге «Быть дворянкой. Жизнь высшего светского общества», Елена Владимировна Первушина
Всего 0 комментариев