Франсин дю Плесси Грей Они: воспоминания о родителях
Посвящается им – с тоской и любовью
Francine du Plessix Gray
Them
A Memoir of Parents
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Janklow & Nesbit Associates и Prava I Prevodi International Literary Agency.
Автор идеи и составитель серии “На последнем дыхании” Сергей Николаевич
Художественное оформление Андрей Бондаренко
В книге представлены фото из семейного архива автора, Владимира Сычева, Людмилы Штерн, архивов Государственного музея В.В. Маяковского (Москва) и фотоагентства “Восток-Медиа” (-photo.com).
© Francine du Plessix Gray, 2005
© Д. Горянина, перевод на русский язык, 2016
© С. Николаевич, послесловие, 2017
© Nancy Crampton, фотография автора на обложке
© Государственный музей В. В. Маяковского.
© А. Бондаренко, художественное оформление, 2017
© ООО “Издательство ACT”, 2017
От автора
Мне снятся очень яркие сны. Десять лет назад[1], в четвертую годовщину смерти мамы, я увидела особенно впечатляющий сон.
Снилось мне, что я живу одна в простом деревенском домике на холме, из окон моих открывается вид на долину. Внезапно я получаю письмо: мама требует переехать к ней – на холм напротив под названием Атланта. (О, причуды подсознания! Заменив пару букв, из этого слова легко сложить мамино имя – Татьяна.) Я сержусь, мне не хочется ей подчиняться, – и пишу в ответ: “Мне и тут хорошо живется. Я к тебе не поеду!”
Тогда мама приходит ко мне сама. Во сне она совсем не похожа на высокую величественную даму, которую я помню. Напротив, это сухонькая улыбчивая старушка, вся в черном и в скромной черной шляпке с вуалью в мушку. Я никогда не видела ее такой счастливой – она стоит на пороге, не желая входить, сияет от удовольствия и шлет мне воздушные поцелуи, а я улыбаюсь и машу ей в ответ. Нам обеим хорошо, мы рады друг другу и в этот момент ближе, чем когда-либо были на самом деле.
Проснувшись тогда, в 1995-м, я уже знала, к чему этот сон: пришла пора поговорить с мамой. Как это часто бывает в общении с родителями, наш разговор мог состояться только письменно, при жизни мы с ней никогда так не говорили. Моя блистательная мать – законодательница мод своего поколения, превратившая всю свою жизнь в ослепительный спектакль и вскружившая немало голов, – не слишком-то любила разговоры. Татьяна Яковлева дю Плесси Либерман заявляла, а не советовалась, провозглашала, а не беседовала, диктовала, а не убеждала. Пережитые потрясения – русская революция, Вторая мировая война – оставили в ее душе раны, которых она старалась не касаться и никогда не выставляла напоказ. Когда я написала первый текст о ней – он вышел в журнале The New Yorker под заголовком “История модницы”[2] и отчасти входит в эту книгу, – я поняла, почему многие писатели обращались в творчестве к истории своей семьи. Будь вы Колетт[3], Владимир Набоков, Майя Анжелу[4] или Гарольд Николсон[5] – проникая в молчание родителей, распутывая паутину недомолвок, за которой они скрывали правду о себе, а порой и о вас, – вы не просто возвращаете к жизни своих близких, но зачастую яснее начинаете понимать себя и свое прошлое. Никакая другая литературная форма вам этого не даст.
Я понимала, что эти сорок страниц о матери как иконе моды – зародыш книги, которую я когда-нибудь обязательно напишу. Но я также понимала, что нельзя рассказать о жизни Татьяны без истории ее спутника – моего отчима, легендарного волшебника издательского дела Александра Либермана, пережившего ее на семь лет. Написать же правдиво о ком-либо, кто еще жив, – совершенно утопическая задача. Поэтому я тянула время и писала биографии персонажей, во многом таких же необычных, как мои родители: маркиза де Сада и Симоны Вейль[6]. Намеченные мемуары стали очень далекой целью. Лишь в 2001 году, через год после кончины моего любимого отчима, плач по ушедшим родителям перешел в стадию, которая позволила мне написать эту книгу.
Мои родители, Татьяна и Александр Либерманы, были очень непростыми людьми. Глубоко замкнутые по своей сути, они вместе с тем наслаждались всеобщим вниманием и с гордостью блистали на страницах самых известных светских журналов, которые взахлеб писали об их роскошной жизни, модных интерьерах и пересказывали их тонкие остроты. Вспоминая, как тщательно родители собирали памятные документы о своей жизни, я понимаю, что им всегда хотелось иметь своего биографа. Кроме свидетельств о смерти или заключении брака и тысячи их фотографий в моем архиве сейчас хранятся такие неожиданные вещи, как документ об обрезании отчима, подписанный в 1912 году главным раввином Киева; письма, которые он писал в девять лет семье из частной школы в Великобритании; табели из французского пансиона, переписка его родителей 1920-х годов, романтические письма маме и ее не менее страстные ответы 1930-х годов, нансеновский паспорт, с которым он уехал в Америку в 1941 году, свидетельство о натурализации в США, заказ на ремешок для маминых часов (когда он возглавлял издательский дом Condé Nast, то заказал дюжину позолоченных кожаных ремешков, и она носила их десятилетиями). Среди маминых документов – ее паспорта начиная с 1920-х годов: русский, французский, американский; больничный лист 1890-х, выданный ее деду по материнской линии, главному директору Мариинского императорского балета в ее родном Санкт-Петербурге; коллекция документов, связанных с ее дядей, выдающимся художником и путешественником Александром Яковлевым, которому посвящена вторая глава этой книги; любовные письма от великого русского поэта Владимира Маяковского (для которого Татьяна была одной из двух главных муз) – я привожу их в третьей и четвертой главах; чуть ли не все мои послания из лагерей, школ или путешествий, Ausweis – удостоверение, позволившее нам покинуть оккупированную Францию во второй половине 1940 года. Складывается впечатление, что родители намеренно собирали декорации, реквизит, а также объективные свидетельства своей жизни – всё, что могло бы понадобиться биографу для создания живого портрета.
Я намеренно делаю ударение на слове “объективные”. Несмотря на то, что жизнь этой влиятельной пары эмигрантов в Нью-Йорке во многом являлась достоянием общественности, они тщательно оберегали частную составляющую этой жизни – тем более что в последние десятилетия обращенный к публике фасад строился исключительно на обмане и лести. Каждый из них видел свою будущую биографию по-своему. Отчим, одержимый контролем над всем и вся, хотел, чтобы ее подготовили пока он жив и чтобы автором была не я. Мама же, наоборот, мечтала, чтобы биографию написала я и непременно после ее смерти. Только благодаря тому, что последние полвека я веду дневник, у меня есть возможность выполнить ее желание, а заодно разорвать ту паутину недосказанностей, которой мои родители оплели себя в последние годы. Постепенно болезни и зависимости подточили их здоровье, и я стала чувствовать себя обязанной записывать каждое их слово, каждый жест. Эти записи теперь помогают восстановить в памяти события тех безумных лет.
На самом деле я дитя трех необыкновенных личностей. Последние свои работы я посвящала родному отцу, герою “Свободной Франции”[7] Бертрану дю Плесси, чья смерть во Вторую мировую войну стала главной трагедией моей юности. Однако мне всегда казалось, что его портрет будет неполным, если не поместить его в контекст судьбы двух других моих родителей – Татьяны и Александра, в жизни которых он сыграл важную роль. Только закончив эту книгу, я с грустью поняла, что теперь он наконец покоится с миром.
Но главная муза этого повествования – моя мать. Когда я отдала книгу издателям, она снова мне приснилась. Во сне я стояла перед своим домом, новеньким домом из темно-серого камня. Ко мне подошла мама – снова куда более кроткая, чем при жизни, совсем не похожая на себя: крепко сбитая черноволосая женщина средних лет, выглядевшая по-азиатски и широко улыбавшаяся. Подойдя к двери, она опустилась на колени, говоря, что рада навестить меня, – мое приглашение для нее большая честь. Я присела рядом и поблагодарила ее, сказав, как тронул меня ее приход. Между нами снова царило то же согласие и спокойствие, что и в прошлый раз – десять лет назад. Я поняла, что дом в этом сне – это текст, который я создала, чтобы почтить память матери и замечательного мужчины, разделившего ее судьбу. Как и полагается настоящему биографу, я писала о своих героях с взыскательным сочувствием, стремясь соблюсти равновесие между нежностью и беспощадностью – эти качества составляли самую суть моей матери, и она первая оценила бы мои стремления.
Часть первая Старый Свет
Мы должны чувствовать всё, что можем. Для этого мы и родились.
Генри Джеймс. “Трагическая муза”Глава 1 Татьяна
Моя мать с гордостью говорила, что ведет свой род от Чингисхана. Сообщив, что в ней есть одна восьмая татарской крови и всего семь восьмых “обычной русской”, она с несокрушимым апломбом принималась перечислять наших предков – Кубла-хан, Тамерлан, а также Бабур, монарх могулов (от его любимой наложницы и пошел род моей прабабушки). Voilà! Генеалогическое древо готово.
Спорить тут было невозможно – для пущего эффекта Татьяна дю Плесси Либерман готова была всю человеческую историю поставить с ног на голову. Кроме того, противостояние могло бы быть опасным, поскольку в расцвете лет в ней было почти сто восемьдесят сантиметров роста и шестьдесят три килограмма веса, а пронзительный взгляд близоруких карих глаз, в которых было что-то азиатское, через голубоватые очки способен был пригвоздить человека к месту не хуже паралитического газа. Да вам бы и не захотелось с ней спорить – казалось совершенно естественным, что эта дама состоит в родстве с великим ханом. Мама умело подчеркивала свое происхождение огромными вычурными украшениями, напоминавшими не то пыточные инструменты, не то предметы какого-нибудь древнего культа, и длинными шалями, в которые куталась, словно туземная богиня войны. Она неслась по жизни стремительно, подобно неистовому степному ветру, и напоминала стихию; обязанная всем лишь себе самой – настоящий феномен своего времени. Полюбившие Татьяну были околдованы ею навечно.
По профессии мама была модисткой – на работе ее звали “Татьяна Сакс”, – и, по словам знающих людей, ее шляпки в середине века были лучшими в мире. На протяжении двадцати трех лет у нее был свой отдел в известнейшем магазине Saks Fifth Avenue: всё это время она советовала тысячам женщин, как соблазнить мужчину, удержать мужа и очаровать собеседника, лихо заломив берет или кокетливо прикрыв лицо черной вуалью в мушку. The New York Times называла ее “лучшей из лучших”, олицетворением “женственной элегантности, благодаря которой ее совершенные творения стали венцом славы многих выдающихся женщин”. Прославили ее утонченные весенние шляпки-каскетки из вуали пастельных оттенков, пышные облака тюля, усеянные фиалками, высокие и будто пенящиеся тюрбаны из лилового, цвета фуксии или травянисто-зеленого газа, маленькие шляпки из шелка “сюра”, под закругленными полями которых крылись гроздья шелковых же розочек. Мама никогда не рисовала предварительных эскизов – она творила, сидя перед зеркалом, примеряя и укладывая складками фетр, бархат, органзу или атлас, и ее отражение служило ей моделью восемь часов в день, двести пятьдесят пять дней в году. Зеркала были главной метафорой всей ее жизни, и я знаю мало женщин, чей врожденный нарциссизм был бы столь полно утолен.
Татьяна была не только известной модисткой, но и членом небольшой группы женщин, избравших моду своей профессией и руководивших ею в Нью-Йорке – помимо Татьяны, это были редактор Диана Бриланд, дизайнер Валентина, стилист Хэтти Карнеги, Полин Поттер, впоследствии – Полин де Ротшильд. Но Татьяна была самой прогрессивной из них, из всех модных заповедей наиболее страстно отрицала максиму Дианы Бриланд: “Элегантность – это отказ от чего-либо”. Моя мать довела до совершенства искусство чрезмерности: она увешивала себя гроздьями бижутерии, включая двадцатисантиметровые копии доколумбовых нагрудников[8], тяжелые стеклянные серьги и самое знаменитое ее украшение – массивный перстень с куполом из фальшивых рубинов, напоминавший навершие епископского посоха.
Несмотря на вычурную манеру одеваться, Татьяну называли одной из самых элегантных женщин Нью-Йорка. Дело в том, что элегантность – это прежде всего последовательность; а ее манеры, голос и жесты идеально соответствовали внешнему виду. Она была бесцеремонной, нетерпимой, откровенно высокомерной, порывистой, по-королевски щедрой и категоричной, как советский комиссар. Она не просто говорила, она заявляла, и многие ее заявления на корню подрывали признанные символы роскоши. “Норка хороша только для футбола, – говорила она. – Бриллианты – для провинциалок”. Ни один известный мне законодатель мод так воинственно не клеймил выставленное напоказ богатство, не бичевал совершенство простых и ясных линий. Она так гордилась 35-долларовым гарнитуром садовой мебели, купленным в универмаге Macy's, что он переезжал с ней во все дома на протяжении полувека. Когда ее не стало и мне пришлось оценивать ее скромное имущество, я обнаружила, что знаменитое рубиновое кольцо, десятилетиями приводившее в восторг весь Нью-Йорк, сделано из скромных гранатов и стоит не больше 1200 долларов.
Миру приходилось самому идти навстречу Татьяне – она не делала встречных шагов, особенно в отношении Соединенных Штатов. Вопреки своей бесконечной начитанности, за полвека она едва овладела английским, и до своей смерти в 1991 году узнавала новости из французской прессы и нью-йоркской русскоязычной газеты “Новое русское слово”. Она отказывалась путешествовать по Америке и представляла ее словно сошедшей с комиксов 1920-х годов. “Мясник! – кричала она на стоматолога, которого невзлюбила после того, как ему пришлось срочно вырвать ей зуб. – Катись в свой Чикаго!” В английской речи она делала чудовищные ошибки. Как-то раз она повела моих сыновей, которым в ту пору было восемь и десять лет, в магазин игрушек “Шварц”, чтобы купить им комикс, и заявила там продавцу: “Дайте мне гомике!” “Бабушка, нам нужен комикс!” – твердили дети, но она была непреклонна.
Если Татьяна считала что-то самым лучшим – будь то еда, одежда, место отдыха, врач или книга, – то прославляла это с бесконечной страстью. К успеху она относилась по-ницшеански (“Победителей не судят”) и свято верила в снобизм (“Снобы всегда правы”). Снобизм этот был старомодным, отчасти гуманистическим и не имел никакого отношения к материальному достатку: он основывался, как у многих русских, на восхищении благородным происхождением и личными достижениями.
Диктаторская натура матери проявлялась еще и в том, что она стремилась вовлечь (или насильно втянуть) в свои интересы всех вокруг. Ее стремление управлять жизнью окружающих доходило до мелочей. В первый день каникул она приходила на пляж – солнце и воду обожала, пляжи были ее персональным раем – и стремительно обходила его вдоль и поперек, побрякивая своими варварскими украшениями, и тщательно изучала песок, воду и публику. После чего мама выбирала место и кричала: “Venez ici tout de suite, e’est le seul endroit!”[9]. И мы послушно шли следом, потому что знали – во всём, что касается комфорта и земных наслаждений, она всегда была права, а если мы не послушаемся, то на наше место придет толпа говорливых шведских нудистов и нам придется выслушивать уничижительное: “Я же говорила!”. Татьяна была диктатором не только в том, что касалось искусства savoir vivre[10], но и в моде, поэтому в основном изрекала максимы: “Идеальное осеннее платье”, “Лучший наряд сезона”. Такими путями и распространяется модная бацилла.
Но под этой деспотичной, пылкой и несдержанной оболочкой крылась застенчивая, скрытная и неуверенная в себе девочка, характер которой сложился в страшную пору русской революции.
У меня есть фотография матери 1912 года, сделанная в России, – на ней шестилетняя самоуверенная малышка с длинными светлыми кудрями, одетая в роскошное платьице от Жанны Пакен [11], сидит на узорной бархатной кушетке а-ля мадам Рекамье[12]. Видно, что по натуре она командир и прекрасно осознаёт, какое впечатление производит на свою маленькую аудиторию. (“Сразу видно, из-за чего случилась революция”, – говорила она, показывая на шикарное французское платьице на снимке.) Татьяна Яковлева родилась в Санкт-Петербурге в интеллигентской семье – в среде архитекторов, художников, юристов и видных чиновников, которых необоримо влекла французская культура и роскошь и которые относились к аристократии с тем пиететом, от которого были свободны немногие представители высшего класса России. Например, она с гордостью говорила, что ее дедушка по материнской линии, Николай Сергеевич Аистов, был “выдающимся чиновником благородного происхождения”. Реальность же оказалась куда интереснее, чем эта снобская формулировка: сын певца, Николай Сергеевич сам был выдающимся танцором и успешным балетным антрепренером. О его жизни многое известно, и надо полагать, что от него пошли многие наши фамильные черты, особенно любовь к позам.
Николай Сергеевич Аистов родился в 1853 году, окончил Петербургское театральное училище с отличной оценкой за поведение, хорошими – по математике, Закону Божьему, фехтованию, истории, актерской игре и пению; за балет и бальные танцы у него стояло всего лишь “удовлетворительно”. Впрочем, это не помешало ему поступить в Мариинский императорский театр, где он танцевал в кордебалете более десяти лет, пока в сорок два года ему не дали заветную должность первого солиста. Я бережно храню одну его фотографию: на ней запечатлен высокий статный мужчина с классическими чертами лица в роскошном сценическом костюме. По-моему, это костюм фараона из балета “Дочь фараона”, одной из ранних буффонад Мариуса Петипа, действие которой происходит в окружении пирамид, а на сцене появляются экзотические египетские танцоры, коварные британские археологи и пробуждающиеся мумии.
Возможно, рост Николая Сергеевича ограничивал его возможности как классического танцора – он был известен скорее как мим и балетный постановщик, чем как искусный исполнитель антраша и фуэте. Помимо партий в “Дочери фараона” и “Клоде Фролло”[13] его главной ролью был Герцог в “Жизели” и другие, в которых ему приходилось только величаво вышагивать по сцене в нарядном убранстве, принимать величественные позы и отдавать приказы слугам (“Отпустите рабов!” или “Довольно воевать!”). В общем и целом Николай Сергеевич, как мне кажется, преуспел в выбранной им профессии благодаря своему обаянию и красоте, величавой внешности и предприимчивости – как и многие другие члены нашей семьи. Возможно, ему покровительствовал Мариус Петипа, французский хореограф, на протяжении десятилетий главный балетмейстер Мариинского театра, где Николай Сергеевич несколько лет был главным режиссером. На это указывает и то, что они оба ушли из Мариинского в 1903 году, когда сменилась верховная администрация.
К Чингисхану, как утверждала Татьяна, ее род восходил по отцовской линии. Доказательства здесь тоже были косвенные. Ее бабушка по отцу, Софья Петровна Яковлева, в девичестве Кузьмина, моя любимая бабуля, которая умерла, когда мне было восемь, родилась в Самарской губернии, к северо-востоку от Каспийского моря и к западу от Казахстана. Вплоть до XVI века эти места принадлежали потомкам Чингисхана, и там до сих пор встречаются такие нерусские имена, как Сагиз, Макат, Челкар, что говорит о сильном влиянии татарской культуры. “Очень благородная семья”, “прямые потомки Чингисхана”: в этом стремлении одновременно к пышной родословной и дикарской свободе – вся моя мать. На самом деле, есть один шанс из миллиона, что мы происходим от Чингисхана, а вот то, что брат моей прабабушки, Петр Кузьмин, несколько лет прослужил предводителем дворянства в Рязанской губернии – уже реальность.
Моя прабабушка была выдающейся женщиной: с детства демонстрируя впечатляющие успехи в учебе, она смогла подойти к выбору профессии с куда большей свободой, чем большинство девушек XIX века на востоке России. Обнаружив особенную склонность к математике, прабабушка поступила в Санкт-Петербургский университет. Согласно семейной легенде, она была первой[14] в России женщиной-математиком с ученой степенью, и, когда в день выпуска Софья Петровна сходила с кафедры с дипломом в руках, разъяренные профессора забросали ее помидорами в знак протеста против женского вторжения. Она, однако, приберегла свои математические навыки для домашнего использования и вышла замуж за архитектора и инженера Евгения Александровича Яковлева, а вскоре родила ему детей:
– моего дедушку Алексея, который пошел по стопам отца и также стал архитектором и инженером и впоследствии был награжден за проектирование государственных театров;
– мою двоюродную бабушку Александру (тетю Сандру), одаренную певицу (контральто), которая дебютировала в опере в 1916 году в роли графини в “Пиковой даме” Чайковского[15] и чья любовь, наряду с бабулиной, сопровождала меня в раннем детстве;
– моего двоюродного дедушку Александра (дядю Сашу), знаменитого путешественника, который после революции стал одним из двух-трех самых выдающихся художников русской диаспоры в Париже, человека, который сыграл ключевую роль в жизни мамы;
– мою двоюродную бабушку Веру – вторую по старшинству и единственную среди детей, кто не достиг ничего выдающегося; в двадцать два года она вышла замуж за немецкого сельскохозяйственного магната, с которым познакомилась, когда путешествовала с родителями по Французским Альпам в 1906 году.
Все четверо родились и выросли в просторной квартире родителей на Гагаринской набережной, недалеко от Невского проспекта. Первые воспоминания матери относятся как раз к гостиной ее любимой бабушки. Маме около пяти лет, и она – догадайтесь, чем занята? – конечно же позирует для портрета, который рисует дядя Саша. На ней белое кружевное платье с оборочками от Пакен. Дядя Саша велит ей сидеть смирно, и она смотрит в окно, за которым блестит на солнце Нева.
В следующем воспоминании мама с младшей сестренкой Людмилой (или Лилей) живут в Вологде. Их отца отправили наблюдать за строительством губернского театра. Ей вспоминается родительский дом, длинный холл с вощеными полами, по которым она любила кататься; улицы, покрытые сугробами; голуби на снегу; как вся семья едет в карете, на улице мороз, Таню завернули в зимнее пальто и спрятали руки в шиншилловую муфту – одежду девочкам, как и матери, выписывали из Парижа. Мама вспоминала, что ее мать, Любовь Николаевна, была элегантной и кокетливой женщиной, которой без труда давались языки, музыка, а в особенности – танцы. Это она, очевидно, унаследовала от своего отца, Николая Сергеевича Аистова. Также ей запомнилось, что мать была очень нежна со своими поклонниками, но в семье держалась строго, и эта материнская холодность, очевидно, в свою очередь повлияла на ее отношение ко мне.
В 1910 году, когда маме было четыре года, ее отец выиграл архитектурный конкурс, и вся семья – как обычно в сопровождении бонны, горничной, повара и кучера – переехала в Пензу, где деду предстояло выстроить очередной театр. Дедушка, очевидно, питал слабость к новейшим достижениям техники – он первым в Пензе обзавелся автомобилем, а в 1914 году даже купил аэроплан и назвал его “Мадемуазель”. Семьдесят лет спустя мама вспоминала, как он получил права и летал над лугами, пугая коров. Крестьяне жаловались: их коровы так боятся этих полетов, что перестали давать молоко. Но губернатор был очарован бабушкой, поэтому дедушка продолжал. “Непременно расшибется”, – говорили крестьяне, когда он пролетал мимо.
Вскоре жизнь Татьяны и ее сестры изменилась. В 1915 году – им тогда было девять и семь лет – их родители развелись. Отец уехал в Америку, по слухам, потому что изобрел новый вид резины для автомобильных шин, на который ему не удалось получить патент в России, а в США это было возможно. Вскоре моя бабушка вышла замуж во второй раз за предпринимателя, торговавшего лекарствами, Василия Кирилловича Бартмера. В революцию 1917 года он потерял все свои деньги, семья осталась без гроша. А в 1921 году их положение стало еще более плачевным: в юго-восточной России начался страшный голод, и Бартмер умер от туберкулеза и истощения. Любовь Николаевна, пытаясь свести концы с концами, открыла танцевальную школу. Семейную квартиру реквизировали. Три женщины ютились в одной комнате и жгли в печке драгоценные книги, чтобы согреться. Мама вспоминала, что в ту пору они целыми днями ходили по базарам и старьевщикам, пытаясь продать оставшуюся мебель и одежду. Несмотря на то что образование она получила очень скромное – из-за революции после двенадцати лет ее почти ничему не учили, – у Татьяны открылся необыкновенный дар, который помог ей выжить: она замечательно запоминала стихи, а это умение в России ценилось даже после революции. К четырнадцати годам она знала наизусть сотни строк из Пушкина, Лермонтова, Блока и Маяковского. В 1921 году, в пору голода, Татьяна спасла мать и сестру, читая на улицах стихи красноармейцам, – а те в благодарность давали ей бесценный хлеб.
Голод продолжался. В 1922 году Татьяна заболела туберкулезом, возможно, заразившись от отчима. Мать ее вскоре снова вышла замуж (“Она не из тех, кто долго сидит в одиночестве”, – саркастически вспоминала Татьяна) за юриста Николая Александровича Орлова – он был добрым человеком, ее дочери искренне привязались к нему и звали его père[16]. Но болезнь Татьяны прогрессировала, и те родственники, которые уже успели переехать во Францию – дядя Саша, тетя Сандра и бабушка, – начали хлопотать о французской визе для нее. Наконец дяде Саше с помощью известного предпринимателя Андре Ситроена удалось получить необходимые бумаги, и Любовь Николаевна повезла дочь в Москву, чтобы посадить на поезд до Парижа. Я часто пыталась представить, что они обе должны были испытывать тогда перед отъездом – с девяти лет Татьяна жила с холодной, эгоистичной матерью, которая дважды за это время отправлялась на охоту за новым мужем, и девочка вряд ли часто ощущала материнскую ласку. Как-то раз я спросила ее, что чувствовала ее мать, когда отправляла дочь в Париж в 1925 году: горевала или всё же испытывала облегчение при мысли, что дочери там будет проще устроиться? Мама пожала плечами и холодно на меня взглянула.
– Ничего подобного, – сказала она. – Одним ртом меньше, вот и всё.
Так Татьяна в девятнадцать лет попала в Париж – “великолепной немытой дикаркой”, по воспоминаниям одного из родственников. Она сошла с поезда, заявив, что приехала за самыми модными нарядами и для участия в самых роскошных вечеринках и литературных салонах, а также – это стремление присуще многим русским и по сей день – за дворянским титулом.
– Голова была забита коммунистическим мусором, но она хотела быть графиней, – вспоминала моя двоюродная бабушка Сандра.
После разоренной революцией советской России, после голода, нищеты и коммунальных конурок скромная четырехкомнатная бабушкина квартира на Монмартре представлялась Татьяне верхом роскоши и удобства.
“Бабушка такая милая, добрая, вечно надо мной хлопочет, – писала она матери. – Она приносит мне какао в постель и не позволяет вставать до часу дня. Квартира здесь чудная. Французские окна, а за ними балкон. Во всех комнатах шелковые шторы – в моей комнате оранжевые, в гостевой – кофейные, а у тети Сандры – золотые; камины мраморные, окна – до потолка, здесь есть горячая вода в ванной и телефон. В кухне стоит газовая плита, и на ней можно что угодно приготовить за полчаса… Мне купили белье, льняные, шелковые и батистовые платья, плащ и белую шелковую шляпку… С балкона видно Эйфелеву башню, по вечерам на ней зажигают огни. Здесь бывают восхитительные фейерверки, а в рекламе пишут целые фразы. Тетушка ужасно красивая, и голос у нее чудесный, никогда такого не слышала”.
В последнее время мне кажется, что самые успешные семьи те, в которых близкие берут друг с друга пример, всех объединяет память о выдающихся предках. Бог благословил нашу семью тремя незаурядными личностями – настоящими образцами для подражания. Родственники, ожидавшие Татьяну в Париже, были необыкновенными людьми.
Прабабушка, глава нашего племени! У маминой постели всегда стояла ее фотография (теперь она хранится у меня) – тяжелая челюсть, венец густых седых волос, решительный и вместе с тем добродушный взгляд. Всю свою жизнь она излучала доброту и искренний оптимизм. В Санкт-Петербурге ходили легенды о ее счастливом браке: когда они с прадедушкой были званы в гости, то непременно писали хозяйке заранее с просьбой посадить их рядом. Но под внешней элегантностью и мягким обращением крылась стальная воля и неукротимая энергия. Она овдовела в тридцать с небольшим: прадедушка умер от сердечной недостаточности, которая была проклятием нескольких поколений нашей семьи. Пришлось прабабушке самой встать во главе семьи и управлять перешедшим ей литейным производством. Я не знаю другого человека, в ком так же гармонично сочетались бы доброта, острый ум и склонность к мистицизму. С четырех лет я хотя бы раз в неделю оставалась у нее – они жили с моей двоюродной бабушкой Сандрой – и счастливо рылась в ее шелках и штопанном кружеве. По дому витали ароматы вербены, розовой воды, кураги и горячей каши. Я заставляла прабабушку часами играть со мной в дурачки. Вырвавшись из-под пригляда гувернантки, я поедала клюквенный кисель и каплями сгущенного молока выводила на его алой желатиновой поверхности свои инициалы. Мне позволяли часами читать Жюля Верна, а на ночь прабабушка трижды меня крестила. Многие годы воспоминания о ее доброте и нежности крепче всего связывали меня с матерью: когда мы ссорились, кто-нибудь из нас вдруг говорил: “Что бы сказала бабушка!” – и, вспомнив ее, мы падали друг другу в объятья.
Еще лучше я знала дочь прабабушки, мою любимую двоюродную бабушку Сандру: прабабушки не стало в 1939 году, когда мне было восемь лет, а тетя Сандра дожила до 1970-х. Когда Татьяна приехала в Париж, жизнь любимой тети, статной красавицы ангельского нрава, уже дала трещину. Ее первый муж, отец ее единственной дочери Маши, был убит в начале Первой мировой войны. Несколько лет спустя она снова вышла замуж, но опять потеряла мужа, на этот раз во время революции. Его, царского офицера, коммунисты сбросили с Кронштадтской крепости в море, привязав к ногам камни. Вскоре после этого, в 1920-м, когда тетя Сандра с прабабушкой и дочкой укрылись в Константинополе, Маша умерла от скарлатины. Прабабушка и тетя получили французскую визу и отправились в Париж через немецкий город Дессау, куда несколько десятилетий назад переехала сестра Сандры, моя двоюродная бабушка Вера. Дочь Веры, которой теперь восемьдесят семь лет, рассказывала мне об их визите – одним из первых ее детских воспоминаний стал плач тети Сандры по своей дочери. Она рыдала несколько часов подряд и была безутешна.
Но стойкость в нашей семье передается по наследству. В 1922 году прабабушка и Сандра приехали в Париж. Поначалу они полностью зависели от дяди Саши, брата Сандры, но постепенно ей удалось вернуться к своей певческой карьере. В 1925 году, за несколько месяцев до приезда Татьяны, она дебютировала в парижской опере с партией Аиды, которая имела огромный успех. Следующие десять лет тетя Сандра выступала в операх и на концертах по всей Европе и Северной Америке. Вот сильно сокращенный список опер, в которых она пела главные партии: “Жидовка”, “Тоска”, “Отелло”, “Кармен”, “Зигфрид”, “Тангейзер”, “Осуждение Фауста”, “Саламбо”, “Сельская честь”, “Руслан и Людмила”, “Евгений Онегин”, “Аида”, “Гугеноты” и “Валькирия” – три последние партии она могла петь на пяти разных языках. Кроме того, была партия старой графини из “Пиковой дамы”. Это сложнейшая партия для контральто, которая дается немногим исполнительницам. С оперной карьерой в России у тети Сандры был связан анекдот, который я в детстве много раз заставляла ее пересказывать.
– Как-то вечером я исполнила партию Аиды и торопливо нарядилась, чтобы поехать на бал, – рассказывала она. – На улице только что утихла сильная метель, и мы с кавалером стояли в сугробах и ждали карету. Он так смешил меня, что я не выдержала и описалась. Снег подо мной растаял, и меня окружили клубы пара!
Воображаю, как нарядная тетя Сандра стоит на берегу замерзшей Невы, окутанная клубами пара, словно пророк. Чудо, не иначе.
Когда в 1925 году мама приехала в Париж, тетя Сандра наверняка была примерно такой же, как и в моем детстве в 1930-е годы. Самым примечательным в ней была сверкающая улыбка – тетя утверждала, что белизной зубов обязана розовому зубному порошку “Тореадор”. Помню всю ее очень ясно: высокая, как все Яковлевы, статная, со сливочного оттенка кожей, добрыми и печальными карими глазами и черными волосами, завязанными в простой узел. Она обладала трогательно дурным вкусом в музыке. Величайшим композитором считала Римского-Корсакова, а любимой оперой у нее было “Сказание о невидимом граде Китеже”. Искренняя, щедрая до безрассудства, доверчивая до наивности и бесконечно заботливая, свой нерастраченный материнский инстинкт она изливала на всех несчастных вокруг. Как и ее мать, тетя Сандра была настоящей пуританкой. Как-то раз, услышав, что у ее брата Саши роман с танцовщицей Анной Павловой, она воскликнула: “Быть такого не может! Нельзя же иметь роман с замужней!”
Третьим членом семьи, принявшей Татьяну в Париже, был бесстрашный путешественник и художник дядя Саша.
Глава 2 Дядя Саша
Сколько я себя помню, дядя Саша Яковлев казался мне легендарной личностью. По романтизированным рассказам матери, он был эдаким сверхчеловеком: который путешествовал в самые опасные уголки земли, сражался с дикими зверями в далеких пустынях, исследовал пещеры, куда ранее не ступала нога человека. Весть о приезде дяди Саши я встречала всегда с бурным восторгом. Помню, как меня поразила его легкая кошачья походка и искусно выбритая эспаньолка. В его грациозности и физической безупречности было нечто трудноопределимое, будоражащее – вспомнив, каким я видела дядю Сашу в первые наши встречи в юности, я поняла, что он напоминал мне великолепную вазу или древнегреческий курос. Его бородка казалась скульптурным произведением, а когда дядя Саша наклонялся меня поцеловать, от него исходил утонченный запах сухой вербены. Жарким майским днем дядя заходил поболтать с гувернанткой о моих успехах в учебе. Он снимал пиджак, и я восхищалась его мускулистыми руками – ни у кого другого я не видела такого красивого тела. Даже в те годы я понимала, что дядя Саша был внимателен ко мне не из-за меня самой, а просто потому, что очаровывать всех вокруг для него было так же естественно, как для львицы – охранять своего детеныша. Теперь мне кажется, что в этой потребности расточать свои чары на окружающих было нечто пугающее – на ум приходит образ Мефистофеля.
Александр Яковлев, младший из четырех детей моей прабабушки, родился в 1887 году в Санкт-Петербурге и с раннего возраста демонстрировал необыкновенную способность к рисованию. В восемнадцать лет он поступил в Императорскую академию искусств. Новый талант привлек внимание знаменитого профессора, Александра Бенуа, который писал, что юноша “необычайно чувствителен к природе. Нет сомнений, что перед нами феноменальный талант”. В академии Саша Яковлев заинтересовался театром и балетом, и в двадцать три женился на красавице Белле Шеншевой (выступавшей под псевдонимом Казароза[17]), актрисе и танцовщице кабаре, известной страстным исполнением танцев испанских цыган. Связь сына с Казарозой наверняка шокировала его чопорную, строгую мать. Можно предполагать, что союз с самого начала был непростым, потому что через три года после свадьбы, в 1913 году, Саша отправился в свое первое путешествие в качестве странствующего художника.
После двух лет, проведенных в Италии и Испании, где его очаровали работы Мантеньи и Эль Греко, он ненадолго вернулся в Санкт-Петербург и сразу же отправился на Дальний Восток, получив стипендию от Академии. Революция застала его в Пекине (больше он никогда не был в России и не видел жену Беллу, которая скончалась в 1929 году). В 1918 году дядя Саша начал изучать китайский театр и стал подписывать свои работы китайскими иероглифами, которые читались как “Иа-Ко-Ло-Фу” (намек на “Iaco Le Fou” “Яко-дурак” по-французски). Первое его путешествие по Востоку окончилось полугодовым визитом в Японию, где он некоторое время жил с рыбаками на острове Осима и учился глубоководному нырянию. Масштабная и очень красивая картина маслом под названием “Ловцы жемчуга” до войны висела в спальне родителей в Париже. У меня в архиве сохранились подводные фотографии, которые дядя Саша сделал во время первого путешествия в Японию с помощью одной из первых водонепроницаемых фотокамер.
В 1919 году, поскольку возможности вернуться в Россию не было, дядя Саша отправился на пароходе во Францию и поселился в Париже, где в ту пору формировалась большая диаспора русских эмигрантов. Великолепно владеющий собой молодой художник с внимательным взглядом, звонким смехом и бородкой фавна вскоре обрел в Париже такую популярность, что мог жить безбедно. В те годы в Париже была мода на всё русское: восхищались балетами Дягилева и музыкой Стравинского, “Жар-птицей”, “Весной священной” и “Послеполуденным отдыхом фавна” Нижинского, красотой русских женщин, выступавших манекенщицами у парижских кутюрье. Кроме того, как и большинство русских эмигрантов, дядя Саша был весьма предприимчивым человеком. Прибыв в Париж без гроша в кармане, он поселился на седьмом этаже вблизи Монмартра и договорился с соседним ресторанчиком “Ла-Биш”, что распишет им стены за шесть обедов в неделю. Через два года его китайские и японские работы уже выставлялись в знаменитой галерее, а выдающийся критик Люсьен Вожель написал книгу о его азиатском периоде.
Теперь Яковлев зарабатывал столько, что мог позволить себе поехать с друзьями-художниками на средиземноморский остров Порт-Крос. Американская скульпторша Мальвина Хоффман, отдыхавшая там же, вспоминала его впоследствии как “яркого выдумщика, к которому так и тянулись люди”, рассказывала о его трудолюбии и умении дружить. Саша работал по десять часов в день, но часто прерывался, чтобы надеть прищепку на нос и пару японских очков и понырять за ракушками и водорослями. Коллеги гадали, зачем ему это нужно, пока однажды дядя Саша не пригласил их поужинать в ресторан.
– Мы вошли в зал, освещенный огнями всех цветов радуги, – вспоминала Мальвина Хоффман. – За переливающимися раковинами пылали свечи, а между ними стояли наши портреты, обрамленные водорослями и ракушками.
Думаю, что парижское общество приняло Яковлева не только благодаря его обаянию и славе отважного путешественника, но и за его многогранную одаренность: он интересовался лингвистикой, был выдающимся атлетом и превосходным поваром, мастерил мебель и лакировал ее, переплетал книги, изготовлял реквизит и театральные костюмы – одним из его проектов была постановка оперы Россини “Семирамида”. К тому же сохранилось множество свидетельств тому, насколько он был хорош собой. “Тело как у метателя копья, необычайно узкое, скульптурное лицо, словно сошедшее с персидской гравюры, – писали о нем в 1926 году, – живые, пронзительные глаза, теплая и вместе с тем лаконичная речь”. Подозреваю, что дядя Саша догадывался о производимом впечатлении и был своего рода нарциссом: на каждом сохранившемся пляжном снимке он позирует так, чтобы выгодно продемонстрировать великолепные мускулы.
Дядя Саша прославился своей щедростью к тем, кому повезло меньше, и ему частенько приходилось вешать на дверь мастерской объявление: “Сегодня денег нет”. Однако, как и большинство его русских коллег, дядя был своего рода снобом, наслаждался знакомством с европейскими аристократами и с готовностью рисовал портреты видных лиц. Среди позировавших ему были графиня д’Ост и ее сын, граф де Пуй (его любовница, принцесса Мария-Жозе Бельгийская, впоследствии стала королевой Италии), бразильский миллионер Артуро Лопес-Уиллшоу и Людовик Бурбонский, брат супруги императора Австрии, который женился на дочери короля Италии.
Какими бы путями Яковлев ни проник в парижское общество, он обрел там признание и благополучие. В 1922 году он вывез мать и сестру к себе в Париж. Они зажили втроем в квартире на Монмартре, куда впоследствии приехала моя мать. По соседству располагалась мастерская дяди Саши, где протекали его многочисленные романы. Мне запомнились две особенно блестящие его возлюбленные. Одной была Анна Павлова – ее замечательный портрет маслом работы Яковлева висит сейчас в Третьяковской галерее. Другой – Генриетта Паскар, театральная антрепренерша, связь с которой повлияла на судьбу нашей семьи: ее сын, Александр Либерман, бывший тогда подростком, двенадцать лет спустя стал возлюбленным моей матери, а впоследствии – моим отчимом.
В июле 1925 года, когда моя мать прибыла в Париж, дядя Саша как раз завершал самое необыкновенное на тот момент путешествие – он ездил в Африку на средства автомобильной империи “Ситроен”. (Следующая экспедиция, профинансированная “Ситроеном”, проходила в Азии и носила название “Желтый путь” – можете вообразить, какую бурю вызвала бы она в наше время.) Идейный вдохновитель проекта, знаменитый магнат Андре Ситроен, которого часто звали французским Генри Фордом, еще во время Первой мировой войны осознал, какой потенциал таят в себе гусеничные тракторы для оборонной промышленности (на их основе вскоре стали разрабатывать танки). Стремясь запатентовать это новшество вперед американцев, он запустил производство этих тракторов в 1920 году. А в 1922-м, когда стало ясно, что Америка входит в моду – начиналась эра джаза, и мир вот-вот должна была свести с ума Жозефина Бейкер[18], – Ситроен профинансировал автомобильное путешествие по Африке – как испытание для свежеиспеченной автомодели. “Черный путь” должен был преодолеть восемь тысяч километров – от Алжира до Мадагаскара.
На подготовку экспедиции ушло больше года – по пути следования нужно было разместить стоянки с едой и запчастями. Предводителем Ситроен выбрал вице-президента компании Жоржа-Мари Хаардта, путешественника и знатока искусства, у которого за плечами уже были путешествия по Сахаре. Помимо видных автомобильных инженеров и механиков в команду входили геолог, зоолог, врач, двое талантливых фотографов и операторов, а также художник, Александр Яковлев, чья роль, согласно видению Ситроена, заключалась в том, чтобы создавать портреты африканцев – более глубокие, чем фотографии.
Наконец, в октябре 1924 года из Колом-Бешара на юге Алжира отправился в путь караван из восьми автомобилей с гусеничными колесами. По плану он должен был прибыть на Мадагаскар в июне следующего года. Помимо бескрайней пустыни экспедиции также предстояло преодолеть участки девственного леса и болот, в которых рисковали увязнуть автомобили. Каменные завалы планировалось взрывать динамитом. Отдельную опасность представляли пожары в саванне, которые могли расплавить автомобильные шины. Карт у членов экспедиции не было, и им приходилось ориентироваться по компасу, как в морском путешествии. Между оазисами могло быть более восьмисот километров, и следовало тщательно рассчитывать путь, чтобы не оказаться без запасов пресной воды, – как вскоре обнаружили участники экспедиции, Сахара была усеяна скелетами их менее удачливых предшественников. К тому же на протяжении всего пути необходимо было дружелюбно общаться со встреченными туземцами и их вождями, а также аккуратно посещать местные празднества.
Несмотря на все сложности, неизбежные в экспедиции, Яко (как его прозвали коллеги) сохранял неизменную спокойную бодрость и не боялся любой работы. Он ехал в одном автомобиле с Хаардтом (их дружба впоследствии продолжалась долгие годы), рисовал даже на ходу и во время стоянок, пока его товарищи отдыхали. Он никогда не скучал и не ленился, поскольку приучил себя постоянно трудиться; когда вокруг не было моделей для рисования, он собирал древние черепки, пытаясь восстановить разбитые когда-то предметы.
“Яковлев неутомим и рисует, не обращая внимания на тряску, – писал Хаардт в дневнике. – Выдающийся человек – скуку у него вызывает разве что пошлость. Бесценный товарищ для такого пути”.
Яковлеву легко удавалось завоевать доверие туземцев, и на него возложили еще одну миссию – поддерживать дипломатические отношения с местными вождями. На то, чтобы нарисовать портрет человека в полный рост, у него уходило меньше часа – причиной тому были красные карандаши “Конте” (сангина – на языке художников), которые очень гладко скользили по бумаге. Туземные вожди чуяли, что без магии тут не обходилось, и пропускали экспедицию в обмен на портрет, хотя прежде нападали на путешественников. Яковлеву в самом деле удалось найти с туземцами общий язык – он даже лакомился самой странной их пищей: жареными термитами или тушеной саранчой. Свою дружбу с местным населением он описывал в дневнике.
В Стэнливилле, Конго, он сделал запись под заголовком “Луахо, вождь Вагенья”.
Вылитый предводитель негров из старинной повести “Поль и Виргиния”[19]. Грубые черты лица, налитые кровью глаза, но при этом доброе, почти детское выражение. Ему нелегко позировать: лоб под полами шляпы, украшенной цветными перьями, весь усыпан бусинами пота, ожерелье из зубов леопарда колышется на напряженной груди. Увидев своего двойника на бумаге, он совершенно потрясен и подолгу говорит с ним, обращаясь к портрету весьма почтительно. Затем, после долгих прощаний и пожеланий всего наилучшего, он садится на велосипед и катит обратно в деревню.
1925 год – выходит в свет “Mein Kampf” Адольфа Гитлера, на экране появляется “Золотая лихорадка” Чаплина, а “Черный путь” возвращается из Африки. Путешественники привезли несколько новых карт до того неизвестных регионов, больше двадцати четырех километров отснятой пленки, около восьми тысяч фотографий, триста млекопитающих, восемьсот птиц и пятнадцать тысяч насекомых, многие из которых были неизвестны европейцам, а также больше пяти сотен картин и рисунков Яковлева. В 1920-е годы путешественники и первооткрыватели пользовались такой же славой, как сейчас – кинозвезды и рок-музыканты. Я говорила со многими французами восьмидесяти-девяноста лет, которые в те годы держали в гостиных карты Африки и отмечали булавками путь экспедиции Ситроена. После возвращения имя Яковлева прогремело. В 1926 году все выставленные в знаменитой парижской галерее Шарпантье картины, включая большие полотна маслом, написанные по мотивам африканских этюдов, были мгновенно распроданы. Осенью того же года в Лувре открылась пятимесячная выставка трофеев экспедиции: там были выставлены украшения, оружие, чучела, фотографии и рисунки Яковлева. На премьеру документального фильма об экспедиции пришел президент республики Гастон Думерг, картину потом показывали в театре Мариво в течение полугода.
После возвращения из Африки дядя Саша прославился своими портретами видных парижан, выполненных сангиной, как и африканские этюды. Некоторые критики сравнивали его с Давидом[20] и Энгром [21], а Джон Сингер Сарджент[22] заявил, что Яковлев – один из двух величайших графиков своего времени (кого он считал вторым, мы так никогда и не узнали).
Меньше десяти лет назад художник прибыл в Париж без гроша в кармане, а теперь он мог содержать мать и сестру и в конце 1920-х годов купил им трехкомнатную квартиру в шестнадцатом округе, вблизи авеню Фош – там я провела счастливейшие дни детства. В 1929 году племянница Яковлева, Татьяна, приняла предложение руки и сердца юного французского дипломата Бертрана дю Плесси. Приданое и восхитительное свадебное платье из белого атласа ей купил дядя Саша – он же отвел ее под венец, а через год стал моим крестным отцом.
Несмотря на славу, окружившую путешественников после возвращения из Африки, Яковлев и его товарищи чувствовали постоянное беспокойство и странную пустоту внутри. “Люблю путешествия, восторг движения, открытие новых чудес”, – говорил Яковлев в интервью вскоре после приезда в Париж. Несколько месяцев в африканской глуши не могут не повлиять на человека – более вероятно, что этот опыт станет своего рода наркотиком. Члены экспедиции “Черный путь” были навеки одурманены безграничной свободой пустыни, хрустальной тишиной ночей, нарушаемой лишь воем шакалов, диким смехом гиен, мощным львиным ревом, а главное – чувством глубокой дружбы, зародившейся между мужчинами, вместе преодолевавшими опасность и много ночей подряд делившими место у костра под ослепительными африканскими звездами. Не пробыв дома и двух лет, они заговорили о новой экспедиции. “Куда-то теперь мы отправимся? – писал в дневнике Яковлев. – Вот о чем думали мои товарищи, которые уже привыкли к бродяжьей жизни. Когда выставки, книги, фильмы остались позади, наши беспокойные души вновь запросили приключений”.
Андре Ситроен также был в восторге от славы, которую принесла экспедиция его компании, и мечтал о большем. В то время его интересовала возможность построить автомобильные фабрики в Китае, куда в последние двадцать лет стали проникать миссионеры и западные торговцы. А что если организовать новую экспедицию под названием “Желтый путь” и отправить свои автомобили в путешествие по Азии? Хотя Джордж Хаардт и его беспокойный друг Яко прекрасно понимали, что вояж на Восток будет куда сложнее и опаснее африканского, они восприняли эту идею с энтузиазмом. Их приводила в восторг сама мысль о том, что им предстоит проехать по древнему пути арабских и китайских купцов, которые много веков назад везли восточные сокровища в Европу, увидеть землю, на которой, по выражению Яковлева, “оставили духовные и материальные следы Александр Македонский, Дарий, Магомет, Чингисхан и Марко Поло”. Итак, в 1928 году началась подготовка к “Желтому пути”, растянувшаяся на два с половиной года.
Новая экспедиция должна была выступить из Бейрута и пройти через Сирию, Ирак и Персию. Чтобы не пересекать величественную горную цепь Памира, что протянулась по Афганистану и северо-западной Индии (теперь эта территория называется Пакистаном), путешественники планировали уйти на север Персии и войти в Советский Союз к югу от Самарканда, затем пересечь степь южнее озера Балхаш, пройдя через северо-западную китайскую провинцию Синьцзян, и отправиться в Пекин древним Шелковым путем.
Но за три месяца до отправления, в ноябре 1930 года, маршрут пришлось составлять заново. Советский Союз под руководством Иосифа Сталина в ту пору входил в эпоху железного занавеса, и членам экспедиции было отказано в визах. Теперь их путь должен был проходить через горы. Путешественники разделились на две группы: первая, куда вошли Хаардт и Яковлев, должна была пересечь Афганистан и штурмовать устрашающий Памир. Вторая, поменьше, собиралась обойти Пекин с запада – во главе этой группы стоял бравый путешественник, капитан Виктор Пуант, а среди членов был лучший палеонтолог Франции, ученый иезуит отец Пьер Тейяр де Шарден[23]. Обе группы должны были встретиться к востоку от Памира, вместе вернуться в Пекин и отправиться на юг, в Индокитай. Этот новый маршрут был гораздо сложне и опаснее, но люди породы Хаардта и Яковлева смеялись в лицо опасности. Яковлев писал в дневнике, что трудности предстоящего путешествия “лишь укрепляли нашу решимость”.
В первые несколько месяцев экспедиция под руководством Хаардта и Яко без приключений преодолела Персию, Ирак и большую часть Афганистана. Но, как они и опасались, трудности подстерегали их у подножья Памира и Гиндукуша. Автомобилям Ситроена предстояло преодолеть пятикилометровые скалы, покрытые льдом, толщина которого даже в летние месяцы достигала шести метров. Много недель ушло на то, чтобы расколоть лед и создать проход для транспорта. В любой момент с горы могла сойти лавина. Несколько раз единственным способом преодолеть высоту было разобрать автомобили и собрать их на другом склоне. Путешественники в эти моменты шли пешком или ехали на мулах и яках, утопавших по грудь в снегу. Дорога была опасной. От каждого шага из-под ног летели камни. Полторы сотни мулов везли один только груз – спальные мешки, инструменты, палатки, еду, запасные оси и детали разобранных автомобилей. На особо трудных участках экспедиции не удавалось преодолеть более четырех километров в день.
Не меньше преград путешественникам уготовила политика. В последние дни августа 1931 года две группы встретились, как и было уговорено, в китайском городе Аксу в нескольких километрах к югу от советской границы. Но несколько недель спустя, когда они двигались по северо-западному региону провинции Синьцзян в Пекин, их арестовал местный губернатор Цзинь. Он удерживал их больше месяца, пока Ситроен не отправил по Транссибирской железной дороге дюжину своих гусеничных тракторов в качестве выкупа. Путешественники двинулись на восток, но через несколько недель их снова арестовали – на этот раз люди Чан Кайши. Освободили их раньше, чем из первого плена, но из-за возникших проволочек путешественники попали в китайские степи перед пустыней Гоби зимой, когда температура зачастую опускалась до минус сорока градусов. Согласно первоначальному плану, они должны были пересечь степи в сравнительно мягкую пору конца лета и начала осени.
Яковлеву между тем приходилось преодолевать дополнительные трудности. Рисовать в мороз было мучительно тяжело. В древних развалинах к югу от пустыни Гоби он пытался срисовать древние буддистские фрески в пещерах, куда до того не ступала нога европейца, но краски замерзали, стоило выдавить их из тюбика. Он сделал себе металлическую палитру, которая ставилась на газовую горелку, но всё равно вынужден был поминутно смешивать краски. В городах художника поджидали новые преграды. В китайской культуре принято преклоняться перед портретистами. Как писал сам Яковлев, художник в этой культуре “воплощает в себе дух аристократии… а портретист своим искусством добывает себе благородный титул”.
Это выяснилось, когда путешественников арестовал губернатор Цзинь. Местные чиновники настойчиво требовали, чтобы их запечатлел художник экспедиции. Стремясь освободить своих товарищей, Яковлев целыми днями метался по городу, рисуя бесконечные портреты мандаринов, в надежде, что один из них уговорит губернатора отпустить европейцев. Особенно ему удался портрет местного военачальника, бывшего губернатора округа Хами.
“ [Генерал Чоу] позировал мне в бескрайнем зале, где гуляла пышная свадьба, – писал он. – Под грохот оркестра во дворе шло театральное представление. По углам стояли вазы, куда ликующие гости могли опорожнить желудки перед возвращением к пышному столу. Крепкий запах опиума (объясняющий благодушную дрему генерала) мешался с ароматом местного аквавита[24]”.
В феврале 1932 года, преодолев в общей сложности двенадцать тысяч километров, изможденные путешественники прибыли в Пекин. В их честь китайские власти, французское посольство и другие иностранные представительства устроили шумные празднества, которые растянулись на несколько недель. Но после года лишений и одиночества буйное веселье повергло Яковлева в необъяснимую тоску. “Почему к радости от нашего успеха примешивается необъяснимая меланхолия? – спрашивал он себя на страницах дневника под конец пребывания в Пекине. – Виной ли тому встреча с цивилизацией?”
Мрачные настроения Яковлева могли объясняться дурными предчувствиями. Как-то ночью, когда путешественники плыли в Гонконг, откуда должны были отправиться через Вьетнам и Индию в Сирию, Жорж-Мари Хаардт заглянул в каюту к своему другу. Уже несколько недель его мучил грипп, и теперь Хаардт сказал Яковлеву, что задержится на несколько дней в Гонконге, чтобы отдохнуть, и нагонит их позже. “На прощание он сказал: «Мрачная нынче ночь». В ушах до сих пор звучат последние слова моего драгоценного друга, этого исключительного человека”.
На следующее утро Хаардт сошел в Гонконге, а десять дней спустя скончался от двусторонней пневмонии. Незадолго до того ему исполнилось сорок восемь лет. Весть догнала путешественников в Хайфоне. Все планы на Ближний Восток пришлось отменить. По приказу Ситроена путешественники вернулись в Гонконг. Яковлеву как ближайшему другу Хаардта выпала печальная обязанность перевезти тело покойного во Францию. В конце апреля 1932 года члены экспедиции прибыли в Марсель. На берегу их встречал Ситроен, скорбящий по коллеге и другу.
Хаардт был холостяком, его похоронили неподалеку от могилы Эдуарда Мане на кладбище Пасси. На отпевание пришло множество друзей и коллег Хаардта.
Несмотря на трагическую потерю, членов экспедиции встречали в Париже с такой же помпой, как и после возвращения из Африки. Через несколько месяцев после их возвращения открылась большая выставка трофеев обеих экспедиций. Яковлев, однако, был по-прежнему подавлен – тоска по Хаардту тем же летом усугубилась еще одной трагедией: в августе Виктор Пуант, обаятельный предводитель “Желтого пути”, покончил с собой из-за несчастной любви к прелестной и неверной актрисе Алисе Косеа.
Между тем Яковлеву приходилось думать и о деньгах. Весной 1933 года в галерее Шарпентье должна была состояться большая выставка его творчества. Теперь он трудился над сделанными в Азии набросками – после долгой работы в Париже и на Капри у него получилось сто картин и двести пятьдесят рисунков. Все эти работы посвящались памяти Жоржа-Мари Хаардта. “Мне хотелось передать колоссальность преодоленного нами пути, показать разные стороны нашей бродячей жизни, воссоздать безграничное пространство, окружавшее нас… и отдать дань памяти ушедшего друга”.
Выставка пользовалась большим успехом, но прибыль была меньше ожидаемой – Великая депрессия, ударившая по Уоллстрит в 1929 году, летом 1933 года особенно сильно ощущалась в Париже. У Яковлева не было никакого постоянного дохода, а ему приходилось содержать стареющую мать и сестру – последней к тому моменту было уже сорок семь, и ее певческая карьера шла на спад. Только горячей любовью к этим двум женщинам и чувством долга перед ними можно объяснить следующий неожиданный поворот в его карьере: в 1934 году он принял приглашение переехать в США и стать директором школы при Музее изящных искусств в Бостоне. Его этюды публиковались в National Geographic – в журнале подробно освещалась экспедиция “Желтый путь”, и американские ценители искусства познакомились с его талантом. В его работах чувствовалось классическое академическое образование, и это не могло не привлечь консервативную Америку.
Яковлев прибыл в Бостон в 1934 году и заступил на новый пост. Это был его первый визит в Америку, и впереди ожидали три непростых года службы. Теперь Яковлева знали на обоих континентах. Его работы выставлялись в Вашингтоне, Питсбурге и Нью-Йорке. В Штатах у него была возможность навещать брата, моего дедушку Алексея – он покинул Россию в 1915 году, и с тех пор братья не виделись. Но Яковлев – человек, который никогда не жаловался, всегда излучал оптимизм и дружелюбие и был сдержан в проявлении эмоций, в Бостоне был очевидно несчастлив.
“Атмосфера Бостона не располагает к творчеству, это провинциальный, косный город, – писал он в 1937 году Луи Оду-ан-Дюбрейлю, старшему помощнику Хаардта в экспедициях Ситроена. – Я понимаю, что в Европе мои перспективы туманны, но всё равно хочу туда приехать. Моих сбережений хватит на год, а если станет слишком тяжело, вернусь в Штаты… В бостонской школе отпускают меня с сожалением и рады будут нанять снова; а мне сейчас жизненно необходимо вновь погрузиться в бодрящую и нездоровую атмосферу старой Европы”.
Недовольство Америкой и тоска по “старой Европе” сопровождались одолевшими Яковлева в тот период сомнениями в себе. Собственный бесподобный талант рисовальщика теперь его не радовал. Когда ученики в Бостоне восхищались его виртуозной техникой, Яковлев в порыве самобичевания отвечал, что талант к рисованию набросков может стать настоящим проклятьем для художника. Вернувшись в Париж весной 1937 года, Яковлев засел за темперу – он хотел утвердиться в роли живописца, а не просто автора эскизов, но из-под его кисти выходили плоские, безжизненные работы. В тот период Яковлев экспериментировал с мифологическими сюжетами и экспрессионизмом: писал Тезея с Минотавром, одалисок, причудливых морских чудовищ. Это были не лучшие его работы, а Яковлев был слишком умен, чтобы не понимать, что образная живопись ему не дается.
Дядя Саша наслаждался свободой всего год. В мае 1938-го он скончался от стремительно развившегося рака желудка. Американский критик и преданный поклонник работ Яковлева Мартин Бирнбаум писал о последних неделях его жизни и героизме, с которым художник скрывал свою болезнь даже от близких друзей.
В мае 1938 года Бирнбаум в последний раз навестил Яковлева на улице Кампань-Премьер на Монмартре. Художник легко сбежал по лестнице, чтобы проводить гостя в свою мастерскую на четвертом этаже, и Бирнбаума в очередной раз поразил его веселый и умный взгляд, его изящество и аккуратная бородка, придававшая ему сходство с Паном. Критик описывал скромную, но изысканную обстановку, по которой читались пристрастия хозяина: коллекция редких первых изданий, переплетенных в красный сафьян с золотыми инициалами, гимнастические брусья в центре комнаты, на которых Яковлев ежедневно выполнял серию изнурительных упражнений, роскошные хрустальные графины с серебряными пробками, которые его матери удалось вывезти из Санкт-Петебурга.
Когда пришел Бирнбаум, дядя Саша как раз упаковывал вещи, чтобы вернуться на Капри. Он рассказывал о своих планах на лето – грядущая работа должна была стать самым важным его достижением. Вечером они отправились на концерт в зал Плейель, чтобы послушать Иегуди Менухина[25]. В середине концерта Яковлев вдруг побледнел, пожаловался на боль в боку и сказал, что на следующее утро ложится на “небольшую операцию”. После концерта он отвез Бирнбаума домой в своем спортивном автомобильчике и пообещал, что уже через несколько недель они встретятся в порту Пиккола Марина.
Но, как оказалось, это была одна из тех операций, когда хирург разрезает больного, понимает, что рак уже не остановить, и зашивает обратно. Спустя две недели после вечера в Плейель Яковлев скончался. Он встретил смерть так же достойно, как и жил. Мне тогда было семь с половиной лет, и я ясно помню отпевание в русской церкви на улице Дарю. Гроб покрывали алые пионы, любимые цветы дяди Саши. Его семидесятисемилетняя мать, моя любимая бабуля, распростерлась на каменном полу церкви в извечном порыве материнского горя. Помню ее крохотные беспомощные ножки в нескольких сантиметрах от моих. Она страдала от сердечной недостаточности и пережила сына ненадолго – в мае следующего года, в годовщину смерти дяди Саши, ее не стало.
Прежде чем завершить рассказ о самой романтической фигуре в семье Яковлевых, мне бы хотелось поведать о том, как он повлиял на нашу жизнь. Во-первых, моя мать была во многом его творением – благодаря ему она выросла изысканной талантливой девушкой.
Под присмотром бабушки и тети, благодаря постельному режиму и лекарствам, мама излечилась от туберкулеза. Она ждала возвращения дяди Саши из Америки, а пока помогала семье свести концы с концами, позируя для фотографов. Татьяна мечтала об этом еще в России – теперь она позировала для рекламы мехов, украшений и чулок, а также работала натурщицей для рождественских и именинных открыток, невероятно жеманных картинок, где на переднем плане всегда были ее изящные руки.
У нее сразу же появилось множество поклонников, включая князя Меншикова – “обаятельного и воспитанного, но синего чулка”, – бабушка горячо поддерживала такого кавалера, но маму его ухаживания оставили равнодушной. (Мать князя принудила его отказаться от Татьяны, когда увидела открытки с ней в киоске перед марсельским борделем.) В этих невинных приключениях она была всё той же экстравагантной анархисткой: например, войдя в ресторан и увидев в углу зала своих друзей, она забиралась на ближайший стол и так, по столам, шагала к ним, нимало не заботясь о причиняемых другим неудобствах.
Но в первую очередь прелестная девушка, ожидавшая дядю Сашу домой, страдала от строгого надзора бабушки с тетей и одиночества. Татьяну не выпускали из дома по вечерам даже под присмотром, за исключением походов в кино с бабушкой два раза в неделю.
“Здесь ужасно скучно, – жаловалась она в письме матери в Пензу. – В кино можно ходить только с бабушкой… Я же привыкла к самостоятельности. До Парижа я добралась сама, а тут меня всюду водят за руку!”
Тяжелая юность в Советском Союзе уже наградила Татьяну множеством страхов и комплексов, а теперь, после нескольких месяцев в Париже, она рисковала стать совершенно неуправляемой.
Возвратившись из Африки, Саша занялся тем, что врачевал душевные раны племянницы и превращал свою “прелестную дикарку”, как он выражался, в настоящее произведение искусства. Он обожал ее, и она отвечала ему тем же. Они понимали друг друга с полуслова – под куражом матери и изысканным блеском дяди скрывались личности, которые редко демонстрировали окружающим свои подлинные чувства. Хотя дядя Саша и опасался, что красотка племянница станет куртизанкой, он ослабил материнский контроль и позволил Татьяне выходить по вечерам в компании одобренных им молодых людей. Он учил ее, как вести себя за столом, водил по музеям, чтобы познакомить с историей искусств, возил в Горд, Каркассон, Шартр, Мон-Сан-Мишель, чтобы приобщить к европейской истории и архитектуре, заставлял читать Стендаля, Бальзака, Бодлера и других французских классиков, прогуливался с ней по модным домам своих знакомых, чтобы скупать дешевые образцы нарядов, и учил держаться в обществе. Кроме того, нельзя забывать, что именно дядя Саша познакомил Татьяну с мужчиной, который был с ней большую часть жизни и стал моим вторым отцом – Александром Либерманом. Юный Александр, в те годы честолюбивый художник, был сыном Сашиной любовницы, Генриетты Паскар. Алекс боготворил Сашу, с юности учился у него рисованию, и именно в Сашиной мастерской он встретился с Татьяной.
Взявшись за образование племянницы, дядя Саша вполне разумно решил обучить ее какому-нибудь ремеслу. Когда она прожила в Париже год, он отдал ее в Школу моды – организацию наподобие нью-йоркского Института моды и технологий. Там она меньше чем за год получила степень. Затем он убедил свою бывшую любовницу, модистку-эмигрантку с экзотическим именем Фатьма Ханум взять Татьяну в ученицы. В двадцать один год она уже радовала дядю своими успехами. У нее сложился свой круг клиентов, и она мастерила шляпки, зачастую вдохновляясь картинами, которыми он научил ее восхищаться (в любимцах у нее ходили Кранах и Вермеер). Теперь она могла провести целый ужин, допустив всего лишь два-три faux pas[26]за вечер – причем некоторые из них были преднамеренными, чтобы позабавить публику. Ей хватало воображения, чтобы роскошно одеваться на самые скромные средства, и бисер и кроличий мех выглядели на ней словно наряд со страниц Vogue; она водила дружбу со сливками парижского и эмигрантского общества – Прокофьевым, Шагалом, Эльзой Триоле; за ней ухаживали лучшие мужчины Парижа.
Шли годы, за успешным “Черным путем” последовал непростой “Желтый”, дяди Саши не стало, и некоторые мотивы его судьбы стали повторяться в жизни Татьяны, но как бы с отрицательным знаком. Мама питала отвращение к экзотическим путешествиям и твердила, что на Востоке экспедиция прошла по проклятым местам и все ее члены в течение семи лет преждевременно скончались. Ей казалось дикостью – ехать из уютного, спокойного западного мира в Африку, Азию или Южную Америку. Если кто-то из знакомых собирался в Турцию, Иран или Египет, Татьяна непременно говорила: “Что за глупость – ехать на Восток! Дядя мой съездил и умер”. Отдельно она презирала Индию. Тридцать лет спустя я сообщила, что занялась йогой, на что мама заявила, что в Индии отродясь не было ничего хорошего. Впрочем, хотя она и сетовала на любовь дяди Саши к риску, всё же восхищалась его смелостью и стойкостью, много раз говорила о своей благодарности ему, превозносила его щедрость, доброту и изящество и бережно сохранила его архивы – кое-чем из них теперь владею я. До конца своих дней мама скучала по нему – как, полагаю, и все, кто его знал. Александр Яковлев – самый необыкновенный и знаменитый персонаж в нашей семье, главный образец доблести и отваги. Он рисковал так, как мы бы никогда не решились, он жил за всех нас.
Однако, несмотря на любовь к дяде, бабушке и тете – любовь, которая приучила ее к чувству долга перед семьей, – в жизни ее была боль, которую родные утолить не могли. Как бы тяжело им ни жилось в советской России, как бы ни близка она была к смерти, первые годы в Париже она, как и многие соотечественники, ужасно скучала по родине. “Здесь все обо мне заботятся и я не голодаю, – писала она матери через год после прибытия, – но всё не то и не так. Хуже всего это жуткое чувство одиночества… Я так люблю Россию. Здесь всё чудно, Париж – город мечты, но я тут всего лишь гость, и никакая страна не заменит мне мою дорогую, любимую родину”.
В сентябре 1928 года тоска Татьяны по дому была утолена, когда она встретила путешественника из России – самого знаменитого поэта революции, Владимира Маяковского. Он стал любовью всей ее жизни.
Глава 3 Владимир Владимирович Маяковский[27]
Ростом он был выше среднего, с тяжелой квадратной челюстью, гривой черных волос и крупнокостным телом – не то боксер, не то тренер; манеры – весьма бесцеремонные: резкий, порой до грубости, голос – зычный, как у завзятого уличного крикуна. Выступая на публике – к двадцати двум годам уже знаменитость, он самозабвенно спорил с теми, кто ему противоречил. Борис Пастернак, мгновенно попавший под обаяние грубоватого молодого поэта, описывал его как “красивого, мрачного вида юношу с басом протодиакона и кулаком боксера”, который “садился на стул, как на седло мотоцикла” и в общем и целом напоминал “сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей”.
Маяковский стал одним из основателей русского футуризма, зародившегося в интеллектуальной опаре, поднявшейся после неосуществленной революции 1905 года. От схожих модернистских движений Европы его отличало куда более ярко выраженное иконоборчество. Русский футуризм не просто искал новые эстетические формы в век промышленности – прежде всего он стремился задеть буржуазные умы, пронзить их толстую шкуру своим бесстыдным излишеством. Манифест футуристов, который в 1912 году составили Маяковский и Давид Бурлюк[28], назывался “Пощечина общественному вкусу”, он призывал всех творцов выплюнуть прошлое, застрявшее костью в горле, и “сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности”. В соответствии с футуристическими установками образная система Маяковского была апокалиптичной, нарочито грубой, словно он предвидел катаклизмы, ожидавшие Россию в 1917 году.
В “Облаке в штанах” (1915) слова бросаются на поэта, словно “голая проститутка из горящего публичного дома”, двенадцатый час “упал, как с плахи голова казненного”, мысли поэта мечтают “на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке”. Возможно, самый радикальный новатор в истории русской поэзии, Маяковский нападал на священную иерархию русского стиха, сдирал с него традиционную шелуху и наполнял его осколками частушек, поговорок, каламбуров, рекламы и случайных рифм. Просодию он также использовал революционно, предпочитая тонический стих силлабо-тоническому, и зачастую располагал строчки лесенкой, чтобы обозначить, где чтецу надо набрать в грудь воздуху. В стихотворении “Разговор с фининспектором о поэзии” Маяковский пишет:
Строчка — фитиль. Строка додымит, взрывается строчка, — и город на воздух строфой летит. <…> Класс гласит из слова из нашего, а мы, пролетарии, двигатели пера.Все эти новшества, наряду со стремлением поэта к гигантизму, привели к возникновению советского ораторского искусства, словно предназначенного для огромных аудиторий и просторных залов – в годы революции так обычно выглядели культурные мероприятия в России. Однако существовало как бы два Маяковских. В патриотических одах поэт бурно восторгается переворотом общества и гордится новым советским режимом. А в лирической поэзии– “жалующейся… горделивой… безмерно обреченной… почти зовущей на помощь”, как писал Пастернак, основные мотивы – это неразделенная любовь, одиночество, саморазрушение. “Я одинок, как последний глаз //У идущего к слепым человека”, “А сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою”. Корни этого отчаяния и одиночества кроются, как и у многих поэтов, в тяготах детства.
Младший из трех детей, Владимир Владимирович Маяковский родился в 1893 году в западной Грузии, в небольшом селе Багдади. Его отец, обедневший русский дворянин, служил лесничим. В 1901 году семья переехала в город, чтобы Володя мог пойти в гимназию. Вспыльчивый, беспокойный, мрачный мальчик с детства выказывал любовь к книгам и преждевременный интерес к политике. Когда случилась первая русская революция 1905 года, он, двенадцатилетний, воровал у отца ружья и отдавал местным революционерам. На следующий год отец его поранил палец булавкой, когда скалывал бумаги, и умер от заражения крови. Володя с матерью и двумя старшими сестрами, Людмилой и Ольгой, переехал в Москву. Семья едва сводила концы с концами, и именно там, в классической гимназии, Маяковский начал сотрудничать с русской социал-демократической партией трудящихся, чье радикальное крыло называли большевистским. К четырнадцати годам он был полноправным членом партии, а nom de guerre[29] его было – “товарищ Константин”. В пятнадцать лет он принял участие в организации побега из женской тюрьмы группы заключенных и на год попал за решетку, где читал Шекспира, Байрона, Толстого и писал первые стихи.
В 1915 году Маяковскому было двадцать два года. Громогласный молодой человек водил дружбу с Борисом Пастернаком и другими выдающимися поэтами, а также Максимом Горьким. (Говорили, что Горького так тронула поэма “Облако в штанах”, что он рыдал у Маяковского на плече.) К тому времени Маяковский уже влюбился в женщину, которая дольше других будет его музой, – Лилю Юрьевну Брик, урожденную Каган. Дочь преуспевающего еврейского юриста, хорошенькая и образованная, любительница плотских утех, Лиля была одержима главной идеей русских интеллигенток – войти в историю в качестве музы великого поэта. В двадцать лет тщеславная рыжеволосая красавица вышла замуж за Осипа Брика, образованного сына богатого купца, ярого марксиста. Супруги решили любить друг друга “в духе Чернышевского”, проповедовавшего открытые браки. Осип Брик жил в самом сердце богемного мира, принимал у себя художников, поэтов, архитекторов, знал, что все вокруг хотят его жену, и, как и обещал, спокойно воспринимал ее измены. Услышав о её связи со знаменитым молодым поэтом Владимиром Маяковским, он ответил, что такому, конечно, отказать нельзя.
Сексуальные отношения Маяковского и Лили Брик длились с 1917 по 1923 год. Но дружба с Осипом, впоследствии известным литературоведом и пионером формализма (среди его работ – “Ритм и синтаксис (материалы к изучению стихотворной речи)”), стала основой для прочной связи с Бриками – связи, выходившей за пределы сексуального. До конца жизни Маяковского Ося Брик будет его приятелем. Вместе они откроют знаменитый авангардный журнал “Левый фронт искусств”, где сотрудничали Сергей Эйзенштейн, Александр Родченко, Исаак Бабель и другие. В 1918 году Маяковский и Брики уже были неразлучны. До самой смерти Владимир кочевал за ними по разным квартирам, хотя у него было и свое собственное жилье, где он работал, располагалось оно неподалеку от Лубянской тюрьмы. Осип Брик тоже был не прочь завести роман на стороне. Одним словом, этот menage a trois[30] процветал. Брики давали Маяковскому свободу и вместе с ней бытовую и семейную стабильность, которой он не знал с детства. Он же был по сути их главной материальной опорой – к 1918 году он уже стал знаменитостью, и доходы от публикаций и лекций в России и за рубежом давали больше, чем скромные заработки Брика и редкие гонорары Лили за фильмы.
Насколько искренней была дружба Маяковского с Осипом, настолько же мучительной – его связь с Лилей. Общие знакомые поражались, как деспотично она с ним обращается, как раболепно этот большой человек ей подчинен. (“Если буду совсем тряпка – вытрите мною пыль с вашей лестницы”, – писал он в одном из писем.) Маяковский был склонен к мазохизму, а Лиля словно рождена для таких отношений. При ее негласном одобрении он много лет славил в стихах ее бессердечие и неверность. В поэме “Флейта-позвоночник” (1915) он сравнивает ее накрашенные губы с “в холодных скалах высеченным монастырем”. Безответная страсть к Лиле побудила его флиртовать со смертью: в 1916 году он играл в русскую рулетку (и в тот, первый раз, победил)[31].
Склонность к самопожертвованию проявлялась и в политической деятельности. В 1917 году Маяковский погрузился в революцию с большим пылом, чем любой другой русский писатель его масштаба. “Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня <…> не было. Моя революция”, – пишет он. Для него не существовало черной работы. Годами подавляя личные чувства, он по-футуристски громогласно славил строительство плотин и фабрик, был певцом советской промышленности. “Но нынче не время любовных ляс. / Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, / атакующий класс”, – писал он. Маяковский был членом Народного комиссариата просвещения и протеже Анатолия Луначарского: было решено послать поэта с лекциями по всей России – воспевать советский режим. За один месяц этот “барабанщик революции” (как он сам себя называл) объехал восемнадцать городов. Заводские рабочие и студенты его боготворили: на выступления собирались тысячи людей. Маяковский много сделал для того, чтобы русский народ принял большевизм.
С 1919 года он употреблял свой художественный талант на рисование агитплакатов – иногда по несколько штук в день. Его знаменитые на всю страну слоганы – за один год он мог написать несколько сотен – прославляли макаронные изделия, конфеты, галоши, шины, даже соски. “Всё, что требует желудок, тело или ум, – всё человеку предоставляет ГУМ”, “Лучших сосок не было и нет – готов сосать до старых лет”.
В 1924-м Маяковский написал поэму в две тысячи строк в память Ленина. Ее встречали овациями.
… настоящий мудрый человечий ленинский огромный лоб <…> Отчего ж, стоящий от него поодаль, я бы жизнь свою, глупея от восторга, за одно б его дыханье отдал?!В 1920-е годы Маяковский ездил с пропагандой по зарубежным странам: он побывал в Латвии, Германии, Польше, Чехословакии, Франции, на Кубе, в Мексике, а также в Штатах, где задержался на несколько месяцев и успел стать отцом: американка русского происхождения Элли Джонс родила от него дочь. Но бурная патриотическая деятельность, конфликт между публичным обликом и настоящим лицом, подавление своего таланта ради блага страны – всё это привело к депрессии. Постепенно он понял, что, направляя всю энергию на революционную деятельность, “наступая на горло собственной песне”, он рискует утратить свой талант. “Только большая, хорошая любовь может спасти меня”, – делился он с близким другом Романом Якобсоном, который впоследствии станет знаменитым литературоведом, одним из тех, кто определил пути развития науки в XX веке. По словам Якобсона, 1928 год, когда Маяковский познакомился в Париже с Татьяной Яковлевой, стал роковым для поэта – он был сломлен, жизнь в одиночестве стала невыносимой, Владимир нуждался в перемене.
К 1928 году младшая сестра Лили Брик, Эльза Триоле – утонченная, обаятельная эмигрантка, глубоко привязанная к сестре, – уже восемь лет жила попеременно в Париже и Берлине. Со времен первой поездки Маяковского во Францию, в 1922 году, когда она водила его по Парижу и была его переводчицей (Владимир наотрез отказывался учить иностранные языки), Эльза понемногу шпионила за ним для сестры, докладывая ей о романтических эскападах поэта. Но вплоть до 1928 года у Лили не было поводов для беспокойства. В этот приезд он собирался отправиться в Ниццу, чтобы навестить свою американскую любовницу Элли Джонс – она привезла их дочь, которой в ту пору шел третий год, на первую встречу с отцом. Хотя ходили слухи о нелюбви Маяковского к детям[32]и встреча, с точки зрения Элли, обернулась полным фиаско, Лиля с Эльзой опасались, что поэт решит уехать с матерью своего ребенка в Америку. Чтобы отвлечь его от американской угрозы, Эльза решила познакомить Маяковского с юной русской красавицей – моей матерью, Татьяной Яковлевой. В день возвращения из Ниццы, 25 октября, Эльза повела Маяковского к парижскому врачу, который был известен в эмигрантских кругах. От жены врача она знала, что Татьяна Яковлева тем же утром должна была прийти к нему на прием.
Но интрига провалилась. Маяковский пришел к врачу, увидел Татьяну и без ума в нее влюбился. Вспоминая эту встречу, мама говорила, что он повез ее домой, в такси кутал ей ноги своим пальто, а перед бабушкиным домом рухнул на колени и признался ей в любви. “Да-да, на колени, прямо на тротуаре, – говорила мама. – Посреди бела дня”.
Этот coup de foudre[33] был взаимным. С 25 декабря по 2 января Татьяна и Маяковский виделись каждый день, пока у него не кончилась виза и ему не пришлось возвратиться в Россию. Маяковский с гордостью ходил по Парижу с высокой белокурой красавицей, не уступавшей ему темпераментом, и даже уважал ее пуританские убеждения – Татьяна не разделяла богемных взглядов своего круга и твердо решила хранить девственность до свадьбы. Она понимала, каким непростым человеком был Маяковский. Он боялся одиночества, ревновал своих друзей и требовал их безраздельного внимания – если товарищ вдруг отказывался поиграть с ним вечером в шахматы, это было предательством. Маяковский был мучительно озабочен вопросами гигиены (последнее, возможно, было связано с обстоятельствами смерти отца) – не брался за дверную ручку, не обернув ее предварительно носовым платком, всюду таскал с собой металлическую мыльницу, а если ему доводилось пить в общественных местах, то непременно протирал стаканы всё тем же платком.
Отношения складывались нелегко. Татьяна постоянно находилась под строгим присмотром родственников, ярых антикоммунистов. Чтобы продолжать роман со знаменитым советским поэтом, приходилось прибегать ко множеству уловок. Она на каждом шагу лгала любящей бабушке и подговорила несколько верных друзей обеспечивать ей алиби. “Бабушку бы удар хватил, если бы она знала, с кем я каждый вечер ужинала, – вспоминала Татьяна полвека спустя. – Большевик рядом с ее внучкой, которую с трудом вытащили из несчастной разоренной России!”
Зато в пронизанном ностальгией парижском обществе большевизм не был помехой влюбленным. Маяковский намеренно не говорил с Татьяной о мировых событиях, а ее антикоммунистические настроения терялись на фоне горделивой радости, которую в ней вызывала любовь такого знаменитого поэта. Когда Маяковский узнал, как глубоко Татьяна знает русскую поэзию, он и вовсе потерял голову. Они ходили по бесчисленным кафе – “Ла-Куполь”, “Ле-Вольтер”, “Ла-Ротонд”, “Ле-Дантон”, “Ла-Клозри-де-Лила” – и она часами читала ему стихи. Как можно было устоять, когда она наизусть знала “Облако в штанах” – все семь сотен строк? Он говорил всем, что у Татьяны абсолютный слух к поэзии, такой, как бывает у музыкантов. Она стала для поэта наперсницей вместо Лили. Маяковский рассказал ей о своей домашней ситуации, и, несмотря на свою строгость, Татьяна приняла эту необычную историю как данность. Они вместе выбирали для Лили платье и четырехцилиндровый серый “рено”.
Через две недели Маяковский предложил ей руку и сердце, но Татьяна отвечала уклончиво. За обедом в монпарнасском ресторане “Гран-Шомьер” в ноябре он преподнес Татьяне два посвященных ей стихотворения. Они записаны его мелким косым почерком в зеленой тетрадке, которая теперь хранится у меня. Одно называлось “Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви”, второе – “Письмо Татьяне Яковлевой”. В первом говорилось об их первой встрече в приемной врача:
Представьте: входит в меха красавица в зал, и бусы оправленная. Я эту красавицу взял и сказал: – правильно сказал или неправильно? — Я, товарищ, — из России, знаменит в своей стране я…“Письмо товарищу Кострову” – первое стихотворение, посвященное не Лиле Брик, а другой женщине, – было самым страстным произведением Маяковского за много лет. Очевидно в Татьяне он нашел ту “большую, хорошую любовь”, о которой говорил Якобсону.
Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачьеи, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи. <…> Нам любовь не рай да кущи, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердца выстывший мотор.“Письмо Татьяне Яковлевой” было еще более прозрачным в нем поэт просил Татьяну вернуться с ним в Москву.
Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зимуй, и это оскорбление на общий счет нанижем. Я всё равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем.,Все восхищались красотой этой статной пары, их безграничному обаянию. Помимо страсти к поэзии они разделяли множество склонностей и привычек – оба были щедры, эгоистичны и под несдержанностью скрывали застенчивые ранимые души. Татьяна представляла Маяковского своим знакомым французам и эмигрантам. Это не могло остаться в тайне от сестры Лили, Эльзы, которая жила в той же гостинице на Монпарнасе, что и Маяковский, и в ту пору встречалась с французским поэтом Луи Арагоном. (Впоследствии они поженятся и станут звездной парой международного коммунизма.) Тем временем Лиля начала нервничать (ее держала в курсе событий сестра и, возможно, тайная полиция, которая уже начала видеть во всех советских путешественниках потенциальных перебежчиков): “В кого это Володя влюбился <…> Кому это он пишет стихи (!!) <…> говорят, она валится в обморок, если при ней выругаться?” Вскоре Лиля получила ответ на свои вопросы. В декабре срок действия визы Маяковского истек, и ему пришлось вернуться в Москву. Хотя в мае, после премьеры “Клопа”, он собирался снова приехать в Париж, расставание с Татьяной было очень тяжелым. Перед отъездом Маяковский заплатил цветочнику, чтобы Татьяне до его возвращения каждое воскресенье посылали по дюжине роз – к каждому букету прилагалась его визитная карточка с запиской.
В первом из множества писем, которые мама написала своей матери после отъезда Маяковского, читается и печаль из-за расставания, и наивная гордость своим новым статусом музы.
Он выдающийся человек [пишет Татьяна]. И совершенно не такой, как я думала. Он меня обожает, и ужасно расстроен, что пришлось на полгода от меня уехать. Он звонил мне из Берлина – это был настоящий крик боли. Раз в день приходят телеграммы, раз в неделю – цветы. <…> Весь наш дом завален цветами, просто чудо. <…> Мне так грустно оттого, что он уехал. Это самый талантливый человек из всех, кого я знаю <…> Тебе бы понравились стихи “Письмо к Татьяне Яковлевой” и “Любовное письмо”[34].
Ее тем сильнее тянуло к Маяковскому, что он напоминал ей о России.
С ним я чувствую себя в России, а теперь его нет рядом, и я тоскую по России еще сильнее. Но это я могу написать только тебе, мамуленька, больше никому. Он оставил мне две копии «моих» стихов, посылаю тебе одну. Пока не показывай никому. Скоро их опубликуют. Здесь они имели колоссальный успех. Это лучшие его лирические стихи.
Несколько недель спустя, в следующем письме, она продолжает гордиться тем, что стала новой музой поэта. (В каждом письме она посылает привет отцу – так она звала второго отчима, Николая Александровича Орлова.)
Как я ни капризничаю, он не устает обо мне заботиться, и я страшно по нему скучаю. <…> Почти все мои знакомые здесь – “светские люди”, которые не желают пользоваться мозгами. <…> М. меня изменил. <…> Он заставил меня мыслить, и теперь я мучительно скучаю по России. <…> Здесь его носят на руках, даже французы очарованы ритмом стихов и силой голоса, который их произносит. Понравились ли стихи отцу? <…> Он пробудил во мне тоску по России и всем вам. Честное слово, чуть не отправилась обратно. Всё здесь кажется таким мелким и жалким. Он такой большой человек – и морально, и физически, – что его отъезд оставил после себя бездну. Это первый мужчина, оставивший след в моей душе.
Маяковский тем временем писал Татьяне страстные письма. Его футуристская, устремленная в будущее натура требовала телеграмм, а не писем, потому что они доходили быстрее, – и он слал ей по телеграмме в неделю. “Пиши чаще получил письмо пишу тебе дико скучаю люблю целую твой Вол”, “Получил письмо спасибо отправил тебе письмо и книги скучаю люблю целую Вол”. Письма приходили раз-два в месяц. Первое пришло 24 декабря – через несколько недель после его возвращения в Москву:
Горы и тундры работы.[34] Доработаю и рванусь видеть тебя. Если мы от всех этих делов повалимся (на разнесчастный случай), ты приедешь ко мне. Да? Да? Ты не парижачка. Ты настоящая рабочая девочка. У нас тебя должны все любить и все тебе обязаны радоваться. Я ношу твое имя, как праздничный флаг над городским зданием. Оно развевается надо мной. И я не принижу его ни на миллиметр. Твой стих печатается в “Молодой гвардии”. Пришлю. <…>
Обнимаю тебя, родная, целую тебя и люблю и люблю.
Твой Вол
Под налетом советского патриотизма крылась мольба вернуться с ним в СССР. Маяковский, видимо, понимал, что советские цензоры перлюстрируют его переписку с эмигранткой, и о браке говорит между строк, уклончиво.
Маяковский обыкновенно был честен со своими женщинами. Вернувшись в Москву, он подтвердил подозрения Лили и прочел ей “Танины стихи”.
– Ты меня впервые предал! – воскликнула Лиля в слезах, ее душила ярость при мысли, что она теперь не единственная его муза.
Вскоре он сообщил ей за ужином, что хочет жениться на Татьяне и привезти ее в Россию. В ответ Лиля разбила старинную фарфоровую тарелку. [35]
Во втором письме Маяковского моей маме, написанном в предновогодний вечер 1929 года, упоминается, что Лиля ревнует его к ней:
Милый! Мне без тебя совсем не нравится. Обдумай и пособирай мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя на лапы и привезть к нам, к себе в Москву. Давай об этом думать, а потом и говорить. Сделаем нашу разлуку – проверкой.
Если любим, то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шаганье по телеграфным столбам? <…>
31-го в 12 ночи <…> я совсем промок тоской. Ласковый товарищ чокался за тебя и даже Лиля Юрьевна на меня слегка накричала – “если, говорит, ты настолько грустишь, чего же не бросаешься к ней сейчас же?” Ну что ж… и брошусь!
Только дожму работу. Работаю до ряби в глазах и до треска в плечах. <…>
Когда я совсем устаю, я говорю себе – “Татиана” и опять вперяюсь в бумагу. Ты и другое солнце – вы меня потом выласкаете. <…>
Работать и ждать тебя – это единственная моя радость. Люби, люби меня, пожалуйста и обязательно.
Обнимаю тебя всю, люблю и целую.
Твой Вол
Лиля Брик была не единственной, кого беспокоил этот роман. К декабрю 1929 года Сталин уже обладал абсолютной властью, и правительственный контроль над прессой становился всё жестче. "Письмо товарищу Кострову” было подвергнуто критике: поэту дали задание написать стихи о Париже для официального издания РКП (б), – а тут… что за буржуазное декадентство, что за описания красотки-эмигрантки в бусах и мехах! Даже мою бабушку тревожили эти отношения – через месяц после отъезда Володи Татьяна пишет матери обиженное письмо. “Я еще не решила наверняка, что приеду в Россию или, как ты выражаешься, «брошусь на него». А он едет в Париж не для того, чтобы «подцепить меня», а чтобы увидеть. <…> Не забывай, что девочке твоей уже 22, и что немногих женщин за всю жизнь любили так сильно, как любят меня. (Это мне от тебя досталось. Меня тут считают «роковой женщиной».)”
Татьяна с удовольствием щеголяла перед матерью своим успехом. Но ее раздирали противоречивые чувства: ничем не ограниченная радость жизни в уютном, роскошном Париже, где у нее начала складываться карьера, и искушение вернуться в больную измученную Россию, к любящим ее людям.
Кроме того, я вообще не хочу сейчас замуж: я слишком привязана к своей свободе и независимости – мои шляпки, моя «оранжерея» (в комнате моей всегда полно цветов). Множество кавалеров хочет отвезти меня путешествовать, но все они не выдерживают сравнения с М., и я практически наверняка уверена, что предпочла бы его всем им. Какой он умный, какой образованный! Важно и то, что я снова смогу тебя увидеть; временами я ужасно по тебе скучаю.
Это первый намек на то, что Татьяна, втайне даже от матери, держит при себе несколько французов, которые могут предложить ей надежный, солидный брак. “Пока же я переживаю множество драм, – пишет она своей мамуленьке. – У меня есть еще два кавалера, и всё это какой-то ужасный заколдованный круг”.
Маяковского, очевидно, никак не тронула критика “Письма товарищу Кострову”, и 14 февраля он поспешил обратно к Татьяне – на три месяца раньше обещанного, не дожидаясь даже отзывов на “Клопа”. (Пьесу поставил Всеволод Мейерхольд на музыку Дмитрия Шостаковича, и постановка получила смешанные, местами положительные отзывы). Воссоединение влюбленных прошло так же идиллически, как и первая встреча. Они вновь виделись ежедневно и даже съездили вдвоем в Ле-Туке на выходные. Он писал ей стихи – на этот раз короткие, пародирующие поэзию XIX века, за подписью “Маркиз ВМ” (шутливая подколка ее страсти к титулам). Мама заметила в нем перемену. “Он не критиковал Россию напрямую, но очевидно в ней разочаровался”, – вспоминала она полвека спустя. Это впечатление совпадает с воспоминаниями его русского друга, с которым поэт встретился во время краткого и катастрофически неудачного турне по казино Ниццы: “Я больше не поэт… Я теперь только партийный функционер”.
В апреле срок действия визы Маяковского снова истек, и он принужден был вернуться в Москву. Влюбленные договорились встретиться в октябре в Париже – к тому моменту Татьяна должна была решить, выйдет ли она за него замуж. На прощание она подарила ему ручку Waterman. Прощальная вечеринка в “Гран-Шомьер” с друзьями напоминала атмосферой праздник в честь помолвки. Тем же вечером они шли под руку к Северному вокзалу, и все вокруг видели, как сильно они любят друг друга, как больно им расставаться.
Первое дошедшее до нас письмо Маяковского того периода датировано 15 мая – в нем говорится о какой-то Татьяниной обиде.
Дорогой, милый мой и любимый Таник!
Только сейчас голова немного раскрутилась, можно немножко подумать и немного пописать. Пожалуйста, не ропщи на меня и не крой – столько было неприятностей от самых мушиных до самых слонячьихразмеров, что, право, на меня нельзя злобиться. Начну по порядку,
1) Я совершенно и очень люблю Таника.
2) Работать только что начинаю, буду выписывать свою “Баню”…
Дальше он говорит о каких-то необычайно щедрых распоряжениях, сделанных по адресу ее матери – Татьяна наверняка не осталась равнодушной к такой заботе, – и сообщает, что собирается в Крым, читать лекции. Заканчивает поэт:
7) Пиши мне всегда и обязательно телеграфируй, без твоих писем мне просто никак нельзя.
8) Тоскую по тебе совсем небывало.
9, 10, 11, 12 и т. д. Люблю тебя всегда и всю очень и совершенно.
Твой Вол
Следующее письмо пришло в июле. На этот раз Татьяна, видимо, пожаловалась, что он чаще телеграфирует ей, чем пишет.
Дорогая, родная, милая любимица Таник!
Ты обещала писать каждые три дня, я ждал, ждал, лазил под ковер, но письмо оказалось двухнедельное, да еще и грустное. Не грусти, детка, не может быть такого случая, чтоб мы с тобой не оказались во все времена вместе. <…>
Ты всё говоришь, что я не пишу. А телеграммы – собаки, что ли? <…>
На работу бросаюсь, помня, что до октября не так много времени. <…>
Милый мой, родной и любимый Таник. Не забывай меня, пожалуйста. Я тебя так же люблю и рвусь тебя видеть.
Целую тебя всю.
Твой Вол
Пиши!!!
К июлю они оба жалуются, что не получают друг от друга писем. Остается только гадать, до какой степени контролировала служба безопасности переписку знаменитого советского поэта с эмигранткой и какую роль в этом играла Лиля Брик, у которой был неограниченный доступ в квартиру Маяковского на Лубянском проезде.
Татьяне летом 1929 года приходится так же тяжело, как и Маяковскому.“Напиши мне, как он там, я страшно по нему скучаю, – пишет она в июле сестре Людмиле, начинающей актрисе, которая в то время вела полунищее существование в Москве. – Без него мне скучно жить. Здесь людей такого масштаба мало”. В том же месяце в письме матери она упоминает о щедрости поэта к ее московской родне: по просьбе Татьяны он привез ее сестре одежды и выслал ей денег. Кроме того, он организовал для их больной матери путешествие в Крым – правда, к расстройству Татьяны, мать отказалась, возможно из гордости.
Как жаль, что ты отказалась поехать в Крым [пишет Татьяна матери]. Я так об этом мечтала. В. В. написал мне печальное письмо; он надеялся <…> устроить это дело. В конце концов, пока мы далеко, он может помочь мне только тем, что будет смотреть за тобой и Людочкой. <…> Я очень ценю в нем это качество – безграничную доброту и заботу. С величайшей радостью жду его приезда осенью. Здесь нет людей его масштаба. В отношении к женщинам – и особенно ко мне – он настоящий джентльмен.
Это выражение – “настоящий джентльмен” – сохранится в мамином словаре до самых последних дней. В те редкие разы, когда она говорила о Маяковском, то описывала его как “невероятно обаятельного и сексапильного мужчину с редким чувством юмора”, который к тому же “берег ее девственность”. Его “превосходные манеры”, его “нежное участие”, его превосходный вкус в одежде (“Он походил больше на английского аристократа, чем на большевистского поэта”) – всё это делало его самым выдающимся джентльменом из всех известных маме мужчин.
Неизвестно, правда, что бы она подумала, узнай, какую жизнь он вел в Москве по возвращении из Парижа.
Глава 4 Наследие Маяковского
За тринадцать лет, которые Маяковский прожил с Бриками, Лиля прощала ему бесконечные романы и даже поощряла их – до той поры, пока всё это было несерьезно. Она воспринимала эти интрижки как средство выпустить пар, да и сама часто меняла мужчин. Однако, несмотря на то что они уже несколько лет не спали вместе, любой признак серьезного чувства к другой женщине тревожил ее. Существовал также и финансовый вопрос: Володя содержал Бриков. Но самое главное – Лиле хотелось оставаться единственной музой поэта. Поэтому весной 1929 года, когда в жизнь Маяковского вошла Татьяна Яковлева и вдохновила его на по-настоящему страстные стихи, Лиля поняла, что имеет дело не с очередной смазливой мордашкой, а с куда более опасным соперником. (Ее не могла не задеть строчка из “Письма товарищу Кострову”, описывавшая чувство к Лиле как “сердца выстывший мотор”.) Семью месяцами ранее она мобилизовала сестру, чтобы дать отпор американке. На этот раз она обратилась за помощью к мужу.
Не прошло еще и двух недель с возвращения Маяковского из Парижа, когда Осип Брик позвонил очаровательной актрисе Московского Художественного театра Веронике (Норе) Полонской, которой тогда шел двадцать второй год. Эта бойкая рябая блондиночка недавно вышла замуж за знаменитого актера, который был старше нее[36], и только начала свое восхождение по лестнице славы. Звонок Брика немало удивил ее – он предлагал пойти с ним и Маяковским на скачки. Она согласилась.
Расчет Лили оправдался: Володя начал ухаживать за Норой. Хотя поначалу ее отпугнула напускная резкость поэта, при первом же свидании наедине Нору тронула его мягкость и деликатность, власть его низкого голоса и верность большевистским принципам. Уже через несколько недель “Норочка” отвечала поэту полной взаимностью и каждый день навещала его квартиру на Лубянском проезде. Тем летом они путешествовали вместе по Ялте и Сочи, где Маяковский читал лекции.
Когда я читала воспоминания Норы Полонской в архивах музея Маяковского, поначалу меня изрядно озадачили метания поэта. В конце концов, он прославился своей искренностью и прямотой. Кроме того, я сама к тому моменту уже искренне привязалась к Владимиру Владимировичу и даже немного влюбилась в него – мне хотелось найти ему оправдание. Ему срочно нужно было утешиться, рассуждала я, к тому же о его либидо ходили легенды – можно вообразить, как нелегко ему дались месяцы ухаживаний за моей строгой матерью. Еще менее понятной становится история с Полонской, если прочесть необыкновенно страстное письмо Татьяне от 16 июля 1929 года, которое Маяковский написал, прежде чем уехать в Крым к Норе.
Таник я по тебе совсем совсем затосковал.
Ты замечаешь что ты мне почти не пишешь! Надоело?
Детка напиши, пожалуста, и пообещай меня навестить если будет до последнего надо.
Дальше октября (назначенного нами) мне совсем никак без тебя не представляется.
С сентября начну себе приделывать крылышки для налета на тебя.
Ты меня еще помнишь? Я такой высокий косолапый и антипатичный.
Сегодня еще и очень хмурый. <…>
Таник родной и любимый не забывай, пожалуста, что мы совсем родные и совсем друг другу нужные.
Обнимаю люблю и целую тебя твой
ВОЛ
Он называет Татьяну “родной”, что придает письмам Маяковского особенную нежность и интимность. Снова упрекая любимую за молчание, поэт пытается привлечь ее на родину восторженными отзывами о жизни в СССР.
Родной и любимый Таник
Прости, что я так зачастил письмами Видишь я не считаюсь с тем что ты молчишь. Чего же ты родная считаешься с моими письменными принадлежностями.
Детка <…> у нас сейчас лучше чем когда нибудь и чем где нибудь такого размаха общей работищи не знала никакая человечья история. <…>
Таник! Ты способнейшая девушка. Стань инженером. Ты право можешь. Не траться целиком на шляпья. <…>
Так бы этого хотелось! Танька инженерица где нибудь на Алтае! Давай, а?!
Детка пиши и люби
Скорей бы увидеть!
Смешно думать, как моя легкомысленная, расточительная мать отправилась бы в суровую Россию строить социализм в Центральной Азии. С другой стороны, когда я читаю последнее письмо Маяковского, от 5 октября, у меня наворачиваются на глаза слезы.
Родная
(других обращений у меня нет и быть не может)
Это ты имей в виду лет у у обязательно.
Неужели ты не пишешь только потому что я “скуплюсь” словами?! Это ж нелепо. Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня еще молчаливее. Или, скорей всего, французские поэты (или даже люди более частовстречающихся профессий) тебе теперь симпатичнее. Но если и так то ведь никто ничто и никогда не убедит меня что ты стала от этого менее роднее. <…>
Моя телеграмма к тебе пришла с ответом о ненахождении адресатки!
Детка пиши пиши и пиши. Я ведь всё равно не поверю что ты на меня наплюнула! Напиши сегодня же! Накопились книги и другие новости которые пищат и просятся к тебе на лапки.
Целую люблю
Твой Вол
Упоминание “всех грустностей” (в предыдущих письмах он упоминал также “множество неприятностей”) относится к событиям 1929 года – года великого перелома. Первая декада советской культуры – сравнительно спокойная и многоголосая – подошла к концу. И чтобы понять развязку романа Маяковского и моей матери, необходимо знать, что в тот год происходило в стране.
Осенью 1928-го[37] Иосиф Сталин в одиночку возглавил коммунистическую партию и начал жестокую перестройку советского общества. Началась коллективизация[38]. Планы развития были разделены на “пятилетки”, они провозглашали, что тяжелая промышленность станет производить вчетверо больше прежнего, а государство вновь станет управлять всеми предприятиями, Советский Союз будет изолирован от Запада, и – что напрямую касалось Маяковского – партия возьмет под жесткий контроль все сферы образования и культуры.
В январе 1929-го Сталин изгнал из страны Троцкого и начал по одному уничтожать культурные организации и отдельных писателей. К осени выехать из СССР было уже очень сложно.
В условиях этой так называемой революции сверху власть на литературном поприще захватила Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) – самое могущественное литературное объединение Советского Союза. В декабре 1929 года в передовице газеты “Правда” вышло требование всем советским писателям вступить в РАПП. Им предписывалось воспевать пролетарские ценности и изгонять из своего творчества всё буржуазное и уклонистское. Вот почему осенью 1929 года Маяковский не вернулся в Париж к моей матери – ему то ли не дали визу, то ли непрозрачно намекнули, чтобы он даже не смел ее просить.
Неверные воспоминания стареющих современников об этом периоде размыты и скорее относятся к области домыслов. Как бы то ни было, те же исторические силы, что раскололи Россию на костенеющее Советское государство и милую утраченную родину, которую хранили воспоминания эмигрантов по всему миру, разделили в конце концов и двух влюбленных.
Мать моя вспоминала об этом так: вскоре после октябрьского письма Маяковского она узнала от Эльзы Триоле, что ему не дали визу. (Хотя гордость и не позволяла ей признаться, я не исключаю, что Триоле, по наущению сестры, рассказала Татьяне в том числе о Норе Полонской.) Это была ужасная весть. Тем временем друзья рассказывали ей, что в России начались репрессии, и сам поэт в изредка доходивших письмах всё намекал на какие-то “неприятности”. Татьяна поняла, что у них с Маяковским нет будущего, и занялась устройством своей жизни – одним из ее поклонников был красавец-дипломат виконт Бертран дю Плесси. Француз, четырьмя годами старше нее, специалист по славянским языкам, весь прошлый год прослужил атташе при французском посольстве в Варшаве. В середине октября 1929-го, когда он приехал в Париж, мама приняла его предложение.
К несчастью, у нас не сохранилось ни одного письма из ее переписки с матерью в период с середины октября до конца декабря 1929-го. Письма, в которых она рассказала о дю Плесси, их помолвке и скором браке, не дожили до наших дней. Документы в архиве музея Маяковского гласят, что в начале 1930-х годов агенты НКВД нанесли моей бабушке в Пензе несколько визитов и изъяли письма из-за границы. То ли по странному совпадению, то ли намеренно, они забрали все письма, отосланные в последние десять недель 1929 года. В последнем ее письме от 15 октября кратко сообщается, что “Маяковский зимой не приедет”. До конца декабря писем больше не было. Поэтому об окончании романа мы знаем со слов Лили Брик – много лет спустя она вспоминала, как одним октябрьским вечером Маяковский узнал о помолвке Татьяны.
Мы мирно сидели в столовой Гендрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений. <…> В это время принесли письмо от Эльзы. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Т. Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую был еще по инерции влюблен, выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви, в белом платье, с флердоранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала.
В этом лицемерном пассаже отчетливо видна неприязнь Лили к моей матери. Дальше Брик заявляет, что якобы не стала бы читать письмо вслух, если бы сестра предупредила ее.
Володя помрачнел. Встал и сказал: “Что ж, я пойду”. “Куда ты? Рано, машина еще не пришла”. Но он взял чемодан, поцеловал меня и ушел.[39]
Далее Лиля приводит воспоминания шофера Маяковского, который говорит, что тем вечером поэт ругался, а затем молчал всю дорогу до вокзала. “Простите, не сердитесь на меня, товарищ Гамазин, пожалуйста, у меня сердце болит”, – сказал он по приезде.
На следующий день Лиля решила поехать за Маяковским в Ленинград, чтобы приободрить его. Пока они ездили с одного чтения на другое, Владимир отпускал язвительные шуточки про французских аристократов – как ни напряженно складывались его отношения с советским режимом, мысль о том, что любимую женщину у него отнял аристократ, была ему особенно невыносима. “Мы работаем, мы не французские виконты”, – говорил он. Или: “Если б я был бароном”. Даже Лиля признает, что Маяковский отказывался признавать замужество Татьяны.
Сама Татьяна вспоминала о событиях октября 1929 года в разговорах с ближайшим другом последних лет жизни – русским ученым и историком балета Геннадием Шмаковым. Шмаков собирался писать ее биографию: с ним она говорила о прошлом откровеннее, чем с кем бы то ни было.
Я его [Маяковского] любила, он это знал, но я сама не знала, что моя любовь была недостаточно сильна, чтобы с ним уехать. И я совершенно не уверена, что я не уехала бы – если б он приехал в третий раз, потому что очень по нему тосковала. Я, может быть, и уехала бы… фифти-фифти. <…>
– Значит, узнав, что он не приезжает, ты решила выйти замуж?
– Чтобы развязать узел. Осенью 1929-го дю Плесси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Маяковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было бы выбора. Я думала, может быть, он просто испугался… Как тебе объяснить?[40] Я себя почувствовала свободной. Мы с дю Плесси ходили в театры, я ему сказала, что чуть не вышла замуж за русского. Он бывал у нас в доме открыто – мне нечего было его скрывать, в конце концов он был француз, холостяк, ему было далеко до Маяковского, но я вышла за него, он удивительно ко мне относился.
– Ты его любила?
(Долгая пауза.)
– Нет, я его не любила. В каком-то смысле это было бегство от Маяковского. Ясно, что граница для него была закрыта, а я хотела строить нормальную жизнь, хотела иметь детей, понимаешь? Франсин родилась через девять месяцев и два дня после свадьбы.[41]
Мои родители поженились 23 декабря 1929 года. Шесть дней спустя Татьяна написала матери из свадебного путешествия по Италии. В первом письме – из Неаполя – она описывает свадьбу. Под венец ее вел дядя, Александр Яковлев, и он же купил ей платье, которое имело “колоссальный успех”. Они с Бертраном отправлялись в Помпеи. Он был “бесконечно заботливым, нежным мужем и восхитительным попутчиком”. Через три года они разошлись. Возможно, отец понял, что мать его не любит. Возможно, он был первым, кто догадался (сама я поняла это, только читая их переписку) – Маяковский был единственной великой любовью в жизни Татьяны.
Последние месяцы жизни Маяковского были отмечены серией разочарований. Пьесу “Баня”, в которой поэт яростно нападал на костенеющую советскую бюрократию, которая, по его мнению, предавала идеалы революции 1917 года, – встретили, как выразился один из его друзей, “ледяным молчанием”. Неприязнь публики в большей степени относилась к личности Маяковского. Хотя он редко пользовался автомобилем, который привез Лиле из Парижа годом раньше, каждая поездка на нем (перед которой он, кстати, просил у нее разрешения) вызывала яростные нападки. Маяковского критиковали даже за французскую ручку Waterman, прощальный подарок моей матери, который он всюду носил с собой. Выставку плакатов, рисунков и книг “Двадцать лет работы”, которая открылась 1 февраля 1930 года, бойкотировали все писательские объединения – на нее пришли одни студенты. Полонская вспоминала, как Маяковский шагал по пустым комнатам, опечаленный (“Но ты подумай, Нора, ни один писатель не пришел!.. Тоже, товарищи!”). В январе он читает оду к Ленину в Большом театре перед Сталиным и Молотовым, но даже это событие не радует его. Зима 1929-1930-го обернулась цепочкой неудач. Маяковский чувствовал себя в изоляции, а Полонская вспоминала, что, если не считать неоконченной поэмы “Во весь голос”, у него был явный творческий застой. Во вступлении он привычно пишет о себе: “Ассенизатор //и водовоз, // революцией // мобилизованный и призванный” – и вместе с тем откровенно жалуется, что ему приходится становиться “на горло // собственной песне”. Эти строки демонстрируют его разочарование, болезненный разлад между коммунистическими идеалами и реальностью, между мечтами и отчуждением общества, его давлением и необходимой каждому поэту свободой.
Зимой, вскоре после свадьбы моей матери, Маяковский, по воспоминаниям Полонской, стал уговаривать ее уйти от мужа и выйти за него замуж. Но вскоре после Нового года их отношения расстроились – Нора забеременела и сделала аборт, после чего стала холодна к поэту. Друзья замечали, что у него был “беспомощный, одинокий, печальный вид” и что он впервые в жизни начал сильно пить.
В феврале 1930 года, в разгар душевного упадка, Маяковский еще раз оттолкнул своих друзей, вступив в РАПП – партийную организацию, которая нападала на советских интеллектуалов за “анархизм” и “троцкистские отклонения”. В РАПП его побудил вступить Осип Брик, который считал, что это поможет поэту преодолеть общественное отчуждение, но самые почитаемые Маяковским писатели смотрели на это объединение с ужасом. Однако даже эта злополучная организация неодобрительно отреагировала на появление в своих рядах поэта – его определили в группу незначительных и начинающих писателей и заставили пройти унизительное обучение[42]. На выступлениях его всё чаще освистывали, и даже студенты, обычно самые преданные его поклонники, говорили, что он стал писать заумно. Более того, уже нельзя было сбежать от одиночества в дом Бриков в Гендриковом переулке: Осип и Лиля в конце февраля уехали в Англию. Впервые с начала совместной жизни они уехали одновременно. У Маяковского осталась только Нора, и он не отпускал ее от себя ни на миг. Ей же хотелось работать, и между ними то и дело вспыхивали ссоры.
11 апреля Маяковский впервые в жизни не пришел на собственное чтение. 13 апреля он позвонил нескольким друзьям, прося поужинать с ним, но все отказались. Свояченица Асеева вспомнила, что тогда он мрачно сказал: “Ну что ж, ничего не поделаешь”. В результате поэт пошел домой к Валентину Катаеву, где они с Норой весь вечер передавали друг другу записки – Маяковский выпил больше обычного и швырял Норе скомканные бумажки, словно кидал шарик на рулетку. В три часа ночи они разошлись по домам. Утром он приехал к Норе и отвез ее к себе. Они ссорились – он умолял ее остаться, а она твердила, что ей пора на репетицию.
В 10:51 Нора с трудом вырвалась из рук Маяковского и выбежала из комнаты. Несколько секунд спустя, уже на лестнице, она услышала выстрел и бросилась обратно. В воздухе еще плавал дым.
Следующие несколько часов впоследствии описал Пастернак, и его слова вошли в историю: “Между одиннадцатью и двенадцатью всё еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильной силой события”[43].
Пастернак верно пишет и о причинах самоубийства: “Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие”[44].
Поступок этот был не таким внезапным, как показалось поначалу. Он оставил записку – крупным, размашистым почерком на трех листах двадцать три на тридцать шесть сантиметров. Судя по всему, он начал писать ее за два дня до смерти:
Всем
В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите – это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Далее в записке говорилось, что все бумаги должны перейти Брикам. Документы музея Маяковского сообщают, что высокопоставленный член ЧК, живший за стенкой, забрал все документы Маяковского и через несколько дней отдал большую часть Брикам. Они как раз возвращались из Англии – новость застала их в Берлине. В мае Лиля написала подруге: “Я сейчас копаюсь в Володиных бумажках и чувствую, что делаю то, что должно”.
Среди исследователей творчества Маяковского принято считать, что в первые же недели после смерти поэта Лиля сожгла письма моей матери. Так же считала и сама мама. В 1981 году она говорила Шмакову:
– Возмутительно, что Лиля сожгла мои письма. Она не имела права… Я простила ее, потому что она призналась в записочке, которую мне передал один советский профессор. Но я всё равно не понимаю зачем. Из ревности? Зачем было уничтожать все следы его любви? Тогда уж и “Письмо к Татьяне Яковлевой” надо было сжечь… Хотя этого она сделать не могла.
Осталось, впрочем, еще одно свидетельство любви Маяковского к моей матери, которое Лиля не уничтожила: стихотворение без заглавия, которое нашли среди последних записей в его блокноте. Сейчас это стихотворение считается одним из величайшах образцов любовной лирики Маяковского – несколько строк оттуда он включил в свою предсмертную записку.
Уже второй. Должно быть, ты легла. В ночи Млечпуть серебряной Окою. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете. И не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданью.В записке Маяковский изменил одну строчку – вместо “С тобой мы в расчете” там говорилось “Я с жизнью в расчете”.
Мать услышала о смерти Маяковского будучи на четвертом месяце беременности – они с отцом устраивались в Варшаве после медового месяца. Родственники телеграфировали из Парижа отцу, чтобы он спрятал от нее русские газеты, но вся европейская пресса пестрела теми же заголовками. “Меня просто уничтожила эта новость, – писала Татьяна матери. – Какой-то кошмар… Ты понимаешь мое горе”.
Видимо, бабушка в ответном письме выразила беспокойство, что Татьяна винит себя за смерть Маяковского, потому что через две недели она написала:
Мамулечка моя родная!
Я ни на минуту не считаю себя виноватой – разве что косвенно. Его постиг душевный кризис… Здесь много о нем пишут, но никто не знал его по-настоящему! Только сейчас это стали понимать. Теперь все говорят, что проглядели важнейшее – ту душевную мощь, которая привела его к печальному концу.
Бертран шлет тебе поцелуй… Я тоже тебя целую многократно.
Твоя Таня
(Ребенок уже шевелится.)
Все три женщины Маяковского дожили до восьмидесяти с лишком лет и с разной степенью решимости вступали в битву муз за посвящение того или иного стихотворения. Лиля Брик получила права на все стихотворения Маяковского и с легкостью могла “присвоить” любое его произведение – за несколько лет она уничтожила все следы Татьяны Яковлевой в его официальных биографиях. Вместе с сестрой, Эльзой Триоле, они опустились даже до того, что распространяли злобные слухи о Татьяне – включая невероятную легенду, гласившую, что она была куртизанкой и принимала клиентов в подсобке бабушкиного магазина в Париже.
Между тем Нора Полонская, обиженная, что Маяковский не посвящал ей стихов официально, утверждала, что Лиля украла у нее стихотворение, которое он цитировал в предсмертной записке – “Уже второй”. “В этой вещи много фраз, которые относятся явно ко мне, – жалуется она в своих воспоминаниях. – Мне казалось, Лиля Юрьевна недооценивала [его роман с Яковлевой][45]. Она навсегда хотела остаться для Маяковского единственной, неповторимой”.
Что же до моей матери – единственной, чье посвящение было зафиксировано в заголовке, – она предпочитала с олимпийским безразличием взирать на эту возню муз. Говоря о превосходстве качества над количеством, она, однако, кокетливо заявляла, что “Письмо товарищу Кострову” и “Письмо Татьяне Яковлевой” так же совершенны, как множество стихов, адресованных Лиле: “Он посвящал ей прекрасные строки, но не лучше тех, какими удостоил меня”. (Обе они так никогда лично и не встретились.)
Несколько лет после самоубийства Маяковского (которое осуждали как крайне антисоциалистический поступок) его стихи практически не публиковали. Репрессии нарастали, и советское литературное сообщество перестраховывалось. И как бы мы ни относились к Лиле Брик и ее мужу, нельзя отрицать, что именно благодаря им был возрожден культ Маяковского. В 1935 году, через посредничество любовника, высокопоставленного генерала[46], Лиля отправила письмо Сталину, в котором просила реабилитировать Маяковского, напоминая, что стихи его были сильнейшим революционным оружием. Сталин ответил необыкновенно быстро – в левом верхнем углу ее письма он написал красным карандашом, крупным почерком: “Товарищ Брик права: Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление”[47]. На следующий день комментарий Сталина вышел заголовком в “Правде”; с тех пор советским гражданам без устали напоминали, что Маяковский был настоящим “поэтом революции”, и перечисляли его гражданские добродетели. Следующие годы в его честь называли площади, школы, станции метро, тракторы, минные тральщики, танки и пароходы. Как остроумно заметил Пастернак, Маяковского при Сталине насаждали, как картошку при Екатерине.
Несколько десятилетий спустя на Тверской, прежде улице Горького, на площади в полутора километрах от Кремля был воздвинут шестиметровый бронзовый памятник Маяковскому. Он стоит там по сей день. Мощный торс, горделивая осанка, воображаемый ветер треплет складки мешковатых штанов. Он воплощает радостного и уверенного советского человека, идущего в свое счастливое будущее.
Очень уместно, что второй памятник на этой же улице стоит на Пушкинской площади. Этих поэтов чаще всего учили школьники после войны. Спросите любого взрослого, что из Маяковского он учил в школе, и он прочтет вам “Хорошо”, “Владимира Ильича Ленина” или “Левый марш” – так же уверенно, как читает пушкинского “Евгения Онегина”. А если он младше двадцати пяти и учился после путча 1991 года, то, скорее всего, вспомнит лирические стихи Маяковского, которые к тому времени вытеснили его патриотическую лирику. Возможно, даже “Письмо товарищу Кострову” или “Письмо Татьяне Яковлевой”.
Моя мать всегда была очень скрытной женщиной и невероятно притягательной для противоположного пола. О ней всегда ходили легенды. К моему удивлению, мне пришлось столкнуться с одной из них в России. В 1970-е ходил слух, что я – дочь Маяковского. Виной тому частично были воспоминания старинного друга поэта Давида Бурлюка, которые тот писал уже в старости и, видимо, не совсем в здравом уме. “В декабре или январе 1930 года, – пишет Бурлюк, – родилась девочка, дочка Маяковского. <…> Маяковский заочно звал ее «моя Фроська»”. (Я родилась в сентябре 1930-го, а Фроськой меня спустя много лет звал мой муж-американец – он не мог выговорить ласкового “Фросенька”, как меня всегда называла мать.) Легенда эта напомнила о себе в 1979-м, когда я отправилась в СССР для участия в советско-американской литературной конференции. В провонявшем табаком поезде, направлявшемся в Тбилиси, двое советских коллег пришли ко мне в купе и несколько часов подряд доказывали, что я – дочь поэта. На рассвете я сунула им под нос паспорт.
– Это должна была быть слоновья беременность! – воскликнула я.
– Ваш паспорт подделали, – парировали мои коллеги. Вот вам и оттепель. Вот вам и дружба с Западом. Теперь им хочется, чтобы у поэта революции нашлась еще одна американская дочь.
Через пятьдесят лет после смерти Маяковского, в одном из разговоров с Геннадием Шмаковым, моя мать сказала:
– Если б он вернулся в октябре 1929-го, я бы уехала с ним. После его смерти я не могла читать его стихи. До сих пор не в силах… Это больше чем печаль. Это было невыносимое горе.
Только перечитывая эти слова – “невыносимое горе”, я стала понимать, почему горячо любившая меня мать не желала, чтобы я погружалась в подробности ее романа с обреченным поэтом. Смерть Маяковского, как я теперь понимаю, стала самым драматичным переживанием ее жизни, – она так и не смогла от нее оправиться. Возможно, поэтому мама хотела уберечь меня от знакомства с этой историей.
Наверное, она была права. Путешествия в прошлое наших родителей может быть и болезненным, и даже опасным – в пути мы, словно оказавшись в лабиринте из кривых зеркал, сталкиваемся с собственными трагедиями и ошибками. За знания надо платить, потому многие из нас и откладывают эти разговоры. Когда я изучала историю своей семьи, так тесно переплетенную с горестями века, и всем сердцем чувствовала боль моей матери от разлуки с Маяковским, я поняла, насколько она была близка к тому, чтобы вернуться в Россию и вместе с двадцатью миллионами таких же людей погибнуть в репрессиях. Это осознание перевернуло мне душу, и я до сих пор не до конца оправилась. И всё же, вникнув в эти трагичные перипетии, я обрела нового члена семьи. За последние годы Владимир Владимирович Маяковский стал мне родным – милым покойным родственником, о котором я часто думаю и грущу. Ему наконец-то удалось поговорить со мной сквозь “века, историю и мирозданье”. Благодаря ему мне досталась самая важная, наверное, часть маминого наследства – ее горе.
Мама не держала зла на друзей Маяковского. В середине 1970-х, узнав, что Лиля Юрьевна заболела, она послала ей сочувственное письмо. (Брик сломала шейку бедра, мучилась ужасными болями и в 1978-м покончила с собой – ей было восемьдесят шесть лет.) Как-то вечером в Париже мать ужинала у себя в гостинице в компании общего с Бриками знакомого – Пьера Берже. Он собирался в Москву и спросил, не передать ли что-нибудь Лиле. Мама отдала ему аккуратно сложенный белоснежный платочек.
– Отдай Лиле, она поймет.
На следующий день Пьер приехал в Москву и в первый же вечер отправился к Лиле Брик.
– Татьяна просила передать – сказала, вы поймете.
Лиля с серьезным видом кивнула.
– Я поняла, – сказала она.
Во многих культурах белый флаг считается сигналом к миру. Для Лили и мамы белый платок стал символом перемирия и общего горя.
Отдельного рассказа заслуживает то, как я обнаружила письма, по которым удалось восстановить историю любви моей матери и Маяковского.
С детства я знала, что мама была не только музой Маяковского, но, что важнее, его последней большой любовью, и что где-то хранится связка его писем. Но знала я также и то, что мама не желает вспоминать какие-либо тяжелые события. До самой ее смерти в 1991 году я с уважением относилась к молчанию, которым она окружила главного героя своей юности, – отчасти из-за того, что боялась касаться прошлого, отчасти потому, что как это часто бывает между матерями и дочерьми, мы побаивались друг друга.
Но никто не защищал неприкосновенность ее частной жизни более яростно, чем мой отчим, Александр Либерман. Он заявлял, что страстно любит ее даже через полвека совместной жизни, он растил меня с моих девяти лет, когда отец мой погиб во Второй мировой войне. Карьера Алекса, как и мамина, представляет собой типичную американскую историю успеха. Когда в 1941 году мы перебрались в Америку, он устроился на мелкую должность в отделе искусств журнала Vogue, а уже через полтора года возглавил этот отдел. Два десятилетия спустя он стал шеф-редактором всего издательского дома Condé Nast, и под его руководством там стали выходить такие журналы, как Glamour, Mademoiselle, House and Garden, Bride's, GQ, Vanity Fair, Self, Gourmet, Condé Nast Traveller, Details, Woman, Allure, Architectural Digest и Bon Appetit, а также множество иностранных изданий этих журналов – немецких, французских, русских и так далее. Мой отчим сделал из маленького элитарного издательского дома настоящую империю. Эти журналы воплощали его стиль, и он был главной движущей силой Condé Nast почти сорок лет. Алекса считали “отцом современной глянцевой журналистики” – так говорилось в его некрологе в The New York Post в 1999 году, озаглавленном “Медийный мир оплакивает легенду”[48]. В International Herald Tribune писали, что в XX веке не было человека, оказавшего на модную фотографию большего влияния.
Как и моя мать, Алекс родился в России, но образование получил во Франции и Великобритании. Это был высокий, темноволосый, неизменно элегантный человек со стальной волей и восхитительными манерами. Мне вспоминаются его аккуратно подстриженные усики, добродушная и слегка загадочная улыбка и легкий британский акцент, который он приобрел в детстве. Он в совершенстве владел тремя языками, круглый год носил изысканный темно-серый костюм и черный или темно-синий галстук и только летом менял этот наряд на светлый лен. Прожив в Нью-Йорке всего несколько лет, он прослыл воплощением космополитизма и аристократических европейских манер. Сорок лет он шагал по коридорам Condé Nast и блистал в нью-йоркских салонах – обаятельный, настойчивый, искусный льстец. Он мастерски обольщал знаменитостей, которые могли оказаться полезны в карьере, оставаясь при этом совершенно закрытым человеком с загадкой внутри. Алекс был не прочь пофлиртовать, однако никем всерьез не увлекался: ходили легенды о том, как он обожает мою мать, как верен ей (по тем временам это было экзотично и, как я подозреваю, помогало держать на расстоянии многочисленных сотрудниц издательства). На работе же его голос был решающим во всех вопросах, будь то обложки или заголовки. Он увольнял и нанимал людей по своему разумению, очевидно наслаждаясь властью, и мог быть бесконечно щедрым – или же совершенно безжалостным.
У Алекса были и враги, и сторонники. Поклонники Седого Лиса, как звали его коллеги, были очарованы славянской душевностью, которую он мог включать и выключать по желанию, властным взглядом и неисчислимыми талантами. В юности он мечтал стать художником и к 1960 году стал рисовать и фотографировать. Несмотря на слабое здоровье, Алекс всё свободное время трудился над своими работами, которые впоследствии выставляли в самых известных галереях Нью-Йорка и некоторых национальных музеях. Его гигантские металлические скульптуры к 1980-м годам возвышались по всей Америке. Кроме того, он выпустил книгу под названием “Художник в своей мастерской” – фотохронику французского изобразительного искусства XX века, ставшую классикой.
Враги Алекса критиковали его страсть к саморекламе и византийскую безжалостность. Они хорошо знали – порой по своему горькому опыту, – что этот амбициозный человек верен своим начальникам, а не подчиненным или коллегам и что расплатой за несогласие с ним может стать немедленное увольнение, которое, кстати, он всегда доверял подручным, не желая пачкать руки. Но вплоть до маминой смерти эта жесткая, холодная сторона его натуры никогда не обращалась к семье. В течение пятидесяти лет Алекс полностью соответствовал сложившемуся образу – любящий отец семейства раболепно прислуживает своей блистательной, но нарочито беспомощной супруге, которая не в силах ни вызвать сантехника, ни воспитать ребенка. Его всю жизнь очевидно тянуло к властным женщинам, и он с самого начала постановил, что Татьяна его богиня и смысл его жизни в том, чтобы удовлетворять все ее прихоти. Полвека Супермен, как мы с матерью его звали, был мне любящим и заботливым отцом. С первых же месяцев нашей совместной жизни в 1940-х годах именно Алекс был мне отцом и матерью: с бесконечным терпением возился он с моими брекетами, записками из школы, беседовал с учителями, выслушивал мои невзгоды, требовал возвращаться домой вовремя и хорошо себя вести. Позже именно он вел меня к алтарю, утирал мне слезы и был самым нежным дедушкой.
С идолом моей юности мне и пришлось сразиться, когда я стала искать письма Маяковского.
Мама скончалась в 1991-м после долгой болезни. Хотя она и завещала мне все документы и письма Маяковского, найти их оказалось непросто. К изумлению друзей, Алекс вскоре после смерти Татьяны женился на ее медсестре и в течение восьми лет отказывался отдать мне письма, ссылаясь на плохое самочувствие или усталость. “Ты что, не видишь, мне плохо, я не могу об этом думать”, – повторял он. “Я слишком устал, чтобы их искать”. Он всегда умел избегать прямых столкновений, а если его всё же загоняли в угол, был беспощаден. То ли из врожденной деликатности, то ли из конфуцианской почтительности к старшим я кротко соглашалась, что письма, должно быть, хранятся в какой-то банковской ячейке или затерялись среди документов.
Летом 1999 года мое терпение лопнуло. Мне написали из московского музея Маяковского и сообщили, что у них хранится большой архив маминых писем бабушке, ее матери, Любови Николаевне Орловой. Она скончалась в 1963 году, так никогда и не выехав за пределы России, и незадолго до смерти передала письма в музей. К сожалению, письма бабушки не сохранились, но в письмах матери – о существовании которых я и не подозревала – описывались последние полтора года жизни поэта. Сотрудники музея пригласили меня изучить “архив Татьяны Яковлевой”. Однако я понимала, что перед этим мне необходимо прочесть письма Маяковского, которые мать завещала мне. Я решила потребовать у отчима, чтобы он вернул мое наследство.
Августовским днем 1999 года Алекс Либерман лежал в постели в своей нью-йоркской квартире. Ему было восемьдесят шесть, он был очень болен, принимал множество лекарств и почти всё время спал. На следующий день ему предстояло лететь во Флориду.
– Алекс, дорогой, где письма Маяковского? – спросила я.
– Где-то там, – и он качнул седой головой, словно пытаясь окинуть взглядом комнату. – Забери их.
С этими словами он закрыл глаза и вновь заснул. Я вернулась домой, в Коннектикут, где жила уже много лет. Но посоветовавшись с мужем и другом-юристом, несколько дней спустя я вернулась в квартиру отчима и принялась осматривать двухметровые стопки конвертов в углу комнаты. Через час я прервалась, понимая, что меня ждет работа на несколько дней. Интуиция заставила меня подойти к прикроватной тумбочке и открыть верхний ящик. В старом рваном конверте с размашистой надписью “письма Маяковского”, сделанной маминой рукой, лежало то, что она завещала мне – двадцать семь страниц писем поэта, двадцать четыре телеграммы и несколько рукописей.
Только тогда, читая эти письма, я поняла, почему мой ревнивый, властный отчим, который столько лет внушал окружающим, что именно он – смысл жизни Татьяны, так долго отказывался отдать их законной наследнице, якобы любимой приемной дочери. Только тогда я поняла, почему он готов был нарушить закон, лишь бы скрыть их от мира.
Два месяца спустя я навестила Алекса во Флориде. Это было за десять дней до его смерти, и к тому моменту он уже почти не говорил. Обливаясь слезами, я в последний раз поцеловала его в лоб и мысленно поблагодарила за мое спасенное детство. Вместе с тем меня восхищало его коварство. Через несколько месяцев, когда я работала с архивом музея Маяковского, у меня появилась еще одна возможность оценить эту сторону его натуры.
Об этом поистине макиавеллиевском персонаже, чью личность, как и мамину, сформировал безумный водоворот революции, я расскажу в следующих главах.
Глава 5 Алекс и его отец
Александр Либерман, изысканный и утонченный человек, происходил из простой крестьянской семьи, жившей на Украине. Отец его, Семен Исаевич, родился в 1881 году в крошечной деревушке, куда его предки перебрались за несколько поколений до того. В отличие от многих других крестьян-евреев, Либерманы соблюдали религиозные традиции. Дед Семена по матери, долговязый бородатый мужчина, носил длинные одежды, как полагалось еврейским ученым, и больше изучал Талмуд, чем занимался хозяйством. Он повлиял на внука куда сильнее, чем практичный жизнерадостный отец, который возглавлял семейное дело.
До революции евреям не позволялось владеть землей, и Либерманы арендовали больше полутора тысяч гектаров, засеянных сахарной свеклой, у какого-то польского барина, которого никто в глаза не видел. В хозяйском доме, однако, жили незамужние сестры барина, с которыми семья Семена делила фруктовый сад. Сестры любили прогуливаться под плакучими ивами вдоль ручья, отделявшего хозяйство Либерманов. Родственники Семена встречали их почтительно, целовали руки, а те целовали их в макушку. На земле Либерманов работали две сотни крестьян, которые относились к своим хозяевам с благоговением – те всегда были в курсе всех их радостей и печалей и проявляли заботу. Семен говорил, что близость с русским крестьянством очень повлияла на него: “Сформировавшиеся в детстве чувства к крестьянам определили мое развитие – из любви к ним я и стал революционером”.
Семен Либерман был единственным мальчиком в семье, материнская родня мечтала, что он пойдет по стопам дедушки и станет ученым. Отец хотел, чтобы Семен взял на себя хозяйство. Первые, однако, победили, и в семь лет мальчика, говорившего тогда только по-украински и на идише, отослали в большое село – учиться. Там, занимаясь русским и древнееврейским, он показал блестящие способности. В местной православной церкви Семен встретил священника, который стал его покровителем, – сыновья этого священника, видные петербургские чиновники, часто навещали отца, и их образ поразил мальчика. Глядя на их изысканные манеры и изящную одежду, Семен мечтал, что когда-нибудь уедет из деревни. В шестнадцать лет, имея при себе всего пять рублей, он сбежал в Житомир и поселился у дальнего родственника, врача и реформистского раввина[49].
В Житомире Семен еле сводил концы с концами и всё свое время отдавал учебе, чтобы одолеть непростые вступительные экзамены в гимназию. Поступив, он сразу же подпал под влияние одного из учителей, оказавшегося марксистом, – тот после уроков молча давал ему антицарские статьи, распространяемые их подпольной группой. Таким образом, Семен рано приобщился к радикализму. Но настоящее “крещение революцией”, как несколько десятилетий спустя он писал в книге воспоминаний “Дела и люди”[50], состоялось во время одного из множества еврейских погромов, устроенных властями. В схватке казак ударил его саблей и чуть не ослепил.
“Мне навсегда запомнилось первое сражение с царскими приспешниками”, – писал он. Тем вечером, лежа на больничной койке, он поклялся стать настоящим революционером и помочь свергнуть царя. “Я вышел из среды, где живы были традиции еврейского романтизма. <…> Я мечтал о царстве свободы, равенства и социальной справедливости”.
Высшее образование в России евреям было практически недоступно. Окончив гимназию, Семен, ведомый идеями всеобщего равенства, отправился в знаменитый университет Вены, в ту пору – колыбель социализма и радикализма. Он учился, зарабатывал на жизнь преподаванием, а в 1905 году вернулся на родину. Россию сотрясали народные восстания, царский режим трещал по швам, и Семен немедля присоединился к социал-демократической партии трудящихся, главному революционному направлению в стране, незадолго до того расколовшемуся на большевиков и меньшевиков. Меньшевики, к которым примкнул Семен, в отличие от своих политических соперников, искали поддержки в рядах настроенной против царя либеральной буржуазии и интеллигенции, стремились к образованию трудовых советов.
Однако меньшевики в те годы могли быть не менее жестоки, чем их соперники. После потерпевшей неудачу революции 1905 года Семен вернулся на Украину и сотрудничал там с подпольными трудовыми организациями в Одессе, где сформировалась особенно деятельная ветвь социал-демократической партии. Спасаясь от полиции, он часто наезжал в родную деревню. Но в 1907 году, когда его чуть не схватила полиция, он решил, что в большом городе безопаснее, и переехал в Киев. Там-то Семен и обрел свою профессию. Занимаясь подпольной деятельностью, он зарабатывал на жизнь в конторе, торгующей лесом. Романтические просторы, поистине грандиозный размах русских лесов увлекли его. Лес тогда был главным предметом русского экспорта. Семен сам не ожидал, что коммерческий потенциал национальной сокровищницы захватит его целиком.
“Я погрузился в изучение лесной промышленности, процесса лесозаготовки. Ел я или дремал, одевался, прогуливался или говорил с кем-нибудь, мысли мои были только о лесе”.
Имея незаурядные способности к математике, Семен стал настоящим виртуозом своего дела. Продолжая сотрудничество с подпольными социалистическими группировками, он писал диссертацию в киевском университете и так стремительно продвигался по службе, что вскоре уже возглавлял несколько лесопромышленных предприятий. Семен разработал систему расчетов, которую вскоре стали применять повсюду, а в 1914 году был назначен членом Экспертной комиссии лесного департамента министерства земледелия. И тут Семен влюбился. Как-то в Киеве, опасаясь ареста за сотрудничество с марксистами, он укрылся у еврейского портного – тот оказался социалистом и, когда пришли полицейские, выдал Семена за репетитора своей красавицы-дочери. Вскоре через эту семью Семен познакомился со своей будущей женой, которая, как он пишет, “в то время тоже принимала деятельное участие в общей борьбе”.
О прошлом жены Семена, матери его сына Александра, мы можем узнать со страниц ее воспоминаний – “Заблудшее сердце”[51]. Генриетта Мироновна – ее сценической фамилией была Паскар, а девичьей я, к сожалению, не знаю – была талантливой актрисой, в чьих жилах текла кровь цыган и румынских евреев (сама она предпочитала афишировать свое цыганское, а не еврейское происхождение). Генриетта родилась в 1886 году в семье богатых лесопромышленников в западной Румынии. У нее было девятнадцать братьев и сестер, и в детстве ей доставалось не слишком много любви и внимания. Отец ее, красивый цыган, питал какое-то садистское пристрастие к порке. В семнадцать лет Генриетта сбежала из дома и два года жила в Одессе со своей цыганской родней. Там она ходила на собрания подпольных революционных организаций, где иногда встречала Семена Либермана, с которым была знакома лишь шапочно. Затем несколько лет она изучала французскую литературу в парижской Сорбонне и подрабатывала медсестрой, после чего в 1911 году вернулась в Россию и поселилась у замужней сестры в Киеве. Там она вновь погрузилась в революционную деятельность. Как и Семен, Генриетта скорее симпатизировала меньшевикам, и на почве идейной работы они встретились вновь.
Встреча в Киеве в 1911 году стала поводом возобновить едва завязавшееся прежде знакомство. Генриетта, которая впоследствии[52] училась актерскому мастерству у Всеволода Мейерхольда, обнаружила, что Семен сильно изменился. Она запомнила его изящным невысоким юношей в пенсне, “расхристанным нигилистом”, а теперь перед ней стоял утонченный европеец, поразивший ее внимательной и уверенной манерой держаться (“прирожденный лидер, чья взвешенная речь могла бы укротить любого врага”). Он казался даже выше ростом благодаря великолепным костюмам работы лучших европейских портных. Хотя он, как оказалось, отличался “болезненной еврейской гордостью” и был полон идеалистических взглядов, почерпнутых из Талмуда, ее покорила сила и цельность его натуры, и она распознала в себе “тишину, которая неизменно предшествует любовным мукам”. Чувства оказались взаимны, и в том же 1911 году пара поселилась в Санкт-Петербурге, еще одном важном лесопромышленном центре. Их сын, Александр Семенович, родился 4 апреля 1912 года в Киеве, через три месяца после свадьбы. Его родители остановились там во время очередной деловой поездки Семена, и рождение маленького Шурика, как его звали в семье, зарегистрировал местный раввин.
Из обстановки шестикомнатной квартиры Либерманов в Санкт-Петербурге – неподалеку от Невского проспекта и Исаакиевского собора – Шурику запомнилась только его детская, в которой всё – кровать, бюро, стулья, комод – было белым. В то время это было необычно, и эта задумка матери сильно повлияла на вкусы Алекса: все его квартиры и конторы были выкрашены белоснежной краской. Он также вспоминал, как сидел в гостиной и наблюдал за матерью в золотой мантии Фортуны, раскинувшейся на диване с леопардовой обивкой – с нее писали портрет. Генриетта позволяла сыну выжимать краски из тюбиков, и это тоже запомнилось ему на всю жизнь: он понял, что ей хочется, чтобы он стал художником. Но обычно Алекс редко видел родителей – мать занималась своей театральной карьерой и крутила романы, а отец целыми неделями или даже месяцами пропадал в деловых поездках. Наряду с административными обязанностями в различных лесопромышленных советах и комиссиях, включая царскую, Семен работал в трех имениях на западе России. Это были усадьбы брата царя, великого князя Михаила Александровича, имение принца Ольденбургского, дяди Николая II[53], и владения Балашова[54] – опоры царского общества, составлявшее более десяти тысяч квадратных километров, земли по всей России, включая бо́льшую часть уральских лесов.
На дорогу лишь в одно из этих имений уходил месяц. Если железнодорожного сообщения не было, приходилось ехать на телеге, по несколько дней не встречая ни единой души. В дорогу он брал с собой хлеб, воду, крутые яйца и сыр, иногда ночевал в монастырях, тихих оазисах, где можно было часами говорить с их обитателями – тут оживала мистическая сторона его натуры, доставшаяся в наследство от ученого дедушки и развитая во время дружбы со знаменитым философом-экзистенциалистом Николаем Бердяевым. “В наших беседах было много романтического: из-за чувства оторванности от привычной жизни, – писал он, – из-за глубокого безмолвия бесконечного леса, окружавшего нас со всех сторон”. В этих паломничествах Семену не раз вспоминались многочисленные ссыльные, которых отправляли по этапу за антимонархистскую деятельность. В Перми, через которую проходили по этапу революционеры, он часто встречал знакомых, как большевиков, так и меньшевиков – они шли в кандалах и под строгим надзором. Он пытался помочь им, хлопотал, чтобы их снабдили теплой одеждой, лекарствами и едой. За время странствий он утвердился в своих радикальных взглядах: его пугало, какая “глубокая пропасть разделяла народные массы и ту небольшую группу помещиков, банкиров и высших сановников, которые фактически управляли страной и обладали всеми правами и привилегиями”. К 1915 году он уже верил в неизбежность глобальных перемен.
И тем не менее перед революцией 1917 года он был ведущим лесопромышленником России и путешествовал в самых роскошных условиях, зачастую – в частных вагонах клиентов. Маленький Шурик с четырех лет периодически сопровождал отца в таких поездках, и они оказали на него огромное влияние. В 1916 году, к примеру, пока Семен осматривал кавказское имение принца Ольденбургского, принц предоставил ему с сыном частный поезд на семь вагонов. На каждой станции их встречал офицер, привычно отдавал честь, приносил великолепные лакомства и удовлетворял все их желания.
Именно в этих поездках по бескрайней России Алекс полюбил всё грандиозное – впоследствии это отразилось в его творчестве и гедонистическом образе жизни. Он часто говорил, что детские путешествия по России были для него первым примером экстравагантности. Столкнувшись с великолепием, которым окружала себя русская аристократия, Алекс на всю жизнь заболел страстью к роскоши. Он навсегда запомнил мягкий бархат диванов в частных вагонах, бордовые занавеси и электрические свечи в розовых колпачках в вагонах-ресторанах. А больше всего ему запало в душу безграничное почтение, с которым в таких поездках встречали его отца. До конца своих дней Алекс Либерман, в полной мере унаследовавший отцовское обаяние, – в его присутствии любой случайный знакомый чувствовал себя значительной персоной – искал дружбы и покровительства сильных мира сего, которые могли бы обеспечить ему, как он выражался, “привилегированное положение”. Алекс всегда, как бы ни был стеснен в средствах, жил и путешествовал с максимальным комфортом.
В феврале 1917 года пятилетний Алекс, глядя из окна родительской квартиры в Петрограде, стал свидетелем сцены, которая на всю жизнь запечатлилась в памяти. “Черные людские массы подобно черным рекам текли по проспектам Петербурга с красными флагами и распевали революционные песни”. Тем же вечером он увидел, как жгут портрет царя в полный рост. “Как любой пятилетний ребенок, я живо чувствовал страх и неуверенность родителей, – вспоминал он десятилетия спустя. – Дети, выросшие в революцию, всю жизнь готовы к любому потрясению – перевороту, в буквальном смысле слова”.
События 1917 года не могли не повлиять на жизнь Либерманов. В марте, после отречения царя, Семен, чувствуя, что его социалистические надежды претворяются в жизнь, уволился изо всех контор и предложил свои услуги Петроградскому совету. Он оказался бесценным сотрудником: когда большевики захватили власть в октябре 1917 года, белогвардейцы, поддерживаемые иностранными союзниками, оккупировали Кавказ и Донецкий бассейн, отрезав своих противников от поставок угля и нефти, без которых не могла функционировать железная дорога. Молодое советское правительство стало полностью зависеть от древесного топлива, и Семена Либермана поставили во главе комитета, обеспечивавшего российские железные дороги дровами.
В марте 1918-го, спустя пять месяцев после захвата власти, российскую столицу перенесли из Петрограда в Москву. Семен вместе с семьей переехал вслед за правительством. Осенью того же года Ленин вызвал его в Кремль. Они прониклись друг к другу симпатией и доверием и тесно сотрудничали.
Учитывая, что Семен Либерман открыто придерживался антибольшевистских взглядов, удивительно, что следующие семь лет ему удалось продержаться на посту видного правительственного чиновника. Это многое говорит о широте взглядов Ленина, характерной для первых лет его правления, а также об обаянии и гибкости самого Семена. Он был одним из так называемых спецов (некоммунистов), которых Ленин держал при себе, поскольку их опыт был необходим для выживания экономики новорожденного государства. Так Либерман стал управляющим Главного лесного комитета, который руководил лесной промышленностью всего Советского Союза. По счастью, многие его начальники-большевики, как, например, Леонид Красин, впоследствии ставший первым советским послом в Великобритании, были его старыми товарищами по подпольной работе в Одессе и Киеве. В первые годы советского режима Либермана терпел даже Феликс Дзержинский – “советский Торквемада”, как звал Семен главу ВЧК.
Посещая все заседания ленинского Высшего совета народного хозяйства, Семен часто бывал в кабинете Ленина – тот имел обыкновение вызывать его за полчаса до начала заседания, чтобы обсудить особые вопросы поставок леса, – кроме того, он дважды в неделю встречался с лидером и имел постоянный доступ к индивидуальной телефонной линии Ленина в Кремле. На некоторые встречи он приводил с собой сына – Алекс вспоминал, как его поражали огромные ржавые пушки на кремлевских стенах. Эти агрессивные формы полвека спустя отразились в его творчестве.
В воспоминаниях Семен Либерман описывает Владимира Ильича Ленина как проницательного человека с мягкой повадкой, державшегося всегда сердечно и просто, по определению Семена, он напоминал фокусника, который будто бы доставал все карты из рукава, был самым внимательным слушателем, который всецело погружался в проблемы других. Семен противопоставляет теплое обаяние Ленина холодному высокомерию Троцкого – из чего ясно, насколько он подпал под ленинские чары. “Эти беседы были мне настолько приятны, успокоительны и так приободряли, что я стал ожидать их с нетерпением”, – пишет Семен. Этот пример еще раз демонстрирует, какой цельной личностью был Либерман: будучи очарован Лениным, он всё же не вступил в РКП (б) и даже не делал попыток замаскировать свои политические взгляды. Владимир Ильич ценил открытость, с которой Либерман высказывал свою точку зрения. Как-то раз, когда Семена критиковали за его позицию более догматически настроенные сторонники Ленина, Владимир Ильич сказал ему: “Вот видите, если бы вы были членом партии, у вас не было бы таких трудностей”. На это Семен ответил: “Владимир Ильич, большевиками рождаются так же, как рождаются певцами”.
Через год-другой после переезда в Москву матери Алекса Генриетте тоже улыбнулась удача. Ее потрясло количество бездомных голодных детей на столичных улицах. Сироты, беспризорники или просто дети тех, кто постоянно пропадал на работе, стали настоящей социальной проблемой. Чтобы увести их с улицы и чем-то занять, Генриетта придумала устроить детский театр. Это предложение заинтересовало одного из ее бывших любовников, Анатолия Луначарского, тогда наркома просвещения – он всегда с энтузиазмом помогал авангардному искусству (в том числе поэтам, например Маяковскому). В 1919 году Луначарский выделил средства на первый Государственный детский театр. Поначалу Генриетта всего лишь состояла в совете, в который кроме нее входил еще и Константин Станиславский, но уже через год стала директором и главным руководителем нового проекта. В последующие четыре года, в пору расцвета режиссуры Всеволода Мейерхольда, зенита славы МХТ и новейших достижений европейского театрального искусства, она привлекла самых выдающихся художников и декораторов страны к созданию бутафории и костюмов для своих пьес, среди которых были “Приключения Тома Сойера”, “Остров сокровищ”, “Маугли” и сказки Андерсена. Билеты распространялись бесплатно, и зрительный зал на четыре сотни мест был вечно переполнен. Детям раздавали бутерброды – многие из них целыми днями ничего не ели.
Тем временем Шурик, тощий, нервный, болезненный мальчик, сам целыми днями шатался по улицам – родители его были вечно заняты. Он дружил с беспризорниками, раздавал им ворованную с родительской кухни еду и участвовал в опасных дворовых играх. “Мы играли в войну и швыряли друг в друга камнями и осколками, – вспоминал он. – Многих ранили до крови. Победившие справляли нужду в окопы проигравших”. В романтизированных воспоминаниях Генриетты сын героини большую часть времени проводит в театре матери, рисует декорации, готовит бутерброды для бедных детей и прерывается только для того, чтобы побежать за кулисы к маме и сказать, как любит ее. На самом же деле Шурик в театре бывал всего по несколько часов в неделю и чувствовал себя таким же беспризорником, как его друзья. Когда ему было девять лет, мать решила, что надо научить сына риторике, и наняла актера из Большого театра. На прослушивании Алекс расплакался и убежал со сцены. С этим эпизодом он связывал оставшуюся на всю жизнь боязнь выступать на публике – он всегда успешно избегал этого.
В воспитании Шурика было и множество других серьезных проблем. Родители расходились во взглядах на его образование. Отец хотел, чтобы сын ходил в обычную школу. Мать верила, что важнее всего в детском образовании развитие воображения (ее педагогическим кредо были “фантазии, мечты и сказки”), и хотела, чтобы сына учили дома. Поначалу победил отец: Шурика отдали в школу на другом конце города и каждое утро выдавали с собой бутерброд на обед. Вместо того чтобы садиться в трамвай, он отдавал бутерброд водителю грузовика в обмен на поездку до школы. (Первый приступ язвы, чуть не стоивший Алексу жизни, случился, когда ему было девятнадцать, и наверняка был связан с голоданием в детстве; однако его нелюбовь к ходьбе пешком и общественному транспорту была непобедима.)
В школе Шурик стал настоящим анархистом. Он не давал проходу девочкам, обижал мальчиков и дерзил учителям. Его сочли неуправляемым и исключили, после чего, как и хотела мать, он стал учиться дома. Нанимали бесконечных репетиторов, но те один за другим покидали дом – любимым фокусом мальчика было запереть своего учителя в родительском шкафу. В девять лет, а возможно, и в более старшем возрасте Шурик, вероятно на нервной почве, страдал энурезом, за что его регулярно порол отец под стоны матери, из соседней комнаты громко умолявшей его прекратить.
В 1920-е годы Либерманам, как и остальным москвичам (кроме самых высокопоставленных чиновников) пришлось разделить свою квартиру с двумя семьями рабочих и уместиться в двух комнатах. Соседи выпивали, дрались – жизнь в доме сделалась невыносимой. Алекс вспоминал, как в детстве наблюдал за пьяным соседом, который гонялся за женой по всей квартире, включая комнаты Либерманов. Семен понимал, что всё это не подходящая обстановка для и без того проблемного мальчика. (Даже в вышей степени благопристойные Либерманы периодически поддавались соблазну выпить рюмочку-другую. Алекс вспоминал, как однажды вечером вернулся с очередной прогулки с беспризорниками и обнаружил родителей на полу спальни – пьяными; ужасы коммунальной жизни, очевидно, заставили их капитулировать перед предложением соседа выпить водки.)
Единственным выходом из коммунального ада был небольшой домик в нескольких часах езды от Москвы, предыдущих жильцов которого не то сослали, не то расстреляли. Там Алекс беспечно носился по лугам и стал куда спокойнее и счастливее. Он вспоминал гравюры в позолоченных рамках и цветущие поля, по которым брат его матери Наум скакал на лошади без седла. Много десятилетий спустя фраза: “Мы едем за город!” была единственной, которую мой отчим неизменно произносил с радостью. С момента нашего знакомства, в его двадцать с лишком лет, это “за город” означало для него возможность сбежать от городских дел и шума, погрузиться в природу, успокоиться и отдохнуть.
Но по возвращении в Москву вновь начинались уроки, и Алекс снова бунтовал. Его “истерия”, как говорили родители, стала их всерьез беспокоить, и Семен принялся консультироваться с врачами. Все они сошлись во мнении, что Алекс страдает от тяжелых психологических проблем. А врачи, которых Семен знал давно, вполголоса намекнули ему, что сына пора увозить не только из переполненной жильцами квартиры, но и из Советского Союза. Либерманы задумались над этой мыслью.
1920 год был рекордным для молодой экономики Советского Союза: несколько европейских стран отменили эмбарго, и у СССР появилась возможность возобновить международную торговлю. Естественно, полиглот Семен Либерман, главный специалист страны по лесной промышленности, стал членом одной из первых коммерческих делегаций, которую возглавлял его друг Леонид Красин. Делегация отправилась в Великобританию, главой которой тогда был лидер либералов Дэвид Ллойд Джордж. Именно Великобритания первой восстановила коммерческие отношения с Россией. Осенью 1920 года в Лондон прибыло двадцать специалистов в разных областях коммерции, среди которых было всего пятеро небольшевиков. Они были первыми советскими гражданами, попавшими в Англию со времен революции, и в британских газетах появлялись унизительные пассажи о “дикарях, которые едят с ножа” и “сморкаются в кулак”. Ошеломленные делегаты перед возвращением обновили свои гардеробы и тщательно изучили британский этикет.
Следующей страной, пригласившей советских специалистов, стала Германия, и на этот раз Либерман поехал туда в одиночку. К тому моменту он играл важную роль в формировании новой экономической политики – программы, которая должна была восстановить российскую экономику путем постепенного привлечения капиталистических практик и иностранного капитала. Российская лесная промышленность вышла на авансцену. В Берлине Либерман, к своему восторгу, понял, что впервые после революции его страсть к роскоши может быть утолена: ему отвели номер в самом шикарном отеле города – Esplanade. Каково же было его удивление, когда он понял, что еще тридцать пять номеров занимают лесные промышленники со всей Европы – Норвегии, Швеции, Бельгии, которые приехали, чтобы поговорить с ним. Очевидно, слава о главном представителе самой прибыльной советской индустрии распространилась не только дома, но и за рубежом.
Несколько месяцев спустя последовало приглашение от Франции, и Семен впервые в жизни отправился в Париж. В результате всех этих поездок к лету 1921 года он уже мог сравнительно легко выезжать из России и возвращаться, поскольку доказал, что является верным и надежным представителем деловых интересов страны. Как бы ни была ограниченна его деятельность, те торговые соглашения, которые Семен заключал с иностранными державами, играли роль, как писал в воспоминаниях Либерман, “политического авангарда, который пробивал первые бреши в блокаде и подготовлял почву для установления лучших, более адекватных отношений между СССР и Европой”. Растущий авторитет Либермана был, возможно, важнее для него самого: Семен мог начать осторожные переговоры, необходимые для вызволения его сына из России и будущего обустройства в Англии.
Вывезти Шурика из СССР оказалось нелегко. С начала 1920-х годов семьи советских делегатов были своего рода заложниками, гарантией, что делегаты вернутся. Семен обратился к своему непосредственному начальнику, Алексею Рыкову, председателю Высшего совета народного хозяйства, но тот ответил, что мальчику надо дать возможность вырасти не в буржуазной английской школе, а вместе с советскими сверстниками. Тогда Семен отправился к Ленину. Он изложил Владимиру Ильичу суть своих проблем с сыном, обрисовал тяжесть домашней обстановки, и лидер дал устное разрешение вывезти мальчика из России. Оставалось только договориться с ЧК, и тут начались сложности. Главный помощник Дзержинского наотрез отказался разрешить выезд из России.
– У нас в России довольно хороших школ, – сказал он. – Незачем ехать в Англию.
Семен вернулся в Кремль и передал Ленину ответ чиновника.
– Знаю, знаю, – устало сказал Ильич, словно проблемы с ЧК были ему уже знакомы. Он напрямую позвонил Дзержинскому и после непродолжительного разговора повернулся к Семену. – Мы обсудим отъезд вашего сына на следующем заседании Политбюро. Собирайтесь в Лондон. Нельзя терять ни минуты.
У Либермана появилась надежда. В самом деле, несколько дней спустя ему прислали выписку из протокола заседания Политбюро:
Рассмотрели: Предложение Рыкова и Ленина выдать паспорт Либерману и его сыну Александру для заграничной поездки.
Постановили: Обязать ЧК выдать паспорт.
Голоса разделились: Против – Дзержинский, Зиновьев. За – Ленин, Рыков, Каменев.
Этот эпизод демонстрирует тонкость поступков Ленина. Он легко мог бы решить этот вопрос самостоятельно, выпустив соответствующий декрет. Но чтобы не подрывать авторитет партии, он обычно вел себя так, будто ничего сам не решал. Декреты выпускало Политбюро, потому что он прекрасно понимал: всегда найдется голос, вроде амбициозного Каменева, который можно перетянуть на свою сторону.
Это был сентябрь 1921 года. Через несколько дней Семен и Шурик уже сидели в поезде, направлявшемся в Германию. Тот факт, что его судьбу определило Политбюро, возможно, сыграл свою роль в характерном для Алекса ощущении себя важной персоной.
После угрюмой бедности московской квартиры на маленького Шуру произвел неизгладимое впечатление просторный лондонский дом Леонида Красина, старого друга Семена, который недавно стал полномочным торговым представителем СССР в Англии. Жена Красина и трое дочерей тем же летом переехали к нему в Лондон. Семен вернулся в Москву, а красный кирпичный особняк в Хэмпстеде стал Алексу домом на последующие три с половиной года. Старшая дочь Красина, которой тогда уже исполнилось пятнадцать, голубоглазая блондинка Людмила, была самой спокойной из всех; Кате, порывистой красавице (которая десять лет спустя ненадолго станет любовницей моего отца, Бертрана дю Плесси), было тринадцать; младшую, одиннадцатилетнюю Любу, Алекс впоследствии описывал как “кокетливую и невозможно соблазнительную девчонку” (она была на два года его старше). В этом семействе Алекс стал как бы пасынком, приемным братом девочек. Они дразнили его, разыгрывали, заворачивали в простыни или раздевали и без тени смущения купались вместе с ним – к двенадцати годам его это стало “приятно беспокоить”. (Совершенно ясно, что любовь Алекса к величественным блондинкам, которую он пронес через всю жизнь, корнями восходит именно к сестрам Красиным.)
За три года жизни в Англии Алекс успел поучиться в трех пансионах. Первый находился прямо в Хэмпстеде, недалеко от дома Красиных, из него Алекс каждые выходные приезжал домой. За несколько месяцев там укротили его буйный нрав, обучили манерам и азам английского языка. Второй пансион оказался куда строже – это была Университетская школа в Гастингсе, вблизи Брайтона: здесь ученики должны были полировать медные пуговицы на форме и дважды в неделю участвовать в военных учениях. (Страсть к порядку, неизменно царившему вокруг Алекса, возможно, происходила как раз из атмосферы гастингской школы.) В год поступления в третий пансион, школу Святого Пирана в Мэйденхеде, он вдруг вырос на несколько сантиметров и неожиданно обрел уверенность в себе – тогда же его стали часто журить за заносчивость.
В школе Святого Пирана Алекс приобрел два увлечения, которые во многом сформировали его интерес и характер. Он влюбился в легенды о короле Артуре. Рыцарские понятия о целомудрии и послушании, культ властных неприступных женщин, ради которых рыцари готовы на немыслимые поступки, – всё это оказало большое влияние на его будущую личную жизнь. Кроме того, Алекс увлекся фотографией, которая интересовала его с детства, с того момента, когда отец привез из очередной заграничной поездки карманный “Кодак”. Вопреки мечтам матери, которая видела его художником, Алекса увлекал только этот вид искусства. В школе Святого Пирана он массу времени проводил в темной комнате за проявкой и печатью фотографий. Выходные и каникулы проходили в доме Красиных; в этой семье быстро усвоили английский аристократический образ жизни: на каникулах катались на лошадях в Корнуолле, на выходных – в Гайд-парке. Иногда отец Алекса навещал их, но лишь на несколько дней – он был поглощен развитием НЭПа. У меня в архиве есть письмо Алекса из школы Святого Пирана, из которого явствует, что, даже наслаждаясь школьной жизнью, он все-таки чувствовал себя забытым родителями.
Милая мамика,
Как там папуша, отчего мне не пишет? Мама… пожалуйста, пиши чаще. Мне здесь очень хорошо, но пожалуйста, напиши письмо майору Брианту, а то он рассердится на тебя. И еще напиши, чтобы мистер Кракнелл послал мне варенья, пожалуйста, и фруктов… У меня всё чудесно. Целую вас с папой очень крепко.
Ваш Шура
И вместе с тем Алекс стал стыдиться Генриетты – это чувство преследовало его всю жизнь. В 1922 году она ненадолго приехала в Лондон, и Алекс, уже привыкший к изяществу и элегантности Красиных, с ужасом отметил, как безвкусно она одета, как ярко накрашена. На выходные она увезла его в лондонскую гостиницу, и он не выдержал и прямо заявил матери, что не пойдет с ней ужинать, пока она не переоденется. Генриетте пришлось смыть косметику и надеть простое черное платье, чтобы сын согласился с ней выйти.
В 1922-м, пока Алекс обживался в Англии, Ленин перенес несколько приступов[55] и был частично парализован. Оставшиеся полтора года жизни он был инвалидом. Советский Союз стал готовиться к смене власти. Это время было отмечено восхождением Григория Зиновьева, Льва Каменева и Иосифа Сталина, которые начали преследовать некоммунистов. Семена Либермана хранила его слава специалиста по лесной промышленности, но Генриетта сразу же ощутила последствия перемен. Осенью 1923 года ей сказали, что ее театр, преимущественно ставивший классические западные произведения, не учит детей “истинно большевистским ценностям”. Тогда она не обратила на это внимания. Но несколько месяцев спустя во время репетиции “Острова сокровищ” Стивенсона, когда актеры выкрикнули: “Да здравствует король!” (в относительно мягкую эпоху Ленина эта реплика не вызывала ни у кого вопросов), из зрительного зала раздался голос: “А почему не «Да здравствует Советская Социалистическая Республика»?” Генриетта снова не отреагировала, и на этот раз последовала расплата: после двух вечеров “Остров сокровищ” сняли с репертуара по правительственному приказу, а саму Генриетту уволили. В 1924 году она запросила и получила разрешение сопровождать мужа в очередной деловой поездке в Лондон. В Россию она больше не вернулась.
Заняв денег у коллеги мужа Чаттертона Сима, основного импортера леса в Лондоне, Генриетта устроилась в уютном домике в Кенсингтоне. Теперь Алекс проводил выходные и каникулы там. К этому времени брак Генриетты и Семена стал формальностью, и, приезжая в Лондон, Семен снимал комнаты в другой части города. Генриетта меняла богатых любовников – среди них, например, был банкир, который оплачивал ее шикарные наряды и возил Генриетту в Италию. У себя дома она устроила частный театр, где надеялась претворить в жизнь новую мечту – пантомимы в масках. Но ей это не удалось. В начале 1925 года у Семена Либермана, который с начала 1920-х постепенно вывозил деньги из России, случились временные финансовые трудности. Ему пришлось продать кенсингтонский дом Генриетты Чаттертону Симу: жена Чаттертона давно завидовала “русской дикарке”, менявшей любовников, как платья, и теперь хотела забрать дом себе. Узнав, что дом продан, Генриетта устроила мужу истерику и отправилась в Париж устраивать свою жизнь, прихватив с собой Алекса. Семен в одиночестве остался в Англии.
Как можно было предположить, после смерти Ленина в январе 1924-го Семен утратил свои позиции в Советском Союзе. В 1925-м началась охота на “спецов”, которых теперь считали “сомнительными элементами”. Люди Дзержинского, верхушка всемогущей ЧК, давно уже видели в Либермане человека, который “подрывает коммунистический фронт народного хозяйства”, отмежевываясь от большевиков. В том же году умер от рака Леонид Красин, и Семен лишился последнего союзника. К осени 1925 года экономическое подразделение ЧК собрало достаточно информации, чтобы назначить специальную комиссию “для расследования деятельности спеца Либермана”. Когда в ноябре Семена вызвали в Москву, все друзья уговаривали его не ехать. (Даже жена, несмотря на натянутые отношения, молила его остаться.) Но Семен был человеком чести и решил предстать перед властями. Впоследствии он писал: “Моим долгом по отношению к моей семье, к моему единственному ребенку было – вернуться в СССР и защищаться против обвинений… Если бы [я] отказался это сделать… безосновательные нападки получили бы, в глазах многих, подтверждение”.
Поездка в Москву оказалась еще тяжелее ожидаемого. ЧК распространила слухи, что Либерман не верит в советский режим, и даже его старый друг и бывший начальник в Высшем совете народного хозяйства Рыков отказался с ним встречаться (он так и не покинул Россию, и в 1930-х его расстреляли). В Москве Семен подготовил стопятидесятистраничную докладную записку о своей службе в СССР, отослал ее в ОГПУ (так в те дни называлась ЧК) и приготовился покончить с собой. Под подушкой он теперь держал бритву. Когда Семена наконец вызвали в ОГПУ, началась серия ночных “бесед”, которая продлилась несколько недель. Беседы проходили в тусклой комнатке, куда его приводили под охраной. “Вы очень дружите с таким-то? – спрашивали Семена внезапно. – А где теперь учится ваш мальчик? Школа эта ведь очень дорогая и буржуазная?” Отпускали его не раньше четырех утра.
Внезапно, на седьмую неделю этих абсурдных мытарств, 2 января 1926 года, когда Семен Либерман в одиночестве сидел в своем кабинете в Главлескоме, к нему вошел чиновник.
– По распоряжению товарища Дзержинского вам предлагается выехать за границу в 24 часа, – сообщил он сухо. Сперва Либерман подумал, что это ему снится, а потом осознал, что спасен. Дзержинский решил пощадить его из чисто практических соображений: торговое представительство СССР в Лондоне требовало, чтобы Либермана отправили к ним для подписания контракта со шведскими промышленниками, так как они наотрез отказывались заключать договор с кем-либо еще. В течение суток Семену предстояло в последний раз покинуть родину.
Подписав контракт со шведами, Семен уехал в Париж к Генриетте и Алексу. Следующие месяцы он находился в эмоциональном напряжении на грани нервного срыва. Весну и лето 1926 года Либерман провел в санатории в Швейцарии.
Юность Алекса разделилась на две части. До тринадцати лет – жизнь с отцом: поездки по России, визиты в Англию. С 1925 года – переезд во Францию, где он попал под власть матери.
Глава 6 Алекс и его мать
Всякий, кто не знал Генриетту Паскар и предысторию ее жизни, мог бы счесть поведение Генриетты – бесконечные связи, десятки любовников ежегодно – обыкновенным проявлением нимфомании. Но за этим крылись более сложные причины. Необыкновенная внутренняя свобода и раскрепощенность, происходившие от горячей цыганской крови, которая текла в жилах Генриетты, очень влияли на ее характер. Как обычно бывает у цыган, Генриетта соблюдала свой личный внутренний кодекс, который составляли важные лишь для нее ценности и, главное, сексуальное кредо. Люди ее племени всегда гордились тем, что живут по собственным законам, женятся и вступают в связь вопреки западным обычаям. Непостоянство и своенравие были для них нормой, а чувство вины или сожаления не воспринималось всерьез. Обвинять Генриетту в безнравственности или даже аморальности – всё равно что судить саудовского шейха или африканского вождя за то, что у него пять жен. Превосходным примером того, как проявлялся оригинальный характер Генриетты, служит история ее знакомства с моим двоюродным дедушкой Александром Яковлевым – самой большой любовью ее жизни.
Впервые Генриетта увидела Яковлева в 1925 году в знаменитом парижском ресторане “Прунье”, вблизи церкви Мадлен. Ее поразила его физическая красота – тонкие черты лица, сравнимые с “классической греческой скульптурой”, шелковая, аккуратная мефистофелевская бородка. Она мгновенно захотела его, написала записку и передала через официанта. В записке говорилось: “Vous me plaisez”, что в данном контексте значит скорее “Я вас хочу”, чем “Вы мне нравитесь”. Генриетте было тогда тридцать шесть – она была увешана украшениями, одета в роскошное платье работы Пуаре, и красота ее была на пике. Семейная легенда гласит, что дядя Саша в тот же вечер стал ее любовником. Генриетта была снобом, и недавний успех Саши сыграл свою роль: картины с выставки “Черного пути” были распроданы, его знал весь Париж, и он только что расстался с балериной Анной Павловой. Саша оставался любовником Генриетты три года – дольше, чем какой-либо другой мужчина.
Однако, несмотря на сибаритство и бурную личную жизнь, Генриетта очень хорошо знала своих близких и понимала их нужды. После переезда в квартиру на Монпарнасе ей необходимо было выбрать школу для тринадцатилетнего Алекса. Несмотря на прежние уверения, что главное в образовании – это “фантазии и мечты”, Генриетта твердо решила устроить сына в самую элитарную и серьезную французскую школу. Ей приглянулась школа Ле-Рош, учреждение со спартанскими порядками в Нормандии, в шестидесяти четырех километрах от Парижа[56] – французский эквивалент британского Итона, Харроу или американской академии Филлипса в Эксетере. Здесь царили куда более строгие правила, чем в любом государственном лицее. Кроме того, это был пансион, что было еще одним преимуществом: как бы страстно Генриетта ни любила сына, с началом романа с Яковлевым она стала как никогда ценить свободу и страдала от присутствия спящего подростка в алькове прямо над ее спальней.
Кроме того, Генриетта, как и все авантюристы, любила вызовы. Было известно, что в Рош невероятно сложно попасть, если ты не происходишь из древнего аристократического рода или семьи, известной своими успехами в торговле или науке. Но Генриетта, не теряя присутствия духа, воспользовалась бывшим кавалером, чей брат работал в парламенте, и протолкнула Алекса на собеседование. Хотя Алекс почти не говорил по-французски, директора так впечатлили превосходные манеры мальчика с печальными зелеными глазами, что он согласился принять его. В марте 1926 года в возрасте тринадцати лет Алекс начал учиться в Рош. С фотографий того времени смотрит худенький мальчик с тонкими чертами лица, черными кудрями, полными, чувственными, как у матери, губами, крупным крючковатым носом и довольно выдающимися ушами. На снимках видно, как легко и непринужденно он держится, с не по годам элегантной выправкой, – тем обаятельнее он казался окружающим. Юный Александр Либерман, которого в Англии так и звали – Александром, во Франции стал Алексом. Он стал первым евреем в школе Рош.
Официально Рош не принадлежала ни к какой церкви, но на деле в школе следили, чтобы протестанты и католики соблюдали свои практики. Католики ежедневно причащались, а по пятницам участвовали в крестном ходе. Протестанты по утрам собирались на молитву и регулярно изучали Писание. Генриетта прекрасно знала религиозный уклон в Рош и, заполняя анкету для поступления сына в школу, она указала, что он протестант. Поэтому уже через несколько дней после прибытия местный протестантский священник, кальвинист из Швейцарии, стал готовить Алекса к первому причастию.
Французский протестантизм – это реформированная ветвь кальвинизма. Строгие литургии и аскетичные церкви сильно отличались от золоченого, благовонного англиканства, к которому Алекс привык в британских пансионах. Протестантизм требует от своих сторонников куда более пылкой набожности, чем это принято у католиков: они должны содержать душу и сердце в абсолютной чистоте и ежедневно изучать Писание. Французские кальвинисты, или гугеноты, как их звали католики, всегда держались вызывающе строго и гордо. Возможно, этим среди прочего объясняется то, что их предков годами преследовали. “Сколько бы ни пытались согнуть их, они сохраняют свой внутренний стержень”, – писал Андре Жид. В юности он сам был ярым протестантом, всюду носил с собой Библию и ежеутренне принимал ледяную ванну, прежде чем на два часа засесть за молитвы и чтение Писания.
Во французском кальвинизме первое причастие происходит в четырнадцать-пятнадцать лет, и обычно одновременно с конфирмацией[57]. Алекс всей душой привязался к протестантскому священнику Рош, который подарил ему на первое причастие Библию – эта книга всю жизнь лежала у изголовья кровати Алекса. Подарок был надписан строкой из Евангелия от Матфея: “Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой?” (Эта строка содержит в себе самую суть французского кальвинизма – Андре Жид в своих мемуарах пишет, что их семейная Библия всегда была открыта на этой странице.) В школе Алекс был набожным юношей, много молился и относился к религии и особенно к идее непорочности очень серьезно. Когда его однокашники отправились в знаменитый парижский бордель “Сфинкс” (для подростков из обеспеченных французских семей это был своего рода обряд посвящения), он был единственным, кто не стал спать с проституткой, а только притворился, чтобы не ударить в грязь лицом.
Уроки пастора стали первым духовным опытом Алекса – впрочем, учитывая, как складывалась его дальнейшая жизнь, можно сказать, что и последним. Не отрицая и не преуменьшая свою еврейскую идентичность, Алекс всегда подчеркивал, что его интеллектуальный багаж “полностью основан на протестантской, кальвинистской этике”. Несколько десятилетий после выпуска и особенно во время войны в его письмах то и дело упоминается Всевышний и молитвы. До конца своих дней он восхищался самой идеей религиозного посвящения. Появившись в нашей с мамой жизни, он настоял, чтобы я оставалась католичкой и каждое воскресенье ходила в церковь. Другие особенности его привычек – сексуальная воздержанность, аскеза его комнат и кабинетов, склонность к монашески простым костюмам – также можно связать с этикой французского кальвинизма, которую он впитал в юности.
Несмотря на то, что в Рош на британский манер много внимания уделяли занятиям спортом (французским школам в целом это было несвойственно), во всём, что было связано с обучением, здесь царили строгие нравы. Девиз школы был “Вооружен для жизни” – речь шла о внушительном интеллектуальном арсенале, которым наделяли учащихся: например, способностью запоминать и страницами цитировать Расина или Мольера. Как и предполагал директор школы, Алекс оказался способным и чрезвычайно заинтересованным в обучении. За несколько недель он освоил французский и вскоре уже блистал по нескольким предметам и стал любимцем учителей и однокашников. Так проявилась его феноменальная способность приспосабливаться к обстоятельствам, которая сопровождала его всю жизнь. Ближайшим его другом в Рош был Жан-Пьер Фурно. Недавно я навестила его – Фурно девяносто один год, он отставной химик, и рассудок его всё так же здрав. Он вспоминал Алекса и его семью: “Учился он средне и хорошо, все предметы давались ему легко. Мы все удивлялись, что он почти не занимается, но всё схватывает. У него масса времени уходила на налаживание связей и дружбу с окружающими… Мать его невероятно избаловала, вечно задаривала какими-то новыми штуками. Помню, как впервые увидел Алекса – он приехал в Рош с роскошным велосипедом, у которого было аж три скорости. Я впервые увидел велосипед, оборудованный коробкой передач”.
В Рош Алекс добился больших успехов в спорте – он стал звездой регби и спринта. Желание достигнуть высот одновременно в разных сферах, возможно, подпитывалось тем, что он периодически сталкивался с антисемитизмом. Например, когда в их школу приехала команда бегунов, Алекс услышал, как один мальчик говорит другому: “Не знал, что сюда принимают евреев”. А вскоре после выпуска, когда они с отцом получали новые нансеновские паспорта, клерк посмотрел на них и сказал: “Alors vous n’êtes que deux youpins”[58]. Алексу в тот момент показалось, что он навсегда останется чужим во французском обществе. Но в либеральных стенах Рош юноша имел огромный успех. Двое его ближайших друзей происходили из выдающихся семей. Франсуа Латам жил в замке XVII века неподалеку от школы – его отчим Жан де ля Варенд был известным писателем правого крыла. Жан-Пьер Фурно проводил летние каникулы в семейном поместье в Стране Басков – отец его был выдающимся химиком. Парижский дом Алекса ничуть им не уступал: когда в 1926 году Семен окончательно покинул Россию и устроился в Париже, Либерманы обосновались в шикарном районе на авеню Фредерик Ле Пле, неподалеку от Военного училища.
Но несмотря на видное положение родителей, Алекса продолжал мучить очевидный контраст между изысканностью школьной атмосферы и вульгарностью матери. Она, как сказал Фурно, оставалась “une gitane jusqu’au bout des doigts” – цыганкой до мозга костей. Как-то на выходных, в предпоследний год учебы, Франсуа Латам, который созрел до срока и потерял девственность еще в юности, оказался в постели Генриетты. Хотя Алекс всегда утверждал, что этот эпизод не произвел на него ни малейшего впечатления, возможно, он послужил одной из причин срыва, который произошел годом позже.
Учитывая непростую психологическую обстановку, можно только порадоваться, что Генриетта на большую часть лета отправляла Алекса к учителям или друзьям. Одним из таких учителей стал русский эмигрант, который преподавал в Рош биологию – месье Имченецкий. Алекс всей душой к нему привязался. Каждое лето его нанимали, чтобы восстановить изрядно подзабытый Алексом русский язык. Первые свои каникулы они провели в пансионе в Бретани, вторые – в Каннах. Имченецкий, глубоко верующий холостяк, погруженный в литературу, заставлял Алекса читать русские стихи и романы и сумел возродить в нем страсть к родному языку, которую Алекс пронес через всю жизнь. Имченецкий преподавал ему классику – Толстого, Тургенева, Достоевского, Пушкина; учил чистому дореволюционному русскому языку, убирая из него примесь украинско-еврейских интонаций Либерманов. Впоследствии в эмигрантском кругу всегда восхищались аристократичностью и изяществом манер Алекса.
Другие каникулы проходили в более сложной эмоциональной обстановке. Однажды летом Алекса отослали в Сен-Жан-де-Люз, под присмотр Людмилы Красиной, старшей и самой ответственной из сестер – она была шестью годами старше Алекса, и он в нее влюбился. Другое лето он провел в Италии с матерью и Александром Яковлевым, который поощрял зарождающиеся художественные способности мальчика. Когда они вернулись в Париж, Яковлев пригласил Алекса к себе в мастерскую, чтобы учить его рисовать и написать его портрет. (Алекса на всю жизнь потрясла библиотека учителя – коллекция обитых красной кожей книг.) Приходя к Генриетте, художник неизменно заглядывал к Алексу, смотрел его рисунки и командовал: “Глубже!” Юноша так поклонялся Яковлеву, что много лет пытался научиться его стилю и писал такие же гиперреалистичные портреты.
Именно в мастерской Яковлева на Монмартре четырнадцатилетний Алекс познакомился с прелестной двадцатилетней Татьяной, которая недавно прибыла из России. Что интересно, Алекс всегда с удовольствием вспоминал эту встречу, а моя мать предпочитала ее не упоминать, потому что тогда было очевидно, что она на шесть лет его старше. Всё, что мы знаем об этой встрече, – угловатый подросток в восхищении уставился на взрослую красавицу. Татьяна же к тому моменту уже вращалась в высших кругах парижского и эмигрантского общества и не обратила на юношу ни малейшего внимания. В эти “веселые годы”, когда вся Франция пребывала в постоянной эйфории, Тата, как звали ее знакомые, ходила на вечера Жозефины Бейкер в “Кафе де Пари” и общалась со сливками общества: магнатами, художниками – друзьями Яковлева, и красивыми, неразборчивыми в связях барышнями Красиными.
Вскоре после знакомства с Яковлевым Алекс попал на мероприятие, которое предопределило его выбор профессии: Выставку декоративных искусств 1925 года. Это была самая крупная за всё десятилетие демонстрация искусства модернизма широкой публике. Особенно Алекса впечатлили графические работы Константина Мельникова в советском павильоне, где выставлялись конструктивистские эксперименты в оформлении книг, архитектуре и плакатном жанре. Впоследствии он рассказал своему первому биографу Барбаре Роуз, что эта выставка стала “одним из важнейших событий” в его жизни – “футуристические формы и структуры произвели на меня огромное впечатление”. Эта выставка, требования матери, чтобы он стал художником, пример Яковлева и впоследствии поощрение учителя рисования в Рош стали главными факторами, повлиявшими на то, что в юности Алекс пришел к искусству. В последние годы учебы юноша особенно преуспел в черчении – ему хорошо давались строгие формы. Эта предрасположенность проявилась четверть века спустя, на его первых выставках абстрактной живописи в Нью-Йорке.
К осени 1926 года Симон Либерман (к тому моменту он сменил имя на более западное) пришел в себя после нервного срыва. Он обустроился в новой квартире на авеню Фредерик Ле Пле. Семья наконец-то воссоединилась. Они впервые жили вместе с 1921 года, когда Алексу было девять лет. И уж точно впервые с революции они жили в такой роскоши. В новом доме Генриетта принимала цвет эмигрантского и художественного общества – помимо Яковлева, у нее бывал Жан Кокто, художники Фернан Леже и Наталья Гончарова[59], Сергей Дягилев и Бронислава Нижинская[60]. Но роскошь не обязательно означает гармонию. Предметом разногласий были не романы супругов – Симон и Генриетта давно смирились с неверностью друг друга (многие любовницы Симона, который в отличие от жены держал свои связи в секрете, были оперными певицами – в том числе моя любимая двоюродная бабушка Сандра, сестра Яковлева). Куда больше проблем вызывали деньги: мамаша, как Генриетту звали сын и муж, всегда нуждалась в средствах на оплату своих экстравагантных нарядов, и даже их роман с Яковлевым развалился после того, как она послала ему счет за дорогой набор чемоданов “Луи Виттон”.
Еще одним больным местом были странные отношения Генриетты с сыном. Причина, как она сама признавала, крылась в ее буйной любви к нему. В ее беллетризованных воспоминаниях открыто говорится об этой истерической, практически инцестуальной любви. Она признаёт: “всё в сыне очаровывает меня, эта любовь поглощает и мучает меня”, “я никогда ни к кому другому подобного не испытывала”. Кроме того, в Генриетте таилась врожденная страсть к драме. В юности Алекс наблюдал самые невероятные сцены: мать говорила ужасные вещи о его отце, клялась, что оставит его, срывала одежды и угрожала броситься с балкона. Когда ему было тринадцать-четырнадцать лет, он вернулся домой из школы и застал ее в слезах. Он никак не отреагировал, и она надавала ему пощечин, на что он улыбнулся и спросил: “Теперь легче?” Много лет спустя он вспоминал, что тогда в нем говорило британское воспитание – никогда нельзя показывать свои чувства.
Общество Либермана-старшего также мало утешало. Хотя в детстве Алекса они были близки, повзрослевшему мальчику тяжело было общаться с отцом. Когда к сыну приходили друзья, отец держался строго и сухо. Несмотря на проведенные в разлуке годы, Симон обожал “мамашу” и бесконечно ревновал ее к Алексу. “Я не мать, баловать тебя не буду”, – говорил он сыну, когда ругал его за что-то. Кроме того, по отношению к сыну он был так же скуп, как щедр с матерью; много лет он измывался над Алексом, заставляя его буквально вымаливать каждый франк или доллар, наслаждаясь его зависимостью. Между ними не было теплоты – и это сделало Алекса еще более беззащитным перед Генриеттой.
Но сильнее всего Алекса мучал тяжелый стыд, который он испытывал, когда Генриетта выходила на сцену. С годами ее театральные амбиции только росли. С переездом на Фредерик Ле Пле она стала устраивать для друзей театрализованные представления – нечто среднее между выступлениями Айседоры Дункан и французских мимов. Но со временем ей захотелось большего. Весной 1929 года Симон согласился финансировать постановку в знаменитом театре на Елисейских Полях: друг Генриетты, Марк Шагал, создал для нее соблазнительный костюм и декорации, другой ее приятель, Дариус Мийо[61], написал музыку. Как вспоминал Алекс, именно это событие чуть не убило его, когда ему было девятнадцать.
1929 год был последним годом учебы – Алексу предстояло сдать сложнейший экзамен: двойной бакалавриат. Помимо обычного бакалаврского экзамена он выбрал также математику и философию. На подготовку уходили часы усердных занятий. В это же время возникли проблемы сексуального характера: он уже несколько месяцев пытался соблазнить хорошенькую двадцатичетырехлетнюю француженку Луизу, горничную матери. Оба были девственниками. Когда момент настал, оба не знали, что делать, и, по воспоминаниям Алекса, это была полная катастрофа. (Судя по тому, как он говорил о последующих сексуальных неудачах, “катастрофой” было то, что он даже не смог в нее войти.)
Это фиаско, как ни странно, укрепило его дружбу с Луизой. Дело было во время подготовки к экзаменам, незадолго до премьеры Генриетты. Алекс помогал Яковлеву рисовать плакаты, которые успешно рекламировали событие на весь Париж. Проблема заключалась в самом представлении. Генриетта настояла на том, что будет выступать, несмотря на недавний перелом ноги и последующую хромоту. Коренастая, вульгарного вида сорокатрехлетняя женщина медленно и неловко двигалась по сцене и принимала претенциозные позы. Алекс и так страдал от чудовищной смеси любви и отвращения к матери, но это зрелище показалось ему просто чудовищным.
На следующий день, вскоре после возвращения в Рош, Алекса начало тошнить кровью. Медсестра сказала, что такого не бывает и он, наверное, переел смородинового желе. Но Алексу было так плохо, что он отправился в Париж – дорога заняла два часа. Семейный доктор Либерманов решил, что у мальчика несварение, и велел тому не есть дичи. Но вечером, когда родители ушли на ужин, у Алекса началось серьезное кровотечение – кровь шла сверху и снизу. У него не было сил добраться до телефона, и он бросил в потолок ботинок – комната Луизы располагалась наверху, и это был их условный знак. Она прибежала и оставалась с ним до прихода родителей.
Семейный доктор – по счастью – уехал из города, и Либерманы вызвали местного врача, который наконец-то поставил правильный диагноз: язва. Алекс потерял столько крови, что несколько дней его жизнь была в опасности. Следующий месяц он провел в постели под присмотром превосходного местного врача и милой Луизы. Легко предположить, что роль Луизы в его жизни полвека спустя заставила его поддаться чарам другой заботливой сиделки.
До болезни Алекса довело множество факторов: это была и тревога из-за попыток вписаться во французское общество; и желание преуспеть во всём сразу; и неловкость, которую он, как еврей, испытывал в христианском мире; страх перед двойным бакалавриатом; неудачная попытка стать мужчиной. Но Алекс всегда говорил, что тяжелее всего ему было видеть Генриетту на сцене: увидев ее, он чуть не умер со стыда.
Больше месяца Алекс провел в постели, после чего вместе с матерью отправился в Экс-ле-Бен, где начал готовиться к легкой части экзамена. Остальное он решил доедать через год. Он сдал экзамен в конце июля и получил mention bien, то есть 4 или 4 с плюсом. Осенью он вернулся в Рош готовиться к экзамену по философии и в мае 1930-го сдал его с той же хорошей оценкой. Это позволяло ему подать документы в одно из престижных высших учебных заведений – Высшую нормальную школу, Школу политических наук, Высшую школу экономики[62]. Выпускники этих школ работали в правительстве, преподавали или занимались промышленностью. Такой судьбы желал ему отец. Но мать еще сильнее, чем прежде, молила его стать художником, и со времен ученичества у Яковлева эта профессия продолжала его манить. Пока Алекс готовился ко второму бакалаврскому экзамену, он пошел учиться в судию Андре Лоре – вспыльчивого и деспотичного второразрядного кубиста, который ждал, что ученики будут писать только в его стиле. Как-то раз, взглянув на яркую работу Алекса, Лоре соскреб еще мокрую краску, смешав все цвета в грязную кашу, и нарисовал поверх яблоки в кубистском духе. (Пятнадцать лет спустя мой будущий муж пойдет учиться к Лоре и с ним произойдет то же самое.) После этого случая Алекс туда больше не вернулся.
Решив попытать удачи в другой отрасли искусства, Алекс с легкостью поступил в Школу изящных искусств на архитектурное отделение. Там он также преуспел и в первый год получил звание главного студента. Но в архитектуре требовались глубокие знания по математике и еще нескольким наукам, и вскоре Алексу это надоело. В тот момент им заинтересовался знаменитый дизайнер русского происхождения Адольф Кассандр (очередной поклонник Генриетты), чьи плакаты и рекламы произвели такой же переворот в коммерческом искусстве, как живопись Пикассо – в художественном. (Самой знаменитой работой Кассандра был логотип винной компании Dubonnet.) В 1931 году Алекс стал его ассистентом на полставки – после утренних лекций он шел к художнику в мастерскую. Именно благодаря Кассандру он познакомился с самым знаменитым французским издателем Люсьеном Вожелем, другом Яковлева и самого Кассандра, который как раз в тот момент был любовником Генриетты. Вожель – высокий, белокурый, голубоглазый денди – англофил, знаменитый своими любовными победами, носил канареечно-желтые жилеты, высокие воротнички и бабочки. Он постоянно искал новые таланты и в 1932 году, вступив в связь с Генриеттой, настоял, чтобы ее одаренный сын ушел от Кассандра и поступил в отдел искусств его журнала Vu. Осенью того года до французской экономики должна была докатиться из Штатов Великая депрессия, и Вожель мог предложить Алексу всего пятьдесят франков в неделю – что-то около 10 долларов. Алекс согласился и в девятнадцать лет стал помощником редактора отдела искусств в самом знаменитом журнале Франции. Он без колебаний ушел из архитектуры и тем самым формально положил конец своему образованию. Много лет спустя Алекс чуть не испортил несколько карьер, советуя своим юным протеже последовать его примеру, бросить учебу и прийти к нему в Condé Nast.
За последнее десятилетие Вожель опубликовал несколько роскошных альбомов по искусству – включая сборник эскизов декораций к китайским и японским театральным постановкам, которые Яковлев сделал во время первых своих путешествий на Дальний Восток, и его рисунки из экспедиций Ситроена. В тот момент Vu был самым продвинутым изданием – его целью было “привнести во Францию иллюстрированный репортаж о мировых новостях”. Политика журнала была левоцентристской, и он освещал фашистские настроения в Италии и Германии. Там публиковались самые значительные фотографы десятилетия: Андре Кертес, Мэн Рэй, Анри Картье-Брессон, Роберт Капа (он освещал в журнале войну в Испании) и Брассай, живописец ночной жизни Парижа. Вожель был истинным модернистом и находился в постоянном поиске. Первые фотомонтажные обложки Алекса, сделанные по принципам конструктивизма, поразившего его в тринадцать лет на Выставке декоративных искусств, впечатлили Вожеля. Сам Алекс влюбился в стремительный и прихотливый процесс создания еженедельного журнала. Он делил кабинет с Ирен Лидовой, русской эмигранткой шестью годами старше, которая обучила его азам верстки. До рассвета Алекс просиживал в проявочной, ночевал на кушетке в кабинете и подолгу бился с коллажами, доводя их до совершенства. Через несколько месяцев он уже единолично отвечал за все обложки и подписывал их – “Александр”.
Алекс привык жить на широкую ногу, а поскольку платили ему мало, брался за любую подработку – оформление витрин, составление каталогов и даже рисование вульгарных реклам. Одну из его работ, на которой упряжку Санта-Клауса тянули шесть “пежо”, разместили на развороте в Vu, чем он был изрядно смущен. Алекс обожал легкие, сентиментальные голливудские комедии времен Депрессии и писал кинообзоры, подписываясь псевдонимом “Жан Орбэ”. И хотя он, как и большинство русских эмигрантов, был скорее консерватором, за годы работы с Вожелем научился скрывать отвращение к левым взглядам начальника. (Большую часть жизни он старался держаться аполитично и обыкновенно притворялся, что разделяет предпочтения человека, на которого в данный момент работал.)
Выражаясь современным языком, Алекс был крутым парнем. Красавец (друзья говорили, что он похож на смесь Мелвина Дугласа и Джона Гилберта), обходительный космополит, спортсмен, хорошо разбирается в искусстве и литературе, свободно говорит на трех языках, публикуется в самом знаменитом журнале Франции – всё это действовало на женщин куда сильнее богатства. Он мог завлечь в постель любую парижанку. Но был ли он способен ее соблазнить? Это уже другой разговор.
Глава 7 Алекс и его женщины
После падения Франции мы уехали в Америку и устроились на Манхэттене. Мне было тогда одиннадцать лет. Что мне помнится из нашей тогдашней жизни с Алексом, так это то, что у него было слабое здоровье, проблемы с желудком и поэтому всегда строгая диета. С восемнадцати лет, после первого кровоизлияния, едва не стоившего ему жизни, он придерживался постоянного меню: отварные мясо, рыба и птица (предпочтительно куриные грудки), отварные или приготовленные на пару овощи; иногда дозволялось пюре, рис или овсянка. Сырые овощи, салат, лук, специи, чеснок и алкоголь строго воспрещались. Серьезность его болезни подтвердилась вторым кровоизлиянием – в 1945-м и еще одним семнадцатью годами позже, после которого ему, наконец, сделали операцию.
Еще в памяти всплывает белая зеркальная ванная комната. Это была настоящая зала для отправления гигиенических ритуалов. Главным образом мне вспоминаются металлические предметы – щипчики, пилочки и бесконечное количество разнообразно изогнутых ножниц, которые лежат на зеркальной полке строго параллельно друг другу. С того дня, как мы переехали в дом на Семидесятой улице, в котором прожили еще полвека, нам строго воспрещалось касаться этих инструментов. У матери все происходило в спальне, за туалетным столиком, стоявшим ровно посередине между двумя кроватями – его и ее. Для Алекса уход за собой был интимным, священным обрядом. Пару раз в год я или мама всё же брали у него что-нибудь для своих целей, шептали друг другу: “J’ai emprunté ses scisseaux pour une seconde” (“Я стащила у него ножницы на секундочку”) и старались как можно скорее вернуть украденное. Раз в несколько лет он обнаруживал пропажу и издавал два вопля: один был направлен в их с мамой спальню, другой – в мою: “Qui a emprunté mes scisseaux?” (“Кто стащил мои ножницы?”) Если мы возвращали пропажу с достаточным раскаянием на лице, он насмешливо тряс пальцем и грозил неминуемой карой.
Эти металлические инструменты (металл вообще был важной частью его натуры – много лет спустя он с безжалостностью хирурга вырезая из своей жизни мою семью после маминой смерти) были центральным элементом его туалета, так как предназначались для объектов, вызывавших у него особое беспокойство: усов и волос в ушах и крючковатом носу. Как и многие мужчины, озабоченные борьбой с расовыми стереотипами, он одержимо следил за растительностью на лице. Несколько раз в год, когда мама заходила за чем-нибудь в ванную, мне удавалось увидеть его перед раковиной: голова склонена, и он осторожно орудует ножничками в ноздрях, или каким-либо другим инструментом подстригает волосы в ушах, или подравнивает густые брови, которые так красиво нависали над его огромными зелеными глазами. Брови были единственным элементом его внешности, в котором допускался легкий беспорядок: в противном случае он выглядел бы слишком уж холено.
Уход за усами держался в особой тайне, и мне так и не удалось стать свидетельницей этого ритуала. В течение полувека Алекс одинаково стригся, носил одну и ту же кальвинистскую форму: темные костюмы, вязаные галстуки, мокасины на резиновой подошве, – но в усах допускал некоторый полет фантазии. Сейчас я понимаю, что усы Алекса отражали его внутренние перемены. На фотографиях 1930-х годов, за несколько лет до нашего приезда в Штаты, усики подстрижены тонко, как у официантов, и смотрятся нелепо. В моем детстве, в 1940-е, когда он увлекся ролью главы семейства, усы загустели и прибавили в ширине. К концу 1950-х – началу 1960-х, когда я вышла замуж и стала матерью, а Алекс превратился в трогательно любящего дедушку и прославился в Нью-Йорке, усы поседели и стали его фирменным знаком. Они упоминались всякий раз при описании его внешности: “элегантный усатый арт-директор Vogue” или “усатый аристократ, директор Condé Nast” (когда он стал во главе всей компании).
Однако усы были не только символом его космополитической утонченности – для нас они также были полны самых разных смыслов. Усы служили своеобразным барометром: “Алекс шевельнул усом” или “Дедушка шевелит усами” (когда мои дети начали разгадывать его настроения) – это были семейные кодовые словечки для обозначения тех моментов, когда мы пытались понять, что же он имеет в виду. Если дедушка шевелил усами, это значило, что он недоволен чем-то, что мы сказали или сделали, но не хотел, чтобы его недовольство было замечено. Усы были одновременно и своего рода флагом, и барьером между закрытым Алексом и внешним миром: любое движение этого флага/барьера помогало нам решить, что делать дальше (как правило, мы стремились как-нибудь перехитрить его). Все мы наверняка воспринимали усы по-разному. Мне казалось, что они слишком уж идеальны, как у фигурки жениха со свадебного торта. А поскольку за усами он прятал свои истинные чувства, то они стали для меня символом его асексуальности и византийской уклончивости.
Но вернемся в ванную. Это была небольшая простая ванная комната с белой плиткой на полу, которая часто встречалась в нью-йоркских домах 1920-1930-х годов. Все полвека там висели голубые полотенца. С тех пор, как он стал делить ванную с матерью, на стенах появилось множество зеркал, а освещение стало чрезвычайно ярким. В воздухе стоял аромат чистоты – меня воспитывали в католической вере, и этот запах ассоциировался у меня с протестантизмом. К нему иногда примешивался аромат лавандового мыла “Ярдли”, которое Алекс держал на раковине. Я не знала человека чистоплотнее, и вместе с тем он не переносил ни душ, ни ванну – вместо этого он, стоя перед зеркалом, осторожно намыливал себя, практически не брызгая водой. Позже я узнала, что цыгане ненавидят погружаться в воду и моются именно так. Кровь матери, видимо, сказалась и здесь.
В шкафу справа от раковины (вверху – полки, внизу – ящики) хранились десятки неотличимых друг от друга белых рубашек, стопка белых носовых платков и ряд серых шерстяных носков. Порядок в шкафу и во всём доме поддерживала Мейбл Мозес – она служила нам больше сорока лет. (Когда я спрашивала маму, что дарить Алексу на Рождество, она неизменно отвечала: “Носки и носовые платки” – ее также смущала аскетичность его гардероба.) Наконец, напротив раковины стоял аптечный шкаф – Алекс вынужден был принимать множество лекарств, но предпочитал скрывать это. В общем, ванная Алекса была холодным, безличным, аскетичным пространством, вызывавшим у меня ассоциации с его слабым здоровьем. Ничто в ванной не намекало на возможность сексуальной жизни – только раз, уже подростком, я увидела там маленький желтый презерватив, очевидно неиспользованный. Видимо, мама в очередной раз сказала, что у нее болит голова, или у Алекса случилась изжога.
Ничто в образе Алекса не ассоциировалось с сексом. Тот неиспользованный презерватив выглядел как-то символически: возможно, в юности я намеренно отрицала его телесность, чтобы возвести между нами некий барьер – в конце концов, он был всего на восемнадцать лет меня старше. Но полвека спустя, когда я расспрашивала его друзей, их рассказы подтвердили то, что я чувствовала и ребенком, и подростком, и взрослой женщиной – некую его асексуальность. “У него была аура кокетливого евнуха”, – сказала Зозо де Равенель, которая знала Алекса с 1940-х годов. (Она также рассказала, что когда Николя де Гинзбура, старого друга и коллегу Алекса по журналу Vogue, спросили, не гомосексуалист ли тот, он ответил: “Да он бы на такое не осмелился”.) “У него практически не было либидо, – вспоминал Франсуа Катру, который знал Алекса с 1950-х. – Его знаменитая любовь к Татьяне была частью образа”. “Он слишком холодный человек для подобных переживаний”, – говорил Бернар д’Англжан, еще один старый друг Алекса. Так что, пока другие дети переживали из-за того, что отец ругается или выпивает, я размышляла об асексуальности отчима – хотя, конечно, куда менее напряженно.
Нельзя, впрочем, говорить о его либидо (подорванном пуританским образованием и болезнями), не упомянув болезненную смесь отвращения и нежности, которую он испытывал к своей матери. Немногочисленные сексуальные наклонности Алекса сформировались в пику ей – настоящей сладострастнице. Генриетта была по-восточному чувственной женщиной, а Алекс почти всю жизнь влюблялся в скандинавского вида блондинок – рассказывая о своих похождениях, он не раз упоминал “белокурый нимб”. Генриетта, бесстыдная эксгибиционистка, находила мужчин всюду – в кафе, на корридах, в Булонском лесу. Алекс же с юных лет полюбил легенду о короле Артуре и имел самые идеалистические представления об ухаживаниях – женщины для него были нимфами, практически не имеющими плоти. Генриетта с гордостью предъявляла своих любовников всему миру, Алекс же щеголял своим целомудрием и верностью, и со временем эта тактика оказалась полезной в карьерном плане. Генриетта была тяжеловесно женственна – кружевное белье, кричащий макияж, чрезмерное до вульгарности качание бедрами и трепет ресниц. Алекса всегда влекло к девушкам с мальчишеской, спортивной фигурой.
Теперь мне хотелось бы рассказать о личной жизни Алекса в 1930-е.
Алекс всегда говорил, что первый его “настоящий роман” случился с Ирен Лидовой, русской эмигранткой, коллегой по отделу искусств журнала Vu. Дело осложнялось тем, что Алекс очевидно больше подходил на должность начальника отдела, чем Ирен, а ещё она была замужем за невероятно ревнивым фотографом, и вдобавок – панически боялась забеременеть. На этом примере отчетливо видно, какие комплексы обуревали Алекса в двадцать с небольшим лет – первый его “настоящий роман”, да еще и в обществе, известном своей распущенностью, за два года так и не перешел от страстных ласк к чему-то более серьезному.
Таким же целомудренным оказался роман с другой его “возлюбленной”, дочерью его начальника – умной, прелестной, радикально настроенной Мари-Клод Вожель. Она стала одной из важнейших женщин в его жизни, и они наверняка поженились бы, если бы не ее политические взгляды. (Вскоре после романа с Алексом она вышла за знаменитого французского коммуниста Поля Вайяна-Кутюрье и стала ярой партийной проповедницей.) Зимой 1935–1936 года Алекс и Мари-Клод катались на лыжах в Межев[63] под присмотром ее дяди по материнской линии Жана де Брюноффа. К тому моменту их отношения уже шли на убыль. Сбежав от дяди, они прятались в номере Алекса и страстно целовались и обнимались. По не вполне понятным причинам (французские левые были известны своей распущенностью) и в этом романе влюбленные ограничились ласками. На следующий месяц Алекс вернулся в Межев в одиночестве, решив, что это отличное место для знакомства с девушками. Там он встретил красавицу, которая стала его первой женой, – Хильдегарду (Хильду) Штурм, манекенщицу и лыжницу. Алекс с первого взгляда влюбился в тот самый “белокурый нимб”.
Как Ирен, Мари-Клод и практически все женщины в жизни Алекса, Хильда была старше него – хотя и всего на два года. Предыдущие связи она не скрывала – незадолго до их знакомства она как раз рассталась с богатым издателем газет и сошлась с американским спортивным организатором Чарльзом Микаэлисом. Алекса это не смутило, и через три месяца он предложил ей руку и сердце, несмотря на бурный протест родителей. В августе 1936 года они поженились – это была гражданская свадьба в Париже, на которую не пришли ни друзья, ни родственники. Хильда, добродушная и непритязательная девушка, была дочерью школьного учителя из Бонна – можно было предположить, что ее воспитали в почтении к брачным узам. К немалому смущению Алекса, она твердо вознамерилась “сделать из него мужчину” и научить всем постельным премудростям: каждую ночь она сдирала с кровати простыни и одеяла и, по выражению Алекса, устраивала там “стадион”. От медового месяца в Анси осталось множество ее обнаженных фотографий – Алекс краснел, разглядывая их, но чувственности в нем не прибавлялось ни на грамм. И хотя Хильда была первой женщиной, с которой двадцатичетырехлетний юноша достиг определенных успехов, его очевидно тяготила собственная неспособность продвинуться дальше. Через несколько месяцев после свадебного путешествия он вернулся домой с работы и обнаружил, что Хильда играет с белым пуделем. Собачку ей подарил американец Микаэлис, и с тех пор Алекса терзали подозрения, что жена возобновила роман с хозяином пуделя.
Осень 1936 года была непростым временем для всей Франции. Политические события трех прошлых лет – приход к власти Гитлера и перевооружение Германии – успели встревожить нацию. Весной 1936-го, в первые же месяцы пребывания Леона Блюма[64] на посту премьер-министра, начались массовые забастовки, изрядно подорвавшие французскую экономику – производительность уменьшилась вдвое, началась безработица. К осени поддержка Народного фронта[65] ослабла. Еще одним поводом для беспокойства стала гражданская война в Испании – фашистские правительства Германии и Италии стали посылать войска и припасы в поддержку генералиссимуса Франко. Повторная немецкая оккупация Рейнской области и подписание пакта Гитлера – Муссолини заставили французских центристов стремиться к укреплению связей с СССР и восстановлению отношений с Германией, пропагандировать “мир любой ценой”.
Эти политические кризисы не могли не отразиться на изданиях вроде журнала Vu. Его консервативные швейцарские спонсоры были недовольны тем, что Вожель поддерживает Народный фронт, а в журнале открыто нападают на нацизм. Разногласия достигли пика, когда 16 сентября 1936 года Вожель решился на неслыханную смелость: публикацию карты Германии с отмеченными на ней первыми нацистскими концлагерями. Под заголовком “Répartition des camps de concentration, maisons de correction et prisons en Allemagne”[66] значились места, включая Дахау, где в следующие десять лет погибло более двадцати миллионов человек.
Через две недели после публикации карты Вожелю пришло письмо, что Vu продан правому предпринимателю (который оказался близким другом Пьера Лаваля, будущего активного деятеля коллаборационного режима Виши). Чтобы сохранить лицо, Вожель подал в отставку, а новый хозяин повысил Алекса до должности шеф-редактора. Алексу вечно не хватало денег, он мечтал продвинуться по службе и мало заботился о политике, поэтому остался в журнале еще на несколько месяцев. Он продолжал рисовать обложки, следить за оформлением журнала и писать обзоры фильмов. Чтобы умилостивить мать, которая вечно просила у него порекламировать ее новый детский театр, он даже написал ироническое ревю одного из спектаклей, не забыв похвалить “восхитительные костюмы и декорации работы Александра”. Но к началу 1937 года его стала сильнее прежнего беспокоить язва, а политика журнала настолько сместилась вправо, что даже ему стало некомфортно там находиться, – и он уволился в надежде, что уговорит отца назначить ему какое-нибудь содержание и наконец посвятит всё время рисованию.
Той же зимой Алекс с Хильдой отправились в Кицбюэль[67], надеясь заново пережить очарование прошлого февраля, когда они только познакомились, но поездка не удалась: она почти не обращала на мужа внимания и общалась только с загорелыми красавцами-инструкторами, которые куда быстрее Алекса съезжали по склонам. По возвращении в Париж Алекс, пользуясь перерывом в работе, несколько месяцев снимал фильм о женщинах во французском искусстве. Он отделал для Хильды большую квартиру в районе Виллы Монморанси. Выходные супруги проводили в загородном доме в пригороде Парижа, который недавно купили родители Алекса. Генриетта пользовалась всякой возможностью саботировать брак сына: она наняла детективов, чтобы следить за невесткой, и те доложили, что Хильда снова встречается с американцем.
Язва и тревоги по поводу брака довели Алекса до физического и нервного срыва – такого же, какой был у его отца десятилетием раньше. Он провел три месяца в швейцарском санатории, спал, читал Толстого, Бальзака и “Унесенных ветром”. В конце декабря к нему приехала Хильда, и, пытаясь начать всё заново, они отправились на приморскую виллу Либерманов в местечке Сент-Максим, вблизи Сен-Тропе. Пока Алекс приходил в себя в Швейцарии, желание стать художником в нем только укрепилось. Мать горячо поддержала эту идею, а отец, хотя у него и уходили все деньги на обеспечение ненасытной Генриетты, назначил ему небольшое содержание.
Последние пять лет, во время службы в Vu, Алекс почти не писал картин. Авангардное искусство, как ни странно, прошло мимо него – Пикассо, Брак и Матисс оставались ему неизвестны. Несколько недель он брал с собой палитру и мольберт и писал природу сельской местности вокруг Сен-Тропе, подражая единственному “современному” художнику, которого любил – Сезанну. Его до сих пор терзало чувство собственной неполноценности перед гением Яковлева, и он мучился мыслями, что никогда не сравнится с учителем. Через несколько недель он понял, что Хильда заскучала, и, чтобы занять ее, попросил позировать с пуделем. Портрет вышел очень реалистичный и абсолютно неживой – на нем не было белокурой богини, которая так поразила его двумя годами раньше. После завершения работы Алекс всеми силами пытался развеселить жену. Она любила собирать пазлы, и он покупал ей самые крупные головоломки, которые только можно было найти на юге Франции. Наконец, отчаявшись, он позвонил в книжный магазин “Брентано” в Париже, и они отправили ему самый большой пазл из всех, что у них были, – он состоял из нескольких тысяч кусочков и занял большую часть пола в гостиной.
Как рассказывал Алекс, Хильда исчезла на следующее утро после того, как положила на место последний кусочек самого большого во Франции пазла. Она поднялась до рассвета, посадила собаку и уложила вещи в “Пежо” и уехала, не сказав ни слова. Она так ничего и не потребовала, и расставание во многом принесло Алексу облегчение. Хотя официально они развелись только летом 1937-го, больше им встретиться не довелось. Вскоре после развода Хильда вышла за своего американца, родила от него сына и прожила долгую счастливую жизнь.
Весной 1938-го Алекс руководил перестройкой садового домика рядом с виллой отца в Сент-Максим – он хотел устроить там мастерскую. Потом он отправился в Лондон, чтобы снять фильм о британском искусстве, и там встретил одну из подруг детства – Любу Красину, младшую из трех дочерей дипломата. Живая, веселая девушка с “дикой грацией и поразительными лавандовыми глазами” (как вспоминал Алекс) недавно развелась с Гастоном Бержери, левым депутатом французского парламента. Чтобы быть поближе к овдовевшей матери, она переехала с восьмилетним сыном Лало в Лондон и теперь работала манекенщицей у Скиапарелли. Алексу с детства нравились все сестры Красины, особенно нежно относился к Любе – еще с тех пор, когда ему было девять лет, а ей одиннадцать, она командовала им и связывала его простынями. “Подожди, вот я вырасту!” – грозил он. Пятнадцать лет спустя их квазиэротическая игра продолжилась. Много лет она не принимала его всерьез и звала Шуриком, но теперь, казалось, была готова ему отдаться.
Итак, Люба и Алекс стали жить вместе, но любовниками так и не стали. Алекс снова не смог проявить инициативу. Когда они по пути на юг Франции остановились в Париже, он ночевал у себя в квартире, а Люба – в гостинице. Оказалось, что в это время она принимала у себя бывших любовников, и это открытие еще больше его парализовало. Когда они добрались до юга, ситуация усложнилась.
Дом Алекса в Сент-Максим был практически не обставлен. Пока они с Любой бродили в поисках мебели, Алексу приглянулась пара кресел, но антиквар ему отказал – кресла были оставлены для графини дю Плесси, которая переезжает в новую квартиру в Париже. “Это же Тата! – воскликнула Люба. – Надо ей позвонить”. Алекс вспомнил, как встретил Татьяну в мастерской Яковлева – высокую, величественную блондинку, образец парижской элегантности. После этого они несколько раз сталкивались на коктейлях у его матери. Расспросив антиквара, Люба с Алексом выяснили, что Татьяна остановилась неподалеку от Сент-Максим в компании американского пластического хирурга русского происхождения, Евгения де Савича. Они созвонились, и на следующий день Татьяна и де Савич пришли к ним на ужин.
Де Савич появился в жизни Татьяны двумя годами раньше. Как-то раз она ехала в автомобиле друга на ужин к Олдосу Хаксли. Друг, который потерял в Первую мировую войну ноги, слишком резко повернул, машина опрокинулась, и сиденье пережало Татьяне горло. Ее спасло только то, что протез друга оторвался, упал рядом с ее шеей и принял часть веса сиденья на себя. От недостатка воздуха она посинела, и никудышные местные полицейские, решив, что она мертва, отвезли ее в морг в Хиер, после чего связались с моим отцом. Он нанял самолет и через два часа прилетел вместе со своим другом, де Савичем. Они нашли у Татьяны пульс и перевезли ее в тулонскую больницу. Де Савич сделал операцию, чтобы спасти ей руку, обожженную кислотой из автомобильной батареи. Через две недели ее перевели в Американский госпиталь в Париже. За следующий год он сделал ей восемнадцать операций и в процессе влюбился в нее.
Так Татьяна вновь появилась в жизни Любы с Алексом. После аварии она охрипла, стала бояться замкнутых помещений, а рука осталась изуродованной – она кутала ее в шелковый шарф. Но по натуре Тата оставалась всё такой же энергичной и жизнерадостной – она мастерила шляпки и поддерживала прекрасные отношения с мужем, Бертраном дю Плесси. К де Савичу она была очень привязана, но ясно дала понять – отношения их могут быть только платоническими (их дружба продолжалась еще два десятилетия, до самой его смерти). Следующие две недели все четверо часто встречались, ходили вместе на пляж, в рестораны и ночные клубы. Татьяне нравился Алекс – элегантный космополит с “аристократичными манерами”, как она выразилась впоследствии. Алекса, скорее всего, поразила величественная белокурая красавица, которая к тому же состояла в родстве с кумиром его юности Яковлевым. Как-то раз, возвращаясь из ресторана, они оказались вдвоем на заднем сиденье автомобиля. Алекс коснулся ее руки и сказал: “У вас чудесная кожа”. Татьяна, видимо, ответила просто улыбкой – тогда он впервые почувствовал, что его к ней тянет.
Кончился август 1938 года. Татьяна вернулась к своему ателье и светской жизни, де Савич уехал в Америку, Люба возвратилась домой – к сыну и работе у Скиапарелли. Алекс также отправился в Лондон, где они жили вместе с Любой и Лало. Следующие недели он, как обычно, рисовал – в частности, заканчивал портрет восьмилетнего Лало, который к нему ужасно привязался. Люба, казалось, уже решила, что они с Алексом поженятся, но этому мешало два обстоятельства. Алекса предупредила мать Любы, мадам Красина – она любила его с детства и знала, какой переменчивой может быть дочь. Мать боялась, что Люба сделает Алексу больно. “Уезжай, Шурик, – говорила она. – Так тебе будет лучше”.
Было и еще одно, более важное обстоятельство: пришло письмо от Татьяны, в котором она предлагала Алексу купить что-нибудь из библиотеки Александра Яковлева, который умер той весной. Татьяна была душеприказчиком дяди – разумеется, ей пришло в голову обратиться к Алексу, который обожал Яковлева.
Письмо было написано в начале октября 1938-го – через несколько недель после того, как Эдуард Даладье[68], Невилл Чемберлен[69] и Адольф Гитлер подготовили почву для Второй мировой войны и подписали Мюнхенское соглашение. Письмо Татьяны сработало как катализатор – Алекс уехал в Париж, не сказав Любе ни слова, бросив все свои вещи. Через несколько часов после приезда он пришел к Татьяне и купил почти все книги дяди Саши – много томов по истории искусства, десятитомное издание “Энтомологических воспоминаний” Фабра, “Естественную историю” Бюффона в сафьяновом переплете – эта небольшая изысканная коллекция до сих пор хранится у меня. Они стали видеться каждый вечер. После нескольких ужинов они пришли к Алексу – в мастерскую на Вилле Монморанси. Оказалось, что она так же боится секса, так же полна pudeur – это слово практически непереводимо и обозначает почти пуританское целомудрие. “Я испытывал ужас и восторг, – рассказывал Алекс одному из своих биографов. – На ней было не то черное, не то зеленое атласное платье и меховая шапочка на белокурых волосах. Это было… самое удивительное переживание в моей жизни. Когда мы провели вместе первую ночь, я понял, что жизнь моя изменилась навсегда”.
Месяц спустя я впервые увидела Алекса. Один из осенних четвергов я, как обычно, проводила у прабабушки на авеню Фош – моя гувернантка по четвергам брала выходной. В тот день я заболела, у меня поднялась температура, и мама за мной приехала. Думаю, на дворе стоял октябрь – она завернула меня в шубу, прежде чем взять на руки. Случай примечателен тем, что болела я часто, но впервые мама снизошла до ухода за больным ребенком.
Не могу сейчас не восхититься ее чувством момента: это была встреча двух полюсов ее жизни – первая встреча нового любовника с дочерью, – и она срежиссировала ее и сыграла роль идеальной матери безупречно. Белокурая мать, благоухая духами, шла со мной на руках навстречу улыбающемуся мужчине с аккуратными тонкими усиками и выдающимся носом. Они с матерью двигались чуть ли не по-театральному грациозно. Это была очень важная сцена, и он позировал так же умело, как и она: прислонившись к боку белоснежного автомобиля, подперев правой рукой подбородок, подхватив левой рукой правую. Когда мы приблизились, я заметила, как идеально он пострижен, как ласково улыбается. На его лице было очень характерное выражение – я заметила его, пока он осторожно усаживал меня на сиденье, – лучше всего описываемое французским словом attendrissement: смесь сочувствия, жалости и нежности. Видя это выражение, ребенок понимает, что взрослый растроган и умилен, что он готов выполнить любой детский каприз. Множество лет Алекс относился к нам с Татьяной именно так.
Он отвез нас домой, на улицу Лонгшам. Помню, когда мы прощались, я подумала, что никогда еще не встречала человека приятнее.
Спустя несколько недель после начала романа Алекса и Татьяны нацистские войска вторглись в Судетскую область Чехословакии. Французское правительство, устрашенное сообщениями о мощи воздушных сил Германии, сомневалось, что их армия, ослабленная многолетней мирной политикой, сможет нанести серьезный удар по войскам Гитлера. Франция горячо поддержала предложение Невилла Чемберлена подписать Мюнхенское соглашение, в соответствии с которым большая часть Чехословакии, союзника Франции, уходила в уплату за отсрочку очередной войны с Германией. Левые и пессимисты всех политических мастей (включая моего отца) считали, что это соглашение – самая трусливая капитуляция, и опасались, что, получив в свое распоряжение чехословацкий завод “Шкода” (который в том числе производил оружие) и избавившись от чешской линии защиты, вермахт может всем весом обрушиться на Францию. Но большая часть населения с радостью приветствовала подписание соглашения, и безумие 1920-х годов продолжалось.
В ту осень стали популярны множество новых песен. Алекс и Татьяна сидели в модных клубах – “Бык на крыше” или “Шпагат” и держались за руки, пока юная двадцатиоднолетняя Эдит Пиаф пела “Мой легионер” (Il était mince, il était beau, / II sentait bon le sable chaud…)[70] а Жан Саблон мурлыкал: “Vous, quipassez sans me voir / Sans même me dire bonsoir… ”[71]. Они побывали на велосипедной гонке в Вель д’Ив, которая проходила на стадионе, где четыре года спустя будут в нечеловеческих условиях содержаться под стражей тринадцать тысяч французских евреев. Влюбленные смотрели нашумевший в ту осень фильм Марселя Карне “Набережная туманов”, плакали над “Великой иллюзией” Жана Ренуара – в этом фильме, вопреки всем канонам, французским офицером был молодой обеспеченный еврей. Они ходили на поэтические чтения, концерты и пьесы. Такое времяпрепровождение было скорее в мамином духе. Однако с любимыми женщинами, вкусы которых он мгновенно усваивал, как и в своей карьере, Алекс был всегда готов пойти на выгодный ему компромисс. С Хильдой он катался на горных лыжах, с Ирен Лидовой – ходил на выставки по художественному оформлению книг в Музее декоративных искусств, с Мари-Клод посещал собрания левых, с Любой танцевал чарльстон в ночных клубах, с Татьяной – слушал Моцарта в исполнении Робера Казадезюса[72]. Первый год их любви, совпавший с последним годом мирной жизни в Европе, – был просто волшебным.
Именно в это время началась их первая переписка.
Татьяна писала ласково, но легкомысленно. 26 декабря 1938 года она должна была отправиться в Сент-Мориц кататься на лыжах со своим кавалером, высоким, обходительным миллионером двадцатью годами ее старше, Андре Вормсером. Избавившись там от Вормсера, которого она тогда пыталась мягко вывести из своей жизни, она собиралась встретиться на склонах с Алексом, который тогда был на юге Франции.
Любовь моя [пишет она из Парижа, собирая вещи]. Не могу уехать и не написать, что люблю тебя и счастлива с тобой. Уезжаю и надеюсь скоро вернуться в твои нежные руки.
Не забудь пластинки Баха и Моцарта и снаряжение [пишет она на следующий день из Сент-Морица].
Я катаюсь очень осторожно [пишет она 29 декабря]. На улицах полно одноруких и одноногих. Травмы здесь высоко ценятся, но я постараюсь их избежать. Хочу дождаться тебя целой.
В. [Вормсер] заболел фарингитом и целыми днями лежит в постели, а по вечерам мы с ним играем в лексикон[73]. Мне так только лучше, хотя и жаль его. Как мы с тобой будем кататься!! Как я тебя люблю! Как же мы будем счастливы. Всё только начинается.
Только проснулась, люблю тебя и ужасно скучаю [пишет она на следующий день]. Мы учимся кататься до половины первого, потом спускаемся в Сент-Мориц пообедать и в два возвращаемся к лыжам и катаемся до 4:30. В 3 я ем что-нибудь сладкое с “товарищами по несчастью”. В 6 я встречаюсь со знакомыми в баре или играю в карты с В. Ужин здесь в 8, за ним – долгая горячая ванна, и я засыпаю, только оказавшись в постели, а пока засыпаю, думаю о тебе, представляю твои нежные руки и всё, что нам дорого. Я люблю тебя.
За 1938–1939 годы сохранилось только одно письмо Алекса Татьяне – он хранил ее письма бережнее, чем она его. Но это было выдающееся письмо.
Мы были избалованы той редкой любовью, что предлагает свои дары лишь тем, кто умеет любить по-настоящему [писал он ей в ноябре 1938-го]. Ты любишь меня как ни одна женщина не любила, и благодаря тебе на свет появился мужчина… Любить тебя – для меня всё равно что молиться, это благословение, ниспосланное свыше… Жизнь для меня – это наши взгляды, наши тела, наши мысли, и я любил тебя, люблю и буду любить, пока смерть не разлучит нас.
После встречи в Сент-Морице в январе 1939 года влюбленные отправились в новый дом Алекса в Сент-Максим. Они провели там неделю, которая стала, по словам Алекса, величайшим моментом его жизни. “Чувства наши были необычайно сильны. Я знал – и был уверен, что Татьяна знала – это навсегда”.
Много десятилетий спустя одна из ближайших подруг Алекса, гений издательского дела Тина Браун, сказала о них: “Татьяна повлияла на него так же, как Уоллис Симпсон на принца Уэльского[74]. Помните, как он всё время повторял: она сделала из меня мужчину?”
Глава 8 Татьяна и Бертран
На взгляд окружающих, брак Татьяны с Бертраном дю Плесси (они поженились 23 декабря 1929 года в Париже) складывался просто восхитительно. В медовый месяц супруги отправились в Неаполь – оба раньше не были в Италии, – и письма Татьяны, адресованные матери, так и светятся счастьем молодой жены. “Бертран невероятно заботливый, он самый лучший муж и замечательный спутник”, – писала она из Помпей. Меня зачали в первые две недели их брака – я родилась 25 сентября 1930-го, и мама шутила, что я “спасла ее честь двумя днями”. Вскоре после свадебного путешествия они устроились в Польше – мой отец, полиглот, свободно говорил по-польски и служил торговым атташе при французском посольстве. Поначалу Татьяна была счастлива. Первое сохранившееся письмо из Варшавы датировано 30 марта. Видимо, она уже успела сообщить матери о беременности.
У меня каждые три недели берут анализы, пока что всё хорошо. Меня не тошнит, я пью укрепляющие лекарства. Много провожу времени на свежем воздухе, езжу на корт смотреть, как Бертран играет, и почти ежедневно бываю на ипподроме – у нас там ложа – болею за французских лошадей.
Дальше она говорит, что лето они собираются провести на берегу Финского залива, и рассказывает матери о недавнем концерте Прокофьева, на котором композитор сам дирижировал и играл на фортепиано; успех был такой грандиозный, что марш из “Любви к трем апельсинам” дважды был исполнен на бис. Светская жизнь бурлит, пишет Татьяна, ведь необходимо принимать французских и итальянских предпринимателей, которые приезжают в Варшаву, и она постоянно вынуждена развлекать за обедом гостей. Заканчивается это письмо припиской рукой Бертрана: “Целую вас, дорогая мама”.
Эйфорию молодоженов разрушило известие о самоубийстве Маяковского – Татьяна узнала о нем через три недели после мартовского письма матери. В тот тяжелый период Бертран был особенно нежен с супругой.
“Он настоящий друг, и мне кажется невероятным, что мы когда-либо можем расстаться”, – пишет Татьяна матери в начале мая.
Через две недели после трагедии Бертран, чтобы развлечь жену, повез ее на весеннюю ярмарку в Познань. В пути “всё вокруг цвело”, и Татьяна приободрилась. Ей по-прежнему нравилась их квартира, также утопавшая в зелени (“За окном у нас настоящее зеленое море, словно ты не в городе: Варшава – это одна большая деревня, она вовсе не похожа на Париж”). Вечером они слушали Федора Шаляпина, исполнявшего партию Мефистофеля, – “несмотря на свой возраст”, пел он прекрасно и имел “огромный успех”. Беременность ее проходила так же благополучно: единственным неудобством было то, что Татьяна ела за троих и быстро поправлялась.
Два месяца спустя она бурно ликовала, услышав, что Бертран везет ее в Париж – там ее ждали бабушка, сестра и все ее родные и близкие. Татьяне предстояло четыре дня плыть на пароходе, а муж ее должен был отправиться самолетом. В Варшаве стояла страшная жара, тридцать пять градусов в тени, и Татьяна предвкушала плавание. И всё же в ее письмах чувствуется, что думает она только о Маяковском. Она попросила мать присылать ей все вырезки из газет, где говорится о поэте, и снова написала, что не себя одну винит в произошедшем: “Тому было множество причин, включая его болезнь”.
А что же Бертран дю Плесси? Он пытался сделать счастливой девушку, которой не под силу было пережить ужасы самой кровавой революции века и самоубийство своей первой любви. Моих родителей объединяло то, что оба они стремились забыть прошлое. Татьяна хотела оставить позади свою разрушенную родину, Бертран старался порвать с семьей, поколениями боровшейся с бедностью и гордыней. Когда я думаю об отце, мне вспоминается полуразрушенный замок в Венде, в нескольких километрах от Нанта, где появились на свет пять поколений дю Плесси и где старший брат Бертрана, Жозеф, прожил до самой своей смерти в 1950-х. Я представляю, как за окном моросит дождь, на ободранных стенах висят распятия, окна во избежание сквозняков заперты даже в жару, а от печальных тетушек пахнет немытым телом (во французской провинции к гигиене относятся спустя рукава) и пережитыми потрясениями: многочисленными беременностями и детскими смертями. Это унылое, сырое место, само воплощение гордой нищеты. Весь год там размечен церковными праздниками: косить сено начинали на Троицын день, а на Успение мы ехали в Брест к тетушке Мари. Помню, как пахло пылью от открыток, что дарили на конфирмацию, а потом хранили между страницами древних молитвенников: на них изображались адские муки. Помню портреты предков в мундирах, которым поклонялись как иконам: это твой прадедушка де Ларомисьер, который завоевал Алжир! Твой дядюшка де Монморанси, герой битвы при Марне! Помню, что по всем комнатам были разбросаны листовки радикальных правых групп – “Французской силы”, “Огненного креста”, – которые поклонялись Жанне д’Арк и Нострадамусу и призывали вернуться в Средневековье и очистить Францию от семитской и иностранной крови. Помню, что один из кузенов сочинял для католических газет критику закона, разрешающего аборты, используя для этого александрийский стих. Другие кузены носили траур по Людовику XVI, и в годовщину его казни, 21 января, служили похоронную мессу. В этом болоте поклонялись прошлому и отрицали окружающий мир.
Мой отец сбежал оттуда, так что я – дочь двух беженцев. Мать, сидя в деревне, мечтала о славе, отец грезил о парижской роскоши. Когда ему было четырнадцать, родители умерли от дифтерии, и о нем, младшем, заботились старшие братья и сестры. Мой отец был необычайно хорош собой – высокого для француза роста, с темными волосами, мягкими чертами лица и большими глазами. По натуре он был вспыльчив, но замечательно трудолюбив. Чтобы вырваться из мрачного отчего дома, Бертран поступил сразу в две самые знаменитые французские высшие школы – Высшую коммерческую и Школу восточных языков. Способности к языкам у него были выдающиеся – к двадцати пяти годам Бертран свободно говорил по-английски, немецки и польски, а в двадцать шесть получил должность во французском посольстве в Варшаве. Возможно, благодаря кельтско-бретонской крови, была в его характере и дионисийская сторона, которая гармонично сочеталась с маминым славянским темпераментом. Занимаясь карьерой, Бертран попутно стал искусным музыкантом, полюбил поэзию, освоил профессию пилота, считался знатоком сразу в нескольких областях искусствоведения, в частности в китайской скульптуре и помпейском стекле. Была в нем и врожденная грусть, против которой лучшим лекарством служила любовь – он был настоящим донжуаном, ему нравились элегантные дамы. Свойственный Бертрану авантюризм заставил его в конце 1920-х влюбиться в русскую красавицу, за которой ухаживал знаменитый поэт – задним числом кажется, что это соперничество только подогревало страсть виконта к Татьяне.
Я выделила этот титул, поскольку это связано с еще одним сходством моих родителей: оба они, каждый на свой лад, были снобами. Наше генеалогическое древо восходит к сэру Жошо дю Плесси, который жил в регионе Нант в XVI веке. Хотя нашу семью можно назвать дворянской в самом широком смысле слова, никто из братьев или дядьев отца титулом виконт не пользовался. Однако мой отец, повинуясь некому импульсу, велел указать этот титул на своих визитках, когда заступил на свой первый дипломатический пост. (Мне рассказывали, что среди молодых дипломатов неопределенно-дворянского происхождения принято преувеличивать свои титулы за границей – кроме того, поляки известны своим почтительным отношением к аристократии.) Как бы то ни было, маму впечатлило знакомство с виконтом – в конце 1928 года, в один из отпусков Бертрана, их представили друг другу общие знакомые в Монте-Карло.
Вот как, на мой взгляд, история знакомства родителей ложится в контекст отношений Татьяны с Маяковским: мама и Бертран познакомились в конце 1928 года, после возвращения поэта в Москву. Они понравились друг другу, стали видеться, и, когда Бертран уехал в Варшаву, началась пылкая переписка. Когда в феврале 1929 года Маяковский на восемь недель приехал в Париж, Татьяна отодвинула Бертрана на задний план. Однако, судя по одному ее письму, написанному как раз перед приездом поэта в Париж, дю Плесси в то время уже стал проявлять настойчивость. “Кавалеры приглашают меня в разные страны, – писала она, – но никто из них не сравнится с М.”. После отъезда Маяковского Бертран приехал в Париж и с новой силой возобновил свои ухаживания. То лето, должно быть, выдалось непростым – Татьяна разрывалась между знаменитым поэтом, который мог воплотить в жизнь ее мечту: стать прославленной музой, и благородным французом, который предлагал ей пусть скромный, но всё же дворянский титул, о котором она мечтала всю жизнь. Развязка нам уже известна: в октябре Бертран вновь приезжает в Париж, а Татьяна, успевшая к тому моменту осознать, что Маяковский больше не вернется, принимает его предложение.
Нет нужды останавливаться на ее впечатлении от его родственников – вскоре после свадьбы он привез ее в полуразрушенный замок дю Плесси, чтобы представить семье. “Они очень милы, – писала она друзьям, – но не мылись, кажется, со Средних веков”. Сами дю Плесси были потрясены своей новой родственницей, но Бертран уже был слишком от них далек, чтобы обращать на это какое-либо внимание. Что касается ее семьи, все были только рады такому браку – благородный, элегантный француз с даром к славянским языкам очаровал их с первого взгляда, и это было совершенно взаимно. Титул его вполне удовлетворил дядю Сашу – можно представить, как он был счастлив, заказывая в подарок на свадьбу племяннице серебряный набор для туалетного столика из двенадцати предметов с выгравированными гербами.
Через полтора года после свадьбы, в июне 1931-го, Татьяна написала матери, что перестала кормить грудью вашу покорную слугу. Мне тогда было девять месяцев. “Малышка растет”, – пишет она в конце долгого письма, в котором также описывает успех, который имела в Париже ее младшая сестра Лиля: годом ранее дядя Саша вывез ее из Советского Союза, и Лиля победила на парижском конкурсе красоты.
Поскольку я уже не кормлю [пишет Татьяна], завтра еду к друзьям в Вильнюс на Троицын день. Мы с ней впервые расстаемся. Слава богу, есть телефон, можно будет звонить каждый час… Малышка становится всё милее и уже говорит “мама” и “няня”– к большой зависти Бертрана. Напиши, что тебе прислать. Представляю, как у вас цветет сирень! Целую вас с папой.
Это письмо – последнее из дошедших до нас писем из Варшавы. В результате череды печальных событий дю Плесси пришлось покинуть Польшу, и следующее письмо пришло весной 1932 года из Франции. Мы уже жили на площади Анри Пате, вблизи Эйфелевой башни, и Татьяна открыла свое дело.
Пишу тебе из деревни, куда мы уехали к друзьям на Пасху на три дня. Бабушка живет у нас и присматривает за малышкой. Последние три недели я работала не покладая рук – делала шляпки к Пасхе и совершенно вымоталась. Столько работы!
А Бертран к тому же совершенно не вовремя свалился с гриппом, и мне пришлось за ним ухаживать. Здесь я уже отдохнула: это настоящий дом XVIII века, удобств никаких, но ужасно уютно. Самое главное – здесь не надо ни о чем думать. По утрам, вместо того чтобы работать, я собираю салат. Через месяц дядя Саша возвращается из Азии. Экспедиция их закончилась печально. Его начальник [Жорж-Мари Хаардт] умер от пневмонии, и бабушка не успокоится, пока не узнает наверняка, что дядя Саша покинул это ужасное место. Всё это очень грустно… Малышка очень быстро растет, и когда на распросы в парке мы отвечаем, что ей всего полтора года, все бывают потрясены – выглядит она на два с половиной.
В следующем письме, которое пришло несколько месяцев спустя, говорится, что дю Плесси проводят лето на юге Франции.
Милая мамуленька,
Мы уже две недели на побережье, сняли тут дачу у знакомого. Франсин впервые в жизни плавает, и ей это очень по душе: она плачет, когда мы вытаскиваем ее из воды. Она очень загорела… Шлю тебе нашу фотографию и снимок голенькой Фроськи.
Она очень сладкая. Через месяц ей будет два года, и я думаю: неужели я ее родила! Кажется, это было только вчера… Бабушка гостит у своего брата в Аркашоне, а тетя [Сандра] в санатории, лечит ноги. Позже она к нам присоединится, так что пиши ей на наш адрес.
Но два года спустя, в сентябре 1934-го, мой отец снова потерял работу. Дю Плесси живут только на доходы с маминого дела, и денег на летние каникулы уже не хватает.
Милая мамуленька,
С именинами тебя! Франсин сегодня исполнилось четыре года. Ей подарили множество подарков. У нас всё переменилось. Няня ее от нас ушла и уехала в Польшу. Но всё в порядке., Фроська уже подружилась с новой гувернанткой, которая мне нравится куда больше няни. Я так погружена в работу, что никуда не ездила. Но чувствую себя хорошо, потому что занимаюсь гимнастикой – я всё лето каждый день делала зарядку. Бертран пока что работает дома. Саша уехал на год в Бостон, будет там заниматься переделкой музея и читать лекции про портреты. Какой чудный у нас дядя!
Есть несколько версий того, почему дю Плесси в 1931 году спешно покинули Варшаву. Согласно маминой версии, отец сам решил уехать, поскольку главное новостное агентство Франции, “Авас”, предложило ему работу корреспондентом. Но все, с кем я говорила об этом, включая тех, кто любил мою мать, утверждали, что виновата во всём была она. Согласно их рассказам, через несколько месяцев суровая дипломатическая жизнь в провинции стала ее утомлять – тут были и строгие правила поведения, и обеды для папского нунция, и необходимость развлекать торговых атташе из Осло и Аддис-Абебы. Татьяна всем сердцем стремилась в Париж и начала то и дело допускать серьезные faux pas. Ей можно только посочувствовать. Мама покинула Восток, провозглашая: “В Париж! В Париж!”, словно чеховские сестры, которые мечтали о Москве, а вместо блестящей светской жизни, к которой успела привыкнуть, ее ждал невзрачный польский городок, будто вернувший ее в советский кошмар. Это и вправду было не совсем честно.
Конкретный эпизод, приведший к тому, что дю Плесси покинули Варшаву, выглядел так: на официальном приеме мать во всеуслышание заявила: “Ненавижу поляков!” Кроме того, у супругов не осталось ни гроша – их обескровила мамина любовь к роскошной жизни. Она так и не сумела привыкнуть к скромному доходу мужа-дипломата, на который они должны были жить. Согласно этой версии, Татьяна требовала у супруга бесконечных нарядов, о которых всегда мечтала, а тот подчинялся, поскольку и сам любил пустить пыль в глаза. Судя по всему, он попытался заработать денег на своих дипломатических привилегиях, был пойман, и его попросили уйти в отставку. Об этом мне рассказала и тетя Сандра, которая обожала племянницу, но не умела ничего скрывать, и тетя Лиля, которая не любила сестру и видела ее насквозь. Услышав эту версию произошедшего, мать в истерике всё отрицала, что только подтвердило верность гипотезы.
Поначалу дю Плесси жили в Париже так же роскошно, как в Варшаве: они были одной из самых красивых пар города и на всех балах брали призы за умение искусно вальсировать. Они поддерживали отношения с дипломатами, с которыми познакомились в Варшаве, – среди них были Уильям Буллит, Джордж Кеннан, Джон Уайли, мой крестный отец, который был вторым человеком в американском посольстве в Варшаве и стал лучшим другом родителей, а также поверенный в делах из посольства Германии, Ганс Гюнтер фон Динклейдж, известный также как Шпац (“воробей” по-немецки), – впоследствии его перевели в Париж, и он сыграл неожиданную роль в жизни матери во время Второй мировой войны.
Мама снимала небольшое ателье в нескольких кварталах от дома и, с помощью ассистентки, мастерила и продавала там шляпки. Мой отец пробовал себя в различных сферах, но, подозреваю, так и не нашел себя после того, как оборвалась его дипломатическая карьера, и винил в этом Татьяну. Они стремились заводить богатых знакомых, чтобы расширить клиентуру матери. Чтобы упрочить свое положение в парижском свете, Татьяна заключила сделку с одним из самых известных кутюрье Парижа Робером Пиге (он был автором знаменитых духов Fracas и Bandit) – он одевал ее бесплатно при условии, что она будет носить только его платья.
Через несколько лет после возвращения из Варшавы, в начале 1935-го, произошло еще одно неприятное событие. Как-то раз Татьяна вернулась домой раньше обычного (возможно, у нее болела голова, что случалось нередко) и застала мужа в постели с Катей Красиной, одной из трех сестер, перед обаянием которых в моей семье не мог устоять никто. Много лет спустя мама рассказала мне об этом как бы между прочим – такая небрежная манера зачастую скрывает самую сильную боль. К отцу она была снисходительна и винила во всём Катю.
– А что ему было делать? – вопрошала мама полвека спустя. – Он был таким обаятельным, в Париже любая женщина только и мечтала лечь с ним в постель. Плюс Катя была известной красоткой и нимфоманкой и большую часть времени ходила одурманенная… Она сама на него бросилась. Его вины тут нет.
Что характерно, в следующем письме матери, в короткой записочке от 1935 года, Татьяна впервые ни словом не упоминает мужа. Кроме того, она первый раз пишет о цензуре: все письма, порочащие советскую Россию, теперь могли быть перехвачены, и русских зачастую сажали и отправляли в лагеря только за то, что им приходили компрометирующие письма из-за границы. Татьяна, видимо, знала об этом, и вставляла в письма одобрительные замечания в адрес советского режима.
Мамуленька,
пишу тебе из деревни, куда приехала отдохнуть на день. Я люблю читать, но в Париже у меня столько работы и встреч, что времени на книги не хватает. Читаю одни газеты. Видела в кино спортивный парад в Москве – потрясающе! Вся эта молодежь делает нации большую честь. Здесь тоже занимаются спортом, но только в высшем обществе. Мечтаю о зимних видах спорта – вот уже три года ничем таким не занималась. Франсин прекрасно выглядит. Она ходит в детский сад, учится читать и писать, очень выросла, всё время бегает и шумит, но всё равно ужасно милая.
Р. S. Ради бога, не говори никому ничего о Маяковском. Я бы не хотела, чтобы об этом судачили.
Учитывая, что в Париже Татьяна вращалась в консервативных кругах, а напряжение между СССР и западной демократией росло, понятно, почему ей хотелось скрыть свои отношения с национальным советским героем. Неясно только, как на самом деле она относилась к роману мужа с Катей Красиной. Спустя полвека легче было проявить снисходительность, но тогда ей наверняка было больно и тяжело. В конце концов, она происходила из благопристойной семьи, вышла за отца девственницей, а воспитывали ее бабушка и тетя Сандра. Эльза Триоле писала о ее чувствительности: “Татьяна падала в обморок при слове merde[75]”. Ужасно было, наверное, вернуться домой и увидеть мужа в постели со старой знакомой. (Когда я пытаюсь вообразить, как это было, я вижу всю сцену в белых тонах – бледная Катина кожа, каштановые волосы, солнечный свет на белых простынях, – и сама по сей день чувствую боль.) Первое мое воспоминание о родителях – как они ссорятся у нас дома на площади Анри Пате. Не из-за Кати ли они ссорились?
Помню, как стою рядом с отцом между кроватью и окном в их спальне, и мать с проклятиями швыряет в него что-то. Она промахнулась, и я увидела на полу пухлую желтую телефонную книгу. Мать стоит у шкафа и кричит что-то, ожесточенно жестикулируя. Отец не шевелится и всеми силами пытается принять веселый вид. Она вдруг смотрится в зеркало, приглаживает волосы и бросается из дома прочь, хлопнув дверью. Если темой скандала была измена, речь наверняка шла о Кате, потому что последующие измены отца уже не вызывали такой бурной реакции – с того дня мать переселилась в другую спальню.
Потом мои воспоминания о детстве начинают дробиться и никак не складываются в единую картину, словно хранятся в разных ящичках. Я вдвоем с отцом или с матерью, с бабушкой или тетей Сандрой. До осени 1940-го мы оставались в той же квартире, но я почти не помню себя с обоими родителями одновременно. Они отдалились друг от друга, и я стала чувствовать себя лишней – это ощущение преследовало меня еще много лет. Помню всего два момента, когда видела их рядом до 1939 года. Один из них был у смертного ложа бабушки – она умирала, а мы держались за руки и плакали. В другом случае мы сидели за обеденным столом у нас дома, я жадно грызла яблоко, а родители в кои-то веки смотрели друг на друга, тем самым как бы признавая, что я существую – ничего драгоценнее для меня быть не могло.
За исключением этих редких моментов, их жизни не пересекались. Ясно помню, как отец вдруг заявил, что хочет кое с кем меня познакомить, и сажает в автомобиль. Ура! Мы сломя голову несемся по Парижу: папа из тех отчаянных водителей, что любят пугать окружающих. А ему хочется меня напугать, потому что я нюня, потому что моя гувернантка делает из меня какого-то инвалида, и во всём виноваты русские женщины – мои мать и эта гувернантка, которую она отказывается уволить. Мне же хочется, чтобы вместо этой гувернантки у меня была молодая хорошенькая девушка, которая будет катать меня на лошадях и играть со мной в теннис, правда? Я потрясена до глубины души и кричу: “Нет!”, и это вопль ужаса, потому что отец как раз вылетел на набережную Пасси прямо перед носом у какого-то “пежо”.
Это наша обычная игра: он гонит что есть мочи, я визжу. Когда мы летом вместе путешествуем, он часто так гоняет. “Посмотри, как быстро!” Стрелка спидометра показывает сто пятьдесят – сто шестьдесят километров, и мы вылетаем на проселочную дорогу. Отец в восторге от моих криков и хочет, чтобы я визжала еще громче. За рулем он не умолкает и говорит только про евреев и интеллигентов – увы, антисемитизм был неотъемлемой частью идеологии старой Франции, и он до конца жизни был ее сторонником. “У твоей матери в друзьях одни евреи!” “Евреи все умные, но подлецы”. “Леон Блюм! Очередной еврей во главе Франции!”
Я изо всех сил стараюсь соблюдать нейтралитет, потому что понимаю – нельзя называть подлецами всю нацию сразу. Погрузившись в свои мысли, я забываю спросить, куда же мы направляемся – тем временем мы выезжаем на левый берег. В нескольких кварталах от Сены автомобиль останавливается, и я вижу указатель – улица Святых Отцов.
– Всё будет чудно! – повторяет отец. – Мы выпьем чаю!
Мы выбираемся из автомобиля и входим в уютный садик. Я всё еще думаю, что сейчас увижу одного из его коллег по дипломатическому корпусу, который угостит меня лимонадом и будет разоряться о военной угрозе и иностранном вторжении. Тем сильнее мое удивление.
Мы входим в дом, и на лестнице, покрытой красным ковром, стоит женщина в красном – на стенах красные обои, и всё вокруг тоже ярко-красного цвета. Она смеется, и ее белые зубы, темные волосы и бледная кожа выделяются на ярком фоне. На даме платье для чая, длинное, в пол, украшения с рубинами, ногти украшает красный маникюр. Она протягивает ко мне руки и восклицает:
– Ну наконец-то! Какое чудо!
Я медленно подымаюсь по ступенькам, довольная, что понравилась ей. Отец остается внизу, словно наслаждаясь нашей встречей. Дама невероятно красива, и я пожираю ее взглядом. Мне нравится, что на меня обращают внимание. Я, как щенок, нюхаю ее духи, вдыхаю ее багрянец. Она ведет нас в гостиную и беседует со мной – я демонстрирую свое знание французских королей, таблицы умножения, мировых столиц и, как никогда, чувствую себя взрослой и уместной. Самое удивительное, что я нравлюсь этой даме, кажусь ей интересной. Она внимательно меня слушает и забрасывает вопросами, разливая чай. Скрестив ноги в бархатных тапочках, дама смеется, на ее запястье сверкают рубины, в камине пылает огонь, и в ее голосе слышится акцент, похожий на мамин. В следующий раз мы встретимся много лет спустя – она американка, и с началом войны ей пришлось уехать домой.
Впоследствии я узнала, что ее звали Беттина Баллард, и в те годы она была главой парижского отдела журнала Vogue. Этот журнал, как и сестры Красины, сыграл важную роль в истории моей семьи.
Или другое воспоминание – отец ведет меня кататься на самолетах в Ле-Бурже. Ура! Мы сидим в двухместном самолетике, арендованном на полдня, и это лучшее воскресенье года. Он рассказывает мне о фигурах высшего пилотажа и показывает, как самолет летает на боку, как делает сальто и зигзаги, как ныряльщик перед прыжком в бассейн, и при этом никогда не падает. Я пристегнута к креслу ремнем, меня мутит, но когда самолет ныряет и кружится в воздухе, я от восторга визжу: “Еще! Еще!” “Стойкий солдатик!” – кричит он в ответ и пробует еще более опасные трюки: самолет делает тройное сальто, вертится, как спагетти в кипящей воде… Папа такой храбрый и умный, что получил лицензию пилота незаконно. Он дальтоник, а при проблемах со зрением лицензию не выдают. Все его друзья в восторге, что он обвел вокруг пальца идиотов, которые будто бы могут решать, кому можно летать, а кому нет!
Папа был верным патриотом самого анархистского народа в мире. Идеалист и борец по своей натуре, он с готовностью пошел воевать и рисковал жизнью. Бертран принадлежал к малочисленной группе французских правых либералов, которые с самого начала осознавали опасность нацизма, порицали недостаточность военной подготовки Франции, ее пагубное нежелание вооружаться перед лицом фашистской угрозы. Как и генерал де Голль, под флаг которого Бертран встал в первые же дни существования Сопротивления, отец сразу распознал моральное разложение во французском правительстве, заблуждения администрации, неумелое командование, из-за которого Германия всего за пять недель захватила его родную страну. Лейтенант Бертран дю Плесси погиб над Средиземным морем летом 1940 года – его самолет сбила фашистская артиллерия. Он стал одним из первых четырех кавалеров ордена Освобождения, величайшей награды де Голля. В памятной книге, что хранится в центре участников Сопротивления на улице Тур-Мобур, говорится:
Лейтенант дю Плесси, достойный и выдающийся человек, до войны служил во французском посольстве в Варшаве. После мобилизации стал связистом в польской армии. Сегодня [18 июня 1940 года] он без колебаний последовал зову чести.
Довоенные воспоминания, связанные с мамой, куда спокойнее, и их гораздо меньше. Помню ее по утрам у туалетного столика. Мне семь лет, и мы переехали в новую квартиру на улице Лонгшам вблизи площади Иена, она куда роскошнее предыдущей, находившейся неподалеку от Эйфелевой башни. Мама устроила себе ванную по последнему писку моды. Пол покрыт дивно мягким ярко-синим линолеумом, на туалетном столике с зеркалом лежит набор серебряных аксессуаров с гербом отца и инициалами матери: Т. Я. П. Из угла ванной я в страхе наблюдаю, как она расчесывает гладкие золотые волосы серебряными щетками. Мама может в любой момент вспылить и прогнать меня. Хотя она со мной всегда исключительно нежна, в ее молчании мне слышится какая-то суровость – это не похоже на нее, она известна своей словоохотливостью. Пока я сижу в углу, свернувшись в клубочек, стараясь занимать как можно меньше места, каждые несколько минут она шлет мне воздушный поцелуй и возвращается к своему отражению, к украшению своего совершенного лица. В ванной царит молчание. Для меня это молчание – настоящая пытка, за которой, однако, я прихожу почти каждый день. (Сейчас я понимаю, что всё это было неспроста, что моя мать была искренна. Глубоко застенчивая по своей природе, она любила браваду и болтала без умолку, чтобы скрыть свою застенчивость. Она так и не научилась говорить со своей дочерью, возможно оттого, что ее зачастую опережал куда более привычный к этому отец, с которым она не осмеливалась соревноваться.)
Несмотря на то что мне достаются только воздушные поцелуи и несколько случайных слов, я следую за мамой по пятам, когда она поднимается, готовая к работе, и идет в небольшое ателье, где мастерит шляпки с помощью своей ассистентки – печальной луноликой эмигрантки с трудным именем: Надежда Романовна Преображенская. Надежда Романовна – еще одна русская аристократка, чей муж теперь работает таксистом, она часто всхлипывает и, обнимая меня, лепечет сквозь слезы: “Ах, душенька, какую страну мы потеряли, у нас были дачи, слуги, лужайки, а теперь!..” Надежда Романовна, то и дело заливаясь слезами, сидит за столом, на котором высятся рулоны фетра, горы тюля, вуали и парчи, ворохи лент гро-гро, бархатные и атласные ленточки, перья цапли и павлина, малиновые розочки из ткани, а над всей этой восхитительной горой громоздится паровой пресс, благодаря которому фетр и солома примут форму шляпок, канотье, береток. А во главе стола сидит мать перед огромным зеркалом и прямо у себя на голове укладывает бархат, органзу, атлас, вдохновляясь собственным отражением.
Согласно отцовской причуде, в обычную школу я не ходила. Меня учила Мария Николаевна Шиманская – ревнивая, мнительная гувернантка. Раз в неделю я посещала курсы, где контролировали процесс моего обучения. Целыми днями при первой же возможности я подглядывала за матерью. Сквозь замочную скважину я наблюдала, как она, зажав во рту булавки, поправляет муар и джерси на головах мадам де Розьер, графини Дессоффи, герцогини де Грамон. По вечерам, когда она выходила в высший свет на охоту за клиентками, я отправлялась искать маму в ее шкафах, изучала и гладила кашемир, бархат и шелк. Помню невероятное переживание, очень похожее на детскую мастурбацию: вечернее платье из ярко-синего атласа работы Пиге, пахнущее сухим резким ароматом Bandit. Я нежно гладила платье, и это было почти утешением – будто ткань, что касалась маминой кожи, могла заменить ее объятья и ласки.
Только много лет спустя я поняла, что поклонялась Татьяне, поняла, какое магическое действие оказывало на меня ее молчаливое присутствие. Я нашла тетрадь с первыми плодами своего творчества – увы, это были не стихи или рассказы, которые могли бы стать доказательством раннего проявления таланта. Это были рисунки воображаемых платьев, вечерних нарядов и домашних пеньюаров, неизменно украшавших одну и ту же белокурую даму, очень похожую (в исполнении восьмилетнего ребенка) на маму. Очевидно, я рисовала их с одной мыслью: “Когда я вырасту, я буду делать то же, что и ты. Посмотри же на меня!”
Какими же редкими и драгоценными были те моменты, когда гувернантка брала отгул, отец уезжал, бабушка болела, и мы с мамой вдвоем отправлялись в город. Она неловко, но нежно брала меня за руку, и мы выходили из квартиры. Частенько мы ходили навестить ее подругу, у которой десятью годами ранее она обучалась своему ремеслу, Фатьму Ханум Самойленко. (“Ее муж был очень важным украинцем” – так мама объясняла мне это необычное имя.) У Фатьмы на левой щеке было большое родимое пятно, а сама она была известна на весь Париж своими шляпками. Фатьма рассказывала невероятные анекдоты, курила одну за другой черные сигареты “Собрание” и кормила меня розовым турецким рахат-лукумом – я и сейчас бы дорого дала, чтобы им снова полакомиться. Иногда мы втроем брали такси и отправлялись в тур по магазинам, чтобы закупиться материалами для их восхитительных творений, – мы навещали специализированные магазины, где торговали сотней разновидностей лент гро-гро, павлиньими перьями и вуалями: в кокетливых мушках, густыми вдовьими или вечерними, расшитыми блестками.
Мама была верна старым друзьям. Так же регулярно – обычно раз в месяц – мы навещали музыкальный магазин месье Граффа на улице Виктора Гюго, чтобы послушать записи классической музыки. Хозяин магазина – оживленный щеголеватый еврей, которому суждено было погибнуть в Аушвице, сажал меня у проигрывателя с новой записью Бранденбургских концертов, и я часами слушала музыку, пока месье Графф с мамой обсуждали свои дела: герцогиня де Грамон вчера купила новую запись “Персиваля”, мадам де Розьер на прошлой неделе заказала коктейльную шляпку с тюлем и перьями цапли. Или мы ехали в парк с молодым американцем Джастином Грином, который учился в Париже на врача, был влюблен в маму и обожал возиться с детьми: он подбрасывал меня в воздух или заставлял проделывать гимнастические упражнения. (С годами он стал одним из самых известных детских психиатров Нью-Йорка.) Или же в другие дни мы с мамой останавливались у входа в наш дом и ждали самого важного нашего друга, месье Вормсера – и это были самые чудесные моменты.
Месье Вормсер был очень богат, он ездил на длинном черном сверкающем автомобиле, его шофер ходил в ливрее. У месье были седые волосы, он был высок ростом и, как все мужчины, которых мама удостаивала своим вниманием, отличался превосходными манерами. А еще он невероятно меня баловал: подарил мне первые в моей жизни детские белые перчатки, невероятно мягкие – мне тогда было пять-шесть лет. Еще долгое время уже после того, как я выросла из них, подарок продолжал храниться в специальном ящичке, пока нам не пришлось спасаться бегством от нацистов. Месье Вормсер впервые отвел меня в цирк и подозвал к нашим креслам клоуна, чтобы тот пожал мне руку, на что я разразилась слезами: “Мы же не представлены!..” Он же впервые угостил меня мороженым – гувернантка запрещала мне подобные лакомства, – а мама с месье Вормсером наблюдали, как я поглощаю его в кафе “Северин” на Елисейских Полях. Помню, они смотрели друг на друга так же заговорщически, как мои родители в тот день, когда я ела яблоко. Я совершенно убеждена, что Андре Вормсер (“выдающийся банкир”, по словам матери) был единственным маминым любовником до второго ее знакомства с Алексом Либерманом. Одна кузина, которая хорошо знала и любила маму, – Клод де Ларомигьер, теперь ей восемьдесят шесть – рассказала, что месье Вормсер приглашал Татьяну в путешествия, делал ей роскошные подарки (всего два-три украшения, но зато великолепных). Как мне теперь кажется, она держала его на расстоянии и под любыми предлогами избегала физического контакта. Его спокойствие, нежность и доброта служили ей утешением – до встречи с Алексом от постоянной работы ее отвлекали только многочисленные друзья, собственная красота и в меньшей степени глубокая робкая любовь ко мне.
К осени 1938 года я почувствовала, что месье Вормсер утратил свои позиции – заброшенным детям свойственна такая проницательность. В нашей новой квартире на улице Лонгшам наши с матерью спальни разделяла единственная тонкая стена. (Как это часто бывает в семьях, где супруги ведут раздельный образ жизни, спальня отца располагалась в другом конце квартиры.) Каждое утро, около восьми часов, я слышала, как мать говорит с кем-то по телефону по-русски, и голос ее звучит как никогда мягко и нежно. Примерно тогда – в октябре 1938 года, как я поняла впоследствии, – мама начала встречаться с Алексом Либерманом. Я понимала, что месье Граффа, месье Вормсера и усатого господина в белом автомобиле, Алекса Либермана (той зимой гувернантка водила меня к нему в мастерскую, где я с удовольствием позировала), что-то объединяет: все они были евреями. Среди маминых друзей было множество евреев, и я, переживая в душе из-за своей нелояльности, мысленно спорила с отцом.
Мне бы не хотелось, чтобы сложилось впечатление, что мои родители непрерывно пребывали в состоянии войны. Это было не так – отношения между ними сложились прохладные, но вполне дружелюбные, и скандалов у нас дома не было. Они даже были привязаны друг к другу – например, Татьяна с неизменной благодарностью вспоминала, как муж спас ее после автокатастрофы. А весной 1940 года он месяц провел в военном госпитале с желтухой, и она каждый день приносила ему журналы, книги, письма, домашние лакомства. Да и задолго до этого случая случались их совместные выходы в свет, встречи с родственниками и друзьями, к которым были расположены они оба.
Среди таких людей была чета Монестье. Симона Монестье, троюродная сестра моего отца, образованная, утонченная, открытая женщина, училась музыке у самого Венсана д’Энди[76]. Вскоре после свадьбы они с мужем Андре, блестящим выпускником Политехнической школы (ему принадлежали процветающие бумажные заводы в Пикардии), приютили моего отца – он тогда был студентом в Париже. Монестье – космополиты, полиглоты – оказались ему куда ближе провинциальных родственников. Татьяну они тоже мгновенно полюбили, и она отвечала им взаимностью. Они оставались близкими друзьями родителей и вновь оказали им поддержку в 1934-м, через несколько лет после возвращения из Варшавы: Андре предложил отцу возглавить парижское отделение его компании, и тот занимал этот пост вплоть до начала войны. Мама с Симоной стали особенно близки. Подруга неизменно вставала на мамину защиту, когда у отца случался очередной роман: “Не волнуйся из-за нее, они и месяца не протянут”, или: “Поберегись этой рыжей, она всерьез на него нацелилась”.
Монестье были бесстрашными авантюристами и романтиками: они катались на лыжах в Карпатах, поднимались в горы в Тибете. Глубоко религиозные, они вместе с тем всегда были открыты новым знаниям и опыту: в 1930-х годах, например, Монестье принимали участие в экуменических семинарах в индийских ашрамах и пересекали африканские пустыни вместе с миссионерами. И все тридцать лет брака они были неизменно влюблены друг в друга – вечно спорили по мелочам, но соглашались в серьезных вопросах, и, проведя порознь всего несколько часов, заключали друг друга в объятья. “Наконец-то, милая, я соскучился!” – говорил Андре. “Где ты пропадал всё утро, любимый?” – отвечала Симона.
Симона Монестье – неутомимая рыжеволосая красотка, была одержима потребностью опекать и защищать всех вокруг, что в целом француженкам несвойственно. В ней говорили несбывшиеся мечты о множестве детей. Частично она реализовала свой материнский инстинкт в общении со мной. Монестье держали два дома – особняк в Пикардии, который достался ей в наследство, и уединенное поместье в Жорж-дю-Тарн – там я проводила почти все каникулы. Я была болезненным, худым ребенком, вечно страдала от бронхита и анемии. В Первую мировую войну Симона обучилась сестринскому делу и твердо верила, что в моем слабом здоровье виновата только моя мнительная гувернантка и только ее, Симоны, забота сможет поставить меня на ноги. И действительно, под ее присмотром я всегда расцветала. Иногда гостеприимство Монестье просто зашкаливало, и я спала на кушетке прямо у них в спальне. В эти моменты я с восторгом слушала их шепот – я люблю тебя, жизнь моя, счастье мое – и в первый раз понимала, что мужчина и женщина могут жить мирно, что любовь может пережить даже такой бесконечный срок, как тридцать лет. Благодаря Монестье в моей жизни появились не только радость и здоровье, но и уверенность в том, что муж и жена могут быть счастливы друг с другом.
Единственной их дочери, вышеупомянутой Клод де Ла-ромигьер (сейчас мы с ней уже как родственницы), в 1936 году было восемнадцать. Она вспоминает, что ее родители встречались с дю Плесси по меньшей мере раз в месяц. Они часто ходили вместе в театр или на концерты, а потом отправлялись в любимый ресторан – нижний зал “Рон-Пуан” на Елисейских Пюлях.
– Татьяна спускалась по лестнице и будто светилась от красоты, неизменно в платье от Е[иге, – вспоминает Клод, – а Бертран с гордостью ловил восторженные взгляды, адресованные его жене, и потихоньку наблюдал за присутствующими. А потом она вдруг что-нибудь говорила, он выходил из себя, и начиналось… весь вечер он то ругался, то сиял от гордости. Но в лучшие вечера они вели себя как любящие друзья.
Мои родители встречались и с другой парой – Жаком и Хелен Дессоффи, которые вновь появятся на этих страницах чуть позже. Граф и графиня Дессоффи были одной из тех довоенных французских пар, у кого было достаточно денег, чтобы не работать, и они занимали себя тем, что покупали и ремонтировали дома. Хелен была дочерью высокопоставленного морского офицера – длинноногая, худенькая, каштановые волосы убраны в гладкую прическу. Она беспрестанно курила и была страстной лошадницей. Родители обожали ее за грубоватое чувство юмора. Даже в тридцать восемь лет, когда мы с ней познакомились, она загорала до черноты. Голос у нее был по-мужски низкий и хриплый – частично из-за того, что она выкуривала в день по четыре пачки “Голуаз”. Мои родители не употребляли ничего крепче вина, однако некоторые их друзья, включая Дессоффи, питали пристрастие к выпивке и наркотикам. Жак Дессоффи (они с отцом подружились в Школе восточных языков) большую часть времени проводил в Северной Африке, где доставал лучший опиум непосредственно у изготовителей.
Хелен еще сильнее пристрастилась к виски с тех пор, как рассталась с последним любовником: с середины 1930-х она состояла в связи с обаятельным немецким красавцем, бывшим дипломатом, Гансом фон Динклейджем (Шпацем). В 1934-м он подстроил свое увольнение из дипломатического корпуса, якобы за то, что был женат на еврейке. Отец мой подружился со Шпацем в Варшаве – затем помог ему найти работу журналиста в Париже и познакомил с Хелен. За знакомством последовала бурная связь, которая завершилась осенью 1938 года, после подписания Мюнхенского соглашения. Тогда мой отец посоветовал всем своим друзьям прервать общение со Шпацем и другими немцами, живущими во Франции. Хелен последовала его совету, но расставание далось ей очень тяжело – не облегчало дела и то, что она начала подозревать в нем шпиона. Вскоре эти подозрения подтвердились. Стало ясно, что Шпац пользовался домом Хелен под Тулоном, где располагалась важная морская база, в качестве центра своей разведдеятельности. Постепенно, однако, она справилась с болью и злостью на бывшего любовника (в годы оккупации тот, кстати, был любовником Коко Шанель, которая отличалась безупречным вкусом!).
Была в супругах Дессоффи какая-то доброжелательная рассеянность. Окутанные клубами дыма, окруженные любимыми шнауцерами, они словно пребывали в своем мире, далеком от телесных проявлений чувств. Они были рады принять вас в этот мир – при условии, что вы не нарушали их благостного покоя. Так я узнала, что если у курильщиков опиума достаточно денег, они могут быть самыми приятными собеседниками. В их прелестных коттеджах на юге Франции (они жили отдельно и, как правило, в разных домах) всё было устроено очень удобно и современно – просторные комнаты с белыми стенами и широкими диванами, обитыми льном и хлопком. Помню, что там было много воздуха, все шутили и смеялись, собаки весело скакали вокруг, светило солнце, в воздухе мягко пахло хорошим виски. Отец так привязался к Хелен, что весной 1939-го купил ветхий домик неподалеку в Санари-сюр-Мер под Тулоном и собирался перестроить его, “как только позволит политическая ситуация”.
Изобилие денег и свободного места позволяло Дессоффи жить в состоянии перманентного праздника и приглашать в свою жизнь всех, кто развлекал и очаровывал их. В начале 1930-х годов они подружились с замечательной четой дю Плесси, а когда у матери появился Алекс, приняли и его. Поэтому не знаю, кто кого испытывал в тот раз, о котором я хочу рассказать.
Дело было весной 1939 года, и мы с отцом жили у Хелен, в ее новом доме в Санари. Помню, мы все собрались на кухне. Незадолго до того Гитлер грубо нарушил Мюнхенское соглашение предыдущего года и оккупировал оставшуюся часть Чехословакии. Отец, как обычно, распространяется об угрозе нацизма, некомпетентности французского правительства, а Хелен, по обыкновению, рассеянно кивает в ответ. “Почему Франция не сразилась с Германией в 1936 году, – вопрошает отец, – когда нацисты вошли в Рейнскую область? Германия тогда только начала перевооружаться, французы бы стерли немцев в порошок! Во всём виноват этот старый кретин Гамелей[77] – редкий трус. Не говоря уже о Леоне Блюме и всех его евреях-пацифистах! А трудовые союзы только и делают, что бастуют и тормозят перевооружение. И что в итоге? Мюнхен! Да французы все должны повеситься от стыда! За это время у немцев появились танковые войска, быстрые мессершмиты, теперь они и Чехословакию поглотили, между прочим, нашего старого союзника. А мы даже пальцем не пошевелили! Чего ждут эти идиоты в правительстве?”
Когда отец сердится, он часто успокаивает себя готовкой, особенно если дело происходит в гостях у друзей – вот и сейчас, закончив свою инвективу, он берется за ужин. Будучи выдающимся поваром (до войны среди французов это редкость), он недавно научил меня делать шоколадные трюфели. Пока отец помешивает говядину по-бургундски, я трудолюбиво катаю маслянистые шоколадные шарики в какао. Разговор принимает неожиданный поворот.
– Ты знаешь Либерманов? – неожиданно спрашивает Хелен.
– Грязные евреи, – сердито бросает тот.
– Неправда, они очень милые, особенно их сын.
– Да, отец там хуже всего. Грязные евреи!
Это звучит ужасно. Впервые в жизни я чуть ли не ненавижу отца. Я полюбила Алекса. Он завоевал меня своим обаянием, душевным теплом и заботой. Поскольку я уже не ребенок, то не могу не задуматься: неужели Хелен заговорила о Либерманах, чтобы выяснить, в курсе ли отец нового романа жены? Или она упомянула их, чтобы узнать, в курсе ли я? Этот вопрос терзает меня по сей день. У Хелен не было детей (думаю, это был сознательный выбор – сложно представить ее, опекающей кого-нибудь сложнее шнауцера), но всё равно, странный поступок.
Эти весенние каникулы были последними, что я провела с отцом. Кроме того, это была последняя мирная весна – большинство французов к этому моменту почти два десятилетия считали, что мир будет вечным.
Полвека спустя после разговора на кухне между Хелен Дессоффи и отцом мне повезло наткнуться на следующий абзац из Мориса Сакса, в котором он с пугающей лаконичностью описывает заблуждения, охватившие Францию в межвоенный период – заблуждения, против которых, надо отдать ему должное, горячо выступал мой отец.
Ни переворот 18 брюмера, ни Империя, ни Ватерлоо <…> ни Вторая республика, ни Вторая империя, ни поражение при “Седане”, ни Парижская коммуна, ни зарождение Третьей республики – ничто не потрясло Францию так основательно, как война 1914 года и последовавший за ней мир. <…> Перемирие 1919 года стало началом вечного мира. <…> Французы, опьяненные этой восхитительной иллюзией, первыми уверовали, что этот мир (<…> отличавшийся от других лишь своей способностью вводить людей в заблуждение) знаменует уникальную судьбу их Родины. <…> Победа даровала им право на любые излишества и безумства.
Глава 9 1939–1940
Несмотря на военную угрозу, летом 1939 года французы, как обычно, отправились в отпуск. Премьер-министр Эдуард Даладье отдыхал с любовницей, маркизой де Круссоль, на яхте друга вблизи Лазурного Берега. Президент республики Альбер Лебрюн уехал к себе на виллу в Лоррене – Мерси-ле-О. Министр юстиции Поль Маршан провел двенадцать дней в Эвиане, где лечил печень. Министр финансов Поль Рейно отдыхал в Ле-Туке на Ла-Манше, после чего вместе со своей подругой, графиней де Порт, отправился в Аркашон на берегу Атлантики. Министр по колониям Жорж Мандель, который давно уже требовал дать отпор германской агрессии, очевидно, больше других был озабочен положением дел и всего лишь на три дня уехал в Довиль.
Семья дю Плесси провела большую часть августа в поместье Ла-Кроз в Жорже-дю-Тарн, которое мой дядя, Андре Монестье, приобрел несколько лет назад. Поместье представляет собой несколько построек из грубого серого камня в уединенном месте на берегу бурной реки – настоящий рай для любителей дикой природы. Добраться туда можно только на лодке, до ближайшей дороги двадцать километров. Никто из нас никогда не пытался пересечь лесистые горы, чтобы найти эту дорогу.
На противоположном берегу, в пяти километрах от поместья, располагается ближайшая деревушка – Ла-Мален. Помимо лодки, единственным путем к цивилизации, которым иногда пользовались самые смелые и ловкие из нас, была крутая тропинка, ведущая к деревне, – там речка сужалась и ее можно было перейти вброд. Лозер, провинцию, где расположено поместье, называют самой дикой частью Франции – именно здесь появился знаменитый Авейронский дикарь[78]. И это невероятно красивое место. (Я пишу о поместье в настоящем времени, потому что оно по-прежнему существует и принадлежит моей семье.) Здесь всюду растут дикие цветы, речка сверкает, как платиновая ленточка между серебристых тополей, а такого чистого воздуха, как здесь, в Европе почти нет.
Доставка почты и еды в Ла-Кроз происходит самым необычным образом: письма, продукты и вчерашние выпуски “Фигаро” прибывают к нам в деревянном сундуке на канатах, который переправляют через реку с помощью огромного блока. Общение с тем берегом происходит в форме воплей:
– Месье Легран! – кричите вы мяснику, – не могли бы вы найти нам хорошую баранью ногу к выходным?
Телефона тогда не было, и нежданные гости со всех уголков Франции взывали к нам с другого берега – они приезжали, вылезали из автомобилей и вопили:
– Мы дю Плесси (Лоренсье, д’Аржантей) из Перпиньяна (Нанта, Ангулема). Можно у вас пообедать?!
– Конечно! – отвечали мы всегда.
Тетя Симона и впоследствии моя кузина Клод, обе великолепные поварихи, держали в кухне множество помощниц из деревни. По сей день это бедная местность, прислуга там стоит дешево, и за столом по вечерам редко собирается меньше двадцати человек. Ла-Кроз всегда был местом, где можно скрыться от мира, тайным королевством. За исключением воскресных путешествий на мессу (выдавались радостные воскресенья, когда в Ла-Кроз гостил священник и мог провести службу дома), выход в деревню рассматривался как капитуляция.
Любовь к приключениям заставила Монестье приобрести Ла-Кроз – благодаря имению они подружились с мамиными родственниками. Монестье обожали бабушку, восхищались Сашей Яковлевым и собирали его работы, искренне полюбили мою милую, грустную тетю Сандру, которая в ту пору зарабатывала на жизнь, преподавая оперный вокал. Совершенно естественно, что летом 1939 года, после смерти бабушки, они пригласили тетю приехать с нами, чтобы помочь ей справиться с горем.
В этом чудесном любящем обществе я провела большую часть августа – последнего лета перемирия, продлившегося с 1919 года. Расписание родителей, как обычно, было очень сложным. Они на месяц отпустили гувернантку, полагая, что мне будет лучше под присмотром тети, и ι августа отец отвез нас в Ла-Кроз. После двух недель там, в середине месяца он уехал, чтобы “повидаться с друзьями” (то есть, подозреваю, с дамой в красном), а в конце месяца должен был вернуться и забрать нас в Париж. Мама приехала к нам 13 августа, намереваясь провести здесь неделю и вернуться на юг Франции (видимо, к Алексу). Мама плохо сочеталась с Ла-Кроз. Как бы ни любила она Монестье, ее раздражали масляные лампы, недостаток ванных и общая ветхость. Она то и дело садилась в лодку или за руль – к нашему ужасу, поскольку права она получила только прошлой весной – и отправлялась якобы на поиски каких-то особых продуктов для меня, в особенности порошка под названием “Банания”, который давали слабым детям. На самом деле она очевидно стремилась в ближайшие деревни, где можно было спокойно написать Алексу и отослать открытку.
Здесь всё так дико и красиво. Тетя говорит, что это похоже на Даръяльское ущелье на Кавказе [написала она ему 17 августа]. Удобств никаких – ни электричества, ни дорог. Будь ты здесь, это было бы мило, но без тебя тут ужасно. Утешаюсь только обществом Франсин и окружающей красотой… Я люблю тебя нежно и берегу твой образ в душе, как самую свою жизнь. Напиши мне, и я сама заберу письмо, повиснув на веревке.
Как жаль, что ты не пишешь [жалуется она 19 августа в одной из четырех открыток, которые отослала в тот день]. Здесь постоянно грозы, но я много плаваю и гуляю, чтобы не сойти сума без тебя. Тетушка ужасно милая, и я нещадно ею пользуюсь. К сожалению, Фроська выглядит неважно, не лучше, чем в Париже, и очень устает от детских игр.
Наконец-то я получила твое письмо! [Восклицает она тем же вечером в очередной открытке.] Аптимтим [так мама с Алексом называли друг друга], какое милое, чудное письмо! Боже, через два дня мы будем вместе… Мы так не заслужили своего счастья, что должны беречь его пуще всего на свете.
Об этом последнем мирном лете у меня сохранилось всего несколько драгоценных воспоминаний – мне тогда было восемь лет. Помню, как я была счастлива, что со мной пятеро самых любимых людей – мама, папа, дядя Андре, тетя Симона и тетя Сандра. Помню, как проснулась от того, что дядя кричит почтальону: “Добрый день, месье Лефевр! Я передам!” Помню, как завтракаю за длинным дубовым столом и наблюдаю, как мама – она совсем не умела готовить – пытается развести для меня “Бананию” и чертыхается, пролив кварту молока. Я еще не умела плавать (гувернантка считала это слишком опасным делом) и бродила по колено в воде вместе с тетей, смотрела на нее снизу вверх и восхищалась белизной ее зубов. Помню, как папа и дядя без конца обсуждали военную угрозу: Франции и Великобритании срочно надо подписать пакт о ненападении с СССР, переговоры об этом ведутся с марта, Даладье беспомощен и только затягивает дело. Помню, как родители – в тот день они оба были в Ла-Кроз – сидят на берегу сверкающей речки под тополями и мама просвещает Монестье о светской жизни в июньском Париже. Это невиданная, потрясающая роскошь, говорит она; самой блестящей вечеринкой оказался ежегодный бал в польском посольстве – мадам де Порт, любовница министра финансов Поля Рейно, выглядела чуть менее уродливо, чем обычно, в великолепном лиловом шелковом платье от Пату; блистательная супруга Отто Абеца, поверенного в немецком посольстве, француженка, была в бежевом шелковом платье; зал освещали тысячи волшебных огней; в три часа утра посол заставил всех гостей разуться, и они танцевали полонез на посольских лужайках… “Пир во время чумы”, – перебил ее отец с мрачным видом – он всегда так выглядел, когда при нем упоминали Польшу, а тем летом ее упоминали часто.
Но ярче всего я помню легендарный пятикилометровый путь от Ла-Кроз до Ла-Мален – возможно, потому что для меня он стал своего рода обрядом посвящения, ведь по нему можно было ходить только взрослым. Дело было на следующий день после отъезда матери на юг – она квохтала надо мной, как моя гувернантка. Отец буквально заставил меня пуститься в путь, и по прошествии трех недель под опекой тети Симоны я чувствовала себя готовой принять этот вызов. Мы бодро шли по густым зеленым зарослям, ориентируясь на серебряную ленту где-то внизу, поскальзываясь на устилавших землю плотным слоем ароматных сосновых иголках. День был прохладный, солнечный, и я была в таком восторге, что почти не чувствовала усталости. Через два часа, когда на том берегу завиднелись первые дома, мне даже стало обидно – высота была взята, и мне требовалось новое испытание. Перед мостом мы присели отдохнуть под деревом, и отец расхвалил меня, как никогда раньше, – он превозносил мою силу, ловкость и смелость. Пахло хвоей, я таяла от счастья, слушая его похвалы: “Стойкий солдатик, – говорил он, – мы теперь будем гулять всюду, в Морване, на бретонском побережье!”
На следующий день, 23 августа, произошло главное событие лета: СССР после пяти месяцев бесплодных переговоров с Великобританией и Францией объявил, что они подписали пакт о ненападении с Германией. Почтальон прокричал эту новость с другого берега реки прежде, чем мы, как обычно, послушали беспроводное радио. “Теперь в любой момент может начаться война”, – мрачно сказал отец. Наши каникулы кончились. Было решено всем в течение суток покинуть Ла-Кроз и вернуться в Париж. Следующее, что я помню, – мы едем в город, я сижу между папой и тетей Сандрой, положив голову ей на колени. Вокруг ночь. Папа, на этот раз спокойно, объясняет Сандре, что нас ждет Вторая мировая война.
– Господь знает, – говорит он, – как я ненавижу коммунистов, но французы и англичане так затянули дело, что русским просто ничего другого не оставалось. Маршал Ворошилов готов был пустить в ход свои многотысячные дивизии, британцы и французы могли предложить только несколько сотен! Франции надо было сосредоточиться на танках, а не на этой дурацкой линии Мажино…
Моя аполитичная, миролюбивая тетя постепенно засыпает, и ее голова клонится к моей.
– И единственный наш союзник на востоке теперь – милая старая польская кавалерия, – продолжает отец. – Их представления о войне так устарели, что для них до сих пор лошади – это часть армии.
– Ты уйдешь на войну? – спрашиваю я, а тетя упирается головой мне в плечо.
– Да, зайчонок, очень скоро, – отвечает он и гладит меня по голове. – Тетя Симона, дядя Андре, мама и тетя Сандра будут о тебе заботиться.
В день нашего возвращения в Париж его призвали. Пару дней спустя Монестье на неделю отвезли меня в другой свой дом, в Пикардии. Все думали, что отец ненадолго приедет в субботу, по пути в свой полк. Помню, как преданно ждала его на ступеньках и таращилась на поросшую травой лужайку, окруженную розами. Он должен был приехать в три, но пробки на дорогах – в ожидании войны парижане в страхе покидали столицу – задержали его приезд на шесть часов.
Я сидела на крыльце, вздрагивая всякий раз, когда мимо дома проезжал автомобиль, отказываясь уйти, и рыдала, когда меня попытались увести. Я хотела увидеть папу в форме! Я хотела увидеть его в ту секунду, когда он выйдет из автомобиля! Меня оставили в покое. Наконец на дороге появился знакомый бордовый “пежо”, и он вышел из автомобиля – на офицерском мундире блестел золотой шнур. Папа подхватил меня на руки, и мы пошли ужинать. После ужина меня стало клонить в сон – давно было пора ложиться спать, – но до меня доносились обрывки разговоров. Папа привез свое завещание. На случай, если с ним “что-то случится”, он хотел, чтобы моим опекуном до достижения 21 года стал Андре Монестье (его, как и всех мужчин старше сорока, призвали на фронт только несколько месяцев спустя).
Германия напала на Польшу ι сентября. На рассвете 3 сентября Великобритания объявила немцам войну – восемь часов спустя к ним нехотя присоединились французы. 29 августа отец уже уехал на польский фронт. Как специалиста по Польше, его назначили связным офицером при генерале Жюле Арменго, который возглавлял часть, посланную в Польшу французским правительством для поддержки еще до объявления войны. Помню заголовок в “Фигаро” в начале сентября: “В третий раз за семьдесят лет Венера Милосская покинула Лувр и была спрятана в глубине страны”. В первые недели войны вошло в моду носить с собой противогаз, закинув его за плечо, – мне эта манера казалась ужасно бравой. В начале сентября каждую ночь выла воздушная тревога. Мы с мамой и гувернанткой тогда бежали в свое убежище – подвал соседнего дома, переполненный нервными женщинами в халатах и бигуди. Через несколько недель мама решила, что нам с гувернанткой лучше уехать за город – в конце концов, следующая тревога может оказаться настоящей. Дом Монестье в Пикардии был расположен небезопасно – отец всегда предупреждал, что когда Германия нападет, это произойдет в Арденнах, через бельгийскую границу. Вместо этого нам предстояло отправиться в Жиронду, в домик прабабушкиного брата, Александра Петровича Кузьмина, который прошлой зимой отошел ко мне по завещанию.
Хотя и куда более скромный, дедушкин домик в деревне Гужан-Местра был мне таким же родным и знакомым, как Ла-Кроз, как дом Монестье в Пикардии, как всякий милый уголок моего детства. Тесный деревянный домик на три комнаты стоял на болотистой равнине. В этом пристанище, где не было ни воды, ни электричества, дедушка нашел приют после трагедии, постигшей его. Уехав из России и поселившись в Германии, он влюбился в акробатку и женился на ней. Вскоре после свадьбы он потратил все свои сбережения и купил ей собственную академию верховой езды, но она сбежала от него с воздушным гимнастом. Он остался без гроша, с разбитым сердцем и устроился в Гужан-Местра, где коротал время играя в “Солитер” и перечитывая русские романы. К тому моменту, как мы встретились, “месье Русский”, как его звали селяне, совершенно выжил из ума, всё время улыбался и то и дело высовывал язык, что меня очень смущало. Он узнавал о мировых событиях из русских газет, но в общем и целом погрузился в обломовскую спячку. Смыслом его жизни явно были шесть летних недель, которые мы с бабушкой, тетей Сандрой и гувернанткой проводили у него в гостях.
Тогда мы набивались в этот крохотный домик битком – бабушка с тетей Сандрой жили в одной спальне, мы с гувернанткой в другой, а дедушка с радостью устраивался на диване в гостиной. Было нечем заняться – можно было читать, ходить в деревню за продуктами, таскать воду из ржавой колонки в конце грязной дороги или помогать бабушке готовить по-русски пышные обеды. И всё же я любила летние вечера, когда мы собирались вокруг масляной лампы за зеленым столом под печальным взглядом иконы, смотревшей из угла, – дедушка сохранил ее, когда бежал из России. В тесной гостиной, где пахло горячей кашей, дедушка, как обычно, был поглощен своим “Солитером”, гувернантка читала или штопала, а бабушка играла со мной в карты или шашки. Тетя Сандра проигрывала оперные записи на стареньком граммофоне. Иногда, когда слушала арию из “Тристана и Изольды” или “Золотого петушка”, она подпевала звучным, глубоким меццо, на глазах у нее появлялись слезы – ей вспоминались дни славы в петербургской опере. Тогда вместо пения звучали всхлипы, прерываемые героическими тремоло. Дедушка поднимал взгляд от “Солитера” и тревожно высовывал язык. Бабушка подбегала и утешала свою взрослую дочь:
– Душа моя, сокровище мое, – шептала она, – у тебя была блестящая карьера, но ничто не дается навечно.
На этих словах вся семья, терзаемая тоской по потерянной России, заливалась слезами, и я вслед за ними.
Но в 1939 году я оказалась в Гужан-Местра без моих любимых родственников. Дедушка и бабушка умерли, тетя Сандра пошла работать в парижский Красный Крест. Я болезненно ощущала пустоту, образовавшуюся после смерти бабушки. Это было начало школьного года, и мы с гувернанткой придерживались прежнего унылого расписания. По утрам мне мерили температуру. Если градусник показывал больше 37,5, я на весь день оставалась в постели. Это мне нравилось, потому что позволяло погрузиться в романы Жюля Верна – той осенью больше всего мне нравился “Зеленый луч”. Если на градуснике было меньше, начинались уроки: французский диктант, русский диктант, история, математика. Учебное заведение, куда я ходила в Париже, присылало мне задания. Раз в несколько дней мы ходили на почту и звонили матери, которая пережидала предполагаемые налеты на Париж у друзей, живущих прямо рядом с городом. (Только потом я поняла, что они с Алексом жили у его родителей в Шату.) Единственным развлечением была ежедневная прогулка в деревенский магазин: по пути мы проходили дом мэра, тучного коммуниста в неизменной красной рубашке – по воскресеньям он заводил граммофон и, сидя на крыльце, слушал “Интернационал”. Иногда приходила деревенская девочка по имени Колетт – мы с ней играли каждое лето, и в тот год она начала приобщать меня к чуду деторождения. За писькой, говорила она, стянув трусы, есть еще одна дырочка, и мужчины засовывают туда свою штуку. Нам сложно было представить, как можно куда-нибудь засунуть эту вялую штучку, которую мы пару раз видели у старых извращенцев на улицах, и мы сочли это безосновательными слухами.
Пребывание в Гужан-Местра продлилось с 10 сентября до первых чисел ноября. Тем временем оставшиеся в Париже без устали успокаивали своих родственников за границей. 13 сентября Алекс написал отцу длинное письмо, где сообщил, что они с Татьяной живут в Шату (Семен Либерман предвидел, что ближайшие несколько лет евреям лучше в Европе не бывать, и переехал в Нью-Йорк). Алексу, очевидно, приходилось нелегко – он ощущал вину и стыд, что его признали негодным к военной службе. Кроме того, его властная мамаша изо всех сил старалась разрушить его отношения с Татьяной. Алекс, в свою очередь, пытался уговорить мать уехать к отцу в Штаты.
Любимый папа [пишет Алекс отцу]. Не волнуйся за нас с мамашей. Я рад, что тебя тут нет, и уверен, что в Америке ты принесешь Франции больше пользы. Мы теперь живем в Шату – мамаша, Таня и я. К сожалению, мамаша несчастна, ревнует, и рядом с ней тяжело находиться – ей с ее здоровьем и нервами не стоит здесь быть. Было бы хорошо, если б ты нашел способ отправить ее в Америку.
С невероятным идеализмом Алекс восхваляет безумную французскую самоуверенность:
Атмосфера здесь прекрасная. Все преисполнены такого спокойствия, храбрости и решительности, что сам воодушевляешься и гордишься тем, что ты француз. <…> Все здесь верят в победу!
Далее он страстно пишет о том, как Татьяна его поддерживает, и снова говорит об истерической ревности матери:
Я раньше боялся войны – не физически, а потому, что не испытал еще счастья. <…> Но всё изменилось. В этом году я испытал любовь. Она сделала меня мужчиной, научила меня творить. Я нашел свой путь, свое вдохновение, свою истину. <…> Таня всегда рядом, мы неразлучны. <…> Всё гораздо проще, когда рядом любимый человек. <…> Мне жаль мамашу. Она страдает и заставляет страдать других. Больнее всего видеть ее эгоизм в те моменты, когда эгоизм надо преодолевать, когда все мы должны забыть о себе и жить ради общей цели. Теперь она куда более одинока, чем раньше. <…> Ревность ее – это пытка, и я ничего не могу сделать. <…> Хочу сказать тебе только одно. Это я могу рассказать лишь тебе.
Я никогда не был счастливее, чем теперь, с Татьяной. И я никого так не любил, и меня так раньше не любили. Помни, мой родной, что бы ни случилось, душа моя спокойна, что я поделился с тобой, с настоящим моим другом.
Целую тебя нежно,
Шура
В то же время Татьяна писала в Советский Союз ответ на встревоженное письмо матери и уверяла, что война их не коснулась. Они впервые с 1935 года обменялись письмами – удивительно, что советский режим это допустил. Любовь Николаевна рисковала, прося дочь написать ей, и Татьяна вновь писала сдержанно, чтобы защитить мать:
Дорогая моя мамулечка,
Счастлива была получить твое письмо. Пусть ты и не писала мне долго, сама знаешь, это не значит, что ты обо мне не думала. Ради бога, о нас не беспокойся. Тут всё в порядке, у нас всё прекрасно. Разумеется, мужья наши на войне, но так всюду. Франсин живет в деревне со своей гувернанткой и хорошо себя чувствует. Лиля тоже живет за городом. Я и тетя Сандра в Париже и много работаем.
Она перечисляет смерти в семье за прошедшие годы: дядя Саша скончался в мае 1938 года (“ужасно… эта внезапная смерть нас всех потрясла”); дедушка Александр Петрович в октябре того же года; бабушка в следующем мае (“для нас это была тяжелая потеря, а как она любила свою внучку”). Она сообщает матери, что ее ателье пользуется успехом, а Бертран и Альберт Даре, хозяин гостиницы в Париже, за которого Лиля вышла замуж тремя годами ранее, воют. “Целую тебя и папу нежно, – пишет она в конце. – Не воображай, что здесь хуже, чем на самом деле”.
Разумеется, мама не могла упомянуть в письме в СССР, что супругу ее поручена опасная миссия. Советский Союз вместе с Гитлером только что оккупировал Восточную Польшу, и отец едва спасся. Будучи подчиненным генерала Арменго, он был на польском фронте во время этой злополучной кампании, которая продлилась всего три недели – в основном из-за превосходства немецких люфтваффе. Уже 27 сентября, когда Польша капитулировала, войскам союзников пришлось спасаться бегством. Арменго и его спутники сумели перебраться в Румынию, по-прежнему сохранявшую относительный нейтралитет, а оттуда в Албанию, где сели на корабль, идущий в Бейрут. Из Бейрута они перебрались в Сербию – в ту пору еще бывшую французской колонией и важнейшей военной базой: там, например, служил будущий премьер-министр Франции Пьер Мендес-Франс и большинство возвысившихся впоследствии французских офицеров. Хотя большая часть его подразделения осталась в Сирии, Арменго вернулся в Париж. Он был одним из тех, кто много лет предупреждал верховное командование Франции: нельзя недооценивать дальние бомбардировщики. Но, как водится, его воззвания не были услышаны: верховное командование возглавлял семидесятидвухлетний генерал Гамелей, который не знал ничего, кроме тренчей Первой мировой. В наказание за “прогрессивные” взгляды Арменго сослали на административный пост в военном министерстве.
В начале ноября нас уверили, что мой отец благополучно прибыл в Бейрут. В тот же месяц мама вызвала меня обратно в Париж – к тому моменту парижане поняли, что в ближайшее время немцы не нападут, и стали возвращаться в город. Жизнь вернулась к бездумному межвоенному веселью. Из той поры мне вспоминается в основном музыка… Думая о первых месяцах войны, я слышу веселые мелодии Мориса Шевалье: “Ура, Проспер”, “Знали бы вы мою курочку”, “Как хорошо во Франции”, “Веселитесь” (“Жизнь так коротка, // так веселитесь же как сумасшедшие”). Помню популярные песенки Шарля Трене 1939 года: “Всюду радость” (“Всюду радость, всюду радость, привет, ласточки… Всюду радость”) и “Я буду ждать вечно” – последняя выражала не только любовное томление, но и беспомощную скуку солдат в окопах, у которых в первые восемь месяцев не было другого занятия, кроме дозора.
Но лучше всех отражают иллюзии и заблуждения того года другие две песни. Первая из них – “Всё хорошо, прекрасная маркиза”, в которой высмеивается беспечность аристократии. В ней дворецкий перечисляет маркизе все беды, которые свалились на поместье после отъезда хозяйки. Новости становятся всё хуже: ее любимая кобыла околела, конюшня сгорела, а вместе с ней и весь дом, а пожар начался, когда застрелился маркиз. Каждый куплет завершается бодрым припевом: “Но в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!” Второй песней была “Мы развесим белье на линии Зигфрида”. Мы с одноклассниками каждую неделю пели ее и водили хоровод. Стоит привести здесь несколько строк, чтобы показать трагический, безумный оптимизм, охвативший французскую нацию в первые месяцы войны.
Мы развесим белье на линии Зигфрида, Потому что будет день стирки… Мы развесим белье на линии Зигфрида, Если она еще будет на месте.Другие воспоминания – звуки, запахи, картинки – относятся к периоду начиная с февраля 1940-го, когда отца, тяжело заболевшего в Сирии, привезли в Париж и положили в военный госпиталь Валь-де-Грас. У него был тиф, осложненный желтухой. Мы с гувернанткой навещали его по очереди с мамой – та носила ему угощения, журналы, книги и пыталась его подбодрить. Он ужасно похудел и осунулся, кожа его пожелтела. Когда я приходила, он неподвижно лежал на белоснежной подушке и пожирал меня взглядом. “Зайчонок мой, сокровище мое, – повторял он. – Я скоро вернусь”. Но домой он вернулся только через два месяца. Помню станции метро на пути от нашего дома на улице Лонгшам (метро “Иена”) до госпиталя – надо было доехать по линии Монтре до остановки “Страсбур-Сен-Дени”, перейти на линию Порт д’Орлеан и доехать до Шатле-ле-Аль, а оттуда еще три остановки по линии Монруж до станции “Порт-Рояль”.
В марте заболели мы с гувернанткой. У меня был гепатит – видимо, я подхватила его в госпитале. Гувернантка слегла с бронхитом. Мама пыталась одновременно работать и ухаживать за мной, и перенесла меня к себе в комнату, где я спала за огромной черно-золотой китайской ширмой, которую дядя Саша привез с Востока. Боясь, что я заражусь бронхитом, она запретила гувернантке навещать меня, и сама ухаживала за нами обеими. Тетя Сандра и тетя Симона Монестье по очереди приходили ко мне на несколько часов в день, чтобы мама могла съездить к отцу. (Я не знала, что в госпиталь ее возил Алекс – пока она была у мужа, он терпеливо читал в машине.) Я с нежностью вспоминаю, как дремала и читала за ширмой, а за мной ухаживали три самых любимых женщины. Наверное, тогда я почувствовала, что моя мать может быть одновременно и настоящей героиней, и бесконечно нежной, впервые по-настоящему восхитилась ею и стала ей доверять.
К концу апреля, когда я уже пришла в себя и наши занятия с гувернанткой, всё еще больной, частично возобновились, отец вернулся домой из госпиталя, мрачный и худой. Ему дали отпуск в министерстве. Через две недели после его возвращения началась настоящая война. В пятницу, 10 мая, в 4:31 утра по Парижу, немецкие бронетанковые войска под руководством генерала Гейнца Гудериана (пионера бронетанковой атаки) ударили по Люксембургу. В следующие сорок восемь часов они так стремительно прошли по Бельгии и Голландии, что к понедельнику пересекли Арденны и реку Мез – недальновидное французское командование полагало, что эти территории окажутся неподвластны немецким танкам.
Всю субботу и воскресенье отец, мрачный, сидел за столом, притворялся, что работает, и отвечал на мои вопросы односложно. До поздней ночи у него был включен приемник. Рано утром в понедельник (до капитуляции Голландии оставалось два дня) я вошла к нему и с изумлением увидела на нем военную форму:
– Папа, ты же на лечении! – воскликнула я.
– Мне надо в министерство, – ответил он. – Потом расскажу.
Он вернулся еще мрачнее прежнего, руки у него дрожали. Мама ушла разносить заказы. Я прошла за отцом в кабинет – он упал в кресло, уткнулся лицом в колени и разрыдался.
– Меня не взяли! Говорят, я слишком болен, чтобы летать!
Он сполз на пол и зарыдал еще сильнее, как ребенок в истерике. Я опустилась на колени рядом с ним и, заливаясь слезами, гладила его по голове и шептала:
– Папочка, ты скоро поправишься, ты уже через месяц полетишь.
В дверь заколотила гувернантка, требуя, чтобы ее впустили.
– Оставьте нас, Марья Николаевна! – рявкнул отец. Он был мне теперь почти как ребенок, младенец, о котором я всегда мечтала. Я обнимала его, гладила по щеке и плакала с ним. Он принялся перечислять обычных врагов: Гамелена, Вейгана, слабоумных идиотов, которые выходят против немецких танков с приемами времен Первой мировой войны. Его посадили за какой-то вонючий стол в министерстве, его не пускают в небо, когда он так нужен своей стране.
Я выглядывала в окно, смотрела на залитую солнцем улицу Лонгшам и вспоминала знакомые с детства окрестности: слева от нас, в нескольких домах, стоит музей Гиме[79], куда папа часто водил меня полюбоваться на вазы династии Тан и пейзажи династии Сун; справа, в нескольких кварталах, площадь Трокадеро, откуда открывается потрясающий вид на Эйфелеву башню…
– Эти идиоты не пускают меня в бой, – всхлипывал отец. – Мне не дают воевать!
– Папочка, ты уже выздоравливаешь! Может быть, тебе дадут полетать на следующей неделе.
Я была рада заботиться об отце и подходила к этому со всей серьезностью, но мне отчаянно не хватало рядом взрослого – кого-то, кто мог бы так же его утешать и помогать мне.
Наконец в двери повернулся ключ, и в квартиру ворвалась мама. Шепотом обменявшись с гувернанткой парой фраз по-русски, она подошла к кабинету.
– Открой, Бертран, – взмолилась она по-французски. – Милый, открой дверь.
Всхлипывая, он кое-как добрался до двери и рухнул в объятья матери.
– Любимый мой, бедный мой, – шептала она.
И мне:
– Фросенька, набери Жасмин 34–10 и попроси тетю Сандру прийти.
Я тоже знала тетин номер наизусть. Она оказалась дома и сразу же поспешила к нам – мне не пришлось ничего объяснять. Я вернулась к родителям. Мы долго сидели втроем, обнявшись, и оплакивали несправедливость мира. Заливаясь слезами, я в то же время чувствовала огромную благодарность, что мы – одна семья.
Затем мама принялась за дело – заставила отца лечь, сняла с него туфли, расстегнула воротничок. Пришла тетя Сандра, и они быстро пришли к выводу, что Бертран был “на грани срыва”. Отец всхлипывал, спрятав лицо в руках. Тетя вызвала нашего семейного доктора, Симона, который лечил нас с моего детства, и тот сделал отцу укол успокоительного.
Доктор Симон, эльзасский еврей невероятной кротости – мы даже поддразнивали его за необоримый оптимизм, – присел у изголовья и тихо обратился к больному:
– Работа в министерстве ничуть не хуже фронта, старина, – сказал он. – Ты воевал в военно-воздушной разведке, ты можешь сделать огромный вклад.
– Они перешли Маас и идут к Седану, – простонал отец. – Ты понимаешь? Всё кончено.
– Милый Бертран, ну зачем так мрачно смотреть на вещи, – увещевал его доктор Симон. – В любой момент может открыться новый фронт.
– Танки в три дня перейдут Бельгию и войдут в Пикардию, – продолжал упорствовать отец, но уже сдерживая зевок. Мама с тетей шептались у окна.
– Депрессия – обычное дело после желтухи, – уверенно сказала тетя.
Мой отец, как обычно, был прав. В следующие две недели он лечился и постепенно вернулся к работе в министерстве, а немцы стремительно пересекли Бельгию (она капитулировала вскоре после Голландии) и двинулись на север Франции. С побережья Дюнкерка было эвакуировано более 330000 войск союзников. В конце мая немецкие войска вынудили французскую армию обороняться у реки Соммы – в двух часах езды к северу от Парижа. 6 июня они прорвали эту последнюю линию обороны, и во французских войсках воцарилась такая паника, что генералы перестали выполнять распоряжения штаба, а солдаты всех званий побросали свои полки. Дороги наводнили толпы французов. Немецкие войска стремительно подавили оборону армии, которая считалась сильнейшей в континентальной Европе, и стремительно приближались к Парижу. К 8 июня стало ясно, что Верховного главнокомандующего Франции просто-напросто застали врасплох, что французы недооценили мощь немецких танков и не смогли предугадать действия Германии; наконец, что слово débâcle, которое вошло в употребление тем летом, полностью описывает ситуацию – это был полный провал, позор и разгром.
Воскресным вечером 9 июня мой отец вернулся домой из министерства и сказал матери, что утром нам с ней предстоит отправиться в Тур. На рассвете туда эвакуировали правительство, а сам он должен был ночевать на работе. В 8 вечера он стоял на пороге с чемоданчиком в руке. Он обнял меня и сказал: “До скорого”, шепнул маме: “Береги себя и ее” и сбежал по ступенькам.
На следующее утро тетя Сандра пришла проводить нас. Она заливалась слезами, но тем не менее очень нас поддержала. “Боже мой”, – твердила она, беспрерывно вздыхая. Двадцать лет назад она бежала из России и потеряла дочь, мужа и всё, что у нее было. Как бы она нас ни любила, еще одну эвакуацию пережить было невозможно. Она помогла матери упаковаться, послала меня в лавку за едой в дорогу – меня впервые отправили с поручением в одиночестве. Гувернантка моя, едва оправившаяся от бронхита, поддержала тетю Сандру: что угодно, только не эвакуация. Пришла пора прощаться. Муж консьержки снес вниз наши чемоданы. Мама нежно держала меня за руку. Мы спускались по лестнице и слали воздушные поцелуи двум плачущим женщинам, которые вместе с тетей Симоной и бабушкой с самого раннего детства были моими главными наставницами.
Глава 10 Катастрофа
Покинув Париж солнечным утром 10 июня 1940 года, мы с мамой стали частью охваченного паникой каравана. Я по сей день не могу вспоминать об этом без ужаса. Дорогу в Тур, куда устремились парижане, запрудили всевозможные средства передвижения: пожарные машины, кареты “Скорой помощи”, тележки мороженщиков, катафалки, поливальные машины, туристические автобусы (с вывесками “Ночной Париж”), шикарные лимузины, спортивные автомобили, семейные седаны, даже тележки и коляски. Не переставая гудеть, все двигались на юг, к Луаре, где, по слухам, французские войска должны были открыть новый фронт. Движение шло медленно – путь, на который обычно уходило три часа, мы преодолевали за три дня. Набитые детьми, женщинами и стариками автомобили были кроме того под завязку загружены вещами: на крышах громоздились матрасы, одеяла, птичьи клетки, велосипеды, колыбели, швейные машины, кастрюли и другая утварь, палатки и часы с кукушкой. Между автомобилями (порой преграждая им путь) протискивались изможденные солдаты с отчаянными взглядами в поисках однополчан – отступающие войска толпились вперемешку с пешеходами. За последний месяц, после одного из самых сокрушительных поражении в военной истории, в путь отправились полтора миллиона французов.
В этом человеческом потоке не было злобы и почти не было гнева – люди пребывали в отчаянии и каком-то оцепенении. Лишь немногие знали, где теперь их близкие. Будто чудовищный взрыв разметал тысячи семей по всей стране. Люди звонили во все гостиницы подряд и писали в газеты: “Жюль Мойне, твои любящие родители в Осере”. Наш крохотный “пежо” тащился в общем потоке, и мы знали, что по всей Франции сотни тысяч наших соотечественников ищут своих родных и боятся за них. Всем было так же страшно, как и нам.
Матери моей было втройне страшнее. К концу первого дня она поняла, что, учитывая скорость приближения немцев, мы вряд ли успеем добраться до Тура; что правительство, которое выдвинулось в Тур в четыре часа утра, пробивая себе путь через людской поток громкими гудками, к нашему приезду уже наверняка покинет город. Она волновалась из-за Алекса – тот 8 июня покинул город со своей мамашей, надеясь добраться до юга Франции, но русскому еврею с нансеновским паспортом опасно было попадаться французским полицейским, известным антисемитам. Пока мы двигались в Тур со скоростью пять километров в час, мотор наш постоянно глох, и я понимала, что, несмотря на все поцелуи, которыми осыпает меня мама, она боится, что нас догонят немцы. Чтобы подбодрить ее, я пела свою любимую песенку про линию Зигфрида.
Три дня мы спали в машине, ели хлеб и вареные яйца, которые захватили из Парижа, и иногда выпрашивали в придорожных кафе немного фруктов. Мы направлялись в Вилландри, замок эпохи Возрождения в нескольких километрах от Тура, окруженный одним из лучших садов во Франции. Он принадлежал маминой подруге, Изабель Карвалло де ля Буйери, храброй и щедрой женщине, которая работала вместе с мамой в парижском приюте для детей беженцев. Вилландри был построен министром финансов Франциска I, который служил французским послом в Риме, и долгое время считался идеальным прототипом ренессансных замков. С XVI века он принадлежал двум семьям, а в начале XX его купил богатый испанский офтальмолог, Хоаким Карвалло – он спас замок от разрушения и засадил сад самшитом по образу ренессансных садов. В мае 1940-го, когда начался немецкий блицкриг, его дочь Изабель открыла в Вилландри приют для детей беженцев. В течение последних недель она стала селить у себя в замке знакомых из Парижа – и нам повезло оказаться в их числе.
Прибыв в Вилландри, мама получила первое из отчаянных писем Алекса, которые он напишет ей в июне, не зная наверняка, где она сейчас. Ему тоже пришлось нелегко по пути из Парижа. Они с мамашей уехали двумя днями раньше, запасшись несколькими канистрами бензина, – с главной дороги их прогнал французский офицер, угрожая револьвером, и они пробирались на юг окольными путями. Наконец они добрались до Руана, куда приехала и мамина сестра Лиля – ее замужество было вполне счастливым, но это не мешало ей быть влюбленной в Алекса. Несмотря на всю свою внешнюю обходительность и обаяние, Алекс был настоящим тираном – в тоне этого письма, датированного η июня, чувствуется затаенная злоба, которая часто будет звучать в атмосфере нашей семьи. Несмотря на царящий вокруг хаос, он злился, что мама оставила его, движимая любовью ко мне и долгом перед мужем.
Любимая моя,
Ты, конечно, так занята, что тебе некогда и думать обо мне. Лиля такая же умница, как и ты, и благодаря ей нам удалось найти две комнаты на чудесной вилле. Меня постоянно терзает мысль, что я потерял тебя. Беспрестанно думаю о тебе – кажется, тебя совсем не тронуло наше расставание, и мне больно об этом думать. Возможно, я ошибаюсь, и эти мысли происходят от моего одиночества. Любимая, напиши мне скорее, что страстно любишь меня и будешь любить, несмотря ни на что. Это всё мне урок: я понимаю теперь, что нуждаюсь в тебе сильнее, чем ты во мне.
Скорее напиши, что я ошибаюсь. <…> Проводить целые дни с мамашей очень тяжело. С Лилей тоже непросто, потому что она хочет того, чего я ей дать не могу, но она очень мила.
Я, как и остальные беженцы, брожу от кафе к кафе, всё время думая о тебе. Все говорят, что я печален, и это правда. <…>
Я уже не часть твой жизни, и ты строишь свои планы без меня. Любовь моя, обожаю тебя, напиши мне скорее, пока я совсем не отчаялся.
Целую, целую и обожаю тебя.
На следующий день, и июня – за два дня до падения Парижа – он написал снова. Его беспокоили оставленные в мастерской картины.
Каждый миг жду от тебя хоть слова. Что ты делаешь? Ты останешься на месте или отвезешь Франсин в Горж-дю-Тарн? Страдаю от мысли, что бросил все картины – они наверняка пропадут. Если Господь позволит, напишу еще.
Как чудовищно тяжело быть вдалеке от тебя, особенно в такое время. Беженцы приезжают сюда огромными толпами, и я целыми днями слушаю радио – здесь нет ни газет, ничего. Мама немного успокоилась. Напиши скорее, ты единственное окошко в мире, откуда светит солнце.
Обнимаю тебя всю.
Получив его первое письмо, 13 июня, она сразу же ответила – это было на следующий день после нашего приезда в Вилландри. “Как ты можешь сомневаться, я люблю тебя больше жизни и только и думаю, что о нашем будущем”. Дальше она пишет о том, как заботится о детях, как пытается раздобыть купоны на бензин. “Я не могу без тебя жить. Ты для меня всё. Без тебя я несчастна”.
В ту неделю французская почта всё еще работала. Алекс получил это письмо через два дня и 16 июня, через два дня после падения Парижа, написал ей снова.
Только что получил первое твое письмо. Ты не представляешь, как я счастлив. Утираю слезы. Умоляю, прости мне первые письма. Мне было так плохо без тебя, мамаша меня донимала, и т. д. И вдруг снова почувствовать твою страстную любовь! Бесконечно обожаю тебя, думаю о тебе одной день и ночь. <…> Все гостиницы реквизировали. Сердце замирает при мысли, что я снова тебя увижу. <…> Прошлой ночью был налет, и по радио Штутгарта объявили, что нас будут бомбардировать. <…> Умоляю, не задерживайся в Туре, если откроется новый фронт, вы не сможете уехать. <…> Единственная моя любовь. Жизнь моя, пиши и приезжай! Я могу приехать и забрать тебя. <…> Приказывай, я повинуюсь, я люблю тебя.
В эту неделю жители Вилландри узнавали новости из единственного в замке радиоприемника. Каждый день мы собирались в гостиной и слушали пугающие сводки. 16 июня премьер-министр Поль Рейно подал в отставку после того, как его кабинет отверг невероятное предложение Черчилля на время войны объединить силы британцев и французов. Вместо него главой государства назначили маршала Петена. 17 июня – за день до того, как в Тур вошли немцы и нам пришлось собраться в гостиной раньше обычного – восьмидесятичетырехлетний Петен своим высоким дрожащим голосом объявил об окончании Сопротивления:
– Я готов сделать всё, чтобы облегчить страдания Франции. <…> С болью в сердце я прошу вас прекратить военные действия.
Наша комната в Вилландри располагалась в конце крыла замка, выстроенного в форме буквы U. Из окна открывался вид на знаменитый самшитовый сад. Мы смотрели на сельскую дорогу, ведущую из деревни Вилландри в Тур. Утро следующего дня, 18 июня, выдалось солнечным: весь тот ужасный месяц был залит солнечным светом. В седьмом часу нас разбудило чье-то пение. Мама вскочила с криком “Немцы пришли!” Она схватила меня за руку и бросилась к окну. Немецкие солдаты маршировали по саду: юные румяные нацисты со сверкающими касками и штыками. Если меня не подводит память, в тот день они пели “Лили Марлен”:
Возле казармы, в свете фонаря кружатся попарно листья сентября…[80]Дети, как мне кажется, коллаборационисты по природе своей – мы делаем всё, что можем, чтобы очаровать врага, спасти свою шкуру, выжить. Мне радостно было смотреть на бравых сверкающих немцев, хотя я и понимала, что радости этой надо стыдиться. Не хотелось их убивать, меня, как и любого ребенка, тянуло ко всему блестящему, аккуратному, сильному. Моя вульгарная душонка восторгалась их роскошной формой, всеми признаками силы и власти. Я с жалостью и гневом вспоминала изможденных, отчаявшихся французских солдат, которых мы встречали по пути из Парижа. Глазея на немцев, я пыталась усилием воли вызвать в себе ненависть и чувствовала, что предаю отца, восхищаясь их красотой (а ведь его в любой момент мог убить один из них). Маму подобные сомнения не терзали. Она стояла у окна, подбоченившись, будто готовилась к битве, и тихо, с ненавистью, повторяла: “Quelle merde!”[81]
Речь генерала де Голля прозвучала по радио в 8 вечера того же дня, но ее услышали лишь немногие французы. О ней сообщили только постфактум, вместе с рассказом о его дерзком побеге из Франции, которому тоже не уделили достаточно внимания. Вечером 17 июня, через несколько часов после объявления о прекращении сопротивления генералу Эдварду Спирсу, возглавлявшему британские экспедиционные войска во время падения Франции, приказали покинуть Бордо. Де Голль самолично проводил Спирса в аэропорт – генералы были друзьями. На глазах у французов, которые впоследствии стали ярыми вишистами, де Голль попрощался со Спирсом у крохотного аэроплана на четыре места. В последний момент, когда уже завели мотор, Спирс рывком втащил де Голля в аэроплан. На глазах у потрясенных наблюдателей они скрылись в небе и уже через час были в Лондоне. Вечером следующего дня, после долгих переговоров с британским кабинетом при поддержке Спирса и министра иностранных дел Энтони Эзена, де Голль объявил по радио: “Мы проиграли сражение, а не войну”.
Помню, как наша хозяйка мадам де ля Буайери ворвалась к нам на следующий день после “речи 18 июня” и рассказала: де Голль зовет французов присоединиться к нему в Лондоне и вместе бороться с Германией! Мама притихла. Дождавшись, пока мы останемся одни, она взяла меня за руку и прошептала: – Твой папа наверняка присоединится к де Голлю!
Она была права.
Несколько дней спустя, 22 июня, Петей подписал соглашение о перемирии на совершенно постыдных условиях. Францию разделили на две части – оккупированную территорию (включавшую и наше пристанище, Тур) и так называемую Вишистскую территорию, возглавляемую коллаборационным правительством Петена. Руан был оккупирован немцами, но Алексу удалось преодолеть границу и добраться до Аскена, крохотного городка в нескольких километрах от Сен-Жан-де-Люз: там их с мамашей приютил его друг, Жан-Пьер Фурно. С середины июня мама с Алексом не получали друг от друга писем, и из-за введения цензуры это положение продлилось до июля. Хотя Алекс еще не получил французского гражданства, он глубоко переживал трагедию французского народа и в поисках утешения обратился к протестантской вере своей юности:
23 июня
Любовь моя, жизнь моя,
Пишу тебе в этот ужасный день. Не знаю, где ты, что с тобой. Не знаю, получишь ли ты это письмо, но верю, что Господь смилостивится над нашей великой, верной любовью.
Я столько пережил, так боялся за вас с Франсин. <…> Душа моя болит за нашу страну, и я чувствую себя совершенно беспомощным. Когда происходят такие великие события, личные горести и страхи кажутся такими мелкими…
Что бы теперь ни случилось, я благодарен тебе за наше счастье, и во всех будущих страданиях меня будет укреплять мысль о тебе. Помни, как я люблю тебя и как мы нужны друг другу. Любовь моя, где бы ты ни была, я живу только ради нашей встречи. С тех пор, как мы расстались, твой образ неотступно у меня перед глазами. Порой кажется, что я встречу тебя за первым же поворотом. Верю, что мы встретимся. Молю Господа за Францию, за тебя, за нас. Верь в меня так же, как я в тебя верю. Не покидай меня, как я никогда не покину тебя.
Твой навечно и всецело,
А.
Мою мать тоже тревожила неизвестность. 6 июля она написала ему четыре письма и разослала их по четырем адресам.
Любовь моя [гласило письмо в Сент-Максим], посылаю это письмо в четырех экземплярах. Что, если ни одно до тебя не дойдет?! Схожу сума от тоски по тебе. В понедельник еду в Виши, чтобы устроить нам с Франсин поездку на юг <…> Обожаю тебя, люблю больше, чем прежде. Надеюсь, что ты скоро напишешь мне в Вилландри.
Следующее его письмо на той же неделе явно было предназначено для того, чтобы при необходимости стать завещанием:
Любовь моя,
Снова тебе пишу и не знаю, получишь ли ты мое письмо. <…> Жизнь моя, мы сейчас пытаемся уехать в наш дом на юге и будем там ждать новостей. Где ты? Что с тобой? С тех пор, как мы расстались, жизнь моя остановилась. Если со мной что-то случится, всё, что мне принадлежит – картины, книги, мебель, все средства, – должно остаться тебе во имя того счастья, что ты мне подарила.
Молюсь за тебя, за нас. Навеки твой.
Александр Либерман
Переписка влюбленных возобновилась в середине июля. 14 числа Татьяна получила от Алекса телеграмму из дома в Сент-Максим и сразу же ему ответила. К тому времени в письмах уже следовало соблюдать сдержанность. На всех последующих ее письмах из оккупированной территории стоит штамп: “Проверено военными органами”.
Жизнь моя,
Наконец получила твою телеграмму с адресом. Как мне было плохо без тебя. Любовь моя, я ТАК по тебе скучаю!
Тут у нас свои горести. Вчера 40 детей отправились в Вилландри в карете “Скорой помощи” и до сих пор не прибыли. <…> Места детям не нашлось, и Изабель забирает их себе. Можешь вообразить, что тут творится? Вчера мы четыре (!!!) раза ездили в Тур за кроватями и прочим.
В нетерпении жду твоего письма и гадаю, как ты там справляешься без моих советов. Франсин наслаждается жизнью, а на фоне местных садов она стала еще краше.
Что сделать, чтобы мы встретились? Целую тебя нежно, люблю.
Р. S. Передай привет мамаше.
На второй неделе июля мы с матерью впервые столкнулись лицом к лицу с нацистским режимом. Мы ехали в нашем крохотном “пежо” в Тур, чтобы добыть муки для детей. В нескольких кварталах от префектуры, где разместилось немецкое командование, наш автомобильчик врезался в гигантский “мерседес”, набитый немецкими офицерами. Ветровое стекло разбилось, и нас осыпало осколками – мне досталось сильнее, и следующие несколько минут я ничего не видела, кроме крови. Хотя виной происшествию, скорее всего, было мамино неумение водить, она в ярости вылетела из автомобиля и на ломаном немецком принялась ругать офицеров. Их, видимо, обескуражили ее нападки – в те дни с оккупантами обращались очень любезно, но ее красота и благородный вид заставили их держаться вежливо, и они всего лишь попросили ее предъявить документы. Она дала им документы и визитную карточку. Увидев титул “виконтесса”, офицеры, явно уважавшие социальную иерархию, предложили отвезти нас в больницу.
– Не надо, – отказалась мать. – Я хочу видеть ваше начальство.
Потрясенные офицеры покорились, и мы вслед за немецким “мерседесом” под громкие гудки двинулись в комендатуру.
Моя мать обладала острым и проницательным умом. Последнее время она только и думала, как бы получить Ausweis, пропуск, чтобы попасть на территорию Виши и добраться к Алексу на юг Франции. Как только наши машины столкнулись, она возликовала. Теперь есть шанс попасть в комендатуру! Пока мы ехали, она утешала меня и приводила в порядок – причесывала и вытирала мне кровь с лица. Нас провели в главный кабинет, где еще несколько недель назад царил французский префект. Комендант оказался высоким церемонным мужчиной под сорок, который благодаря аккуратным усам и очкам в роговой оправе напоминал учителя. Офицеры отдали ему наши документы.
– Ваш муж случайно не потомок кардинала Ришелье? – спросил комендант по-французски без малейшего акцента.
– Любой нормальный человек предпочел бы быть потомком дамы с камелиями! – сердито ответила мать.
Комендант широко улыбнулся и приказал своим подчиненным заняться моими порезами, а сам завел с мамой оживленную дискуссию о Дюма-отце и его сыне. Мы узнали, что комендант Геберт преподавал французскую литературу в Гейдельбергском университете. Нас угостили шоколадом и вызвали автомобиль, чтобы отвезти домой.
– Прелестная виконточка, – прошептал он, целуя мне руку на прощание. Никогда не забуду, как он скользнул усами по моему запястью, каким добрым и почти молящим был его взгляд и как лихорадочно я размышляла – позволительно ли считать хорошим человеком представителя вражеских сил.
В середине июля, через несколько дней после нашей первой встречи с комендантом, мама получила Ausweis и письмо с указанием приехать в военное министерство в Виши и оставить меня в Вилландри в качестве заложницы. В обмен ее ждали новости о моем отце. Она оставила меня под опекой Гитты Серени, не по годам развитой семнадцатилетней венгерки, с которой незадолго до капитуляции подружилась в Париже, во время работы в приюте. В Виши какой-то чиновник сообщил ей следующее: правительство Виши вынесло смертный приговор де Голлю за измену родине, и вместе с остальными соратниками генерала моего отца объявили изменником. Мать также узнала, что лейтенант дю Плесси покинул Бордо вскоре после 18 июня и отправился в Касабланку, где организовал эскадрилью свободных французских авиаторов. Его самолет сбили в начале июля над Средиземным морем, когда он направлялся к де Голлю в Лондон, до поступления новой информации его сочли пропавшим в бою. (Весь следующий год мама, не решаясь сообщить мне правду, говорила, что отец выполняет “тайное задание”.)
Как я понимаю, мама в тот же день дала Алексу телеграмму с зашифрованным сообщением о нашей семейной трагедии: поскольку письма перлюстрировались, было небезопасно открыто писать о подвиге лейтенанта дю Плесси. В нарочито бодрых, непринужденных письмах на следующий день после известия о муже нет ни горя, ни боли потери. Ее волнует будто только одно – как собрать побольше купонов на бензин и добраться к Алексу на территорию Виши.
Жизнь моя, жизнь моя, жизнь моя [пишет она в письмах от 15 и 16 июля, во время поездки на территорию Виши]. Было непросто вырваться от немцев, но теперь дорога свободна, и в следующий раз будет легче. Я добралась до “Парк-Отеля” [там заседало правительство Виши] и сразу же дала тебе телеграмму. Пытаюсь собрать бензин, чтобы отправиться на юг, но мне не хватает fo литров. У меня есть 40 литров в Вилландри – этого бы хватило, чтобы добраться до Виши, но на остаток пути нужно больше. В пятницу я возвращаюсь в Вилландри, к Франсин. Надеюсь, что мы с тобой встретимся в начале следующей недели. Вот бы переждать этот кошмар на юге. Сразу же напиши в Вилландри. Я уеду, как только придет твое письмо.
Целую тебя так же крепко, как люблю.
Но как раз в это время возникли обстоятельства, препятствующие нашему отъезду на юг. Маме не удалось достать бензин. (“В Туре всё реквизировали”.) Несколько детей-беженцев сильно заболели, и она не хотела покидать Вилландри, пока не найдутся их родственники. Сама мама слегла с бронхитом и температурой. Кроме того, в ней, возможно, заговорила ханжеская скромность – что подумают люди, если узнают, что она поселилась у любовника с дочерью?
Еще важнее была последняя воля отца – незадолго до смерти он написал ей и супругам Дессоффи несколько писем.
Несмотря на собственные измены, он, оказывается, ревновал мать к Алексу куда сильнее, чем к предыдущим ее любовникам. Теперь же я осталась под маминой опекой, а отцу хотелось, чтобы я спокойно жила на территории Виши, но при этом как можно дальше от Алекса. У него не было выбора: все, кто помогал заботиться обо мне в детстве – моя гувернантка, тетя Сандра, супруги Монестье (последние к тому моменту уже присоединились к Сопротивлению), – решили остаться на оккупированной территории. Остальные близкие друзья родителей вели бурный образ жизни и не стремились его менять ради девятилетней девочки. Такое впечатление, что в переписке по этому поводу (слава богу, я прочла ее только несколько лет назад!) говорится о потерянной посылке. Требуется ваша помощь! Девочка без адреса нуждается в повторной отправке! Куда отправить девочку?
Мама рассказывала, что в последних своих письмах, пришедших уже после того, как его объявили пропавшим в бою, отец настаивал, чтобы она вызвала из Парижа мою гувернантку, Марию Николаевну, и та уехала бы со мной в его домик в Санари. “Мне переслали письмо Бертрана – он просит, чтобы я отправила Франсин в Санари, а в этом домишке даже кроватей нет! – пишет мама Алексу на третьей неделе июня, всё еще в постели. – Он считает, будто она доживет там до конца войны на продуктах, которые будут слать из города, а война якобы вот-вот кончится”.
И на следующий день: “Вчера температура упала – 39,5, и я надеюсь скоро встать на ноги. Франсин нежно обо мне заботится”.
Очевидно, она никак не могла определиться, ехать ли к Алексу.
Меж тем сам Алекс в полной безопасности жил у себя в Сент-Максим и злился на моего отца, который не разрешал привезти меня к нему. Об этом Алексу между делом сообщили супруги Дессоффи – они жили в сорока пяти минутах езды, в Санари, и часто его навещали. Также они рассказали, что мой отец попросил именно их позаботиться обо мне. Судя по письмам моей матери, Алекса тревожила беспечность Дессоффи, то, что они постоянно пребывали под хмельком и явно были не способны кого-либо опекать – как только их назначили моими покровителями, они тут же исчезли с горизонта. Кроме того, писал Алекс, в домике в Санари нет ни мебели, ни водопровода. (Нелепые идеи отца полностью отражали общее безумие, охватившее французов в ту пору.) Алекс, который единственный в тот месяц сохранял здравомыслие, предложил оплатить и проконтролировать ремонт дома, но продолжал настаивать, что это сумасшедшая идея. Единственный выход, писал он, получить еще один Ausweis и приехать со мной к нему.
На третьей неделе июля он пишет маме перед тем, как пришло ее письмо из Виши:
Чувствую, у тебя новая проблема – Франсин. Как же Б. [Бертран] не понимает, что в этот трудный час ей будет лучше здесь? Три недели назад Б. попросил Хелен присмотреть за Франсин, но она сейчас на это не способна, а Жак не знает, что делать. У него лежит последнее письмо тебе от Бертрана. Может, там говорится что-то новое? Что Франсин с Марией Николаевной будут делать в глуши без автомобиля? О деньгах не беспокойся. Пока деньги есть у меня, они есть и у вас с Франсин. Без тебя мне невыносимо – всякий раз, когда мимо проезжает автомобиль, мне кажется, что это ты, и сердце мое замирает. Мы уже купили Франсин велосипед! Приезжай, прочтешь письмо Бертрана и на месте со всем разберешься. Что за ужасная у нас жизнь! Приезжай!!!
P.P.S. Жак только что снова звонил… он открыл письмо Б. Там говорится, чтобы ты поступала как считаешь нужным, но “не привози Франсин в Сент-Максим”. И просит Хелен позаботиться о Франсин.
Неужели у вас нет родственников? Пли других знакомых? Можем заказать вам двоим номер в гостинице, пока не приедет Мария Николаевна.
В этот момент в нашей жизни вновь появился комендант Тура, герр профессор Геберт. Следующий эпизод, в котором он показал свою доброту, я не видела своими глазами, но много раз слышала о нем в пересказе матери. В конце июля, когда она приходила в себя от бронхита и гадала, как бы получить Ausweis на нас двоих, ей пришло приглашение от коменданта Геберта прийти к нему в кабинет, одной. При встрече он усадил ее в кресло и сказал следующее:
– Мне сообщили, что ваш муж присоединился к свободным французским авиаторам и пропал в бою. Вам, должно быть, сейчас непросто. Безопаснее вам будет покинуть эту территорию.
И он вручил ей Ausweis. Они расстались добрыми приятелями, и много лет спустя мама без тени смущения рассказывала, что комендант Геберт был от нее без ума.
Прошло около недели, и в середине августа 1940 года мы вновь уселись в наш маленький “пежо”, который то и дело фыркал и глох (мама так и не научилась пользоваться сцеплением), и двинулись на юг Франции. Не зная, на какие жертвы пошли родители и как они страдали, я в те ужасные месяцы была совершенно счастлива, потому что наконец-то оказалась в центре маминого внимания. Я очень гордилась папиной “секретной миссией” и подолгу разглядывала атлас, который привезла из Парижа, гадая, каким он отправился маршрутом. Узнав, что мы наконец-то едем на юг Франции, я обрадовалась перспективе снова увидеть любезного господина с усиками и попозировать ему для очередного портрета.
Кажется, наш автомобиль сломался в Монтелимар – помню, мама утешала меня знаменитой монтелимарской нугой. Через несколько часов прибыл посланный Алексом водитель и отвез нас в Сент-Максим. Это был очень характерный для него поступок – кто, кроме Алекса Либермана, мог найти автомобиль с водителем в условиях нехватки бензина и всеобщего безумия 1940 года? Тем же вечером мы прибыли в его дом. Алекс ждал нас, выглядывая из кустов, словно фавн, и весь дрожал от восторга.
Помню, как проснулась на следующее утро и бродила по дому, мучимая голодом и одиночеством, а за окном стояла южная жара. С продуктами были перебои, но Алекс вдруг вышел из кухни с роскошным завтраком, купленным на черном рынке: хлопья с яичницей и кетчупом. Пока я жадно поедала это всё, он взглянул на меня своими огромными зелеными глазами и спросил:
– Вкусно тебе, Фросенька?
– Очень вкусно! – ответила я и подумала: этот человек будет обо мне заботиться.
Затем он подарил мне то, что всегда строго запрещала гувернантка – сверкающий бирюзовый велосипед, и за несколько часов научил на нем кататься, а к концу недели с его помощью я умела еще и плавать как рыба.
Это очередная, такая обычная, в сущности, история выживания, очередной пример того, как судьба вдруг проявила милосердие. Я была выносливым жизнерадостным ребенком, обожала путешествовать и легко привыкала к новым обстоятельствам, защитникам, домам и друзьям. От матери, Господа Бога или бабушки мне досталась предрасположенность к счастью. Хотя ошибки и обманы 1940 года еще долго меня преследовали, то непростое лето было одним из самых счастливых периодов моей жизни.
Глава 11 Бросить всё
Следующие несколько месяцев мы жили все вместе в залитом солнцем домике Алекса – розовой вилле в ста ярдах от берега с видом на залив Сен-Тропе. Предполагалось, что здесь будут жить не больше четырех человек, но теперь сюда рекой текли разношерстные гости, как и мы, сбежавшие из Парижа, мечтающие передохнуть на юге и решить, как жить дальше. Бывшая коллега и любовница Алекса Ирен Лидова приехала со своим обаятельным мужем, балетным фотографом. Нередко из-за тесноты все ссорились. Временами я дерзила, а порой вела себя совершенно несносно, и однажды Лидова отвесила мне звучную пощечину. Родители никогда меня не наказывали – могли разве что шлепнуть по руке. При этом присутствовала мама.
– Не смейте бить мою дочь! Слышите? Не смейте!
И она дала Лидовой ответную пощечину. Бедная Лидова – ей наверняка было нелегко жить в одном доме с великой любовью своего бывшего.
Мы с матерью вовремя добрались до юга – к сентябрю доехать с оккупированной территории до Виши стало практически невозможно, проезд был запрещен. Продуктов не хватало, и главным источником белка стали окуни, которых Алекс ловил в заливе. Пока он рыбачил, я плавала вокруг в маске и восторгалась морем. Потом я помогала таскать улов на кухню и наблюдала, как Мария, служанка из местных, запекает рыбу с фенхелем. Обедали мы на залитой солнцем террасе, прямо в купальных костюмах.
В моих воспоминаниях конец того лета и начало осени пронизаны солнцем и счастьем. В дни, когда еды совсем не хватало, мы развлекались тем, что выдумывали самые ужасные сочетания продуктов. Побеждал тот, кто изобретал самое омерзительное блюдо, и я набрала больше всех очков, когда придумала сардины под шоколадным соусом. Оказалось, что Алекс лучше, чем кто-либо другой, может меня насмешить. Он обладал невероятным пародийным талантом, который демонстрировал в узком кругу избранных; в его репертуаре была пантомима, которую мы звали “Сумасшедший”, и я всё детство то и дело просила его показать этот номер. Представление заключалось в том, что Алекс скакал из стороны в сторону и издавал странные, пронзительные крики, словно обезьяна в джунглях, а конечности его как будто свободно болтались на теле. Не знаю, изобрел ли он эту пантомиму для меня, или для какого-то ребенка из прошлого. Чудесное превращение мягкого и невероятно сдержанного человека в совершенного безумца (возможно, тут проявился сценический талант его матери) заставляло меня буквально рыдать от смеха.
Мама загорала, читала и чаще обычного меня обнимала. Часто упоминались наши родственники и знакомые из Америки, которые собирали нам документы для эмиграции в Штаты. Джон Уайли, высокопоставленный чиновник по иностранным делам – они с женой Иреной подружились с родителями в 1930-х годах, – помогал сделать нам иммиграционные визы. Другой дипломат, Уильям Буллитт, американский посол во Франции, которого незадолго до того вызвали обратно в Вашингтон, писал нам рекомендательные письма, как и мамин отец, которого она не видела с моего рождения. Тем временем Симон Либерман, который с 1939 года жил в Нью-Йорке, оформлял иммиграционную визу для Алекса.
Тогда я не знала значения слова “любовники”. Алекса представили мне как маминого друга детства, к которому она очень привязана, своего рода родственника, который будет о нас заботиться до возвращения отца. И всё же я чувствовала – у детей из проблемных семей есть своего рода шестое чувство, – что Алекс для матери является тем же, кем для отца была дама в красном. Теперь мы жили с Алексом, и я перестала спрашивать об отце. Каким-то образом я поняла, что маме с Алексом неприятны эти вопросы, а главной целью в моей теперешней жизни было добыть и сохранить их любовь.
Поэтому я молчала о своем страхе за отца. Молчание мое будто служило хранилищем, где я спрятала тоскующую частичку души. Внешне всё было прекрасно: я улыбалась, танцевала, приседала в реверансах, щебетала за обедом, порхала, меня осыпали похвалами, а мама светилась от гордости. Но в глубине меня таилась никому не ведомая пещера, в которой обитал страх, и каждого, кто попытался бы войти туда, ожидало вечное проклятие.
Мне казалось, мое молчание хранит отца – тайна, которую я берегу, будто окружает его облаком, в котором он становится незаметен для бед и опасностей и потому неуязвим. Пока мама с Алексом готовились к переезду в Америку, я втайне лелеяла фантазии о далеком отце: вот он в Сирии, проводит тайную операцию с освободительным движением – готовит вторжение во Францию; или же курсирует между французским и британским берегами и перевозит настолько секретные донесения, что если их перехватят нацисты, союзники серьезно пострадают; или же он отправился с тайной миссией в Бангкок или Дакар – в одно из тех далеких экзотических мест с картин дяди Саши, среди которых я выросла.
В последние солнечные месяцы во Франции я не переставая лелеяла эти тайные надежды. За всю осень у меня сохранилось только одно вечернее воспоминание – о своего рода миссии, которую возложил на меня Алекс. Миссия эта могла быть выполнена только после наступления темноты.
Из-за язвы Алексу было показано выпивать кварту молока в день. Однако к осени 1940 года продуктов стало не хватать, перевозки были ограничены, и мы питались только тем, что могли достать в округе. Молока было особенно мало – его можно было купить только у местных фермеров, а коров держали немногие, и всё молоко шло детям. Через несколько недель после нашего приезда я стала по вечерам ходить на ферму в восьми километрах от нашего дома за молоком Алексу. К тому моменту я уже смело разъезжала по окрестностям на своем сверкающем новеньком велосипеде, и это поручение наполняло меня гордостью – я добываю молоко, чтобы вылечить Алекса! Я катила по дороге, на руле болтался бидон, и, проехав несколько километров вдоль залива, сворачивала на песчаную тропинку среди сосен. Летом сосны осыпались, и ехать по плотному ковру из иголок было страшно и весело. Чтобы наверняка добыть молоко, мне надо было отправиться в путь на закате, когда коров приводили с пастбища и вели на дойку. Сквозь деревья светило заходящее солнце и заливало золотом бурую землю. Я наслаждалась тишиной леса, нарушаемой только шуршанием моих шин по сосновым иглам, дребезжанием пустого бидона, щебетом птиц, которые утихомиривались перед сном в косых лучах солнца. Через несколько километров сосны начинали редеть, я выезжала на лужайку, и по правую руку, в конце глинистой тропки, показывалась ферма. Я слезала с велосипеда и шла к коровнику, где уже собирались дети в ожидании фермера.
Когда солнце касалось горизонта, к нам выходил сам фермер – медлительный недоверчивый человек. Подходила моя очередь, и он наливал мне четыре ковша молока, я доставала из кармана мелочь и, после того как фермер тщательно ее пересчитает, забирала свой бидон. Самая легкая часть оставалась позади. Теперь мне надо было не расплескать молоко и преодолеть страх возвращения домой по темноте.
В детстве я боялась привидений и сумрака, в котором, как мне казалось, обретает силу всякая нечисть. Этим страхом я тоже была обязана отцу: его метод заключался в том, чтобы как следует напугать меня, а потом, если получится, помочь преодолеть свой страх (как, например, мой ужас перед быстрой ездой). В октябре и ноябре дни становились короче, большую часть пути мне приходилось проделывать в темноте, и я ужасно боялась дороги через сосновый лес. Отъезжая от фермы, я зажигала фонарик на руле и, крутя педали, пыталась сосредоточиться на желтом луче впереди, поверить, что он убережет меня от лесных чудовищ. Но если вдруг от ветра шевелились ветки или в кустах шуршала мелкая живность, меня охватывал дикий ужас: я воображала нечто жуткое, что хочет меня поймать, тянет руки из лесной тьмы и вот-вот схватит… Папа, папа, видишь, мне совсем не страшно, я не боюсь привидений, я стойкий солдатик, я вообще не боюсь ничего, как ты учил меня не бояться, мертвецы не утащат меня с собой, я прибавлю скорость и буду смотреть на луч фонаря, пока не оторвусь от них…
Я прибавляла скорость, бидон с молоком болтался на руле, преследователи отставали. Мне снова удалось оторваться – впереди сверкали огни главной дороги. Я доезжала до конца лесной тропинки, сворачивала налево, на дорогу, шедшую вдоль залива Сен-Тропе. Машины здесь ездили редко. Через несколько минут после последнего кафе я сворачивала к нашему дому – лучшему дому из всех, в которых мы с мамой когда-либо жили, – и меня встречал Алекс. Он прикасался усиками к моей щеке и благодарил за молоко: “Merci, бубуська”. (Обращение “бубуська” или “бубуськи” появилось у нас с мамой и Алексом, когда мы стали жить вместе, – оно стало еще одним признаком нашей близости, нашего родства.) Алекс нес молоко на кухню, где Мария ставила его кипятиться. Потом его ставили остывать, мы садились за большой дубовый стол, и, кто бы ни ужинал с нами в тот день – Лидовы, кто-то из друзей Алекса по Рош вроде Жана-Пьера Фурно с семейством, – меня распирало от гордости, когда я видела, как Алекс пьет молоко, совершенно необходимое, по словам докторов, в его состоянии.
К концу ноября все мы получили свои визы. Ходатайство Джона Уайли, рекомендации маминого отца и Симона Либермана принесли свои плоды. В начале декабря мама решилась на очередное безумство: чтобы забрать в Америку ценные вещи из наших с Алексом квартир, она решила отправиться в Париж с группой контрабандистов – это был единственный способ перейти на другую территорию. Мы в такой спешке покинули столицу, что мама оставила дома большинство украшений и документов; кроме того, она тревожилась за тетю Сандру, тетю Лилю и Монестье и хотела с ними попрощаться. Поскольку полиция Виши была печально известна своим антисемитизмом, Алексу было куда опаснее отправляться в такой путь. (Сейчас я понимаю, что ненормальный французский оптимизм в июне 1940 года заставил сотни тысяч французов так же бросить свои дома. Симона Вейль, например, питала те же иллюзии и уверяла, что к северу от Парижа вот-вот откроется новый фронт; 13 июня, накануне вторжения немцев, они всей семьей вдруг поняли, что сейчас уйдет последний поезд из Парижа на юг, бросились на Лионский вокзал, даже не заходя домой, и увезли с собой только одежду, в которой были.)
Чтобы попасть в Париж, маме предстояло отправиться из Ниццы в Виши на поезде. Там ей надо было связаться с группой водителей грузовиков, которые за крупную сумму (по современным меркам это было бы примерно 2000 долларов) пересекали границу ночью. Пешком перейти на ту сторону было невозможно, потому что даже в самых лесистых районах рыскали немецкие сторожевые собаки. Контрабандисты подбирали пассажиров в деревушке вблизи Виши и сажали их в кузов среди мешков с продуктами (чаще всего это были мука и картошка). Внутри кузов был обшит матрацами – на случай, если немецкие пограничники начнут стрелять. Контрабандисты ехали самыми заброшенными сельскими дорогами и, скорее всего, проезжали через те контрольно-пропускные пункты, на которых заранее подкупили пограничников. Добравшись до парижских пригородов, они выпускали пассажиров и забирали их через пять дней в заранее оговоренном месте.
Потом мама говорила, что ужасно трусила, но поездка в Париж прошла гладко. Добравшись до пригородов, она села в метро и доехала до площади Иена в квартале от нашей квартиры. Мама всю жизнь страдала клаустрофобией и почти никогда не ездила на метро, но автобусы перестали ходить из-за нехватки бензина, а автомобили на улицах остались только немецкие. Моя гувернантка, которая караулила нашу квартиру, чтобы ее не реквизировали немцы, при виде мамы расплакалась от счастья. С собой в дорогу Татьяна могла взять всего два чемодана, поэтому вещи приходилось собирать аккуратно: отцовские документы, дорогие украшения, наша с ней одежда. Наконец, она убрала письма и стихи Маяковского в папку и решила отнести ее в банковскую ячейку до конца войны. Я часто спрашивала – почему она не увезла это всё в Америку? Но причина была та же, что и в 1935-м, когда она молила свою мать не рассказывать никому о ее романе с поэтом: она чувствовала, что на Западе зреют антикоммунистические настроения и у нас с ней могут возникнуть проблемы в Америке, если станет известно, что она была музой самого известного поэта в Советском Союзе.
На следующее утро мама отнесла письма и стихи Маяковского в банк и отправилась по авеню Клебер к площади Звезды. Она шла в квартиру Монестье, которая располагалась неподалеку от Елисейских Полей. Шагая по улице, она услышала, как ее окликает мужской голос. Из “мерседеса” вышел какой-то немец – это оказался ее старый друг Шпац фон Динклейдж.
– Что вы здесь делаете? – ледяным тоном спросила она.
– Свою работу.
– И чем же вы теперь занимаетесь? – огрызнулась мама.
– Тем же, что и всегда, – отвечал Шпац. – Военной разведкой.
– Вы скотина! – взорвалась мать. – Изображали журналиста, втерлись к нам в доверие, соблазнили мою подругу, а теперь говорите, что всё это время за нами шпионили!
– На войне как на войне, – возразил Шпац и пригласил маму поужинать.
Впоследствии она вспоминала, что ей хотелось согласиться – он мог располагать важными сведениями. Но гнев и патриотизм победили.
– Он корчил из себя жертву нацизма, носил тряпье, прятался в битом автомобиле, – сердито рассказывала она много лет спустя, – закрутил роман с Хелен Дессоффи, потому что ее дом был рядом с морской базой, Тулоном. И мы все ему верили!
Кроме того, маму остановила мысль о приличиях.
– Как бы это выглядело, если бы я пошла с ним ужинать? – вопрошала она. – Вдова героя Сопротивления в немецком “мерседесе” с нацистским офицером! А если бы нас увидела консьержка?
Вскоре после их встречи у Шпаца случился злополучный роман с Коко Шанель – после освобождения Парижа карьера Шанель долго восстанавливалась от этого удара. Эпизод с неожиданной встречей заставил маму осознать, как глубоко нацистский шпионаж проник во французское общество. С тех пор она всю жизнь смертельно боялась разведчиков и много лет спустя видела во всех советских гражданах в Америке шпионов КГБ.
В первый свой день в Париже мама отправилась в мастерскую Алекса в вилле Монморанси и упаковала все холсты, которые поместились в чемодан. Поужинала она с Симоной и Андре Монестье: они уже знали, что отец пропал при исполнении, но не знали подробностей. Рассказав им всё, она зарыдала, повторяя: – Я во всём виновата, это я во всём виновата. Я разрушила его карьеру, после этого он стал рисковать собой, покатился под уклон…
Когда Симона много лет спустя рассказывала мне об этом вечере, она добавила:
– Я утешала ее и уверяла, что она совсем не виновата в смерти твоего отца, но, конечно, в чем-то она была права.
Она высказала это соображение только в 1970-х годах – за десять лет до собственной смерти. Ее слова навели меня на ужасную мысль (раньше я бы с ней просто не справилась): а понимали ли Татьяна с Алексом, что их знаменитое счастье стояло на крови моего отца? Или, если уж совсем ударяться в мистику, вдруг они желали его смерти и тем самым навлекли ее? Размышляя обо всём этом в ретроспективе, я не могла не признать: Алекс всегда был бесконечно ревнивым человеком и наверняка ненавидел отца за то, что тот живет с мамой; и ненавидел тем сильнее, что отец принадлежал к социальному слою, воплощавшему ценности, до которых Алекс никогда бы не смог возвыситься. Ценности древней французской аристократии, людей гордых и надменных, но способных на подлинное геройство в решающий момент.
Пришлось принять тот факт, что Алекс наверняка испытал радость, услышав о смерти моего отца, и мне теперь придется мириться с угрызениями совести за то, что я любила двух людей, которые так ненавидели друг друга.
И, что еще более важно, мне надо было как-то осмыслить сложные чувства, которые охватили мать после смерти отца – смесь горя, облегчения и последовавшего за ним чувства вины. В последние десятилетия многие знакомые Татьяны спрашивали меня, какие пережитые горести заставляли ее порой впадать в мрачную меланхолию, так несхожую с ее обычной веселостью? Только недавно я поняла, что мама была из тех женщин, судьбу которых определили смерти любимых ею мужчин – в ее случае это были Маяковский и мой отец.
Пока мама была в Париже, меня отослали в пансион в Каннах. В то время я не понимала, почему мне нельзя мирно жить с Алексом в Сент-Максим. Но тут сыграли роль мамины представления о приличиях – и, возможно, наказ отца держать меня подальше от “этой публики из Сент-Максим”. Возможно, маме пришло в голову, что нехорошо оставлять ребенка со своим любовником. В спальнях пансиона стоял ледяной холод. Кормили нас попеременно бататом и мелким картофелем. Я отчаянно скучала по лакомствам с черного рынка, которые добывал Алекс. Он звонил каждый третий день, чтобы подбодрить меня, потому что к тому времени телефонного сообщения между Виши и оккупированной территорией уже не было, и, как он объяснил впоследствии, ужасно волновался за мою мать. Единственной радостью в моем кратком пребывании в пансионе, помимо его звонков, были неожиданные новые сведения об окружающем мире. Прошлогодние слухи оказались правдой. Мужчина действительно засовывал свою штуку женщине в дырочку, чтобы сделать детей, и, что самое ужасное, иногда он совал ее туда просто так – это казалось нам особенно возмутительным.
Через неделю после возвращения из Парижа мама вместе с Алексом приехали за мной в пансион. Почему она ждала так долго, мучилась я. Именно тогда я впервые стала с некоторой неловкостью осознавать, что им, возможно, хотелось побыть вдвоем, без меня. Отъезд из школы был одним из счастливейших моментов. Погода уже стояла по-зимнему мрачная, но дома царила атмосфера ликования. У нас есть билеты на корабль, отходящий из Лиссабона! Мы скоро уедем! Прошел слух, что безопаснее пересекать испанскую границу на поезде, чем на автомобиле, поскольку железнодорожные пограничники терпимее относятся к евреям, чем их коллеги на дорогах. Хотя Алекс уже накопил купонов на бензин, мы решили поехать до испанской границы на поезде, затем на другом – в Мадрид, а оттуда отправиться в Лиссабон. В поезде из Ниццы в Испанию я впервые увидела, как мама с Алексом ссорятся.
Мы с матерью сидели в купе и читали – Алекс сидел на полке напротив нас. На остановке в окрестностях Тулузы в купе вошел мужчина с длинной бородой, в черном плаще до пят и с маленькой круглой шапочкой на затылке. Он сел рядом с Алексом, и тот, поморщившись, пересел. Наш попутчик, который до того улыбался, вдруг помрачнел. Мама принялась бросать на Алекса гневные взгляды, шипеть: “Позор! Какое хамство!” Она заискивающе улыбалась нашему соседу, а тот благодарно улыбался ей в ответ. Через час он вышел из купе, поклонившись нам и бросив последний благодарный взгляд маме. Дождавшись, пока он не скроется вдали, она напустилась на Алекса:
– Я всегда знала, что ты антисемит, но еврей-антисемит – это особенно омерзительно! – кричала она. – Это было совершенно грубо и по-хамски!
Алекс с виноватым видом пытался заговорить:
– Но бубуська… Прости, бубуська…
Мама не унималась:
– Рядом с тобой садится совершенно приличный раввин, а ты оскорбляешь его и пересаживаешься! Тебе самому не стыдно? Еврейский антисемитизм – это чудовищно, особенно в наше время!
Алексу никак не удавалось утихомирить белокурую валькирию, чья социальная чувствительность была так жестоко оскорблена. Проклятия в адрес еврейского антисемитизма раздавались до самой испанской границы.
– Ну ладно, – сказала она наконец. – Но чтобы подобное больше не повторялось!
Единственное мое пальто мы прошлым летом забыли в Париже. Поэтому в пути я носила шубу матери Алекса, которая уехала в Америку в августе и попросила нас привезти ее шубу в Нью-Йорк. Шубу украли по пути в Мадрид, когда мы на минуту вышли из поезда, чтобы размяться. Оказавшись в Мадриде, мама немедленно слегла с мигренью, а мы с Алексом отправились по магазинам. Он твердо вознамерился найти мне пальто наподобие того, что его отец купил ему в Лондоне в 1921 году после приезда из России – Алексу тогда было столько же лет, сколько мне сейчас. После многочасовых поисков он наконец-то был удовлетворен: мы купили двубортное пальто из верблюжьей шерсти, которое было мне велико и доходило до середины икры. Алекс заявил, что я быстро расту, а в Америке мы будем жить скромно. Вдобавок он купил мне шляпу из точно такой же шерсти. Увидев меня в новом наряде, мама вспыхнула от удовольствия.
Мы решили ничего не праздновать, пока не окажемся на корабле, и рождественский вечер в Мадриде прошел тихо. Самое жуткое мое воспоминание о путешествии относится к тому моменту, когда мы садились на поезд из Мадрида в Лиссабон. Ходили слухи, что испанское правительство может в любой момент выгнать из страны всех беженцев и заставить их вернуться во Францию, и на вокзалах Мадрида царила паника. Толпы беженцев со всех уголков Европы выглядели так, будто уже начался конец света. Испанское правительство не определилось со своим отношением к такому нашествию и не изменило расписание поездов в соответствии с потребностями беженцев. Толпы людей сидели на полу в зале ожидания, обложенные тюками и чемоданами, – они должны были уехать в Лиссабон тем же поездом, что и мы. Алекс купил нам билеты у консьержа в мадридском “Ритце” и серьезно переплатил, чтобы обеспечить нам места. Но народу было столько и вокруг царил такой хаос, что билеты уже не имели никакого значения. Служащих вокруг не было. Беженцы не знали ни слова по-испански и в бессмысленной пантомиме размахивали своими билетами и документами, пытаясь убедить безразличных полицейских пропустить их на платформу. Сотни детей потеряли в давке своих родителей и в слезах бродили по вокзалу – столько же взрослых метались по платформам, окликая своих детей.
Никаких объявлений о поезде на Лиссабон не было, а полиция ничего не знала о расписании.
– Давайте вернемся в гостиницу, – застонала мама, когда мы стали пробираться через толпу – от приступа клаустрофобии ее охватила паника. – Я задыхаюсь, давайте уйдем отсюда!
– Нам нужно попасть на поезд, – отрезал Алекс.
– Но такого поезда нет! Может, его вообще отменили!
– Не отменили.
Вдруг из громкоговорителя раздалась испанская речь:
– Экспресс Мадрид – Лиссабон отбывает с 24-го пути через семь минут.
Мы схватили сумки и побежали, чтобы встать в очередь вместе со всеми. Но вокруг царил хаос. Мы попали в голосящую толпу, которая понесла нас к платформам, выкрикивая имена потерянных родичей на полудюжине языков одновременно.
– Спасайся кто может, – пробормотал Алекс и попытался проложить дорогу к поезду. Когда ему это не удалось, он обернулся ко мне. – Притворись, что тебе плохо.
Он проталкивался через толпу, подняв чемоданы над головой, и кричал: “Больной ребенок, больной ребенок!”
Я блистательно исполнила эту неожиданную роль, хромая как Квазимодо и кашляя, будто дама с камелиями на смертном одре, и даже несколько раз наступила на подол своего пальто и споткнулась. Спектакль удался. Окружающие сжалились надо мной, и мы наконец добрались до платформы, на которой было столько же народу, сколько и в зале ожидания. Но увидев поезд, мама запаниковала еще сильнее. Он уже был забит теми, кто пришел сюда несколько часов назад и занял места; в купе набилось по два десятка человек, и некоторые пассажиры ставили сумки на окна или даже садились туда сами; в вагоны пытались залезть сотни людей.
– Я туда не полезу! – воскликнула мама. – Я отказываюсь!
– Полезешь! – отрезал Алекс. – Это может быть последний поезд.
– Нет, нет, нет! – мама зарыдала.
Мы стояли в метре от поезда, и локомотив начал угрожающе шипеть.
– Бубуська, залезай!
Мама в слезах протестовала. Алекс повернулся ко мне:
– Фросенька, залезай первой.
Держа в руках чемоданы, я кое-как вскарабкалась на вторую ступеньку и протиснулась между каких-то поляков, бормоча с трудом вызванные в памяти польские фразы; оказавшись внутри, я протянула руку матери.
– Мама, иди сюда!
Тем временем поезд медленно тронулся. Алекс двинулся следом, толкая перед собой плачущую мать, и кое-как запихнул ее на первую ступеньку, а я втащила ее в вагон. Алекс вскочил следом с остатками багажа. Тут поезд начал набирать скорость, оставляя позади сотни кричащих, плачущих людей. Мы выбрались из Мадрида.
– Куда теперь? – спросила я Алекса.
– Налево, к туалетам, – прошептал он. Это была гениальная идея – никому не хотелось провести ночь стоя в туалете, и там еще было место. Я затолкала дрожащую маму в этот крохотный вонючий закуток. Алекс тщетно рыскал по вагонам в поисках другого места, и мы с мамой оставались там до самого утра – мы стояли, привалившись к стенам, изредка на пару мгновений забывались сном и наблюдали, как сотни пассажиров обоих полов испражняются прямо перед нами.
Так мы добрались до Лиссабона и в конце декабря погрузились на наш корабль. Это была прогулочная яхта под названием “Карвальо Араухо”, которая никогда ранее не выходила в море дальше Азорских островов – путешествие в Нью-Йорк было для нее первым. Нам с матерью отвели кабину на нижней палубе, Алекса поселили на верхней вместе со знаменитым французским флейтистом Рене Ле Руа – он оказался таким образованным и обаятельным человеком, что мама с Алексом с ним немедленно подружились. Через несколько часов было решено, что мы будем обедать и ужинать все вместе. Зимний океан штормило, и нашу крохотную яхту ужасно качало, поэтому через пару дней произошла рокировка. Выяснилось, что мама и Ле Руа страдают от морской болезни, тогда как мы с Алексом оказались стойкими моряками. Было решено, что она поселится на верхней палубе с Ле Руа, а мы с Алексом будем жить в нашей с мамой каюте. Что-то подсказывало мне, что в обществе Ле Руа маме ничего не грозит – я выросла в ее мире и, возможно, догадывалась о существовании гомосексуалистов прежде, чем узнала, что значит “любовница”. Это было отличное решение. По вечерам, когда мы ложились, Алекс накрывал лицо подушкой и говорил: “Раздевайся, я не смотрю” – и я чувствовала себя ужасно взрослой. В новой жизни с мамой и Алексом было много необычного, и мне это очень нравилось.
Путешествие на “Карвальо Араухо” заняло целых две недели и вспоминается мне полным блеска и музыки. Перед ужином Рене Ле Руа поднимал дух измученных качкой пассажиров, исполняя партии флейты из “Бранденбургских концертов” Баха. Он выступал в столовой, где в стеклянных шкафах были выставлены изящные кружевные португальские украшения из золота с фальшивыми бриллиантами, в которые я совершенно влюбилась. Моя страсть была утолена, когда мама так и не смогла определиться, какая из трех брошей ей нравится больше, и Алекс подарил ей их все на Новый год. Теперь я могла любоваться ими вволю.
В этом путешествии мы с Алексом стали еще ближе. Мама не переносила британскую еду, которой кормили на борту, и ее слишком сильно укачивало, поэтому один раз в день она пропускала обед или ужин, лежала у себя и пила бульон. Ле Руа вежливо садился за стол с нами, бледнел и уходил в каюту к маме. Чаще всего мы с Алексом оставались вдвоем, наедались тремя порциями и чувствовали себя великолепно. Шел ледяной январский дождь, яхту чудовищно качало, половина пассажиров не выходили к столу, а мы наслаждались умеренными яствами, разрешенными диетой Алекса: супами-пюре, курятиной, мятым картофелем, подливками и пирожными. В этот период Алекс научил меня первым словам по-английски, и следующие несколько лет я говорила с его британским акцентом. “Как вы поживаете, приятно познакомиться”, – повторяла я и набивала рот едой.
Еще много лет история нашего бегства в Америку укрепляла нашу с Алексом близость – совместные яркие переживания всегда сближают. “Помнишь, как мы ехали из Мадрида в Лиссабон?” – спрашивали мы друг друга тридцать, сорок лет спустя. “Помнишь, как мы пошли искать пальто, когда мамашину шубу украли?” “Помнишь, как Рене Ле Руа играл на флейте в столовой «Карвальо Араухо»?”
Часть вторая Новый Свет
Жизнь – искусство, чувства – труд.
Генри Джеймс. “Трагическая муза”Глава 12 Рочестер, Нью-Йорк
На фотографии, которую я храню с детства, изображен мой дедушка по маме – Алексей Евгеньевич Яковлев. На снимке ему девятнадцать лет, и он небрежно развалился в узорчатом расшитом кресле в петербургской квартире своей матери. На нем кадетская форма, в одной руке – длинный мундштук, другая вяло держит белую перчатку, на носу – модное пенсне, а начищенные до блеска сапоги покоятся на турецком ковре. В зеркале за его спиной отражаются приметы роскошной жизни – парча, муар, бронза, слоновая кость, хрусталь, – которыми украшена гостиная рубежа веков. Фотограф верно передал образ юного богатого петербургского плейбоя: запах редкого турецкого табака, женщины, женщины, карты и игральные кости до утра, гедонизм дворянства, которое уже начало распадаться как класс.
В мужчинах рода Яковлевых было какое-то беспокойство, врожденная тяга к путешествиям. Хотя дедушка, окончив кадетский корпус, стал учиться на архитектора и инженера, в юности у него было не меньше приключений и безумств, чем у его младшего брата Саши. Он женился на честолюбивой кокетливой красотке, моей бабушке, которая больше всего на свете любила окружать себя пылкими воздыхателями и сталкивать их друг с другом. Его назначили строить оперные театры в разных областях России, и он каждые три-четыре года переезжал в новый город, что было весьма необычно в пору, когда семьи по несколько поколений жили в одном и том же доме. Бесстрашный Алексей Евгеньевич одним из первых в стране обзавелся автомобилем и сел за штурвал собственного аэроплана. Но больше всего его любовь к риску проявлялась в страсти к игре. Как часто в Петербурге, Вологде, Пензе Алексей Евгеньевич выигрывал за семь минут сумму, равную своей месячной выручке и, ведомый отчаянной надеждой удвоить куш, спускал всё. Как часто, проиграв свой доход за несколько месяцев, он ставил последние пятьдесят рублей в надежде отыграться и лишался их. Как часто, вываливаясь из игорного дома после удачной ночи, он отдавал половину денег бродягам, которых встречал по пути домой, а вторую половину на следующей же неделе спускал на какое-нибудь безумное предприятие – вроде первого перелета между Москвой и Санкт-Петербургом. И сколько раз, оказавшись в новом городе с единственным рублем в кармане, не зная, удастся ли сегодня поесть, он ставил его и за два часа зарабатывал две тысячи, заказывал шампанское в лучшем ресторане и знакомился с актрисами.
Жена Алексея Евгеньевича, моя бабушка, негодовала, угрожала, бушевала. “Эти Яковлевы ненормальные! – восклицала она. – Аистовы подобного никогда себе не позволяли!” И она вспоминала собственного отца, главу балетной труппы Мариинского императорского театра, который всю свою жизнь прослужил на одном месте, прожил в одном доме и никогда не притрагивался к игральным костям. Дедушка Яковлев временами воздерживался от игры, но и в эти периоды его преследовали чарующие звуки: звон монет, уходящих на баккару, блек-джек, рулетку, голос крупье, звучавший как пение сирены – “шестьдесят один, красное, нечет!”. Не счесть, сколько раз этот мот решал навсегда покончить со своим пороком, как только вернет себе проигрыш, и изменял своему слову. Душа игрока раскачивается на качелях: от надежды к эйфории и ужасу, но жаждет не передышки, а еще большего безумия, больших перепадов. И даже став главой семьи, Алексей Евгеньевич не смог побороть влечение к роковой возлюбленной, которую позже, уже в Америке, называл госпожой Удачей.
О страсти к игре писали много, меньше – об особенном безумии, охватывавшем русских игроков. Назвать моего дедушку декадентом или ненормальным значило бы расписаться в полном незнании русского подхода к деньгам, который в той или иной степени был свойственен всем членам моей семьи. С точки зрения этих интеллигентов и дворян, накопление капитала, которое на Западе считают добродетелью, – дело вульгарное и заниматься им могут только буржуа. Как резюмировал Достоевский: русские безрассудно обращаются с деньгами, потому что питают христианское отвращение к самой их идее. В романе “Игрок” он пишет: “Русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. <…> Следовательно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как например рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь”. И продолжает: “Неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?” В общем, если укорить русского в том, что он спускает все деньги, тот воскликнет: “К черту деньги! Чем быстрее, тем лучше!”
Согласно семейной истории Яковлевых, дедушка внезапно покинул Россию в 1915 году, потому что запатентовал новейшие автомобильные шины, для которых требовалась резина, в Россию не поставлявшаяся. Мне эта версия казалась невероятной. Подозреваю, что он наделал огромных долгов, не смог бросить игру и решил проблему тем, что бросил семью и сбежал. Нам известно только, что в 1915 году он отправился на Восток, по Сибири добрался до Китая, откуда собирался уехать в Америку. Освободившись от семейных пут, он мог свободно предаваться любви с госпожой Удачей и всецело отдался этому занятию. Два или три года этот элегантный бродяга прожил в Шанхае, где уже начала формироваться русская диаспора – он так резко оборвал связи с семьей, что даже не знал, что его любимый брат Саша в те же годы был на Востоке. Яковлев свободно говорил по-французски и по-немецки, и когда проигрывался в пух и прах, неделями и месяцами служил детским учителем у более удачливых эмигрантов или переводчиком у высокопоставленных путешественников. После серии выигрышей он покупал породистую лошадь и в компании проводника несколько месяцев путешествовал по пустыне Гоби, наслаждаясь “красотами природы”, пока не кончались деньги, – за исключением игры эти вылазки были его любимым занятием.
Так Алексей Евгеньевич Яковлев, высокий изящный мужчина необыкновенной красоты, прожигал жизнь вплоть до октября 1917 года. Как-то раз, стоя у игорного дома, где в очередной раз спустил все деньги, он услышал, что в России произошла революция, и вдруг понял, что, возможно, уже никогда не вернется домой. Он прислонился к стене, с тяжелым сердцем закурил сигарету и тут… Я приведу его собственный рассказ об этом происшествии:
Это была первая зима революции. Я понимал, что если не случится чего-то необычайного, то я возьму пистолет, с которым меня научили обращаться в кадетском корпусе, и… продолжать не нужно. Я встретил знакомого из России – он был в таком же отчаянии, мы выпили и стали говорить о своих горестях. Вдруг к игорному дому подъехала карета. Из окна выглянула женщина – красавица под густой вуалью. “Вы замерзли, садитесь ко мне”, – сказала она по-французски, с легким акцентом. Мы забрались в карету, она отвезла нас к себе, угостила шампанским и бренди, мы провели с ней удивительный вечер. Утром, когда мы собирались уходить, она спросила, чего нам хочется больше всего на свете. Мы ответили, что больше всего хотим уехать в Америку. Она приказала кучеру развести нас по домам и перед уходом дала нам по конверту… В каждом оказались тысячи долларов! Через несколько недель мы отплыли в Америку.
В 1918 году он прибыл в Сан-Франциско – одинокий человек, у которого не было в жизни радостей, кроме игры и любования “красотами природы”. В Сан-Франциско образовалась русская диаспора, и Алексей Евгеньевич взялся за старое: когда он проигрывал, то подрабатывал преподавателем, переводчиком и даже механиком, когда выигрывал – ездил по Калифорнии и любовался горами, северными озерами, южными пустынями. Так продолжалось несколько лет, пока в 1922 году, проигравшись в пух и прах в баккару, он не отправился в универмаг, чтобы, ради разнообразия, попробовать стать продавцом. Здесь судьба ему улыбнулась, и он познакомился с прелестной юной соотечественницей Зинаидой. Тоненькая девушка десятью годами младше него пришла, чтобы купить блузку, и услышав речь с русским акцентом, обратилась к нему, пока он стоял в очереди в отдел кадров. (“Со мной так постоянно бывало, – сообщил он мне много лет спустя, устало вздыхая. – Я нравился женщинам, и они за меня хватались”.) Зина покинула родину в первые же недели революции вместе со своей овдовевшей матерью и поселилась в Сан-Франциско, где работала дипломированной медсестрой и уже накопила денег на дом. Алексей Евгеньевич был очарован ее прелестью, а “Зиночка”, как мы звали ее в семье, твердо вознамерилась заполучить его. Вскоре она предложила Алексею свои сбережения с одним условием: он бросает игру и вновь становится инженером.
Как ни странно, он согласился – возможно, жизнь изгнанника ему прискучила. За неделю до свадьбы Зина предложила, чтобы он взял себе более привычное на слух янки имя. На это он тоже согласился – теперь его звали Алексис (Ал) Джексон. Всё изменилось, он стал вести простую рабочую жизнь. Вместе с матерью Зины Джексоны переехали в город Рочестер, штат Нью-Йорк, где, как узнала Зина, требовались рабочие на фабрику “Кодак”. Дедушке удалось получить должность младшего инженера в отделе по сборке камер, и он проработал там до пенсии, ни разу не попросив ни прибавки, ни повышения. Когда его роман с госпожой Удачей оборвался, он словно утратил прежние амбиции, страсть и жизненные силы. Удача была его единственной любовью, и, будучи вынужденным отказаться от нее, он превратился в вялого, инертного и, видимо, несчастного человека.
Бывший игрок – это зачастую печальное зрелище. Внешне он выглядит прежним – игра не оставляет таких разрушительных следов, как алкоголь или наркотики, – но взгляните ему в глаза: в них больше нет жизни, интереса, огня. Как правило, взгляд его становится мертвым и потерянным. Так произошло и с моим дедом – былой кураж, который когда-то так притягивал женщин, исчез. Выбрав Зиночку и безгрешную жизнь, Ал Джексон более не имел никакой цели, кроме как свести концы с концами. Лишившись зависимости, он больше ни о чем не мечтал – ни о роскошном автомобиле, ни о высокой зарплате. Теперь ему хотелось только просиживать вечера у камина, читать “Популярную механику” или часами слушать свое любимое радио.
Первые девять лет после того, как их отец покинул Россию, мама и ее сестра Людмила ничего о нем не знали. Только в 1924 году прабабушка наконец получила первые вести о своем беспутном сыне. Она отправила ему из Парижа, куда эмигрировала в 1922 году, едкое письмо и напомнила, что дома у него оставалась семья: “Ты бросил в России двух дочерей, которые любят тебя и скучают по тебе, сделай что-нибудь!” Как только дедушка ответил, она, гордясь своими детективными способностями, тут же написала внучкам в Пензу.
Дорогие и любимые мои внучки, ваш отец найден!
Так начинается бабушкино письмо к Татьяне с Людмилой, датированное августом 1924 года:
Русский священник помог нам найти друг друга. Папа пишет, что он часто писал вам и мне, но не получал ответов.
(По давней русской традиции блудного мужчину возвращает на путь истинный властная женщина; сколько я видела таких женщин – они со скандалами вытаскивали своих сыновей и мужей из кабаков, игорных домов и уютных объятий диванов.)
Он счастлив, что мы наконец-то нашли друг друга. Он не знал, что мы с тетей Сандрой живем за границей. Ему пришлось нелегко, потому что из России ему позволили вывезти только 500 рублей, и всё это время у него не было постоянного заработка. Теперь он очень беспокоится, что у вас должен быть источник доходов. Думаю, скоро мы сможем его навестить.
(Как правило, русского игрока, вынужденного признать, что он годами пренебрегал своей семьей, охватывает чувство вины, и он обещает своим брошенным детям вечную любовь, приглашает их разделить с ним убогий кров и скудный заработок.)
Он снова женился, и у него пять месяцев назад родился сын, Евгений. Он говорит, что с рождения ребенка думает о вас еще больше прежнего, потому что так любил нежить и баловать вас в детстве. <…> И правда, когда Лилечка плакала, только папа мог ее успокоить. Он очень хотел найти нас всех.
Типичный случай совести, отпускаемой на разлив вроде немецкого пива.
Этот человек – Алексей Евгеньевич Яковлев, Ал Джексон, бывший архитектор царских опер, а теперь рабочий на фабрике “Кодак” – ждал нас утром 8 января 1941 года в бруклинском порту – наша яхта была слишком мала, чтобы пристать к Манхэттену, и нам пришлось уныло наблюдать мрачные ряды красных домиков вместо знаменитых манхэттенских небоскребов.
Хотя мне было всего десять, увидев дедушку, я сразу же поняла, как сильно он отличается от других известных мне Яковлевых. Внешне он напомнил мне тетю Сандру и дядю Сашу – те же длинные изящные члены, узкое, с тонкими чертами лицо, миндалевидные глаза, глубокий баритон и по-дореволюционному правильная русская речь. Но он был выше и суше остальных Яковлевых и выглядел до странности траурно. Густые седые усы, нос крючком, а в глазах нет ничего от лукавого взгляда дяди Саши, маминой проницательности или бабушкиного тепла. В его взгляде читалась меланхолическая апатия, пустота и смирение. Но едва я успела это заметить, все уже заговорили.
Полвека спустя меня всё не отпускают мысли об этой судьбоносной встрече – мама и дедушка обняли друг друга после двадцатишестилетней разлуки.
Я пытаюсь вообразить, что чувствовали они тем утром. Этому изгнаннику с потухшим взглядом было шестьдесят, и он встречал в порту свою тридцатипятилетнюю дочь, белокурую вдову, которая держала за руку его десятилетнюю внучку. Когда он покинул Россию, его дочери было почти столько же, сколько этой внучке, а ему самому – тридцать четыре. Разумеется, яковлевская порода выделялась в толпе – они узнали друг друга, как только мы сошли по трапу.
– Папаша! – вскрикнула мама.
– Детка!
И они упали друг другу в объятья.
– Здравствуйте, дедушка, – сказала я вежливо, и он повернулся, чтобы обнять меня.
Рядом с Алом Джексоном стоял еще один член нашей американской семьи, Симон Либерман, отец Алекса. Раньше мы не встречались, но с первого же мига я почувствовала к нему горячую симпатию – куда большую, чем к дедушке. По нему было видно, что это человек решительный и предприимчивый – в его обществе было приятно и спокойно находиться. Симон быстро окинул нас взглядом по-восточному узких глаз, мгновенно оценил положение и взялся за дело. Он подозвал носильщика, сунул ему несколько долларов, тот мигом свистнул коллегу и схватился за наши чемоданы. Симон тем временем уверенной походкой направился к таможеннику, сообщил ему несколько особенно драматических подробностей о нашем путешествии, отпустил пару комплиментов в адрес таможни, и уже через двадцать минут, задолго до всех остальных пассажиров, мы были свободны. Пока мы забирались в лимузин, небольшой, коренастый Симон Исаевич сиял улыбкой из мехового воротника своего пальто, проницательным взглядом сквозь круглые очки напоминая сову. Он сообщил, что мама Алекса осталась дома из-за мигрени – Алекс заранее говорил, что именно так она будет выражать свое недовольство Татьяной. Рядом с Симоном сел мой дедушка – подбородок его по-прежнему дрожал от наплыва чувств, в мягком сконфуженном взгляде читалась оторопь – он, по-видимому, уже много лет не видел такой роскоши. Автомобиль свернул на Бруклинский мост, и на горизонте наконец показались настоящие символы земли обетованной – небоскребы Манхэттена. Мы восклицали и восхищались, а Симон так и сиял от удовольствия.
Приехав на Манхэттен, мы тут же направились в квартиру Симона на Шестьдесят четвертой улице. Я тут же решила, что постараюсь проводить в этой обители роскоши как можно больше времени. Здесь всё было отделано дорогими темными тканями, кушетки обиты коричневым бархатом и покрыты кашемировыми покрывалами, обстановку украшали шкуры зебры и леопарда, а на стенах висели портреты Генриетты работы дяди Саши. Повсюду стояли какие-то американские технические диковинки, и я была совершенно очарована крохотным беспроводным радио и весь день с ним не расставалась. Пока я с ним играла, а взрослые шушукались в углу, появилась Генриетта и театрально сошла по лестнице. После шумных и слезливых объятий с сыном и ледяного приветствия в адрес нас с мамой она спросила, где ее шуба. Даже не слушая, что ее украли по пути в Мадрид, она возопила на нескольких языках:
– Эти идиоты потеряли мою шубу!
Затем она гневно удалилась, чтобы более не появляться.
Наступило время обеда. Его подавала негритянка в ярко-розовом фартуке. Дедушка всё время молчал, ел быстрее всех и потрясенно оглядывал обстановку. Я рассматривала Симона. Он сидел прямо напротив меня – шея его почти утонула в массивных плечах, и он с одобрительной улыбкой разглядывал меня через толстые очки, напоминая довольного кота. После обеда пришла пора отправляться в “ту самую гостиницу”, как ее называли мама с Алексом. Симон усадил нас в такси и пошел отдыхать, а мы с дедушкой отправились в отель “Виндзор” на Пятьдесят седьмой улице, управляющий в котором был другом Симона. После краткого разговора у конторки мы поднялись в наши комнаты – Алекс с мамой жили на одном этаже, но, как полагается, в разных концах коридора.
Следующие несколько часов я помню хуже, чем утро – видимо, из-за последовавшего потрясения. По прибытии в гостиницу мне сообщили, что я в тот же вечер должна на неопределенный срок отправиться с дедушкой в Рочестер. Это известие, видимо, совершенно меня убило. Ничего худшего в жизни со мной ранее не происходило. Возможно, что при прощании я горько рыдала; с другой стороны, к тому моменту я уже так хорошо научилась скрывать свои чувства, что могла и сдержать слезы. Как бы то ни было, через восемь часов после прибытия в Америку я уже сидела в вагоне третьего класса ночного поезда до Рочестера. Я ехала в город, о котором раньше никогда не слышала, в компании незнакомого мне дедушки, прижимая к груди единственное свое утешение – чемоданчик, который привезла из Франции. Задним числом это решение кажется мне совершенно сумасшедшим. Маме с Алексом пришлось в детстве нелегко, и важнее всего им казалось накормить и поселить меня – учитывать мои переживания им в голову не приходило. Кроме того, теперь, когда все беды были позади, они наконец-то могли погрузиться в свое счастье. Оказавшись в безопасности, я снова превратилась в своего рода потерянную посылку: “На помощь, у нас есть лишняя девочка, ее надо куда-нибудь отправить, кто ее заберет? Ах, слава богу, папаша согласен ее взять”.
Весь путь до Рочестера я просидела на жестком неудобном виниловом сиденье. Раньше я никогда не видела такого уродства и теперь с тоской вспоминала бархатную роскошь французских поездов – через несколько часов у меня болело всё тело. Я размышляла о будущем – в конце концов, всё может быть не так ужасно. Возможно, в Рочестере мне удастся кого-нибудь очаровать – жену дедушки или его сына. Мне будет чем заняться.
Ерзая на жестком сиденье, я пыталась понять, что за человек сидит рядом со мной. Иногда он задремывал, роняя голову на плечо, и вдруг вздрагивал, просыпаясь, и изумленно на меня смотрел. Это постоянное удивление было самой характерной чертой моего деда – он будто вопрошал: “Неужели вокруг меня есть мир? И я часть его? И вам что-то от меня нужно?” Он застенчиво и удивленно мне улыбался, похлопывал меня по колену, хрипло шептал: “Деточка” – и снова засыпал. Так я и провела ночь – разглядывала похрапывающего незнакомца напротив, негодуя, жалея себя. Через полчаса после рассвета мы прибыли в Рочестер. В такси я мрачно молчала, гадая, окажется ли дом таким же убогим, как и поезд. Автомобиль медленно проехал по голой пригородной улице, вдоль которой выстроились сотни одинаковых грязно-желтых домов, и остановился перед особенно унылой постройкой. Дедушка заплатил водителю и вытащил мой чемодан.
– Вот мы и дома, – сказал он.
Я тащилась следом в своем длинном верблюжьем пальто и проклинала день, когда появилась на свет. Разве я не была образцовым ребенком? Неужели я каким-то случайным образом оскорбила маму с Алексом? Сама земля здесь была уродливой, по крайней мере те ее участки, которые выглядывали из-под грязного снега, – в этом месте не было ни городского шика, ни загородных красот, ни кустов, ни деревьев… Поднимаясь по ступенькам вслед за дедушкой, я уже готова была расплакаться. Но тут дверь распахнулась, и я сразу воспряла духом. Нам навстречу выбежала тоненькая синеглазая брюнетка в ярко-алом свитере и заключила меня в объятья.
– Фросенька, наконец-то! – воскликнула она. – Я всегда мечтала о дочери!
Это была Зина, вторая жена моего деда. Она смеялась и плакала одновременно и очевидно была вне себя от радости. За ней появилась ее мать, Екатерина Ивановна, грузная женщина лет шестидесяти в цветастом фартуке и толстых шерстяных чулках, какие носят русские крестьянки, и тоже радостно мне улыбнулась.
Решив, что дела идут на лад, я вслед за Зиной вошла в их мрачный домик. Мне немедленно устроили экскурсию. Поднявшись по узкой лестнице без ковра, вы выходили на площадку, откуда можно было пройти в единственную в доме ванную и три маленькие спальни, одну из которых занимала Зинина мать, другую – дедушка с Зиной, а третью – их шестнадцатилетний сын Евгений, или Жика. Внизу была кухня, крохотная столовая и гостиная, основными элементами обстановки которой были два мягких кресла у камина и диван, на который Зина положила подушки, простыни и одеяла.
– Это твоя постель! – сказала она радостно.
“Даже комнаты своей нет”, – простонала я про себя. Но Зина была такой милой, что я утешилась. На следующий день ожидалась метель, и Зина уговорила дедушку съездить мне за комбинезоном – сама она водить не умела. Новый комбинезон был темно-синего цвета с красным кантом и так мне понравился, что я не снимала его еще несколько дней.
Следующие месяцы я не расставалась с Зиночкой и Екатериной Ивановной, пока они занимались хозяйством – мыли посуду, застилали кровати, вытирали пыль, стирали, гладили. Обе они оказались слезливы, и особенно горестным был самый тяжелый день недели – понедельник, день стирки. Именно по понедельникам они с особенной горечью вспоминали все радости жизни на родине – дачи, зеленые лужайки, любимую природу, музыку, русскую кухню. Как же печально было сравнивать прелести родного утраченного быта с тяготами нынешней жизни.
– Каждый час нам приносили чай! – всхлипывала Зина, наглаживая дедушкины рубашки. – А какие были изумрудные лужайки! Какие теплицы!
И она махала рукой в сторону заднего двора, такого же, как и три сотни соседних дворов, где глинистая земля, как израненная плоть, виднелась между грязными бинтами талого снега. На земле ржавел автомобильный мотор, которым Жика занимался летом, но бросил. По понедельникам во всех дворах вывешивали белье, и оно отчаянно трепыхалось на ледяном ветру. Женщины жаловались на унылую монотонность жизни, безразличие и инертность Алексиса, который за все эти годы ни разу не попросил ни прибавки, ни повышения. Я горячо им сочувствовала, потому что уже через несколько дней поняла – Джексоны никогда не путешествовали, не развлекались, не ходили в гости; они почти ничего не читали, кроме местных газет и “Популярной механики”; а после ужина дедушка только слушал радио и жевал зубочистку, Зина с матерью штопали, а Евгений садился за свои эксперименты. Поэтому я с готовностью рыдала вместе с ними. Я оплакивала отца, но притворялась, что горюю по оставленной на другом континенте роскоши – нашей парижской квартире, вилле Алекса, Средиземному морю.
Днем, когда работа по дому была окончена, я наслаждалась единственным местным развлечением: включала радио и учила английский по радиоспектаклям. Чтобы учить слова и тренировать произношение, я запоминала последние строчки радиопостановок: “Наше воскресенье”, “Жизнь может быть прекрасна”, “Женщина в белом”, “Когда девушка выходит замуж”, “Молодой доктор Малой”. “Как же поступит Нэнси? Сообщит ли она о своих подозрениях доктору Малону?” Около половины четвертого мое мирное наслаждение радио заканчивалось – из школы возвращался Жика. Этот неотесанный юнец с грубым смехом блестяще умел разбирать и собирать приемники и намеренно меня игнорировал – злился, что женщины теперь всё время со мной возились. Иногда дедушка возвращался с работы раньше обычного (если плохо себя чувствовал или на вторую половину дня обещали метель) и заставал женщин в слезах. Он застывал на пороге кухни, кипя от гнева, и произносил самое свое страшное ругательство:
– Ерунда! Женские слезы – ерунда!
После этого он уходил, склонив голову. Его фигура в мешковатой линялой форме смотрелась неуместно величественно. Если мы продолжали плакать над посудой, он возвращался и еще более гневно восклицал:
– Ерунда! В Сибирь ссылать за такую чушь! Мои тапочки?! Где обед?
В обычные дни, когда Алексис Джексон возвращался домой в 17:30, он предпочитал есть сразу же после прихода и требовал, чтобы обед был “на столе”.
– Обед готов? – громко вопрошал он, входя в дом.
Пока Зина хлопотала на кухне, он падал в свое кресло у камина, сбрасывал ботинки, погружал ноги в приготовленные Зиной тапочки и разворачивал рочестерскую газету “Демократ и хроника”. К этому времени Жика сбегал по лестнице, бухался в кресло напротив и мрачно глядел на отца.
– Здравствуй, малый, – сухо говорил дед.
Когда всё было готово, Зина робко звала нас к столу, трапеза обычно начиналась – со стороны это выглядело особенно странно – с консервированных фруктов. Далее следовала картошка и рагу в странного вида подливке (жареное мясо подавали по воскресеньям), а на десерт Зина обычно подавала дрожащее желе с разными вкусами, любовно нарезанное кубиками. Дедушка принадлежал к тем людям, которые могут есть сколько угодно, не прибавляя ни грамма, и за столом он ел по-пролетарски шумно и жадно, будто опаздывал на поезд. За столом говорили только по-русски – частично потому, что мать Зины так и не выучила ни одного английского слова, а частично потому, что дедушка, надо отдать ему должное, считал, что сыну в будущем может пригодиться русский язык. Это наследие своего прошлого он ценил. Но чаще всего за столом царило гробовое молчание, нарушаемое лишь иногда, если кто-то заговаривал о прогнозе погоды или отец с сыном обсуждали сравнительные достоинства различных батарей для радио.
Пока мои новые родственники уплетали обед, я разглядывала их, пытаясь понять суть той особой тоски, которая переполняла этого мрачного типа, моего дедушку, – в семейных преданиях он представал неотразимым плейбоем. Я ни разу не слышала его смеха, а улыбался он редко, устало и как-то равнодушно. Но эта меланхолия, как я поняла потом, не имела ничего общего с какими-либо неудачами – оставив игру, он ни к чему не стремился настолько сильно, чтобы потерпеть неудачу. Его печаль проистекала от того, что в жизни его не было никаких желаний. Больше всего меня удивляло в нем отсутствие честолюбия и гордости, которыми так полны были другие наши родственники: дядя Саша, моя мать, даже бабушка с тетей Сандрой. Все эти устремления ему казались такой же ерундой, как религия или женские слезы; и потому я даже в своем нежном возрасте сочла его изменником нашей семье.
Но после ужина дедушка слегка оживлялся – так как он ел очень быстро, из-за стола мы вставали в начале седьмого. Он садился в свое кресло, жевал зубочистку и отдавался единственному занятию, которое всё еще вызывало проблеск интереса у него во взгляде – слушал радио.
– Говорит Ганс Кальтенборн![82] – раздавался голос, и дедушка нежно поворачивал ручки любимого приемника. – Президент Рузвельт приказал военному производству перейти на круглосуточные смены… Есть сведения, что король Румынии Кароль с Магдой Лупеску находятся в Чили… Тысячи островитян покинули Крит…
Содержание речей, доносящихся из деревянного ящика, мало значило для деда. Важно было чудо, работа тонких механизмов радио, победа над временем и пространством. Он возился с ручками, добивался наивысшей чистоты звучания, искал всё новые и новые станции и восхищенно прицокивал языком, повторяя:
– Фан-тас-ти-ка, фан-тас-ти-ка, на что только способно радио!
Он слушал приемник до девяти часов, окруженный домочадцами – Жика возился с очередным техническим экспериментом, Зина с матерью штопали, я слушала радиоспектакли вместе с дедушкой, продолжая тем самым изучать английский. Насладившись “Жертвами развода” и “Дорогой жизни”, дедушка, прежде чем отправиться в постель, неизменно возвещал на прощание, что осталось всего два, три или четыре дня до “Часа Майора Боуса”. Эта передача была кульминацией недели и немного возвращала его к жизни.
“Час Майора Боуса” шел по радио по субботам в восемь вечера. В этой передаче выступали непрофессиональные исполнители, чью возможность продемонстрировать свои таланты публике определяло вращение огромного колеса Фортуны, установленного в нью-йоркском офисе радиостанции. Сотни любителей со своими дрессированными собаками, говорящими попугаями, ксилофонами и электрогитарами сидели в огромном зале, каждый со своим билетом. В гигантском колесе, вращавшемся на бешеной скорости, перемешивались такие же билеты, и колесо случайным образом определяло, кто из присутствующих получит шанс оставить след в истории. За полчаса до начала передачи дедушка принимался нетерпеливо мерять комнату шагами. За несколько минут до начала он садился перед приемником, чтобы ровно в 20:00 спеть лейтмотив передачи: – Куда летит госпожа Удача, и где она остановится, никто не знает!
Он хрипло выкрикивал эти слова и яростно жестикулировал, будто приветствуя старое пламя, некогда освещавшее его жизнь. Этот крик всегда пугал меня, потому что это был единственный момент за всю неделю, когда дедушка оживлялся и повышал голос.
Начиналась передача. Следующий час дедушка пожевывал зубочистку, прикрыв глаза от наслаждения, слушая, как тройняшки из Небраски поют арию из “Богемы”, как мажоретки[83]исполняют “Янки Дудл”[84] ногами на барабанах или другие выступления. После каждого номера он удовлетворенно вздыхал, а пока колесо Фортуны вращалось, чтобы выбрать следующего участника, он громко повторял те же слова, которые, по-видимому, были его любимыми словами в английском языке:
– Сюда, госпожа Удача! Где остановишься ты, неизвестно! Колесо фортуны майора Боуса, как я поняла за время жизни в Рочестере, было для старого игрока единственным связующим звеном с его любимым отвергнутым пороком.
Изредка и только в те вечера, когда не передавали любимую программу, дедушка предлагал моему вниманию какой-либо монолог о своем прошлом в России. Эти монологи зачастую прерывались фразами на старомодном французском, которые он выучил еще в 1880-х годах на коленях у гувернантки, – языке настолько линялом и ветхом, что он скорее напоминал старые перчатки, что много лет хранятся в пыльном ящике. Один из этих монологов был произнесен в тот вечер, когда он застал меня за разглядыванием его фотографии в кадетской форме, и звучал примерно следующим образом:
– Смотри, cherepetite[85], смотри! Ты, небось, думаешь, я ли этот bon vivant[86], этот fripouille...[87]Вам с матерью, наверное, хотелось бы, чтобы я по-прежнему так выглядел, чтобы вас в Америке ждал какой-нибудь шикарный лорд… Мать твоя считает, что я живу скучно. Она честолюбива, и она красотка – это я сразу понял, как увидел ее на причале, mon Dieu comme elle me rappelle sa propre mère…[88] Не знаю, чего она хочет найти в Америке – успех, славу, деньги? К чему это всё? Одни беспокойства, одна ерунда! Я здесь ищу равенства, чтобы не было этой вашей европейской чепухи – титулов, belles manières[89], героизма вашего, войн… Я здесь люблю демократию! У всех шансы равны, майор Боус!
Он снова закусил зубочистку и сплюнул в камин. И так двойной образ моего деда – праздный Адонис на фотографии, вялый стареющий эгалитарист у камина – заставил меня уверовать на всю жизнь: леность – это самый страшный изо всех грехов.
В следующие годы мама с Алексом не раз отправляли меня жить к кому-нибудь на диван, но из всех этих временных пристанищ дом Джексонов был самым худшим. Они два раза в неделю звонили мне из Нью-Йорка. Но самые нежные слова не могли утешить меня по ночам – именно тогда началась бессонница, которая преследует меня всю жизнь. Не успев положить голову на подушку, я заливалась слезами. Почему, почему они отослали меня? Я бы была тихой, как тень, я бы ничего не ела и двигалась бы неслышно, пусть только они заберут меня обратно… Кроме того, груз тайной тревоги за отца становился тяжелее день ото дня. Я по-прежнему ни с кем не могла об этом поговорить. Если бы он только подал мне знак, что жив! Я обещала ему и себе быть терпеливой, но сколько же может длиться тайная миссия? Разве нельзя сделать перерыв и на два дня отправиться, например, на Мальту, пойти на почту и написать мне письмо? Он не знал нашего адреса в Штатах, но мог бы связаться с нами через Дессоффи, они не съехали из своего дома на территории Виши, мама поддерживала с ними связь, папа мог бы найти меня через них…
Наконец, в конце марта меня забрали в Нью-Йорк. На меня повесили ярлык и отправили, как посылку, под присмотром общества помощи путешественникам, которое специализировалось на сопровождении детей, едущих в одиночку. Мама с Алексом ждали меня у поезда на Центральном вокзале и приветственно размахивали большой плюшевой пандой. Я думала, что мы с мамой и Алексом поедем к ним в гостиницу, но этого снова не произошло. В мае они собирались переехать в новую квартиру к югу от Центрального парка, но пока что “не устроились” и не могли меня забрать, потому что привыкали к своим новым работам. Меня поселили в районе Гринвич-Вилладж у их друзей, Джастина и Патриции Грин, которые отвели мне отдельную комнату и специально ее отделали, а также отдали меня в замечательную школу. Мама сказала, что Пат Грин поможет мне освоиться в школе и будет помогать с уроками – она, мама, этого всего не умеет.
Хотя я поначалу и расстроилась, что не буду жить с мамой и Алексом, меня заинтриговала перспектива наконец-то пойти в школу и ужасно обрадовала мысль о собственной комнате. Кроме того, Джастин Грин, высокий блондин, психиатр, часто навещал маму до войны, когда был интерном в парижской больнице, и я хорошо знала и любила его. Поэтому, переночевав на раскладушке в мамином гостиничном номере, я с нетерпением отправилась с Гринами в свой новый дом. На этот раз мама поступила как нельзя более мудро. Я вспоминаю о жизни у Гринов как о счастливейшем периоде детства. Пат Грин оказалась мягкой, добросердечной и веселой – ей было двадцать шесть лет, и родилась она в Солт-Лейк-Сити. Дружелюбный и энергичный Джастин, кроме родного языка, свободно говорил по-французски и помогал нам, когда мой слабый английский и заржавевший французский Патриции не справлялись. Грины поженились годом раньше и недавно перехали в прелестный дом из бурого камня на Одиннадцатой улице. Они были так добры ко мне, и в их доме царила такая счастливая и безмятежная атмосфера, что десять лет спустя, когда я закончила колледж и искала себе квартиру, мне хотелось поселиться в том же районе. Хотя к этому времени они уже переехали на север города и воспитывали там множество детей, я провела два восхитительных года в сырой полуподвальной комнатушке неподалеку от бывшего дома Гринов и каждый раз, проходя мимо их бывшего жилища, заново испытывала прежнее счастье.
Моя комната располагалась на втором этаже и выходила окнами в тихий сад. К моему приезду Грины покрасили стены и кровать в небесно-голубой цвет. Ночные рыдания, терзавшие меня в Рочестере, сошли на нет. Скоро я поняла, что если и решусь заговорить с кем-то о папе, то смогу пойти только к Гринам. Кроме того, моя тревога прошла во многом еще и потому, что я была занята школьными занятиями. Пат Грин устроила меня в школу Спенс на Девяносто первой улице, которую когда-то закончила сама. Каждое утро мой будильник звонил в половине восьмого, а без десяти восемь я уже уплетала завтрак, который мне приготовила сонная Патриция в ночной рубашке – они с мужем были совами и с трудом поднимались по утрам. Сам Джастин едва успевал одеться к восьми часам, когда нам уже пора было запрыгнуть к нему в автомобиль и помчаться в школу, тщетно пытаясь успеть на линейку к 8:20. Несмотря на хаос, царивший по утрам, нам всем нравилась эта суматоха, и я просыпалась с радостью – не терпелось окунуться в теплую атмосферу, которой меня с первого же дня в школе окружили одноклассники и учителя.
В марте 1941 года я была первой и единственной беженкой в Спенсе и по-прежнему почти не говорила по-английски – в Рочестере я выучила только фразы из радиоспектаклей. Но незнание английского мне практически не мешало – в высшем обществе Нью-Йорка в 1941 году царила франкофилия. Больше половины девочек в моем классе выросли с французскими гувернантками. Они с восторгом демонстрировали свои познания в моем языке, соревновались передо мной в произношении и гордо знакомили меня с матерями, многие из которых тоже свободно говорили по-французски. Меня ублажали, за мое внимание сражались, и я стала всеобщим талисманом – когда я навещала одноклассниц, их матери украшали кексы и печенья французскими флажками, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Кроме того, раньше я училась дома и теперь с интересом наблюдала за подчас непростой семейной жизнью моих соучеников. Например, в моем классе училась Корнелия, чей дядя, актер Монти Вулли[90], устроил церемонию обмена кольцами со своим бойфрендом и научил их пуделя ходить на задних лапах и подавать им кольца. Или жизнерадостная и прямолинейная Одри, дочь греко-американского предпринимателя, – она наградила меня прозвищем, которое прилипло ко мне на годы учебы: Никки (поначалу она ласково звала меня на греческий манер Франсиникки). Или смешливая Джулия с белокурой шевелюрой и буйным, порой несколько истерическим смехом: семья у нее была религиозная и невероятно чопорная. Джулия совершенно потрясла меня, поведав, что она занималась сексом со старшим братом. “Было здорово”, – сообщила она и по обыкновению расхохоталась, после чего провела рукой по рту, как будто утираясь, – выглядело это довольно вульгарно. Возможно, рассказ об инцесте имел под собой основания: в подростковом возрасте Джулия оказалась подвержена нервным срывам.
Патриция Грин училась в художественной школе Лиги студентов-художников Нью-Йорка, поэтому наняла мадам Гаспамон, тучную, медлительную эльзаску, которая каждый день забирала меня из школы. Видимо, я пристрастилась к урокам физкультуры, потому что мне ужасно нравилось убегать от бедной мадам, прятаться за углом и потом выскакивать на нее с оглушительным воплем. Патриция впоследствии вспоминала, что я была крепкой веселой девочкой, которая никогда не жаловалась и так хорошо умела скрывать свои чувства, что это их даже беспокоило. Она возвращалась домой вскоре после нас с мадам и помогала мне готовить уроки. Во второй половине дня мы играли в домино, карты или в любимую мной игру, которую придумала для меня Пат: мы садились у окна гостиной, которое выходило на Одиннадцатую улицу, и клали перед собой на поднос гору спичек. Я забирала себе одну спичку за каждого проходящего мимо мужчину, Пат – за женщину, и угадайте, кто выигрывал?
А потом наступал вечер. Особенно веселыми были вечера, когда Грины принимали гостей, что случалось нередко. Меня тогда впервые стали приглашать к столу на взрослых вечерах. Бледно-зеленую столовую, выходившую окнами на сад, мягко освещали свечи, на столе красовались семейное серебро, фарфор и восхитительные лакомства, звучала оживленная, изысканная беседа. На много лет спокойная счастливая жизнь Гринов на лучшей, как мне казалось, улице в Нью-Йорке стала для меня образцом идеальной жизни.
Как же мама с Алексом пережили первые месяцы нашей жизни в Америке? Раз в несколько недель они приходили на ужин к Гринам или водили меня пить чай. Во время этих свиданий мама смотрела на меня с любовью и тревогой – видимо, она понимала, как нелегко ей было бы со мной жить. Кроме того, без меня они с Алексом процветали.
Глава 13 Вестник общества, моды и церемониалов
Маме было куда проще найти работу в Америке, чем Алексу. Связи – всё в жизни зависело от связей! Через три дня после прибытия в Нью-Йорк у них состоялось многообещающее знакомство с Хелен Хоге, женой нью-йоркского врача; она работала в универмаге Генри Бендела и уговаривала знакомых шить у него наряды. Хелен оказалась страстной франкофилкой, немедленно прониклась к Татьяне симпатией и устроила ее к Бенделу шить шляпки за 75 долларов в неделю. В песнях Коула Портера[91] в то время говорилось: “Ты красотка в шляпке от Бендела” – то есть этот магазин был по-настоящему знаменит своими головными уборами. В контракте с Бенделом говорилось, что Татьяна будет работать под именем графини дю Плесси – на волне любви ко всему европейскому, захлестнувшей Нью-Йорк с началом Второй мировой войны, знаменитости в мире моды и косметики часто брали себе экзотические титулы. Вспомним хотя бы рубашки и галстуки “графини” Мары[92], косметику “графини” Александры де Маркофф и “княгини” Елены Рубинштейн. Мама радовалась тому, что зарабатывает 300 долларов в месяц, хотя даже с дополнительными 200 долларов от Симона Либермана пара едва сводила концы с концами.
Алексу было куда тяжелее найти работу в журнальном деле. Он понимал, что должен зарабатывать, чтобы обеспечить Татьяну необходимой ей роскошью. Но вместе с тем его родителям предстояло смириться с тем, что сын не будет полностью отдаваться творчеству. Симон и Генриетта воображали, что их сын, переехав в Нью-Йорк, займется наконец живописью – как они мечтали с его школьных лет. В конце концов, он занимался этим с середины 1930-х годов, когда ушел из журнала Vu. Может показаться странным, что Либерманы так мечтали, чтобы их сын посвятил себя искусству, – среди буржуазии богему скорее принято осуждать. Однако, как мы уже знаем, Генриетта с малолетства поощряла в сыне художественные наклонности. За прошедшие годы она полностью убедила Симона, что в этом и состоит подлинное призвание их сына, и содержание, которое Симон положил Алексу по приезду в Нью-Йорк, явно было призвано побудить его вернуться к творчеству. Однако Алекс считал, что ему выдается очень скромная сумма – особенно по сравнению с тем, как жили его родители: апартаменты на Пятой авеню, меха и драгоценности Генриетты. Если не брать в расчет, что отец недавно потерял много денег из-за неудачного вложения, – возможно ли, что скудные финансовые вливания также были призваны разлучить его с Татьяной? Вскоре Алекс понял, что ему надо обрести независимость.
Чтобы успокоить родителей, первые недели в Нью-Йорке он скрывал свои истинные намерения: купил себе мольберт, краски и разложил их в своей крохотной квартирке к югу от Центрального парка, из окон которой открывался великолепный вид. Затем Алекс пригласил отца позировать ему для портрета, чтобы немного усыпить его подозрения. Но пока он писал отцовский портрет (я много лет прожила с этим портретом – в натуральную величину, в крайне реалистичной манере), в голове его роились различные мысли и планы. Разумеется, заработать на жизнь картинами было невозможно, при этом прежде всего надо было удовлетворить потребности Татьяны, которые, кстати, вполне совпадали с его собственными желаниями.
Поэтому Алекс принялся потихоньку подыскивать себе работу. Ирен Лидова снабдила его рекомендательным письмом к Алексею Бродовичу, знаменитому художественному редактору журнала Harper's Bazaar. Бродович, бывший белогвардеец, офицер кавалерии, исповедовал революционный подход к дизайну, вдохновленный русским авангардом, представители которого эмигрировали в Париж после 1918 года. Кроме того, Бродович был прекрасным учителем. Он прославился тем, что нанимал самых талантливых фотографов Европы и Америки и предоставлял им свободу творчества на страницах журнала, знаменитого своими оригинальными и стильными шрифтами и версткой. Бродович пригласил Алекса нарисовать эскизы страниц, посвященных женской обуви. Алекс принес ему макеты, на которых туфли были нарисованы рядом с женскими лицами – как он сам говорил много лет спустя, макеты были ужасны. Бродович, разумеется, отказал ему, и до конца жизни мужчины не сказали друг другу ни слова, а при редких встречах холодно раскланивались. (Бродович исповедовал отшельнический образ жизни и редко появлялся в светском обществе, где Алекс строил свою карьеру.)
Но через несколько недель после приезда Алекс услышал, что его старый друг и бывший начальник в Vu, Люсьен Вожель, тоже недавно перебрался в Нью-Йорк. Теперь он работал помощником Конде Наста, могущественного основателя и главы одноименного издательского дома. Вожель еще до войны дружил и сотрудничал с Настом. (Наст купил журнал Вожеля “Сады мира” и издавал его вместе с другими: House and Garden, Glamour; Vogue – последний выходил уже на нескольких языках.) Алекс знал, что Вожель может хорошо отрекомендовать его самому видному издателю глянцевых журналов во всей Америке. Он пригласил Вожеля на обед, и 28 января Вожель написал Насту нижеследующее письмо, которое дает интересное представление о том, в каком свете Алекс с мамой выставляли в Нью-Йорке свои отношения. (Многочисленные ошибки – свидетельство знаменитой рассеянности Вожеля.)
Дорогой Конде,
Александр Либирманн (sic!) был одним из лучших моих коллег. Он много лет занимался дизайном и макетами Vu.
Он только что переехал в Нью-Йорк, и я решил дать вам знать. Это молодой талантливый художник с превосходным вкусом и хорошим образованием.
Александр Либерманн учился в самой аристократичной французской школе – Рош. Он свободно говорит по-английски и по-французски.
Он приехал в Америку с мадам дю Плисси (sic!), племянницей художника Яковлева, моего большого друга. Мадам дю Плисси потеряла мужа при падении Франции. Он был офицером воздушных войск, и его сбили испанцы над Гибралтаром, когда он напрвлялся в армию де Голля.
Мадам дю Плисси уже несколько лет жила отдельно от мужа. Она – талантливый шляпной дизайнер. На третий день в Нью-Йорке она устроилась модисткой к Бенделу.
Возможно, вам будет интересно познакомиться с Александром Либирманном. Он планирует вернуться в издательское дело либо заняться оформлением витрин – в этом отношении он также весьма одарен.
Сердечно ваш,
Люсьен Вожель
Алекс не питал иллюзий насчет этого письма. Как может краткий период в кресле художественного редактора Vu поразить самого Конде Наста? В ожидании ответа издателя Алекс с мамой отправились на ужин, где Алекс обновил знакомство с еще одним русским эмигрантом, Иваном Сергеевичем Войдато-Пацевичем, сокращенно – Патом. Пат был человек невероятно обаятельный и чрезвычайно одаренный в финансовых вопросах – он уже больше десяти лет служил у Наста консультантом в этой области и единолично спас компанию после Депрессии. Вплоть до 1940 года Пацевич жил в Париже, и они с Алексом уже были мимолетно знакомы. Пацевич тут же сказал, что Алекс должен работать у них в издательстве, и пообещал устроить интервью с легендарным художественным редактором всех трех журналов Condé Nast – Мехмедом Агой.
Доктор Ага (он настаивал, чтобы его называли только так) прославился в издательском доме как Ужасный Турок. Еще один русский эмигрант, Ага был высок ростом и носил монокль. Ранее он учился в Баухаусе и в 1929 году приехал в Америку к Насту, чтобы осовременить его журналы. С тех пор доктора Агу так же глубоко уважали за авангардные взгляды, как и страшились его острого языка и взрывного характера. Фрэнк Крауниншилд, редактор городского отдела Vanity Fair; жаловался, что Ага так раздулся от важности, что в здании надо отвести отдельный этаж, чтобы он не торчал из окон, не прорастал сквозь крышу и не забивал шахты лифтов. Кармель Сноу, редактор Vogue до 1932 года, терпеть не могла Агу – возможно, из-за этой неприязни Vogue потерпел неудачу в состязании со своим главным соперником, Harper's Bazaar. Таков был удивительный человек, Ужасный Турок, который по рекомендации Пацевича принял Алекса у себя в кабинете и презрительно велел ему в следующий понедельник явиться на работу в художественный отдел.
В первый рабочий день Алекс получил задание – сделать макет разворота с модными иллюстрациями. Он потратил на это большую часть недели, и в пятницу его вызвали в кабинет к Are. Тот указал на несколько ошибок в макете и коротко сообщил, что он “недостаточно хорош для Vogue”. Алекс в отчаянии забрал свой скудный недельный зарабаток и поплелся в гостиницу. Найти работу в Штатах оказалось еще труднее, чем он думал. Но в конце дня ему позвонили из приемной самого Наста. Видимо, Пацевич уговорил начальника принять Алекса лично, и секретарь Наста велел Алексу явиться в приемную в понедельник.
Алекса встретил маленький, лысеющий, болезненно застенчивый мужчина с крохотными глазками за пенсне без оправы – в шестидесятилетием Конде Насте, как острила одна из его любовниц, жизни было не больше, чем в лосином чучеле. Однако, несмотря на очевидный недостаток обаяния, революционные взгляды Наста оказали на журналистику не меньше влияния, чем политика его главного соперника, Уильяма Рэндольфа Хёрста. Карьера Наста началась на рубеже веков – в то время он занимался рекламой в еженедельнике Collier's Weekly, и при нем количество подписчиков выросло с двадцати тысяч до полумиллиона. Когда он в 1909 году ушел из Collier, чтобы строить собственную империю, то в первую очередь купил журнал Vogue. Этот журнал был основан пятнадцатью годами раньше при поддержке Корнелиуса Вандербильта и других состоятельных людей и позиционировался как “вестник общества, моды и церемониалов”. Тридцать лет спустя, когда они познакомились с Алексом, Наст уже стоял во главе издательской империи, сравниться с которой могла только империя Хёрста.
Конде Наст принял Алекса в своем огромном кабинете на Лексингтон-авеню очень учтиво; Алекс сообразил, что Конде и понятия не имеет о том, что Ага уже успел его уволить, едва наняв. Они обсуждали работу Алекса в Vu, падение Франции, французский издательский мир. Через полчаса приятной беседы Алекс показал Насту золотую медаль, которую получил в 1930-х за журнальный дизайн, на что Конде заметил:
– Такой человек, как вы, должен работать в Vogue!
Он попросил позвать Агу и велел ему принять Алекса в художественный отдел журнала.
– Хорошо, мистер Наст, – ответил Ага.
“Доктор Ага так ничего и не рассказал, я так ничего и не рассказал, – и началась моя работа в Vogue! – вспоминал потом Алекс. В течение одной недели его наняли, уволили и наняли снова. Итак, в феврале 1941 года он начал работать в Vogue за 150 долларов в месяц – то есть за половину той суммы, которую Татьяна получала у Бендела. Он трудился в отделе верстки на девятнадцатом этаже небоскреба “Грейбар” – в комнате кроме него сидели еще шестеро дизайнеров, все старше его по званию. Алекс еще два года проработал в одном отделе с доктором Агой. Они поддерживали вежливые, но холодные отношения и никогда ни словом не упоминали их встречу до вмешательства Наста.
Несмотря на недостаток социальных навыков, Наст был превосходным знатоком людей, и еще одним секретом его успеха было умение выбирать редакторов. В 1914-м он назначил главным редактором Эдну Вулман Чейз, и она, как королева Виктория глянцевой журналистики XX века, правила вплоть до окончания Второй мировой войны. Эта миниатюрная чопорная женщина с железной волей и пуританскими привычками, воспитанная квакерами, начинала в журнале восемнадцатилетней секретаршей; ее чутье безошибочно подсказывало, чего хотят самые богатые читатели. Под ее началом отчеты о парижской моде перемежались с известиями о смертях, рождениях, свадьбах и выходах в свет. Вплоть до 1940-х годов в журнале был даже раздел о домашних любимцах аристократов. Большинство редакторов тоже были женщины – все благородного происхождения и на крохотном жалованье (среди них была Барбара Кушинг Мортимер, впоследствии светская львица и икона стиля, известная как Бейб Пейли, и будущая конгрессмен Нью-Джерси Миллисент Фенвик). И все они с готовностью покорялись строгому кодексу правил миссис Чейз, согласно которому все редакторы должны были на рабочем месте носить шляпки и белые перчатки и никогда, даже в самый жаркий день, не надевать открытые туфли.
В основном благодаря быстро установившимся отношениям с главными движущими силами Vogue – Конде Настом и Эдной Чейз – Алекс быстро двигался вверх по должностям художественного отдела. Он очаровал их своей по-британски сдержанной сердечной манерой, которой научился в частной школе, – американцам это казалось очень “аристократичным”, а он мог включать и выключать эту манеру по желанию.
– У него был потрясающий талант цепляться за власть, он сразу же стал любимчиком миссис Чейз, – вспоминала бывший редактор отдела путешествий Деспина Мессинези, которая пришла в журнал годом позже – недавно она скончалась в возрасте девяноста трех лет. – Помню, летом он работал без пиджака – единственный на целом этаже, кому миссис Чейз позволяла снимать пиджак!
Алекс произвел впечатление и на Наста, потому что пришел к нему из французской журналистики, а издатель понимал, что журналу пора начинать влиять на мировую культуру, если они хотят победить главного соперника, Harper's Bazaar. Поэтому Алекса, работавшего в своей комнате на девятнадцатом этаже, часто приглашали выбирать обложку журнала вместе с миссис Чейз, Агой и другими членами руководства. Наст спрашивал Алекса, какая фотография ему больше нравится, и, услышав мнение младшего сотрудника, неизменно отвечал: “Я тоже ее выбрал”. После чего эта фотография шла в печать.
Более того, через несколько недель после прихода Алекса, обложку украсил его собственный макет. У журнала тогда не было постоянного логотипа. Для номера, выходящего 15 мая, редакторы выбрали фотографию Хорста П. Хорста, на которой девушка в купальнике лежа удерживала ступнями красный пляжный мяч. Алекс придумал, что мяч может заменять букву Ό” в слове Vogue. Сейчас такой дизайн может смотреться плоско и безвкусно, но в 1941 году Фрэнк Крауниншилд, редактор отдела культуры, чей журнал Vanity Fair в 1936 году стал частью империи Vogue, был потрясен этой идеей. Он похвалил Алекса, после чего заглянул к Насту и сказал, что в художественном отделе появился новый “гений”. Так Алекс стал автором обложки, и благодаря этому его позиции в иерархии отдела укрепились. И у него появился новый друг, Фрэнк Крауниншилд по прозвищу Крауни, который часто приглашал его обедать в самые недоступные клубы Нью-Йорка вроде “Никербокера” и рассказывал, кто есть кто на социальной и культурной сцене города.
Как ни странно, блестящий дебют в Vogue не порадовал родителей Алекса. Через несколько месяцев Симон Либерман (скорее всего, по наущению Генриетты, которая главным образом и видела Алекса великим художником) объявил, что больше не будет выдавать сыну прежние 200 долларов. Это сопровождалось выражением недовольства в адрес новой работы Алекса. (Следующие тридцать пять лет его мать постоянно была недовольна: “Ты убьешь себя в этом журнале”.) В конце весны 1941 года Алекс написал отцу следующее встревоженное письмо:
Мой родной,
Только что получил твое письмо. Жаль, что ты так обо мне переживаешь – не так уж плохо я выгляжу. К сожалению, последние три дня я болел ларингитом и совсем не мог говорить. Теперь всё это переросло в синусит и ужасно меня мучает. Кстати, о мучениях и работе – я не согласен с вами с мамой. Мы живем в такие непростые времена, когда надо радоваться любой работе; мне важно трудиться над чем-то определенным, быть частью большой организации – лишь бы преуспеть. Тогда я смогу снова начать рисовать и заживу по-другому. Поверь мне, причина 80 % моей усталости – не Condé Nast, а проблемы с деньгами. Мне тяжело об этом говорить, но я очень нуждаюсь в чувстве защищенности. Когда я начал работать у Наста, а ты всё еще поддерживал меня, я чувствовал себя “свободным”, независимым и не тревожился, нравится ли моя работа начальству. Но когда ты прекратил поддерживать меня, я стал ощущать, что каждый макет в журнале – вопрос жизни и смерти, по ночам уже не спал и страшился грядущего дня.
Это одна сторона моих страхов, другая же менее серьезна и относится к нынешнему положению наших дел. Мы едва выживаем на 600 долларов в месяц – нам надо отдавать долги, покупать одежду, устраиваться… <…> Это ставит меня в ужасное положение. Я хотел было продать что-нибудь, но нечего. У Татьяны тоже ничего не осталось.
Мне кажется, когда у тебя всего один сын, который меньше всего на свете хочет причинить тебе беспокойство, 100 долларов в месяц на поддержку его семьи – это не так уж сложно. Мне также кажется, что тебя не должно волновать, ЧТО именно я делаю с этими деньгами – работаю ли у Конде Наста или рисую. Я здоров умом и телом, молод, я еще многое создам.
Родной, знаю, в последнее время тебе пришлось нелегко… но почему мы должны страдать? Мы с Т. работаем, чтобы не висеть у тебя на шее. Представь, что бы было, если бы мы зависели от тебя, и тебе пришлось бы содержать нас. Сейчас я прошу тебя дать мне взаймы 500–600 долларов. Смотри на это как на заем, и в следующие полгода я ничего у тебя не попрошу. Будет как если бы ты давал мне 100 долларов в месяц. <…>
Прости отчаянный тон этого письма, но так мы лучше поймем друг друга. У нас с Т. были сбережения, но каждый раз, когда Т. или Ф. идут к доктору, это удар по нашему бюджету. У меня нет ни пальто, ни ботинок. Мне надо платить адвокату и врачам. Я даже мольберт новый себе не могу купить.
Впрочем, довольно! Следующую неделю я не работаю по болезни. На выходных я рисую, Татьяна работает, Франсин ходит в школу.
Целую тебя нежно и молю Господа, чтобы ты понял меня и не усложнял всё, когда жизнь может быть такой простой.
Твой,
Шура
Стоит ли говорить, что следующие несколько лет Симон и Генриетта не переставали шантажировать сына и давить на него, что не раз приводило Алекса к тяжелым приступам язвенной болезни.
В июне 1941 года, через несколько дней после начала летних каникул, меня отправили обратно к маме – Патриция Грин уезжала в Солт-Лейк-Сити навестить семью, а Джастин должен был присоединиться к ней через несколько недель. После бурной школьной жизни и домашних развлечений мамина квартирка казалась мне пустой и мрачной. Окна ее выходили на площадь Колумба, а на доме напротив на неоновом экране печатали последние новости. Мама устроила в тесном холле столовую и поставила туда стеклянно-металлический гарнитур, состоящий из стола и стульев, который купила в отделе садовой мебели дешевого универмага Macy’s. (Этот гарнитур, стоивший когда-то 35 долларов, по сей день стоит в загородном доме моего сына.) Большую часть маленькой гостиной занимали подарок маминой подруги Ирены Уайли – широкий глубокий диван, обитый бежевым дамастом, являвшийся маминой постелью, а также пианино. (“Как можно развлекаться без пианино?”) Соседняя с гостиной комнатка служила мне спальней – там стояла двуспальная кровать, покрытая пледом с узором из бежевых листьев, который я невзлюбила. Вся квартира была покрашена ослепительно-белой краской, что создавало в ней атмосферу торжественности и стерильности.
Когда мама по утрам уходила на работу, за мной присматривала высокая добродушная негритянка по имени Салли Робинсон, наша домработница. Не прошло и дня после моего возвращения к маме, как я уже стала гадать – что мы с Салли будем делать целыми днями напролет? Я тут же села читать “Унесенных ветром”. Я прожила в Америке всего несколько месяцев и читала по-английски куда медленнее, чем по-французски, – помню, что садилась за книгу в 10 утра, когда мама уходила на работу, и читала до ее возвращения в 6 вечера, прерываясь лишь в полдень, чтобы, повинуясь Салли, сжевать бутерброд. Когда мама с Алексом ходили куда-нибудь по вечерам (четыре вечера из пяти), мы с Салли отправлялись в кино или играли в домино – это была единственная игра, которой мне удалось ее обучить. Или я просто сидела у окна и читала международные новости на неоновом экране, опоясывающем верхушку старого здания “Дженерал моторе”.
В какой-то момент я поняла, что наступила своего рода годовщина – последний раз я видела отца год назад. Даже когда я читала или болтала с Салли, то одним глазом поглядывала на новости на верхушке самого высокого здания площади Колумба: “Германия вторглась в СССР… Муссолини объявил, что оккупирует Грецию… Антивишистские восстания в Сирии”. Сирия – это страна, где папа служил зимой 1939–1940 года, он хорошо знает Сирию, может быть, он до сих пор там! Может быть, он пробудет там всю войну; его долг перед союзниками важнее, чем отцовский; надо набраться терпения. Он может скрываться четыре года, пять лет, десять лет! Или может вернуться в любой момент – возьмет увольнительную на один день, и мы проведем его вместе… Телефон зазвонит, когда я буду сидеть дома и читать заголовки на доме напротив (“Финляндия объявила войну СССР!”), папа назначит мне тайную встречу – на берегу одного из озер Центрального парка или у картины Вермеера в Музее Метрополитен. Он на один день сменит форму на потертый костюм, будет выглядеть худым и изможденным…
Мы проговорим больше часа, держась за руки, обсуждая совместное будущее, как мы будем счастливы в нашем домике на юге Франции, когда война закончится… Мне довольно будет нашей короткой встречи, я смирюсь с мыслью, что, обняв меня напоследок, он в тот же день улетит обратно…
– Мисс, опять вы задумались! – одергивала меня Салли, когда я снова проигрывала ей в домино. – Да что на вас нашло, опять вы ворон считаете!
Вздрогнув, я приходила в себя, твердо вознамерившись хранить молчание – священное молчание, которое спасет моего отца.
Веселее проходили те редкие вечера, когда мама с Алексом не бывали куда-нибудь приглашены – они водили меня ужинать в кафе, поскольку оба терпеть не могли домоседства. В такие дни я ликовала, потому что мы неизменно шли в “Автомат”[93] – великолепный “Автомат” на Пятьдесят седьмой улице между Шестой и Седьмой авеню, любимое место в Нью-Йорке после дома Гринов. Мы покидали нашу унылую квартирку и рука об руку шагали по Седьмой авеню, в кои-то веки исполняя роль Маленькой Любящей Семьи. Памятуя голод, который терзал нас еще несколько месяцев назад, мы неизменно устраивались за столом в середине зала, чтобы лучше видеть еду – заливные, салаты, стеклянные пиалы с крем-супом из брокколи и яблочным кобблером[94], кокетливые пирожки с курятиной, украшенные изумрудами горошинок. Наши монеты со звоном падали в скважину автомата, стеклянные дверцы приоткрывались, жужжа, и являли нам свои сокровища. Не помню, что мы ели на горячее, помню только супы и десерты: куриную лапшу, яблочные и вишневые пироги, и особенно – кокосовые кексы с клейкой белой глазурью, которую я тщательно слизывала, после чего отказывалась есть сам кекс. Помню, что иногда к нам присоединялись знакомые – например Ивонна Альберти, дама с повадками старой девы, мамина любимица и кузина Ирены Уайли. Ивонна уже немолодой вышла замуж за испанского жокея по имени Манола, который мог заставить лошадь подниматься по лестнице и, по слухам, был жиголо. Но чаще всего мы ужинали втроем и нежно улыбались друг другу.
– Смотри, бубусь, как она ест, – говорила мама Алексу.
И они с гордостью и радостью улыбались друг другу, восхищаясь своим счастливым здоровым ребенком в прекрасном новом мире.
Я уже несколько недель как приехала от Гринов и тосковала дома, развлекаясь только очередными приключениями Скарлетт О’Хара, когда состоялось весьма драматичное появление Гитты Серени, восемнадцатилетней венгерки, которая жила с нами в Вилландри. Маму всегда окружали нуждающиеся в помощи, и теперь она пригласила Гитту жить с нами, а взамен – помогать Салли с готовкой и уборкой. Несколько месяцев Гитта, которая недавно тайно преодолела Пиренеи, чтобы попасть в Испанию, а оттуда автостопом добралась до Лиссабона, обладала в маминых глазах ореолом святости. (“Она героиня!”) В свои восемнадцать Гитта была не по годам пышной брюнеткой с горящими глазами, звонким смехом и неровными белоснежными зубами. Характер у нее был необычайно решительный, она говорила на четырех языках и больше всего любила вмешиваться в жизни окружающих. Помимо этого, она считала своим долгом спасать детей – помогать им, воспитывать, опекать; много лет спустя, будучи уже знаменитой журналисткой, она исследовала судьбу детей в концентрационных лагерях. В июне 1941 года она решила, что я нуждаюсь в ее участии. В Вилландри она мне нравилась, а теперь, когда мы поселились в одной комнате, я стала видеть в ней старшую сестру – сильную, умную и обладающую неким сокровенным тайным знанием, которое так манит в десять лет.
– Как жаль, я так хорошо пахну – и не замужем, – говорила она мне, лежа в ванной с пеной и наблюдая за моей реакцией, чтобы понять, что я знаю о жизни.
Тем летом мы с Гиттой ходили в кино, в планетарий, паноптикум и зоопарк. В жаркие дни выезжали на пляж, и она помогала мне совершенствовать технику плавания, которой Алекс обучил меня прошлым летом. Когда по вечерам мы оставались дома – мама с Алексом стали уходить чаще прежнего, – я читала ей вслух “Унесенных ветром”, мы играли в кункен[95] или готовились к очередной маминой вечеринке.
В июне 1941 года Татьяна уже начала устраивать свои знаменитые вечеринки. Как бы она ни ненавидела толпы, утверждая, что у нее начинаются панические атаки, больше всего на свете она боялась одиночества. Кроме того, она искренне не понимала, что значит “слишком много людей”, если все эти люди – ее гости. На ее приемах гостей и еды всегда бывало в избытке. Рецептом ее успеха (“la formule”, по ее собственному выражению) было пригласить как можно больше народу с 8:30 до 9 вечера – тогда они поужинают заранее и будут рассчитывать только на выпивку и сыр, а потом предоставить гостям свободно фланировать по квартире.
– Ну разумеется, – щебетала она в трубку перед каждой вечеринкой, – приводи всех кого захочешь!
На вечеринках мама с Алексом не притрагивались к алкоголю – Алексу нельзя было пить из-за язвы, а мама в то время была равнодушна к спиртному. Но даже в эти первые непростые месяцы (в письме родителям Алекс жаловался на бедность, но они знали о наших пышных приемах) шампанское и виски лились рекой, мы с Гиттой встречали гостей в лучших платьях, а Салли приплачивали за лишние часы работы.
В наши первые годы в Америке, 1941-м и 1942-м, мамины приемы посещала прозрачная белокурая красавица Клод Альфан, чей муж Эрве впоследствии стал французским послом в Вашингтоне. Мадам Альфан была ярой патриоткой и проповедницей освободительного движения. Она всегда приходила к нам с гитарой, и одна из песен в ее исполнении неизменно вызывала слезы у тоскующих по родине эмигрантов:
Я прощаюсь и ухожу, И меня ждет далекий путь По дорогам Франции, Франции и Наварры[96].Кроме мадам Альфан слух гостей услаждал франко-русский эмигрант Жорж де Свирски, сокращенно Зизи, громадный тяжело сопевший человек. Он когда-то дружил с дядей Сашей и знал маму с самого начала ее парижской жизни, а теперь подрабатывал дизайнером интерьеров. Как и многие русские, Жорж немного играл на пианино и развлекал нас музыкой за еду и выпивку. Он вызывал у меня особенный интерес, потому что уже двадцать лет жил сразу с двумя женщинами (этот союз длился еще много лет). Это были сестры – тоненькая жеманная блондинка Му и остроумная брюнетка Фолетт с губами сердечком. По сравнению с этой троицей прочие эмигрантские дома в Нью-Йорке выглядели весьма уныло.
– Это счастливейшая семья! – неизменно восклицала мама, когда в обществе речь заходила о Зизи. – Девушки с ним по очереди, и все совершенно довольны!
В репертуре Зизи было всего три номера в его собственных уникальных переложениях: “Иисусе, радость моя” Баха, марш из оперы Прокофьева “Любовь к трем апельсинам” и ария, исполнявшаяся в сцене коронации в “Борисе Годунове”. Он играл, низко склонившись над клавишами и тяжело дыша. Даже в десять лет мне было сложно сосредоточиться на музыке, которую Зизи заглушал своим свистящим дыханием, кроме того, он постоянно ошибался, потому что нечесаные седые волосы заслоняли ему клавиши. Но мама слушала своего друга как завороженная и благородно заявляла, что его переложение этих произведений не имеет равных.
Посещали нас и другие русские. В 1941-м нашим ближайшим другом в русской диаспоре была графиня Елена Шувалова – ее пьяница-муж Петр постоянно сидел без работы. Он был прямым потомком Шуваловых, которые много веков занимали видные государственные посты. У Елены были резкие черты лица, яркие синие глаза и белокурые волосы, завязанные в тугой узел; она содержала всю семью, управляя отделом готовых шляпок в универмаге Saks Fifth Avenue. В последующие годы мы очень сдружились с ее сыном Андрюшей, двумя годами младше меня. Был также Саша де Манзьярли, дипломат, наполовину русский, наполовину француз. Он потерял ногу в Первой мировой войне и служил в нью-йоркском представительстве французского освободительного движения. Нас навещала также и графиня Ада Моль, наполовину русская, наполовину немка – статная красавица с алебастровой кожей, ее белокурые волосы были уложены в высокую прическу наподобие гигантского пчелиного улья. Она обладала в наших глазах особой притягательностью, поскольку, по слухам, состояла в связи с Энтони Иденом[97], которого мы с мамой считали самым красивым мужчиной на свете.
В окружении этих людей, в атмосфере полнейшего хаоса – Саша де Манзьярли или Клод Альфан поют, вокруг толпятся эмигранты, с десяток гостей теснятся на диване – мама чувствовала себя в своей стихии. Она вечно сомневалась в своих талантах и даже в своей привлекательности, но знала наверняка – никто не мог принимать людей более умело, весело и экономно, чем она. Поэтому она сидела в углу – обычно на высоком стуле, чтобы продемонстрировать длинные стройные ноги и лучше видеть происходящее, – и светилась от удовольствия. Мне по сей день недостает той счастливой суеты в нашей убогой квартирке – шум, музыка, дым, звон бокалов, оживленные голоса и смех.
Надо пояснить, что для мамы вечеринки были не просто развлечением. Это был своего рода гражданский долг, проистекавший из древней русской традиции гостеприимства – как бы мало я ни имел, бог накажет меня, если я не разделю с другими свой кров и пищу.
“Многие богатые семьи оказываются полностью разорены своим же гостеприимством, таким же бессмысленным и разрушительным, как у Тимона Афинского в его грешные дни, – пишет в 1892 году Е. Ланин в своей чудесной книге “Русские характеристики”[98]. – Каждый русский, какое бы социальное положение он ни занимал, сколько бы ни зарабатывал… считает священным долгом развлекать своих друзей и родственников. <…> Многие спускают последние деньги на эти разрушительные увеселения. <…> Улицы оказываются заполонены нетерпеливыми кредиторами”.
Алекс совершенно не разделял маминой тяги к пышному гостеприимству и ее интереса к людям. Для него развлечения были исключительно способом подняться по карьерной лестнице. Он приглашал людей только двух категорий: либо это были коллеги из Condé Nast, которые могли поспособствовать его продвижению, либо его новые американские знакомые, к которым в экстренных случаях можно было обратиться за финансовой помощью. Особую ценность для Алекса представляла обеспеченная франко-американская пара, Беатрис и Фернан Леваль – они познакомились на обеде через несколько недель после нашего прибытия в Нью-Йорк. Беатрис, элегантная, утонченная дама из богатой еврейской семьи, училась во Франции, получила степень по истории искусств и коллекционировала французских импрессионистов. Фернан, наполовину швейцарец, наполовину француз, высокий нескладный мужчина с рыжей шевелюрой и добрым смущенным взглядом, возглавлял нью-йоркский офис компании “Братья Дрейфус”. Супруги Леваль поначалу невзлюбили маму с Алексом, найдя их навязчивыми (позже так же считали и другие). Но через несколько недель после их знакомства в феврале 1941 года Татьяна с Беатрис встретились за чашкой чая. На этот раз Беатрис была совершенно очарована маминой щедростью, образованностью и, как она выразилась, “восхитительным русским потоком сознания”. С тех пор две пары сдружились, Левали посещали все вечера Либерманов, и следующие двадцать лет Фернан не раз одалживал Алексу деньги, когда наша семья терпела очередной финансовый крах. Но какими бы хорошими гостями ни были Левали, не помню, чтобы Алекс наслаждался зваными вечерами. Он послушно маячил на заднем фоне, ослепительно улыбался, следил за тем, чтобы все гости были представлены друг другу, держался дружелюбно, но очень отстраненно.
Но вернемся в лето 1941 года.
В конце июля пришла пора отправляться в отпуск – мама, Алекс и супруги Вожель на весь август сняли коттедж на Лонг-Айленде; туда же должна была приехать Гитта. Первая наша американская дача располагалась в нескольких километрах от порта Вашингтон, в местечке под названием Сэндс-Пойнт, и стоила 550 долларов в месяц – по 275 с каждой пары. Простой белый домик с зеленым бордюром, окруженный лужайкой, стоял всего в нескольких сотнях метров от пляжа и в нескольких километрах от дорогого поместья, которое сняли на лето Беатрис и Фернан Левали. В домике, кажется, было шесть спален: одну занимали Вожели, вторую – мы с Гиттой, третью – Салли, в четвертой оставались гости, обычно Патриция и Джастин Грины, а две другие занимали мама с Алексом – вплоть до их свадьбы в 1942 году они всегда спали в отдельных комнатах.
Пока мы жили на Лонг-Айленде, мама устраивала выездные версии своих городских приемов. На фотографиях того времени – десятки эмигрантов из России и Франции и американцы-франкофилы Левали, Грины – все сидят на залитой солнцем лужайке с бокалами в руках и, подозреваю, оживленно обсуждают ход войны. На одной из фотографий лучезарный усач Питер Хоге, потерявший руку в автокатастрофе, первый наш врач в Америке. Его супруга устроила маму на работу к Бенделу. На всех фотографиях присутствуют Симон с Генриеттой – они сняли дом в получасе езды от нашего. Со временем они смирились с работой Алекса и маминым присутствием; на фотографиях Симон важно восседает в шезлонге, а Генриетта кокетливо раскинулась на траве, обнажив колени, подобно подросткам. Здесь же один из бывших любовников Генриетты – высокий величественный Люсьен Вожель, теперь лысеющий, с неизменной трубкой, и его дородная шумная жена Козетта. За обедом Козетта постоянно оказывалась в центре внимания, поскольку верила в науку о маятниках: вся еда, по ее мнению, должна была непременно подвергаться испытанию маятником. Она была такой же высокой, как и ее супруг, седеющие волосы завязывала в тугой узел, зубы у нее были желтые, а смех по-мужски грубый. Она вставала над тарелкой с едой, держа в руке длинную цепь, к концу которой крепился небольшой шарик. Если шарик начинал вращаться по часовой стрелке, еда признавалась годной к употреблению, в противном случае ее рекомендовалось выбросить. Никто не осмеливался ей противостоять, поскольку она много лет была одним из главных кулинарных авторитетов Франции – книга “Рецепты Козетты” имела во Франции такой же успех, как рецепты Джулии Чайлд[99] в Америке.
На этих фотографиях часто появляется Евгений (Жика) Джексон, мамин сводный брат. Мамино чувство семьи было так сильно, что она простила отцу двадцатилетнее отсутствие и немедленно взяла его американскую семью под свою опеку. Особенно она полюбила свою мачеху Зину, которую называла святой. Мама твердо вознамерилась научить Жику “европейским манерам” и обеспечить его поступление в хороший колледж. Кто еще сидел на той лужайке, лежал в шезлонгах, окутанный легкой зеленой дымкой, во второе лето войны? Жак Лебо – французский нейрохирург, студенческий друг Джастина Грина, мужчина в очках и с извечной сигаретой – через несколько месяцев он пересечет Атлантику и присоединится к де Голлю в Лондоне; Марсель Верте[100] и Рене Буше[101] – художники, которых ожидает большая слава в 1950-х. В этом обществе царила атмосфера тревоги и ожидания – в августе 1941 года никто не знал, когда закончится война. Никто не был уверен даже, что союзники победят. Кто из отдыхавших на лужайке знал, суждено ли ему вернуться во Францию?
Среди фотографий нашего первого американского лета выделяются два снимка. На одном моя мама со смехом показывает на жаровню, на которой жарится мясо. Эта фотография вызывает в памяти необычайно живую картину, расцвеченную звуками и запахами. Мама, как всегда, каламбурит и говорит “Barbe-au-cu! что звучит так же, как “барбекю”, но переводится с французского как “бородатая попа”; а в воздухе сильно пахнет подгоревшим стейком. Помню, как она говорила: “Я хочу стейк au bleu”, что значило – почти непрожаренный. Стейки на барбекю были первым блюдом кухни янки, которое мама освоила, поэтому по субботам мы ужинали только так. Теперь когда я вспоминаю то лето, то сразу чувствую вкус “barbe-au-cu”, моей первой американской мадленки[102]: обжигающая обугленная поверхность мяса и его прохладная сырая сердцевина, а потом – резкий укус сухой горчицы “Гульден”, разведенной водой (мама с Алексом много лет ели говядину только с этой горчицей).
Еще одна фотография: Люсьен Вожель склонился над своей “Лейкой”, его жена Козетта застыла над тарелкой с маятником, а вокруг толпятся смеющиеся люди с бокалами в руках. Я сижу в шезлонге поодаль – у меня на коленях, как обычно, книга, но я ее не читаю. Руки мои лежат на плечах, плечи опущены, взгляд уперся в землю. У меня совершенно отчаявшийся вид – именно в августе 1941-го, более года спустя, я узнала о гибели отца.
Вскоре после отъезда в Сэндс-Пойнт маму вдруг охватил свойственный ей приступ паники.
– Боже! – наверное, воскликнула она. – Ребенок так и не знает о смерти отца!
Подозреваю, эта мысль пришла ей в голову потому, что впервые с нашего приезда в Америку мы с ней стали проводить вместе целые дни. За этим озарением последовала целая цепь событий, воспоминания о которых разнятся у очевидцев, но в результате которых моему незнанию пришел конец. Из соображений хронологического характера я начну с версии Патриции.
– Когда вы приехали в Сэндс-Пойнт, Татьяна поняла, что кому-то надо рассказать тебе правду, – вспоминала в 2003 году Пат Грин – ей тогда было 90 лет, и она была необычайно бодpa. – Мама была совершенно не в состоянии сообщить тебе об этом сама, поэтому начала искать того, кто бы это мог сделать. Ее поиски выглядели довольно бестолково – она хватала за руку, например, Беатрис Леваль, и истерически требовала, чтобы та тебе всё рассказала. Беатрис в ужасе отказывалась, и твоя мать начинала звать Гитту. Но Гитта приехала на неделю позже, тогда твоя мама попросила меня поговорить с тобой. Мне не хотелось, а Джастин возмущался, что Татьяна так ничего тебе и не рассказала. Он начал понимать, что она слишком боится этого разговора… Как психиатр, он считал, что для такого лучше подходит женщина, и в конце концов убедил меня.
Пат рассказывала мне об этом у себя в гостиной в Хьюстоне – она переехала туда, чтобы поселиться со старшим из четырех своих сыновей.
– Я рассказала тебе всё на пляже, когда мы вышли из воды. День был жаркий, мы вместе пошли купаться, и на берегу я тебе сказала: “Мне так жаль, что ты потеряла отца на этой ужасной войне”. Представляешь, ты словно бы меня не услышала. Ты молча пошла обратно к матери и ее друзьям и смешалась с толпой. Тем же вечером Татьяна спросила, поговорили ли мы. Я ответила, что ты будто не поняла услышанного. Она ужасно рассердилась и спросила, почему Джастин ей не рассказал, а потом спрятала лицо в руки и принялась повторять: “Я не могу, я не могу с ней говорить”. На следующий день должна была приехать Гитта, и, видимо, Татьяна решила ее дождаться, потому что больше я об этом не слышала.
У Гитты была другая версия. Приехав в Америку, она поняла, что мне так и не сообщили известие, о котором сама она узнала еще прошлым летом в Вилландри, и была совершенно потрясена.
– Я постоянно говорила Татьяне: “Так нельзя, расскажи ей”, – но она отказывалась, мотивируя тем, что это будет удар. “Но так гораздо хуже”, – говорила я ей. “На самом деле она уже знает, что он погиб, но изо всех сил думает, что это не так”.
В 2003 году в Лондоне Гитта Серени, кавалер ордена Британской империи, одна из выдающихся европейских журналисток, рассказала мне следующее. Когда она приехала к нам в Сэндс-Пойнт, мама попросила ее поговорить со мной. Гитта твердила, что это мамина обязанность, но как-то утром после очередного спора наконец сдалась. Мама сказала, что не хочет присутствовать при этом разговоре, и договорилась с Левалями провести вечер у них.
Когда мы с Гиттой остались одни после ужина, она рассказала мне о смерти отца.
– Я старалась говорить как можно мягче, но выражаться прямо, – вспоминала она. По словам Гитты, я отреагировала куда тише, чем опасалась мать. – Мне казалось, что ты в глубине души уже обо всём догадалась, просто не хотела этого признавать. Казалось, что ты даже почувствовала облегчение… немного поплакала, и я уложила тебя в кровать. Ты еще поплакала и в одиннадцать уснула. Я посидела с тобой, но ты на удивление крепко спала.
Татьяна с Алексом вернулись следующим утром. Я сразу же сорвалась с места, бросилась маме на шею, и мы заплакали.
– Милая, милая, – повторяла мама. Алекс тем временем присел за стол и налил себе кофе.
– Alors, ça va? – спросил он Гитту. – Ça n’a pas été tropterrible?[103]
Мои собственные воспоминания приблизительно совпадают с этими двумя рассказами. Помню, как мы с Пат вышли из воды и она мне что-то сказала – день был жаркий, солнце играло на воде, под ногами шуршал песок, над головой зеленели сосны. Я промолчала. Помню, что Гитта через несколько дней сказала мне то же самое, но более подробно – мы с ней говорили вечером, уже было темно. Помню ясно, словно это было вчера, как мама на следующее утро обняла меня, и я зарыдала.
– Почему ты мне не сказала? – всхлипывала я. – Почему ты у ты, ты сама мне не рассказала?
– Прости, прости, я не знала как, – плакала она. В то утро мы рыдали, словно два потерянных ребенка. Самое ужасное, что с тех пор матери так и не удалось вернуть мое доверие. И всю ее оставшуюся жизнь – а она прожила еще полвека – между нами уже не было настоящей близости. Мы избегали друг друга, как недоверчивые львицы, лишь иногда ласкаясь друг к другу в знак родственных чувств, но тщательно обходили ситуации, которые могли бы привести к такому же эмоциональному взрыву, как в тот летний день на Лонг-Айленде.
Учитывая, насколько важное положение к тому моменту Алекс занял в нашей жизни, может показаться странным, что он полностью устранился из событий августа 1941-го. Но он не мог принимать в них участие, поскольку речь шла о человеке, которого он почти не знал и при этом ненавидел. Представляю, как старательно он соблюдал дистанцию, поощряя маму найти посредника, который выполнил бы за нее всю грязную работу. С того момента наши судьбы сплелись навсегда и главным делом его жизни стало защищать маму от всех невзгод, беречь от столкновения с реальностью и удовлетворять ее прихоти. С того дня все неприятные обязанности, связанные со мной, полностью легли на Алекса – он ухаживал за мной во время болезни, ругал меня за дурные оценки, критиковал неподходящих кавалеров или запрещал пользоваться помадой. Татьяна была его идолом, принцессой в башне из слоновой кости, которую следовало любой ценой ограждать от всех забот и неприятностей, и эта стратегия, в которой я с готовностью участвовала, определяла нашу семейную жизнь следующие полвека.
Но следует также изложить, как происходящее видел Алекс. Ему пришлось вспомнить события того августа, когда одна из его биографов, Доди Казанджян, пересказала ему свой разговор с Гиттой Серени. Услышав версию Гитты, Алекс яростно отрицал, что Гитте поручили сообщить мне правду о моем отце. По его словам, Татьяна собиралась сама мне всё рассказать – в свое время. (Остается только гадать, сколько лет она позволила бы мне пребывать в неведении.) Они с Алексом якобы были “удивлены и рассержены”, узнав, что Гитта сама со мной поговорила.
К сожалению, потребность постоянно соответствовать маме с Алексом и страх потерять их любовь заставили меня на много лет слепо уверовать в их версию произошедшего. Я винила Гитту за неуместное вмешательство в семейные дела и крайне несправедливо обошлась с ней, когда первый раз излагала эту историю. Только недавно я стала понимать, что должна благодарить ее за то, что она сообщила мне правду. Без помощи Гитты я могла бы вырасти куда более травмированным человеком.
Глава 14 Семидесятые улицы
Осенью 1941 года я пошла в шестой класс и нам пришлось съехать с квартиры у Центрального парка – договор аренды был рассчитан всего на полгода. Маме с Алексом явно хотелось жить рядом, поэтому мы сняли целый этаж в доме на Семьдесят третьей улице, между Лексингтон-авеню и Парком. Мы с мамой поселились в небольшой трехкомнатной квартире, а Алекс занял однокомнатную мастерскую с отдельным входом и окнами на сад.
Перед тем как мы переехали, мне пришлось снова отправиться в изгнание. Квартиру надо перекрасить! На это уйдет не меньше полутора месяцев! На этот раз меня отправили в район Восьмидесятых улиц, к паре, которую я почти не знала – Евгению и Маргарите Лейтесс. Евгений, коренастый русский еврей в очках самого добродушного вида, разбогател в свое время на торговле медью. Его жена, крепко сбитая, ярко накрашенная румынка, была подвержена вспышкам гнева и приступам меланхолии. У нее был сын от первого брака, Джером, на год старше меня – он учился во французском лицее. В квартире было всего две спальни, и во второй раз за полгода мне пришлось поселиться на диване в гостиной. В десять вечера, когда все ложились спать, я доставала из шкафа простыни и одеяла и стелила себе постель, а в 7:15, собираясь в школу, убирала постельное белье обратно. Семья Лейтесс относилась ко мне с доброжелательным терпением. Мы с Джеромом были в том возрасте, когда мальчики и девочки стесняются друг друга, и за те месяцы, что я прожила у них дома, мы едва ли обменялись парой слов. Большую часть дня я проводила, примостившись на стульчике за китайской ширмой в гостиной, пытаясь читать или делать уроки и не беспокоить хозяев. К столу меня звали довольно холодно. Обращались со мной, конечно, с большим уважением, чем с человеком, превратившимся в насекомое, из повести Кафки, но едва ли с большей теплотой. В то время большинство членов эмигрантской диаспоры менялись друг с другом услугами: супруги Лейтесс предчувствовали, что мама с Алексом станут известной парой, и решили заручиться их расположением заранее.
Ложась спать на диване в гостиной Лейтессов, я плакала, как это бывало в Рочестере. Теперь, когда я знала правду, я, конечно, оплакивала отца: чувства мои были обострены, потому что их приходилось проживать в одиночестве, вдали от родных и близких. Но были у моих слез и другие причины, которые я тогда сама не вполне понимала. Когда приближался мой день рождения – в том сентябре мне минуло одиннадцать, – я не раз просыпалась, захлебываясь слезами, в ужасе, что старею. “Я такая старая, мне одиннадцать, я могу умереть в любой момент”. Когда я рефлексировала (в той степени, в какой рефлексия возможна у одиннадцатилетнего ребенка), я спрашивала себя, пугает ли меня смерть, или меня к ней тянет. Только много лет спустя, перечитывая знаменитое эссе Фрейда “Скорбь и меланхолия”, я поняла, что связывало мою скорбь по отцу и одержимость смертью. На протяжении всех тех месяцев, что я провела у Лейтессов, единственным способом справиться с депрессией было лелеять иллюзии, что на самом деле отец жив. Я ложилась спать, прижимала ухо к маленькому приемничку, который подарил мне Симон Либерман, и слушала военные новости. Может быть, Гитта Серени, Пат Грин и мама ошиблись; может быть, отец выполнял настолько секретную миссию, что просто не мог никому написать; осенью 1941 года наши союзники сражались во многих регионах Северной Африки – папа был знатоком тех мест, может, он до сих пор там… Поэтому я втайне продолжала жить в мечтах и самообмане.
Но вот изгнание мое подошло к концу, и я переехала в мамину свежевыкрашенную квартиру на Семьдесят третьей улице. Как же хорошо было на цыпочках выйти из своей комнаты в 8 утра и увидеть в соседней спальне спящую маму! Она слегка похрапывала, на ее белокурых волосах покоилась подушечка, на покрывале лежала рука с алым маникюром. Мне не было нужды соблюдать тишину, потому что она пила очень сильное снотворное и просыпалась только с будильником, в 9:00. В это время Алекс (он специально просыпался на четверть часа раньше) спешил к ней с подносом: большая кружка крепкого растворимого кофе, слегка разбавленного молоком (она так и не полюбила обычный кофе), и тост с джемом, к которому она обычно не притрагивалась. (Этот ритуал продолжался все полвека.) Алекс с мамой оба были не вполне здоровы – его мучила язва, ее – мигрени – и берегли каждую минуту сна после вечерних развлечений. Они по-прежнему большую часть вечеров проводили вне дома (“Пойми, милая, это важно для нашей карьеры!”) и очень сердились, если им мешали по утрам быстро одеться и убежать на работу. Поэтому пообщаться со спящей матерью я могла только стоя у ее изголовья и глядя на нее с немым обожанием – тем же, что охватывало меня в детстве, когда я сидела у нее в ванной, а она красилась перед зеркалом и лишь иногда равнодушно посылала в мою сторону воздушные поцелуи.
Меня часто ругали в школе за опоздания, но по утрам мне было тяжело собраться. Во-первых, когда мама с Алексом ужинали вне дома, я ложилась поздно: вместо сна я наслаждалась чтением, слушала музыку и училась танцевать под пластинку “Призрак розы” Карла Марии Вебера – в нашей семье умение танцевать и играть на пианино было обязательным вне зависимости от финансового положения. Я ужасно гордилась тем, что меня единственную в классе оставляют дома одну по вечерам, и не ложилась спать, пока не возвращались мама с Алексом – тогда я бросалась в кровать и притворялась, что давно сплю. Так же я гордилась, что у меня, единственной в классе, мама работала. Их с Алексом светская жизнь казалась мне частью рабочего расписания. Но поскольку после полудня я обычно ничего не ела – расписание моих опекунов, разумеется, не включало в себя приготовление мне завтрака, – то просыпалась совершенно изможденная и ехала в школу на такси, на что и уходили все мои карманные деньги.
В этот период жизни в нашей молодой семье впервые возник деликатный вопрос питания. Салли на зиму уехала к своей стареющей сестре, и мама наняла домработницу Магду – бодрую рыжеволосую румынку, которая приходила в полдень и уходила в пять, оставив мне ужин на плите. Но мне лень было разогревать еду и обедать в одиночестве, поэтому я перекусывала сыром, крекерами или любимым своим лакомством, консервированными фруктами. Часть оставленной мне еды я выбрасывала, а остальное убирала в холодильник, чтобы Магда унесла домой. Мама с Алексом на кухню не заходили и не знали о моих хитростях, а Магда, если что-то и замечала, то ничего не говорила. Так в одиннадцать с половиной лет у меня начались проблемы со здоровьем из-за анемии и истощения.
К февралю 1942-го я стала чувствовать себя по утрам особенно плохо. Но у меня была железная воля и неистощимый запас энергии, к тому же до того, как начались мои обмороки, никаких признаков болезни не было. Первый раз я потеряла сознание, когда на уроке математики пошла к доске, чтобы решить пример на сложение пятизначных чисел. Всё вокруг закружилось и потемнело, и я пришла в себя в кабинете медсестры с лавандовой солью у носа.
– Может, пойдешь домой? – спросила медсестра. – Ты больна?
– Нет-нет, всё хорошо, я просто быстро расту, – заверила ее я.
– Да, это может быть болезнь роста, – согласилась она.
– У меня болезнь роста! – бодро объявила я своим одноклассникам. – Я очень быстро расту.
На следующей неделе я снова потеряла сознание, на этот раз в библиотеке. Когда я пришла в себя, озабоченная медсестра говорила с мамой по телефону.
– Твоя мама не знает, что такое “обморок”, – сообщила мне медсестра, озадаченная маминым скудным английским. – Можно позвонить кому-нибудь еще?
Обрадовавшись, что мама ничего не поняла – мы с Алексом по-прежнему стремились защищать ее от внешнего мира, – я дала медсестре номер Алекса.
– Это мамин друг, – сказала я и многозначительно повела бровями, намекая на подтекст. Поэтому медсестра позвонила в редакцию и сообщила, что я второй раз за неделю потеряла сознание.
– Ничего не говорите ее матери, – ответил Алекс по обыкновению. – Я сейчас приеду.
Через 20 минут он приехал и тут же окружил меня лаской и заботой, как всегда делал в непростых ситуациях. Алекс отвез меня домой, уложил в постель и сидел со мной до прихода Магды.
– Проследите, чтобы она пообедала, – сказал он Магде. – Ей нравятся школьные обеды.
Он обнял меня.
– Я назначил визит к доктору Клингу, – сказал он. – Не волнуйся, милая, ты просто быстро растешь.
– Не говори ничего маме! – взмолилась я.
– Не беспокойся. Я ей скажу, что у тебя просто закружилась голова.
Я с удовольствием провела день с книжкой, а Магда приносила мне в постель суп и бутерброды. Благодаря заботе Алекса я почувствовала себя любимой и теперь с интересом предвкушала встречу с милым доктором Клингом.
Доктор Андре Клинг был нашим семейным врачом на протяжении двадцати лет – это был обаятельный жизнерадостный венский еврей, который лучше всех в городе умел обращаться с больными. Он дважды развелся, детей у него не было, и он так возился со мной, будто мечтал, чтобы я была его дочкой.
К десяти утра мы пришли к нему – мама всё время нервно поглядывала на часы, опасаясь упустить покупателей, – и он настоял на том, чтобы осмотреть меня наедине. Когда мы остались одни, он принялся расспрашивать меня о том, как я живу и сколько ем.
– Ты очень худенькая, – заметил он, нажимая мне на грудь и живот. – Можешь точно рассказать, что и когда ты ешь?
На этот вопрос надо было отвечать осторожно. Я была так счастлива, что снова живу с мамой и Алексом, и так страшилась, что меня могут сослать к кому-нибудь на диван, что лучше бы умерла, чем позволила врачу обвинить их в недосмотре. Вину надо было полностью брать на себя. Поэтому я рассказала доктору Клингу, что плохо себя вела – лгала маме с Алексом, что мне оставляли роскошные ужины, а я их выбрасывала, ела консервированные фрукты.
– То есть ты обедаешь в школе, а между школьными обедами ешь только консервированные фрукты? – уточнил он.
– Получается, что так. Но мне никогда не хочется есть!
– Невероятно, – пробормотал он. – Тебе обязательно надо завтракать, милочка. Ты истощена. Завтрак очень важен для растущего организма.
Он говорил мелодично, с легким немецким акцентом.
– Я попрошу оставлять мне завтрак в холодильнике. Доктор, пожалуйста, не говорите маме с Алексом, что им надо вставать пораньше и готовить мне завтрак, пожалуйста! – умоляла я.
– Ладушки, – ответил он, явно пытаясь говорить со мной на привычном мне языке.
Доктор Клинг взял у меня кровь и вернулся к маме с Алексом. Я одевалась и подсматривала в дверную щель, как они беседуют. Пока доктор Клинг распекал их (“Легко возбудимую одиннадцатилетнюю девочку, которая в детстве много болела и только что пережила тяжелое потрясение, нельзя оставлять без присмотра!”), на лицах мамы и Алекса появлялось выражение, которое мне предстояло наблюдать следующие пятьдесят лет во всех ситуациях, где их поведение было небезупречно. Они как будто полностью одобряли услышанное, как будто говорили: “Да вы просто мысли читаете – мы как раз это и собирались сделать!”
– Мы тоже так считаем! – взволнованно сказала мама. – Мы как раз собирались попросить Магду задерживаться до половины восьмого и кормить Фросеньку ужином.
– Это продолжается уже пять месяцев! – сердито заметил доктор Клинг.
– Но мы только начали устраиваться, милый Андре! – простонала мама и поднесла руки ко лбу (“Это невыносимо!”) – этот жест означал, что реальность подбирается к ней слишком близко.
Добрый доктор выполнил мою просьбу. Ему удалось донести свою мысль в очень мягкой форме, встревожив моих опекунов, но не заставляя их почувствовать себя виноватыми: кто-то должен следить, чтобы я ужинала. В результате нашего визита Магда стала задерживаться на 3 лишних часа – она была рада прибавке к зарплате и бесплатным ужинам. Прежде чем уйти, она готовила мне завтрак – стакан свежевыжатого сока и молочный коктейль, – который я должна была употребить утром перед уходом.
У доктора Клинта были свои методы мягкого шантажа, и он заставил меня пообещать, что в благодарность за то, что он не стал расстраивать моих опекунов, я буду по вечерам ложиться спать ровно в 22:00. Благодаря Магде и моему новому режиму дня я за месяц набрала несколько килограммов и по утрам пулей вылетала из дома, даже не заходя к маме, и бежала на восьмичасовой автобус. Через два месяца после визита к врачу в моей карточке появились самые похвальные отзывы учителей за всё время учебы в Америке, а всего через год после того, как я приехала в Нью-Йорк, не зная ни слова по-английски, я победила в школьной олимпиаде по правописанию среди младших классов. (В школе я получала стипендию, и группа матерей моих одноклассников решила, что мы выдумали, будто эмигрировали из России, чтобы получить содержание. Они без предупреждения нагрянули к маме на работу, чтобы проверить ее, – каково же было их удивление, когда они увидели скромную блондинку в потертой униформе, которая почти не говорила по-английски.)
Одно из самых живых воспоминаний о нашей жизни на Семьдесят третьей улице (мы жили там с осени 1941 по зиму 1942 года, пока я училась в шестом и седьмом классах) – это бурная ссора между мамой и Алексом.
Был мамин день рождения – 7 мая 1942 года. Мы собрались в квартире Алекса и вручали маме подарки. Я только что подарила ей пару подставок для книг, которые сделала сама на уроке труда, – это были треугольные деревянные блоки, которые я выкрасила в кислотно-розовый цвет, чтобы они напоминали упаковку ее любимых духов “Скиапарелли”. Она приняла мой подарок с большим восторгом:
– Неужели ты сама это сделала?! Откуда ты знаешь, что это мой любимый цвет? Какая прелесть!
Я вздохнула с облегчением.
Наступила очередь Алекса. Он очевидно нервничает, усы его дрожат, в руках – черный футляр для украшений. Мама подозрительно морщится – мы с Алексом знаем, как она придирчива к украшениям. Я не дышу от волнения за моего любимого Алекса.
Она открывает коробочку и хмурится еще сильнее.
– Mais c’est minable! – восклицает она. – Что за ерунда!
Я разглядываю подарок – это прелестная брошь самого традиционного вида: прямоугольный аквамарин размером примерно два с половиной на четыре сантиметра, обрамленный филигранным золотым кружевом. Мама даже не вынимает брошку – она с треском захлопывает коробочку и швыряет ее Алексу в лицо. Я наблюдаю за полетом коробочки, вспоминая, как она как-то в истерике запустила в моего отца телефонной книгой.
– Ты же знаешь, что я не переношу подобные вещи! – кричит она на привычной смеси русского и французского. – Ты вообще видел эту дрянь? Ты наверняка ее даже не покупал! Ее купила чья-нибудь секретарша?
Алекс ищет убежища за креслом в углу комнаты – вид у него виноватый, как у напроказившего ребенка.
– Я ее сам выбирал, – говорит он. – Мне показалось, это красиво.
– Красиво?! – восклицает мать. – Да это, это… индейщина какая-то!
И она вылетает из комнаты. Учитывая ее нелюбовь ко всем культурам, кроме западноевропейской, это самое сильное оскорбление, какое она могла употребить.
Я бегу к Алексу, обнимаю его и прячу лицо у него на груди. Он так о нас заботится, ему сейчас должно быть очень больно! Кроме того, он потратился, чтобы купить эту брошь, а у нас совсем нет денег. Он гладит меня по щеке и поднимает с пола отвергнутый подарок.
– У нее эти настроения ненадолго, – шепчет он.
Через несколько минут мы на цыпочках входим к ней в комнату. Она лежит на кровати и читает рассказы Чехова.
– Это просто шедевр! – восклицает она. – Потрясающе!
После чего она предлагает, чтобы мы в честь праздника сходили поужинать в “Автомат”. Брошь не упоминается весь вечер. Под конец, когда мы уже лакомимся яблочными и кокосовыми пирогами, она грустно смотрит на Алекса и говорит:
– Я жду от тебя на день рождения всего лишь дюжину алых роз… Помнишь, какие розы ты посылал мне в Париже?
Вскоре после того я начала понимать, что алые розы в их эротическом словаре значили то же самое, что каттлеи, которые Сван посылал Одетте в романе Пруста. Следующие пятьдесят лет в день маминого рождения у ее изголовья стояла дюжина алых роз.
Много лет спустя я узнала, что цветы, которые маме доставляли каждую неделю по заказу Маяковского после его отъезда из Парижа, – тоже были алые розы.
Другие яркие воспоминания о Семьдесят третьей улице относятся к моим собственным переживаниям. Воспоминание первое: вечер, мы с мамой в крохотной гардеробной – комнатушке между моей спальней и ванной, стены которой мама увешала зеркалами. Она одевается к ужину и любуется своим отражением. Я, как обычно, листаю какую-то книгу, которую мне задали прочесть в школе, и наблюдаю, как она причесывается, красится и выбирает украшения из своей небольшой коллекции. Когда мама надевает серьги, она вдруг, без какого-либо предисловия спрашивает:
– Мы с Алексом хотим завести ребенка, что ты об этом думаешь?
У меня началась истерика, продлившаяся весь вечер. Слезы заглушали слова, которые я всё равно не осмелилась бы произнести вслух: я хочу быть единственной любимой дочерью, мне не нужны соперники, я хочу быть единственной! Слово “ребенок” в нашей семье больше не произносилось.
Много лет спустя я узнала, что мама не особенно хотела еще одного ребенка – она задала мне этот вопрос по настоянию Алекса и Гитты. Гитта, по-видимому, выполняла в нашей семье роль вечного посредника – за несколько месяцев до эпизода в гардеробной Алекс обратился к ней со следующей просьбой:
– Гитта, милая, узнай у Татьяны, не хочет ли она от меня ребенка?
– Как же я могу ее об этом спросить? – возмутилась Гитта. – Это ты должен спрашивать!
– Я не могу, – замялся Алекс. – Я не могу с ней говорить о подобных вещах.
– Если ты не можешь, значит, никто не может!
– Пожалуйста, Гитта, ты себе не представляешь, как с ней тяжело говорить! – взмолился Алекс.
(Впоследствии он рассказал Гитте, что когда пытался завести с Татьяной серьезный разговор, она огрызалась: “Что, опять эти твои еврейские разговоры?” По словам Алекса, их семейное счастье было отчасти основано на том, что они никогда не разговаривали серьезно.)
В конце концов Гитта с неохотой согласилась. Позже она рассказала, что когда попыталась завести с мамой разговор на нужную тему и спросила, не думает ли та о еще одном ребенке, мама совершенно неожиданно ответила:
– С чего вдруг? Родить очередного еврея?
“Мы все знаем, что ее ни в коем случае нельзя назвать антисемиткой, – говорила Гитта, когда рассказывала мне об этом эпизоде. – Она отпускала подобные оскорбительные комментарии, когда хотела оборвать разговор, который казался ей слишком личным”.
Второе воспоминание о нашей жизни на Семьдесят третьей улице относится к эпизоду, который произошел несколько недель или месяцев спустя. В воскресный день меня повели лакомиться горячим шоколадом в кафе “Рампельмайер” к югу от Центрального парка – там мы жили, когда только приехали в Америку, и до сих пор проходим мимо этого места с гордостью и ностальгией. Пока мы шли в кафе, я держала Алекса за руку и рассказывала ему что-то об уроках английского и истории – он хорошо меня понимал, а маму очень утомляли разговоры о школе. Общаясь с Алексом, я всегда ощущала собственную значимость.
Мы сидим в кафе, и я млею от удовольствия – подобную обстановку я буду любить всю жизнь: красные бархатные сиденья и шторы, стены, обитые темной тканью. Нам приносят горячий шоколад, украшенный взбитыми сливками. Мама смотрит на меня с нежностью, откашливается и говорит по-русски:
– Мы хотим кое-что у тебя спросить.
– Мы с шатай хотим пожениться, что ты об этом думаешь? – спрашивает Алекс по-французски.
В этот момент я роняю ложку и начинаю горько плакать. Рыдания мои неудержимы, слезы текут по шоколаду. Я плачу в том числе из-за того, что не понимаю причины своих слез – я полюбила этого человека, он занимает в моей жизни даже больше места, чем мама, так отчего же эти рыдания? Я была очень логичным, картезианским[104] ребенком. Чувствуя, что не понимаю причины своих слез, я плакала еще горше. К изумлению и расстройству моих спутников, я плакала до самой ночи и, уже втайне от них, еще несколько недель. Что произошло в тот день, я поняла только много лет спустя, когда перечитывала “Гамлета” – так внимательно, как это бывает во взрослом возрасте. Мне попалась следующая строчка:
Расчетливость, Гораций! С похорон На брачный стол пошел пирог поминный.Разговоры о свадьбе зазвучали слишком скоро после смерти моего отца: моя скорая и горячая любовь к Алексу будто бы делала меня причиной их союза, а свадьба подтвердила бы смерть, которую я еще не приняла. Кем надо быть, чтобы сначала спросить меня, не завести ли им ребенка, а потом – не пожениться ли им? Для рациональной одиннадцатилетней девочки это было уже слишком.
Но жизнь на Семьдесят третьей улице имела и свои приятные стороны. Больше всего я любила появившуюся у нас в тот год традицию каждую неделю ужинать у Симона Либермана (маме с Алексом эта традиция нравилось куда меньше). Мы ходили к Либерманам по четвергам – в тот вечер у Магды был выходной. Вскоре после нашего переезда в Нью-Йорк Симон Либерман потерял значительную часть своего состояния из-за неудачного вложения и сменил прежнее роскошное жилье на квартиру поменьше на Пятой авеню, в нескольких кварталах от моей школы. Каждый четверг после уроков я радостно бежала к Либерманам, поскорее расправлялась с домашними заданиями и садилась разговаривать с дедушкой – добросердечным, вдумчивым эрудитом, к которому я с первого же взгляда прониклась искренней симпатией. Мама с Алексом приходили не раньше половины седьмого, поэтому наши дневные беседы проходили восхитительно тихо и безмятежно, в атмосфере полного взаимопонимания. Симон Либерман был для меня не просто бесстрашным революционером, выдающимся экономистом или отважным путешественником, который множество раз пересекал русские степи; он был первым писателем, которого я встретила в жизни – Симон как раз заканчивал свои мемуары “Дела и люди”. Я впитывала, обдумывала и сохраняла в памяти каждое его слово. Меня всегда тянуло к философии и религии, а Симон близко дружил с русским философом Николаем Бердяевым, которому оказывал финансовую поддержку после его эмиграции в 1927 году. Симон начал знакомить меня с идеями Бердяева, когда мне было около тринадцати, и они повлияли на склонного к утопиям подростка сильнее, чем любые другие идеи, с которыми я встречалась впоследствии.
Бердяевская философия в исполнении Симона представляла собой своего рода христианский субъективизм, в свое время оказавший огромное влияние на Алекса (по крайней мере, в юности), и который по сей день является частью моего кредо. Бердяев верил в милостивую божественную волю, скорее имманентную, чем трансцендентную, которая требует от нас возможно более полного раскрытия нашего внутреннего потенциала. Зло во всех своих проявлениях всегда является последствием нереализованного потенциала. С точки зрения религиозного экзистенциализма Бердяева мы познаем себя только во взаимодействии с другими людьми, и единственная допустимая форма общества – это эгалитаристское общество, поощряющее равноправные и гуманные отношения между людьми. Симон Либерман излагал мне эти взгляды почти шепотом, сидя в своем кабинете с окнами на Центральный парк, – руки его были сцеплены на коленях, а когда он высказывал особенно важную мысль, голова по-совиному клонилась вбок. Когда мне было четырнадцать, он стал подкреплять свои рассуждения, доставая с полок книги; наибольшее влияние на меня оказал “Страх и трепет” Кьеркегора, и впоследствии я даже писала по нему диплом в Барнард-колледже. Таким образом, мое духовное воспитание состояло из чтения Бердяева и Кьеркегора и еженедельных бесед с Симоном и было как бы продолжением религиозного образования, которое началось в детстве благодаря отцу-кальвинисту и православной бабушке.
Так проходила первая половина дня. Во второй половине – и это, конечно, прозвучит очень странно – я для него танцевала… Он ставил русские пластинки, обычно бурные цыганские мелодии, и я превращалась в пылкую цыганку, размахивала шарфом и кружилась по его кабинету – я смешивала балет и русские народные танцы, вдохновляясь моей любимой “Шахеразадой”[105]. Симон смеялся, хлопал в ладоши, топал в такт музыке и кричал: “Быстрее! Быстрее! Да у тебя талант!” Он покачивался под музыку, и глаза его за круглыми очками сверкали от удовольствия. Видимо, я танцевала, чтобы освободиться от некой животной энергии, копившейся во мне от серьезных разговоров; или же так я выражала благодарность за то, что он беседует со мной, как со взрослой, делая это самым доступным и чувственным способом; или же это мог быть символический танец обольщения, которым я показывала свою любовь к Алексу. Танцуя, я ощущала опасность того мира, в котором жили мама с Алексом – мира бездушной красоты, постоянного соблазнения всех вокруг и гибельных страстей, в котором на протяжении последующих десятилетий разыгрывались наши драмы.
Еще одним радостным событием в жизни на Семьдесят третьей улице было наше первое американское Рождество, которое мы справляли в Вашингтоне с супругами Уайли. Я любила их больше всех остальных маминых друзей. Джон Уайли, американский дипломат, в 1934 году женился на маминой варшавской подружке Ирене Барух, в середине 1930-х годов работал в Москве под началом Уильяма Буллитта, а в 1938 году стал главой американской дипмиссии в Вене. Это был статный добродушный квакер в очках и с потрясающим чувством юмора. В отличие от большинства квакеров, он закончил школу поваров “Кордон Блю”, прекрасно разбирался в винах да и попросту любил выпить. Джон был дипломатом во втором поколении: родился в Бордо, где его отец служил консулом, вырос в Европе и потому говорил на множестве языков.
Он и его экзотичная супруга Ирена, художница и скульптор, были безумно влюблены друг в друга, и их семейная жизнь представляла собой воплощение мечтаний каждой романтической девушки. Ирена Уайли, племянница знаменитого экономиста Бернарда Баруха, выросла в семье состоятельных и образованных польских евреев. Ее воспитывали французские и английские гувернантки, она училась скульптуре в Лондоне, Париже и Риме и, как ее муж, владела бесчисленным количеством языков.
– Неужели ты не говоришь по-румынски? – дразнили меня Ирена с Джоном. – Как можно не знать румынского?
Ирена была такой же добросердечной и заботливой, как и ее супруг. Они с матерью были одного роста, и она производила столь же внушительное впечатление – длинные черные волосы завязаны в простой узел, безупречная оливковая кожа и по-азиатски раскосые глаза. Создавалось впечатление, что центр тяжести в ее теле располагается не там, где у большинства людей, – она не шла, а плыла, двигалась медленно и плавно, немного наклонившись вперед, как кошка, которая ищет себе место поуютнее. Они с Джоном много курили, и голоса у обоих были низкие и хриплые, Джон басил как Шаляпин.
Эта пара была самой необычной из всех моих знакомых: авантюрные, бесстрашные, любопытные и утонченные. На отдыхе они могли проделать путь в дюжину часов по непроходимой грязи, чтобы увидеть какую-нибудь средневековую церковь, или ночевать под звездами в руинах Персеполиса или Бальбека. Они соприкасались и с новейшей историей – в 1935 году, перед началом репрессий, они были в Москве и смотрели первомайский парад вместе с Иосифом Сталиным; их близких друзей арестовали, и те исчезли безвозвратно. (Этот московский опыт впоследствии превратил Джона в яростного поборника холодной войны, и во многом из-за него мама приобрела антисоветскую паранойю, которая не отпускала ее до самой смерти.) Уайли видели, как Гитлер вошел в Вену во время аншлюса[106], а через несколько дней были в кабинете у Зигмунда Фрейда и предложили увезти его в Великобританию. В 1941 году их вызвали в Вашингтон, и им удалось вывезти из оккупированного японцами Пекина рукопись сочинения “Божественная среда” отца Тейяра де Шардена. Рядом с Уайли мои вроде бы космополитичные родители казались ограниченными провинциалами. Дядя Джон и тетя Ирена, как я звала их со времен нашего знакомства в довоенном Париже, отвечали мне полной взаимностью: величайшим их горем было отсутствие детей. Чувствуя, возможно, что из-за пережитых в детстве потрясений я особенно ранима, они до конца своих дней окружали меня любовью и заботой.
Начиная с лета 1941 года, когда дядю Джона, как и большинство американских дипломатов, вызвали в Государственный департамент США, и до 1945 года, когда его назначили послом в Колумбии, Уайли жили в своем шикарном особняке в Джорджтауне. Туда мы и приехали, чтобы встретить Рождество в 1941 году, через две недели после Пёрл-Харбора и вступления Соединенных Штатов в войну. Как только мы прибыли в этот уютный дом, забитый разными восточными диковинками, мне тут же поручили зажигать свечи на огромной, в потолок, елке. В то время елки украшали настоящими свечами, которые вставлялись в металлические подсвечники и крепились на ветки. Я зажигала их по вечерам, когда в комнате собирались люди. Тетя Ирена и дядя Джон были прирожденными наставниками, и они занимались мной с интересом и любовью – я никогда раньше не чувствовала себя настолько вовлеченной в мир взрослых, никогда раньше не получала столько внимания. Я предпочитаю утром посмотреть памятник Линкольну или Джефферсону, или мне бы хотелось покататься по реке Потомак? Какую пластинку тебе поставить – Моцарта или Шопена?
Уайли уважали меня и восхищались мной, а детьми редко восхищаются. Мне было тепло и уютно у них дома – куда уютнее, чем у мамы с Алексом. Купаясь во внимании Уайли, я впервые почувствовала дух праздника. В новогоднюю ночь, вернувшись с вечеринки у подруги Уайли, Сисси Паттерсон (я впервые в жизни вернулась домой за полночь), я нырнула в свою постель в уютном кабинете, который использовали как гостевую спальню. По моей просьбе тетя Ирена поставила запись скрипичного концерта Бетховена. Когда отзвучали первые такты, взрослые стали заходить ко мне, чтобы поцеловать и пожелать спокойной ночи. Последним зашел дядя Джон – он галантно клюнул мое запястье и в очередной раз поинтересовался: “Как можно не знать румынского?” Кажется, концерт исполнял Фриц Крейслер. Я закрыла глаза и слушала, как взрослые обменивались последними словами в соседней комнате: дядя Джон говорил о встрече президента Рузвельта с Уинстоном Черчиллем в Вашингтоне; главной целью этой встречи было создание Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании… потом все разошлись спать, и я позволила музыке увлечь меня. Когда зазвучала каденция, меня вдруг переполнил восторг перед будущим. Последний год был таким тяжелым, что порой мне казалось: мы не выживем, – а тут я осознала, что будущее еще возможно. Но звуки каденции наполняли меня еще и чувством предопределенности – я чувствовала, что обязана преуспеть, оставить свой след в мире. В последние несколько дней Уайли дали понять, что очень верят в меня – со смерти отца в меня впервые кто-то поверил, и я решила, что не подведу их. Я так и уснула, окруженная их любовью, убаюканная музыкой, переполненная планами на будущее, благодаря Господа за то, что мы выжили, за заботу, за сердечное участие Уайли.
Первым утром 1942 года я проснулась в счастливой уверенности, что Новый Свет принесет нашей молодой семье счастье и успех – так и оказалось, поскольку именно в 1942 году мама с Алексом начали свое восхождение в высшем свете.
Однако политические события 1942 года потрясли всех. На русском фронте немецкие войска вторглись на Кавказ и вели осаду Сталинграда – бои там шли много месяцев, и сотни тысяч мирных русских погибли от голода. Войска Роммеля нанесли тяжелые удары по британской армии в Северной Африке, принудив к унизительному отступлению аж до Эль-Ала-мейна. Несколько месяцев спустя, 8 ноября, воздушные силы под командованием Дуайта Эйзенхауэра и Джорджа Паттона приземлились в Марокко и встретили неожиданно яростное сопротивление немецких войск. Два дня спустя произошло событие, которое повергло в отчаяние всех французских эмигрантов: возвращаясь из школы ιι ноября 1942 года, я подошла к нашей двери и увидела заголовок лежащей на пороге газеты: “Немецкие войска вторгаются на территорию Виши”. Будучи патриоткой, я горько зарыдала. Они заняли юг Франции – моя родина занята врагом: за плечами у солдат, которые сражаются за Францию, нет ни пяди родной земли. Я молилась, чтобы герои моего детства: Кловис[107], Шарлемань[108], Жанна д’Арк, Генрих IV[109] – вернулись и спасли нашу страну. В тот год я была еще ребенком и горько оплакивала залитые солнцем дорогие моему сердцу места, где провела самые счастливые месяцы своей жизни. Что будет с нашим домом, с Марией? Выживет ли кто-нибудь? Я вспоминала свой голубой велосипед, жуткие поездки за молоком, – как счастливы мы были в свободной Франции… Ребенок и патриот во мне плакали вместе.
Глава 15 Saks Fifth Avenue и Condé Nast
B 1940-1950-X годах воплощением американской элегантности, самым ярким из всех магазинов Манхэттена – за исключением разве что элитного универмага Bergdorf Goodman – был Saks Fifth Avenue. А полнее всего американская высокая мода была представлена в салоне “Модерн” на третьем этаже Saks – анфилада залов, отделанных резными панелями в стиле эпохи Людовика XV и бледно-голубым дамастом. Это была своего рода Мекка дамского туалета. Салон был основан в 1930-х годах, и правила им высокая и тоненькая блондинка Софи, модельер. Под ее руководством в довоенные годы салон стал выставкой парижской моды. Муж Софи, Адам Гимбель, основатель и президент Saks, пылкий франкофил, читал по одной французской книге в неделю и с началом Второй мировой войны ужасно страдал от разлуки с любимым Парижем. Когда война положила конец импорту нарядов, Софи начала сама создавать одежду. Но супруги Гимбель отчаянно желали вернуть своему магазину довоенный европейский шик и, встретив в 1942 году прелестную эмигрантку Татьяну дю Плесси, которая в тот момент работала у Генри Бендела, поняли, что сорвали джекпот.
В те годы шляпное дело процветало – мода на шляпки менялась быстрее, чем на любые другие предметы одежды. В английском языке выражением “старая шляпа” обозначают нечто безнадежно устаревшее. Одна из бывших редакторов Vogue рассказывала, что в 1940-е годы они с коллегами приобретали по десятку шляпок каждый новый сезон, чтобы соответствовать самым свежим веяниям, а прошлогодние головные уборы отдавали служанкам. Поэтому мастерство Татьяны было очень востребовано. Софи и Адам Гимбели были совершенно очарованы талантом и европейским обаянием Татьяны и тут же предложили ей делать шляпки для салона “Модерн” за 125 долларов в неделю, что было выше ее зарплаты у Бендела.
– Только не вздумайте учить английский, так вы больше продадите, – сказал ей Адам Гимбель, и мама с радостью последовала его совету.
Решение объединить таланты Софи и Татьяны принесло Гимбелям ошеломительный успех. Через несколько лет единственными конкурентами Софи в Америке были Мэйн Бокер[110]и Хэтти Карнеги[111], а с Татьяной могли соревноваться только Лили Даше[112] и Джон Фредерикс. В пеструю толпу клиентов Софи и Татьяны входили такие звезды, как Клодетт Кольбер, Марлен Дитрих, Мадлен Кэрролл, Айрин Данн[113]; светские львицы миссис Е. Ф. Хаттон, миссис Пьер дю Пон, миссис Джеймс Ван Аллен и миссис Чарльз Генри из Филадельфии; а также самые разные магнаты – Эсте Лаудер, Бетси Блумингдейл, Гарриет Дейч (наследница империи Розенвальд-Сирс-Робак) и Анита Мэй (жена основателя компании “Мэй”).
Татьяна и Софи превосходно дополняли друг друга. Яркие творения Татьяны придавали пикантность традиционно элегантным нарядам Софи; Татьяна могла, например, украсить зимнюю шапочку градусником или маленьким флюгером вместо привычного пера. И всё же ее головные уборы идеально соответствовали женственной моде 1940-х, потому что она глубоко понимала, что нужно женщине, и стремилась, чтобы ее творения были одновременно и соблазнительными, и удобными. Слава Татьяны, согласно журналу Christian Science Monitor, основывалась на том, что “ее шляпки, какого бы размера они ни были, идеально сидят на голове. В работе Татьяны фантазия сочетается с превосходным вкусом: дизайнер всегда заранее знает, как женщина будет чувствовать себя в ее шляпке”. И напротив: “Шляпы Лили Даше и Джона Фредерикса отличаются экстравагантностью и не всегда удобны, – пишет историк моды Розамунд Бернье, которая в 1945 году купила у матери полдюжины шляпок. – Шляпы Татьяны никогда не выглядели кричаще – у нее был идеальный вкус, и она безошибочно определяла, что вам пойдет”.
Софи и Татьяна мгновенно сдружились. Они обе погружались в работу с головой и обычно обедали в кабинете у Софи. Хелен О’Хаган, которая отвечала за связи с прессой, вспоминала, что и Софи, и Татьяна любили поговорить, но Татьяна всегда стремилась быть в центре внимания.
– Она без конца рассказывала, кого встретила в гостях, и кого надо с кем сажать на приемах, – рассказывала Хелен. – Потом они обсуждали запланированную на выходные партию в бридж – кого пригласить. Когда Татьяна занимала сцену слишком надолго, Софи толкала ее и говорила: “Тате, тише! Дай и другим сказать!”
Даже во время обеда Татьяна садилась так, чтобы видеть вход в салон, и если в двери входил покупатель, она сразу же к нему бросалась.
Татьяна редко позволяла клиенткам самим выбирать себе шляпки, не разрешала тыкать пальцем или вертеть модели в руках – она всё решала сама.
– Татьяна приносила шляпку и говорила: “Это вам подойдет”, – вспоминает подруга нашей семьи Этель Вудворд де Круассе, которая часто посещала салон в конце 1940-х. – А потом она надевала эту шляпку на вас и громко восклицала что-нибудь по-французски: “Formidable! Divin!”[114]
Успех матери основывался на ее знаниях и социальных навыках, которые простирались далеко за пределы дизайнерского труда. Подобно Эльзе Скиапарелли, которая создавала самые необычные шляпки в 1930-х годах, мама в прошлом изучала скульптуру и историю искусств под руководством дяди Саши и впоследствии вдохновлялась в своей работе величайшими мировыми шедеврами. Многие ее капоры были сделаны под впечатлением от причесок с портретов любимого Вермеера, опиралась она также на работы Веласкеса и Гойи. В рецензии The New York Times на осеннюю коллекцию Татьяны 1950 года говорится: “Золотой позумент придает испанский оттенок черной шелковой шляпке. Автор часто вдохновляется испанскими мотивами”. Помимо этого, на ее творчество очевидно повлияли пышные цветочные орнаменты русского народного искусства и мотивы, характерные для православной церковной эстетики, – это чувствуется в монументальной бижутерии работы Татьяны. Этикет определял ношение головных уборов строже, чем любого другого предмета одежды, и Татьяна, в прошлом жена дипломата, с блеском освоила сложный кодекс, регламентировавший, какие шляпки для каких случаев подходят. Ее открытость делала ее идеальным советчиком для сотен жительниц Нью-Йорка. Подобно парикмахершам, которые зачастую становятся конфидентками своих клиенток, она была одаренным психологом и косметологом: залогом ее успеха было умение убедить обычных женщин в их красоте.
– Я выслушиваю их и решаю все их проблемы парой цветочков на голове, – говорила она. – Они уходят от меня, гордые собой, как призовые лошади.
Каким бы роскошным ни был салон “Модерн”, какие богатые люди бы его ни посещали, мамина мастерская всё равно больше всего напоминала диккенсовскую фабрику. Она работала в дальнем правом углу третьего этажа, рядом с лифтами, – теперь там висят наряды Готье, Унгаро и других знаменитых модельеров, а тогда это была темная душная комната, где летом царила чудовищная жара. Двенадцать швей за двумя длинными столами воплощали в жизнь мамины дизайнерские решения. Татьяна обязана была создавать шестьдесят моделей в год – тридцать для весенней коллекции и тридцать для осени. Она работала так сосредоточенно и стремительно, что атмосфера в ателье будто наэлектризовывалась, внешне оставаясь спокойной. Татьяна прославилась добротой и щедростью к своим ассистенткам – при малейшем подозрении на простуду или домашние неурядицы она отсылала их домой; они, в свою очередь, обожали ее. Всякий раз, когда я попадала в эту атмосферу спокойного трудолюбия, меня охватывало умиротворение: я видела – мама трудится над шляпками точно так же, как делала это в Париже. Вся в черном, с алой помадой на губах, она сидела во главе длинного стола, зажав во рту булавки. Глядя на свое отражение в большом зеркале, она подрезала и укладывала на своих белокурых волосах фетр, драпировала тюль и джерси. Больше всего в маминой работе меня восхищало, как поразительно точно двигаются ее пальцы. Несмотря на то, что ее правая рука была изуродована и скрючена после автокатастрофы, она порхала над тканью стремительно, как колибри: мама формировала тончайшие складки и изгибы с точностью микрохирурга.
К осени 1942 года, когда Татьяна работала в Saks уже несколько месяцев, карьера Алекса наконец-то пошла в гору. Он в очередной раз очаровал нужных людей и получил повышение.
Весной 1942 года Конде Наст, который тщательно скрывал от окружающих свое больное сердце, продиктовал своему секретарю Иве Пацевичу конфиденциальный документ, в котором значилось, что в случае его смерти Пацевич станет президентом компании. Подозреваю, что Алекс был в курсе этого документа или же просто уловил что-то в воздухе. Как бы то ни было, той же весной он сдружился с Пацевичем, и в июне 1942 года в моей жизни появились Пат и его величественная супруга Нада. В то лето мы сняли дом рядом с портом Джефферсона, и я жила там с нашей домработницей Салли. Как-то раз я гуляла по окрестностям, и Салли позвала меня:
– Пацевичи приехали и ищут тебя! Иди на пляж.
Дом наш стоял на вершине дюны, и я сбежала по деревянным ступенькам на пляж, радуясь, что у меня будет компания. Навстречу мне по берегу шли двое высоких элегантных людей и приветливо махали мне. Когда мы поравнялись, они наклонились, чтобы обнять меня, радуясь нашей встрече, и я вспомнила, что уже видела их на приемах у родителей. С тех пор дядя Пат и тетя Нада, как мне велели их называть, прочно вошли в нашу жизнь.
Было ясно, что Пат, оказавшись во главе Condé Nast, станет на экономической и социальной лестнице выше любого другого русского эмигранта его поколения в Нью-Йорке. Так что не удивительно, что Алекс позаботился заранее заручиться его дружбой, а также велел маме сблизиться с его супругой Надой, которая славилась своим дурным характером. Тем летом Пацевичи проводили у нас много времени – Пат учил меня играть в шахматы, а Нада помогала готовить уроки, заданные на каникулы, – они были очередной бездетной любвеобильной парой, для которых я стала как бы приемной дочерью. Вскоре после смерти Конда Наста 19 сентября 1942 года, когда Пат возглавил компанию, Алекс стал одним из двух художественных редакторов Vogue. Второй, Артур Вайзер, работал в отделе уже двадцать три года и был там самым давним сотрудником. Учитывая, что Алекс проработал в журнале всего год, это был выдающийся карьерный скачок.
Ужасный Турок, доктор Ага, разумеется, пребывал в ярости: он с самого начала невзлюбил Алекса и был возмущен его повышением, а кроме того, чувствовал себя обойденным. Ага молча страдал до декабря 1942 года – на это время была запланирована мобилизация, и Ага надеялся, что Алекса призовут наряду с остальными. Но благодаря язве его признали негодным для службы. Тогда в начале 1943 года Ага ворвался в кабинет к Пацевичу и выдвинул ультиматум: “Либо Либерман – либо я”. Однако Ага изрядно переоценивал свою популярность в редакции, которая, к его удивлению, оказалась нулевой. Его невзлюбили за высокомерие и завышенные требования – он получал 40 ооо долларов, что в наше время равняется примерно полумиллиону. Пат быстро принял решение и через несколько дней объявил об отставке Аги, а его должность предложил тридцатилетнему Алексу.
В следующие несколько месяцев стиль журнала сильно изменился. Как выражался Алекс, он стал более “кинематографичным”. Заголовки и выносы, набиравшиеся теперь газетным шрифтом, стали более информативными и актуальными – в соответствии с пожеланиями Конде Наста Алекс развернул Vogue в сторону новостной журналистики. Время для этого было самое подходящее – США вступили в войну, и публике требовались более серьезные материалы. Параллельно с этим менялась женская мода: сотни тысяч женщин вышли на работу, и их одежда становилась всё более неформальной и демократичной. Американские кутюрье – например, Клэр Маккарделл и даже Валентина – стали разрабатывать легкие и непринужденные дизайны вместо прежних строгих и элегантных нарядов. Алекс был феминистом до мозга костей и стремился выпускать журнал для работающих женщин. По его собственному выражению, “война заставила нас забыть прежние фантазии”. Одним словом – он как нельзя лучше подходил для своей должности. Алекс приглашал в журнал европейских мастеров – Георгия Гойнингена (Гюне), Хорста П. Хорста, но не забывал и о молодых американских фотографах, которые умели свежо подать новую моду – в их числе были Джон Роулингс и Фрэнсис Маклафлин.
Помимо этого, Алекс также нанял фотографа журнала Life, Гьона Мили, который в тот момент изучал технику люминографии[115] для подиумной съемки. Взглядам изумленных читателей представали теперь модели с тележками в универмагах, или бегущие по пляжу в сияющих арках из капель воды. В последующие годы Алекс привлек Эрвина Блюменфельда – еще одного беженца из Европы, который, подобно самому Алексу, восставал против приукрашенных снимков, – чтобы тот применял в модной съемке технику соляризации[116], которую Блюменфельд тогда изучал. Так появились на свет самые авангардные обложки Vogue. В общем и целом журнал стал более политизированным и актуальным. Заступив на новый пост, Алекс уговорил осторожную, консервативную Эдну Чейз опубликовать фотографии пострадавшего от бомбежек Лондона работы Сесила Битона. Ли Миллер – гениальный фотограф и подруга Татьяны с Алексом с довоенных времен – освещала в журнале войну в Европе. Одной из первых она зафиксировала на своих снимках нацистские лагеря смерти, – и одним из самых смелых и благородных поступков Алекса было то, что он уговорил миссис Чейз опубликовать эти фотографии.
Наконец, Алекс открыл и вывел в свет молодого американского фотографа Ирвинга Пенна – его карьера стала личным достижением Алекса. В начале 1940-х Пенн был застенчивым, деликатным юношей, подающим надежды художником, который зарабатывал на жизнь тем, что служил дизайнером в универмаге Saks – туда его устроил учитель из художественной школы Алексей Бродович. Алекс распознал в Пенне талант и нанял его в 1943 году своим личным ассистентом, поручив придумывать идеи для обложек журнала. Однако все фотографы, которым Пенн предлагал свои идеи: Хорст, Блюменфельд, Роулингс, Битон, – отвергали их. Поэтому Алекс предложил Пенну снимать то, что он хочет, самостоятельно, отвел ему место в студии по соседству с кабинетом самого Наста и нанял помощника, который помогал бы ему справляться со студийной камерой. Получившиеся снимки отличали тщательно выстроенная композиция, невероятная ясность и инновационные методы печати, которые разработал сам Пенн. Это были самые знаменитые фотографии 1940-х годов. То, что Алекс увидел в Пенне талант фотографа и взял его под крыло, было тем более примечательно, что миссис Чейз и другие редакторы журнала поначалу раскритиковали его снимки. Всего через несколько лет стало ясно, что Алекс был прав: к 1950-м годам Пенна уже признавали одним из самых самобытных и влиятельных фотографов своего времени.
В последующие десятилетия Алекс продолжал поддерживать Пенна – от ранних натюрмортов тот перешел к другим жанрам. Он снимал портреты знаменитостей на фоне старых потертых ковров (в журнале все были шокированы этими фотографиями), а туземцы позировали ему среди белых стен передвижной студии, с которой Пенн путешествовал по Перу, Эстремадуре, Новой Гвинее или Тибету. (Каждое лето Алекс говорил Пенну: “Отправляйся на край земли и привези нам что-нибудь восхитительное для рождественского номера. Оставлю тебе четырнадцать страниц”.) В те годы Vogue сильнее, чем любой другой журнал, раздвигал привычные понятия о женственности: на его страницах модель могла сидеть на барном стуле, взъерошенная, как будто только что из постели, осторожно снимая табачную крошку с языка. Восхищаясь искусством Пенна выявлять прелесть в “несовершенствах повседневной жизни”, Алекс способствовал становлению великого американского художника.
Впоследствии Пенн стал ближайшим другом Алекса – хотя, на взгляд самого художника, такая близость была практически невозможна.
– Он был далек от искренних взаимоотношений, – рассказал мне Пенн через несколько лет после смерти Алекса. – Мы были профессиональными друзьями, поскольку оба нуждались друг в друге… Люди либо приносили ему пользу, либо нет… Я – приносил. Но мы полвека проработали вместе, а я всё равно так и не узнал его. Иногда за обедом мне казалось, что между нами начинает возникать какое-то подобие связи, и тут он смотрел на часы, и на лице его появлялось странное выражение, и я понимал, что ему пора на встречу с кем-то более важным. Но коллегой он был замечательным, и мне очень его недостает. Мы вместе смеялись над абсурдностью мира, в котором он работал. Когда он меня отчитывал – зачем ты прислал мне эту жуткую фотографию? – я всё равно был доволен, потому что обычно он был прав. Теперь я живу один, в башне из своего успеха, и мне уже не с кем посмеяться.
Как ни странно, мама не имела ни малейшего представления о том, чем Алекс занимается на работе, и совершенно не стремилась что-либо узнать. Он проработал на одном месте полвека, а она ни разу его не навестила.
– Зачем мне туда ходить, я прекрасно знаю, что там, – огрызалась она на все вопросы. – Там всё похоже на гигантский ледяной кубик.
Кабинет Алекса действительно представлял собой голый белый куб – его ледяной аскетизм неизменно напоминал мне о его кальвинистском воспитании. Там было всего несколько стульев и черный стол, на котором лежала стопка белой бумаги и один-единственный остро заточенный карандаш. Изредка там попадались какие-либо снимки или рисунки (в ранние годы он хранил мамину фотографию в ящике, а впоследствии повесил на стены несколько снимков своих скульптур). Алекс прославился педантичным отношением к порядку. Сай Ньюхаус, который был коллегой, приближенным к Алексу в последние тридцать лет его карьеры, рассказывал, что единственный раз в жизни испытал на себе его гнев – когда поставил на его стол чашку с кофе. “Убери это немедленно!” – закричал Алекс.
– В нем была своеобразная пуританская брезгливость, – вспоминает Сай.
Как-то раз мамино нежелание вникать в работу Алекса сыграло с ней злую шутку – это был единственный случай в их семейной жизни, когда пошел слух, что у Алекса есть роман на стороне. Предполагаемой любовницей была Бриджит Тиченор, редактор отдела аксессуаров – длинноногая красавица-англичанка с огромными лазоревыми глазами и густыми черными волосами. В то время я только что закончила колледж и устроилась на работу, и Бриджит решила завоевать Алекса через меня – она без конца угощала меня обедами и ужинами, убалтывала, пытаясь нащупать в браке моих родителей трещинку, в которую можно было бы просочиться. Когда эта стратегия провалилась, Бриджит стала приглашать Алекса на долгие обеды в “Шамбор” – тогда это был самый модный ресторан – и удерживала его там по паре часов кряду, рассуждая о его картинах (в те годы никому, кроме нее, не приходило в голову говорить о картинах Алекса).
– Она была умна, хороша собой, и она ухаживала за мной, – откровенничал Алекс годы спустя. – Это было новое и приятное чувство.
Как-то раз, летом, когда Бриджит после года ухаживаний не удалось пригласить его на ужин, она купила билет на тот же корабль, на котором Либерманы отправились во Францию.
Только тогда Татьяна узнала о сложившейся ситуации – ей обо всем рассказал друг, Филипп де Круассе, который возглавлял французское представительство Condé Nast. До него дошла сплетня, что Алекс собирается бросить Татьяну и жениться на Тиченор. Мама избрала мудрую стратегию и держалась с соперницей необычайно любезно – та поняла, что надежды нет, махнула рукой и остаток пути общалась с другими попутчиками.
Хотя Алекс был, наверное, самым молодым руководителем художественного отдела Vogue, заступив на этот пост, он был совершенно уверен в себе и пользовался огромной популярностью у сотрудников. В его обширном арсенале было два инструмента, которыми он пользовался, чтобы очаровывать окружающих: это был эпитет “достойный” и обращение “милый друг”.
“Достойная обложка”, – говорил он Джону Роулингсу, который снял купальники для летнего номера. “Достойный разворот” – о рекламе зимней обуви, сделанной одним из подмастерьев. (“Когда я слышал слово “достойный”, думал, что меня стошнит”, – рассказывал покойный Ричард Аведон[117], который терпеть не мог Алекса и был одним из тех, кто возненавидел его словарь.) А “милым другом” Алекс называл того, кого собирался раскритиковать в пух и прах.
– Когда я слышал “милый друг”, у меня аж пальцы на ногах сжимались, – вспоминает лорд Сноудон[118] – они с Алексом сотрудничали в 1960-1970-х годах. – Это могло звучать следующим образом: “Милый друг, ты знаешь, как я тобой восхищаюсь, но твои последние фотографии чудовищны”.
– Когда он говорил “милый друг”, то мы знали – всё плохо, – говорит Хельмут Ньютон, один из многих фотографов-экспериментаторов, которым покровительствовал Алекс и который ценил любовь Алекса к порнографии.
(По словам Ньютона, героем Алекса был Ларри Флинт[119], и, отсылая Ньютона на съемку, Алекс часто повторял девиз Флинта: “Принеси мне клубничку”.)
Отношения Алекса с теми, кто стоял выше его на карьерной лестнице, были куда сложнее. В первые же несколько лет коллеги Седого Лиса познакомились с темными сторонами его характера – он был способен буквально стелиться перед полезными людьми.
– Если он понимал, что кто-то может ему помочь, то тут же прыгал к нему на колени, – вспоминает Розамунд Бернье, которая дружила с Либерманами с 1944 года. – Его обаяние целыми днями было направлено в сторону тех, в чьей поддержке он нуждался.
– Алекс лучше всех знал, куда дует ветер, – рассказывает Даниэль Салем, который был финансовым директором Condé Nast на протяжении тридцати лет. – Он редко выражал привязанность – все его поступки должны были приносить ему пользу. Благодаря этому он был несокрушим.
Гитта Серени была шокирована, узнав, как много внимания Алекс уделяет публичной стороне жизни. В 1949 году она вышла замуж за американского фотографа, который работал на Vogue в Лондоне, Дональда Ханимена. В 1952-м, когда у них родился первый ребенок, Ханимена вызвали обратно в Нью-Йорк, и молодая пара, поскольку средства их были ограниченны, сняла квартиру на углу Риверсайд-драйв и Сто первой улицы.
– Алекс был возмущен нашим адресом, – вспоминает Гитта. – Когда мы подписали договор, он заявил: “Ты сошла с ума! Ты хочешь, чтобы Дон сделал карьеру, или нет? Он ничего не добьется с таким адресом. Вам нужно переехать в Ист-сайд”.
Гитта поинтересовалась, как, по его мнению, им перебраться в Ист-сайд с их доходами. “Обратитесь в банк”, – холодно ответил Алекс. Сам он всю жизнь жил на займы, полученные на работе и у друзей.
Коллег тоже впечатлял поистине византийский талант Алекса к саморекламе.
– Никто лучше него не умел себя продвинуть, – вспоминает Сноудон. – Он был скользким как угорь и вечно проворачивал свои делишки.
Даже Сай Ньюхаус, с которым они проработали сорок лет, признает, что Седой Лис жил по расчету и корысти. А те коллеги Лиса, которые его недолюбливали, и вовсе заявляли, что в его работе якобы не было оригинальности.
– Насквозь фальшивый и банальный человек, – вспоминает Пьер Берже, блестящий парижанин, второй основатель и бессменный управляющий модного дома Ива Сен-Лорана и близкий друг Татьяны. – У него никогда не было ни одной собственной идеи. Он воровал их у всех вокруг. Даже шрифты, даже журналистские задумки – всё своровано у Бродовича. Вот кто был гением!
В Татьяне, напротив, люди видели естественность.
– Теплота Алекса была макиавеллевской, проявлялась искусственно, по расчету. Приветливость Татьяны всегда была подлинной, – рассказывает Грэй Фой, компаньон Лео Лермана, главного специалиста отдела культуры в Condé Nast (они с Либерманами дружили более полувека). – Она могла вас задеть, но всегда была прямодушна… Пути, которые выбирала Татьяна, могли оканчиваться тупиками, а Алекс вечно следовал какими-то извилистыми тропами.
Наконец, многим коллегам Алекса было что сказать о его придирчивости и вспыльчивости.
– Он был перфекционистом, но перфекционистом крайне неуравновешенным, – вспоминает Мэри-Джейн Пуль, которая работала в офисе Алекса в середине – конце 1940-х и даже помнит, как приносила ему по утрам молоко, которое он вынужден был пить из-за язвы. – Он с наслаждением раздирал в клочья готовый номер журнала в пятницу вечером, и редакторам приходилось сидеть все выходные, чтобы удовлетворить его прихоти. Кроме того, он мог быть очень жестоким: чтобы накалить атмосферу, он стравливал сотрудников и наблюдал за ними.
Тина Браун, которую Алекс поставил во главе Vanity Fair, вспоминает его “склонность разрушать всё вокруг, подобно Сальери”.
– Сальери завидовал Моцарту, а Алекс часто завидовал по-настоящему талантливым людям, – вспоминает она. – Когда он чувствовал, что кто-то слишком вознесся в глазах Сая Ньюхауса, например, он говорил: “Такой-то ничего не стоит, надо сбить с него спесь”. И он всегда добивался своего.
Самых чувствительных из сотрудников ранили махинации Алекса.
– В нем была склонность к садизму, – рассказывает Деспина Мессинези. – Более коварного человека сложно себе вообразить. Алекс говорил вам в лицо ужасные вещи, а голос его и выражение лица оставались безмятежны. Люди зачастую выходили от него в слезах… Алекс мог унизить кого-либо публично. Возможно, это делалось для того, чтобы его подчиненные лучше работали, но нельзя отрицать, что он умел быть жестоким.
– А на следующий день он мог быть ужасно милым и даже интересовался, как здоровье вашей матушки, – вспоминает Мессинези с ноткой ностальгии.
Стоит ли говорить, что на заре нашей совместной жизни в новом доме Алекс показывал нам с мамой только джекилловскую сторону своего характера, ту, что была переполнена добротой и нежностью. Еще много лет мама по несколько раз в год нежно шептала мне, когда Алекса не было рядом:
– Нам невероятно повезло, что мы его встретили. Потрясающая удача.
Глава 16 Наш дом № I
Особняк на Семидесятой улице, куда мы переехали в декабре 1942-го и в котором Татьяна с Алексом прожили почти полвека, был первым местом, где я узнала, как это – жить в настоящей, относительно обычной семье с двумя родителями. В этом доме я праздновала каждое Рождество с двенадцати до двадцати трех лет, там я готовилась к школьным экзаменам и писала заявки в колледж, там мы с друзьями впервые выпивали, а потом маялись похмельем, оттуда я выгоняла первых отвергнутых возлюбленных, там за мной ухаживал мой будущий муж, там же мы отпраздновали нашу свадьбу, и оттуда я уезжала в роддом. Из этого же дома Татьяну и Алекса в последние годы часто увозили в больницу, и отсюда же мама уехала в последний раз, чтобы умереть в одиночестве в реанимации. В этом доме со мной произошло большинство самых важных событий моей жизни, и по сей день дом 173 на Семидесятой улице остается сверкающим центром моей вселенной – он до сих пор снится мне, и по сей день, шестьдесят лет спустя, я не могу пройти мимо, не испытав укол ностальгии. Это был дом, в котором трое скитальцев, которых много лет швыряло по миру войны и революции, нашли свой первый приют и впервые пустили корни.
Дом 173 по Семидесятой улице – это один из традиционных особняков 1920-х годов из коричневого песчаника, которых так много в Ист-сайде. Первый этаж его расположен чуть ниже уровня улицы, и, чтобы войти, надо спуститься по трем ступенькам к двум дверям – в наше время они были покрашены в белый цвет. Левая дверь с маленьким окошком вела в кухню. Правая – парадный вход – в вестибюль, правая же стена которого была украшена большим зеркалом, под ним стояла маленькая барочная тумбочка. Эта тумбочка вызывает у меня особенно яркие воспоминания: сидя на ней, я узнала, что мама с Алексом поженились.
Насколько я помню, впервые мы переночевали в этом доме в одно из ноябрьских воскресений 1942-го. На следующий день я вернулась из школы чуть позже обычного – в 16:30, после занятий балетом – и нашла на тумбочке с полудюжины телеграмм. Некоторые из них были вскрыты, и мне бросились в глаза фразы: “Поздравляем вас со свадьбой и желаем всего наилучшего”, “Самые теплые пожелания и много лет счастья”. Я была потрясена, оскорблена, разъярена. Они поженились утром и ничего мне не сказали, не пригласили меня, в очередной раз оставили за бортом! Я больше злилась, чем горевала, но, как обычно, скрыла свои чувства: к их приходу взяла себя в руки и нежно их поздравила. Только много лет спустя я поняла, что это событие произошло благодаря маминой – порой лицемерной – склонности во всем следовать протоколу. Поскольку теперь ей предстояло жить с Алексом под одной крышей и делить одну входную дверь, им необходимо было пожениться.
Воспоминания единственных свидетелей этой свадьбы, Беатрис и Фернана Леваля, говорят о том, как мама была помешана на своей работе. Левали устроили обед в ресторане “Павильон”, чтобы отметить свадьбу. Мама туда не пошла. В 14:00 у нее была назначена встреча с “важным клиентом” – голливудским продюсером, который, как она надеялась, позовет ее делать шляпки для его следующего фильма, и ей не хотелось прийти позже него. К черту чувства! Алекс, Беатрис и Фернан отпраздновали свадьбу без нее.
Но вернемся к экскурсии по дому. Мимо тумбочки мы проходим в короткий коридор, который выводит нас в столовую – следующие десять лет там стоял всё тот же белый стеклянно-металлический гарнитур, который “мои родители” (я наконец могу их так называть) купили в универмаге вскоре после нашего приезда в Штаты. Пол столовой был покрыт линолеумом под мрамор, а стены, как во всём доме, выкрашены в белый цвет. В дальнем конце комнаты створчатое окно выходит на прелестный садик, которых так много в этом районе. Подоконник обит (разумеется) белым винилом, а слева от него стоит уютное серое (как ни странно) кресло, в котором Алекс завтракает.
Вскоре после нашего переезда – мне тогда было двенадцать – мы с Алексом завели привычку по выходным завтракать в столовой. Мама нежилась в постели до полудня, читала книгу или французские и русские газеты, а мы оставались наедине. Он сидел у окна с небольшим подносом, на котором традиционно стояли овсянка и чай, а я – за круглым белым столиком в центре комнаты. Для меня это были счастливые моменты: год за годом Алекс слушал меня с неослабевающим интересом, как будто по утрам для него не было ничего важнее моих дел. Он был моим наперсником и идолом: я слепо ему доверяла – так, как много лет потом не могла доверять никому.
Поначалу наши беседы носили в основном общеобразовательный характер – Алекс задавал мне различные вопросы из области истории или литературы, чтобы проверить, чему меня учат в школе; выслушав мои ответы, он советовал мне книги, которые, по его мнению, должны были дополнить учебную программу. (Иногда это оказывались безнадежно устаревшие вещи, наподобие “Лорны Дун” Блэкмора, которая поразила его романтичную тринадцатилетнюю душу в английском пансионе.) Или же мы вместе обсуждали насущные вопросы и принимали решения. Так, одним весенним утром 1951 года он предложил мне оставить летние подработки, которые я стала брать, когда закончила школу, а вместо этого поехать на летние курсы. Пока мы обсуждали это за воскресными газетами, нам обоим на глаза попалось объявление о летнем семестре в колледже “Черная гора”. “Вот оно!” – воскликнули мы одновременно, изучая список художников и писателей, которые должны были там преподавать. Эта поездка изменила мою жизнь.
Когда я подросла, столовая стала местом, где Алекс часто вызывал меня на откровенность, расспрашивая об отношениях с тем-то и тем-то, о работе, а после моего замужества – о поведении и оценках детей. В этой комнате происходили самые интимные наши беседы. Никогда не забуду, например, как осенью 1956-го Алекс каждое утро, сидя в кресле у окна, дожидался моего возвращения от психоаналитика. Мне было двадцать шесть, и я только что вернулась в Нью-Йорк после двух ужасных лет во Франции – я болела, мучилась на неподходящей работе и пережила любовную драму. Алекс решил, что мне надо пройти терапию, и записал меня к безжалостному фрейдисту. Хотя продвигаясь по карьерной лестнице, он завел привычку выходить из дома до 8 утра, чтобы прийти на работу раньше своих коллег, в те месяцы ему почему-то надо было встречать меня. Когда я возвращалась домой, он сидел у окна, на коленях его лежал портфель, он смотрел на меня слегка смущенно, словно извиняясь, и спрашивал:
– Как всё прошло?
– Замечательно, – отвечала я всякий раз, хотя только что весь час рыдала или злилась на доктора. Только после этого обмена репликами Алекс хлопал себя по портфелю, говорил: “Ну, хорошо”, целовал меня и с довольным видом отправлялся на работу. Интерес Алекса к нашим беседам с доктором Норвеллом Ламарром, мир его праху, заставлял меня думать, что несмотря на все уверения, что психоанализ ему ни к чему, Алекс втайне о нем мечтал и, наблюдая за моим прогрессом, испытывал некое компенсаторное удовлетворение.
Когда я вышла замуж и переехала в Коннектикут, Алекс с мамой настояли, что моя бывшая детская будет спальней для моей семьи на те дни, когда мы приезжали в Нью-Йорк. Они стали самыми любящими бабушкой с дедушкой; и в нашей столовой теперь воспитывали уже моих детей. Там разворачивались события, ставшие впоследствии семейными преданиями. Так, мы до самой смерти Алекса со смехом вспоминали, как однажды за обедом мой младший сын Люк, который уже в пять лет был знатным мясоедом, взбунтовался против маминых уроков этикета – она пыталась научить его изящно накладывать себе угощение с общего блюда. Когда Люку поднесли баранью ногу, он просто-напросто наклонился к ней, схватил зубами и поднял с блюда. Следующие несколько лет мама предпочитала сама накладывать детям еду, а Алекс, который с радостью вспоминал собственные детские шалости, то и дело рассказывал об этом случае.
Разумеется, столовая на Семидесятой улице была неотделима от кухни. На обеих правила великолепно суровая Мейбл Мозес, которая со дня нашего переезда вместе со своим красавцем-мужем взяла бразды правления в свои руки. Тогда Мейбл был тридцать один год – когда я это пишу, ей девяносто три, и она благополучно проживает в доме престарелых в Лас-Вегасе. В ту пору она была энергичной крупной дамой с тонкой талией, большим пучком волос и в очках. Мейбл была немногословна и хронически не доверяла окружающим. Она редко улыбалась, порой выглядела весьма угрюмо и выражала свое одобрение или неодобрение только изменением выражения лица – например, видя человеческое чванство, она приподнимала бровь и дергала уголком рта. Но если ее удалось обрадовать хорошими новостями, она разражалась грудным смехом, топала ногой и восклицала: “Да ладно!”
– Мейбл, меня назначили редактором школьной газеты!
– Да ладно!
Топ-топ.
– Мейбл, мы с Кливом только что обручились!
– Да ладно!
Топ-топ.
Как и большинство хороших поваров, Мейбл могла свести вас с ума своей педантичностью. Каждой вилке и ложке было отведено свое место. “Нечего тут хозяйничать на моей кухне!” – слышала я больше сорока лет, когда заглядывала к ней, чтобы полакомиться очередным шедевром. Мейбл готовила восхитительно и с легкостью вписала все возможные французские и русские блюда в свой американский репертуар. Проработав у нас полгода, она уже готовила лучший бефстроганов в городе – тонкие полоски самого свежего филе стремительно обжаривались, перед тем как встретиться с крепким бульоном, сметаной и укропом. Ее gigot aux flageoles[120], украшенная ровно тем количеством тонко нарезанных зубчиков чеснока, чтобы придать всему куску мяса легкий аромат, была произведением искусства. Такими же восхитительными были ростбиф и йоркширский пудинг – тесто вздымалось над краями формы на добрые тринадцать сантиметров. Стоит ли говорить, что блюда американской кухни – жареный цыпленок (любимое мамино лакомство) или ароматный яблочный пирог, о невесомой посыпке которого я грежу по сей день, – были столь же совершенны.
В юности готовка меня не интересовала – я полагала, что в жизни свободной женщины в таких навыках нет нужды. Но сколько же полезных знаний я получила от Мейбл!
– Мать ее особо не воспитывала, – объясняла Мейбл моим друзьям много лет спустя, – вот я и решила ею заняться.
Она научила меня ополаскивать волосы уксусом, чтобы они блестели, объяснила, что делать во время месячных (мама в этом вопросе держалась крайне уклончиво) и как держать кавалеров на расстоянии.
– Даже и не думай подобраться к моей крошке, – ворчала Мейбл на любого кавалера, которого подозревала в наличии сексуальных намерений.
Именно она научила меня водить, и я до сих пор вспоминаю ее, когда осторожно жму на тормоз, спускаясь по заснеженному холму, или приглушаю фары, когда еду в тумане. Мейбл учила меня умеренному обращению с алкоголем, а в некоторых случаях – о которых она узнавала задолго до вечно занятых родителей – ругала меня за излишества. Сама будучи трезвенницей, она выступала настоящей энциклопедией лекарств от похмелья, когда я выпивала лишнего – что часто случалось с моими ровесниками в эпоху Эйзенхауэра. Когда мне было шестнадцать, Мейбл подарила мне на Рождество первый письменный набор с памятной гравировкой, она же научила меня писать благодарности в ответ на поздравления или подарки, которые я получала. Этого никогда бы не сделали родители, которые были до того высокомерны, что хвастались: ни разу в жизни они не написали ни единой записки с благодарностями. (Подобная невежливость не могла пройти незамеченной. В начале года мне не раз приходилось отвечать на сердитые звонки их знакомых – получили ли Либерманы конфеты, бегонии, хрустальную вазу, которую послали им на Рождество? Когда я рассказывала об этом родителям (как правило, я прикрывала их и уверяла, что ничего подобного не приходило), они лишь презрительно пожимали плечами.)
Поначалу Мейбл пришла к нам не одна. Ее муж Мэтью, невероятно обаятельный метис с определенными интеллектуальными наклонностями был в той же мере сибаритом и подхалимом, в какой Мейбл отличалась строгостью и аскетизмом. Он брал у Алекса уроки рисования и одалживал у меня книги из школьной программы – больше всего ему нравился Мопассан. Он любил выпить – возможно, причиной тому был избыток свободного времени. Обычно Мэтью сидел на кухонном стуле у окна, курил и наслаждался очередным произведением классической литературы, тогда как Мейбл, вся в белом, стояла у плиты и резала, чистила, жарила. Кроме того, Мэтью был бесстыдным бабником, и его с позором выставили за дверь, когда родители обнаружили, что он соблазнил одну из маминых подруг по канасте[121] (впрочем, возможно, инициатива исходила от подруги). Вскоре после этого они с Мейбл развелись. Однако он пробыл у нас достаточно времени, чтобы пробудить во мне интерес к музыке черных – когда мне исполнилось четырнадцать, Мейбл с Мэтью стали по субботам брать меня с собой в гостиницу “Савой”. К пятнадцати годам я стала водить туда друзей, чтобы приобщить их к гарлемской культуре – вплоть до конца 1940-х белые в “Савой” почти не ходили. Джон-Майкл Монтиас, один из любимых моих спутников тех лет, вспоминает одно из таких приключений:
– Мы с тобой танцуем, как ненормальные, вокруг только черные, и вдруг я толкаю тебя в сторону и говорю: “Берегись!” У входа стояли твои родители и высокий англичанин в накидке – Сесил Битон.
Нам удалось вовремя пробраться к боковому выходу, и родители всю жизнь были уверены, что они являлись первыми белыми нью-йоркцами, кто “открыл” Гарлем в конце 1940-х.
В словаре моей любимой Мейбл мама была Мадам, я – Деткой, а Алекс – Хозяином. Он и в самом деле был хозяином дома – мама была неспособна вызвать плотника или сантехника, нанять уборщицу или проверить мои уроки. Поэтому Алекс с тем же холодным апломбом, с которым проверял мой дневник, назначал нам приемы у врачей или запрещал мне возвращаться слишком поздно, брался за дыры в крыше, потрескавшуюся штукатурку или протекающие трубы. Он стал настоящим домохозяином до того, как это вошло в моду, и брал на себя все обязанности, на которые маме не хватало душевных сил или терпения. Он не оставил их и тогда, когда стал председателем в Condé Nast, продолжая заниматься живописью, скульптурой и фотографией. Он явно наслаждался тем, что одновременно является маминым героем и рабом. О своих добродетелях он говорил с неизменной гордостью и хвастался, что “ни разу, ни разу в жизни” даже не взглянул на другую женщину, хотя его коллеги и находили подобные высказывания безвкусными. (“Что за чудачество, хвастаться, что никогда не желал другой! – возмутился как-то в 1960-х редактор французского Vogue, когда преданность Алекса маме стала своего рода легендой. – В этом есть что-то вульгарное!”)
Одним из достижений Алекса было то, что после ухода Мэтью Мозеса он сумел найти помощников, которые были бы так же надежны, как Мейбл, и при этом могли бы противостоять ее величию. Первым на замену Мэтью пришел Жан, сдержанный француз из Бретани – совершенно загадочная личность. Он появился у нас в 1951 году, когда семья Елены Шуваловой наконец-то освободила комнаты на четвертом этаже, которые снимала у нас со дня нашего переезда на Семидесятую улицу. Жан жил в одной из маленьких спален на четвертом этаже, и там царил монастырский порядок. В свой единственный выходной, воскресенье, он уходил на полтора часа (мы предполагали, что он ходит к мессе), а остаток дня проводил у себя в комнате. Единственными звуками, которые оттуда доносились, было легкое шуршание, как будто он заворачивает в салфетки сотни крохотных коробочек или быстро перелистывает тончайшие страницы. Он был очень начитанным человеком, и в любой ситуации цитировал Библию – зачастую для того, чтобы выразить неодобрение беспорядком в моей комнате. Мои друзья по колледжу, приезжая в гости, редко соблюдали чистоту. В этих случаях Жан застывал на пороге моей комнаты, с ужасом обозревал царящий в ней хаос и, воздев руки к небу, восклицал: “Содом и Гоморра!”
Столовая и кухня, где властвовали Мейбл и Жан, были настоящим центром силы нашего дома – площадкой, с которой мои родители поднимались по социальной лестнице. Полуденные субботние обеды, которые устраивали Либерманы с конца 1940-х, были первыми деловыми обедами в современном смысле этого слова. За столом, украшенном кулинарными шедеврами Мейбл и нашей богатой коллекцией вин (за исключением подаренных, вина покупались у наших знакомых французских виноделов), мои родители очаровывали видных парижан и нью-йоркцев, которые потом помогали им вознестись в высшие круги общества. Сальвадор Дали, который, несмотря на свою репутацию, был куда более приятным человеком и верным другом, чем можно было бы предположить, заходил к нам каждые несколько недель. Были здесь и представители Голливуда – дизайнер Жильбер Адриан и его миловидная миниатюрная жена Дженет Гейнор, мамина клиентка, у которой был нежный девичий голосок и которая привела в салон к Либерманам своих подруг: Клодетт Кольбер, Айрин Данн, Мадлен Кэрролл. К концу 1940-х здесь были деятели моды, искусства и культуры со всего мира: Кристиан Диор, Юбер Живанши, Зизи Жанмер[122], Ролан Пети[123], Патриция Лопес-Уиллшоу с мужем, любовником и любовником мужа, а потом и “гений Сен-Лоран”, которого мама обожала. Был здесь и нескончаемый поток потенциальных кредиторов – богатых нью-йоркских пар, которые порой подбрасывали Алексу денег, когда ему приходилось туго. Среди них были Левали, финансовый магнат Джордж (Гриша) Грегори с женой Лидией – они эмигрировали из СССР в 1932-м, и мама подружилась с Лидией, потому что она тоже познакомилась с Маяковским в последний год его жизни; Чарли и Женя Задок – они выполняли двойную функцию: Чарли был председателем Saks и маминым начальником, а кроме того, имел одну из лучших в Нью-Йорке коллекций современного искусства, а потому Алекс его особенно ценил.
В конце 1940-х Алекс вновь начал рисовать по выходным и пытался поместить свои работы в галереи. У нас на обедах стали появляться критики и торговцы: Клемент Гринберг, Гарольд Розенберг, Бетти Парсонс, Андре Эммерих, Томас Хесс. В 1960-х, когда работы Алекса стали выставляться и его признали художником, Либерманы стали собирать у себя Великих Художников. Их “разогревали” за обеденным столом, потом вели в гостиную и угощали кофе и ликерами.
Вы поднимались по первому пролету лестницы, ваша рука скользила по округлым белым лакированным перилам, и вы выходили на площадку, с которой можно было пойти направо – в просторную гостиную, или налево – в комнату, которая впоследствии стала библиотекой и кабинетом Алекса. Вход в гостиную имел полукруглую форму, и двери разъезжались, а не распахивались. Три больших окна выходили в сад, прозрачные газовые занавески пропускали солнечный свет. Слева от входа стоял уютный диванчик, обитый белым винилом, а в центре стены располагался камин, который часто разжигали зимой. (“Камин без дров что мужчина без эрекции”, – говорила мама.) Кресло XVIII века эпохи Людовика Χλζ которое когда-то стояло в папином кабинете в Париже, теперь располагалось между камином и окном. Книжные полки под окном были забиты книгами на французском (у всех у них были белые или бежевые обложки, как это принято во французском книгоиздательстве, – мама не позволяла приносить в эту комнату американские книги, потому что большинство из них разрушили бы бежево-белую цветовую гамму интерьера). В 1943 году справа от окна появился трехстворчатый экран работы Марселя Верте, на котором красовалась скудно одетая женщина в маминой шляпке. Большую часть правой стены занимала кушетка в китайском стиле, отделанная дамастом цвета слоновой кости, рядом с которой стояли два таких же шезлонга – этот гарнитур Уайли привезли из Пекина и подарили нам. Он служил маме превосходным фоном для портретов – она обожала фотографироваться. Подобно одалиске, она располагалась на этой кушетке, одетая в черный шелковый брючный костюм, увешанная бренчащими украшениями, и позировала фотографам, которые работали на Алекса: среди них были Хорст, Роулингс, Блюменфельд, Битон. На их портретах она представала то застенчивой и нежной, то льдисто-бесстрастной, то откровенно зловещей.
Через несколько лет после переезда на Семидесятую улицу на наших стенах стали тесниться работы современных художников. В 1943 году Алекс приобрел абстрактную работу “Волчица” малоизвестного художника по имени Джексон Поллок, написанную тушью и акварелью[124]. На благотворительном аукционе в аукционном доме “Кнодлер” он услышал, как публика высмеивает эту картину, пришел в ярость и тут же купил ее за 150 долларов. Начиная с 1947 года коллекция стала стремительно расти – мама с Алексом стали проводить часть лета во Франции, чтобы посмотреть французские модные показы, а потом – несколько недель в Италии. Именно тогда Алекс начал свой новый проект – фотосъемку мастерских всех крупнейших французских художников XX века (и самих художников, если они к тому моменту были живы). Большинство фотографий были опубликованы в Vogue, и со временем вышли в эпохальном труде, документирующем эпоху: “Художник в своей мастерской”.
Брак[125], Матисс, Пикассо, Джакометти[126], Вийон[127], Леже[128] были первыми из тех, кого запечатлел Алекс. Большинство из них дарили Алексу сувенир-другой в обмен на публикацию в журнале. (Леже, старый друг Генриетты Либерман, был особенно щедр: он предложил Алексу купить любую его черно-белую работу за 50 долларов и большой эскиз гуашью к “Большому параду” за 500.) Если художники были прижимисты – Матисс, например, или Пикассо, – Алексу обычно удавалось выманить у них что-нибудь за несколько сотен долларов. Поэтому к концу 1950-х стены в доме Либерманов были увешаны впечатляющей художественной коллекцией, по большей части состоящей из рисунков, – много лет спустя после маминой смерти Алекс выгодно их продал.
Но, несмотря на прекрасные картины, гостиную я любила меньше всего в доме. С ней у меня были связаны печальные воспоминания, относящиеся к первому году нашей жизни на Семидесятой улице. В начале декабря 1942-го, вскоре после переезда, я мечтала о нашем первом Рождестве в новом доме. Фантазия была такой же банальной, как обложки газет и журналов, которые ее питали, – я представляла, как иду по Пятой авеню с искусно завернутыми подарками для родителей, живописно раскладываю их под елкой и разжигаю в камине идеально горящий огонь. В канун Рождества, воображала я, милый князь Трубецкой привезет нам ужин – он разорился и едва сводил концы с концами, развозя блюда русской кухни: блины, например, или пожарские котлеты. (Он отличался такой же недальновидностью, как и мы: доставив еду, он садился пить чай, хотя всё это время его ждало такси, и таким образом полностью лишал себя заработка.) Мы сядем с подносами у пылающего камина, будем нежиться в тепле взаимной любви, по очереди открывать подарки и читать вслух Диккенса. (Как я представляла себе сочетание мамы и Диккенса – загадка.)
Как Мейбл обычно говорила мне, если я витала в облаках: “Проснись, детка!” С первого же Рождества на Семидесятой улице я поняла, что все мои мечты бесплотны – этот праздник для моих родителей был всего лишь очередным поводом поднять свой социальный статус, устроив блистательный прием. Наши рождественские вечеринки прославились, в частности, благодаря маминой уверенности, что все, кто переступает порог нашего дома, должны получить подарок. Поэтому начиная с 22 декабря мы с родителями усаживались за обеденный стол, на котором были разложены скромные подарки – елочные шары, которые мама покупала в Saks со скидкой, безделушки, которые доставались Алексу бесплатно в ювелирном или косметическом отделе журнала, – и ночи напролет заворачивали и надписывали их. Мама выступала главнокомандующим этого безумия, но сама ничего не писала, ссылаясь на поврежденную руку, и только диктовала нам:
– Бубусики, пишем: “Дорогая Джейн, с Рождеством. Татьяна и Алекс”. А теперь: “Дорогой Фернан, с наилучшими пожеланиями! ”
Мы с Алексом по необходимости переводили поздравления с французского на английский и засиживались над этими надписями за полночь, пока мама заворачивала подарки в золотую фольгу и перевязывала белыми атласными ленточками. (Она всю жизнь заворачивала рождественские подарки только так – за много лет у нее накопилось столько белых атласных ленточек и золотой фольги, что остатки их до сих пор хранятся у меня в шкафу.)
С 1940-х годов наши рождественские приемы прославились в городе, укрепляя репутацию Либерманов как самых милых и щедрых хозяев. Они, как это принято у русских, жили в постоянных долгах, пробавляясь на займах у Левалей или Грегори, счета от дантистов, врачей и плотников лежали неоплаченными, но мы клали под елку очаровательные подарки для восьмидесяти человек. Ближе к полуночи, когда наступало время distribution des cadeaux[129], как мы его называли, меня, как правило, отсылали в ванную быстро перезавернуть и надписать принесенный нам подарок, чтобы вручить его какому-нибудь нежданному гостю. Разительный контраст между доходами родителей и их щедростью вошел в предания, и их друзья даже изобрели для этого явления название: либерманщество.
К началу 1950-х по образцу рождественских вечеринок уже строились все празднества года и Семидесятая улица украсилась тремя мишленовскими звездочками на международной карте. За один вечер у Либерманов могли появиться: Юл Бриннер[130]1, горячий мамин поклонник, который эмигрировал в США через Константинополь; Виола и Рэймонд Лоуи, промышленный дизайнер, который определял внешний вид Америки в середине века – от бутылок кока-колы до автомобилей; Чарльз Аддамс[131] и его утонченная жена-арфистка Дафна; писатели Джон и Джейн Гантеры, которые снимали на лето дом рядом с бывшим директором Музея современного искусства Альфредом Барром-младшим, и приятельствовали с ним (это знакомство очень пригодилось Алексу, когда он вернулся к карьере художника); напоминавшая птицу русская кутюрье Валентина, которая много лет жила в menage a trois со своим мужем Джорджем Шлее и его любовницей Гретой Гарбо; с 1950-х, когда клеймо коллаборационистки и любовницы Шпаца поблекло, там стала появляться Коко Шанель с жестким выражением лица и неизменной сигареткой “Голуаз” в презрительно сжатых губах. Когда в Нью-Йорк приезжали другие парижские знаменитости – Кристиан Диор, Жак Фат[132], Пьер Бальмен[133], Жан Дессе[134], – они обязательно заходили к нам. (Единственным исключением был величественный Кристобаль Баленсиага[135], который считал Либерманов парвеню и появлялся исключительно у злейшего врага Алекса – Дианы Бриланд из журнала Harper's Bazaar.) В этом списке недостает Марлен Дитрих, ближайшей маминой подруги в 1950-1960-х годах, которая намеренно появлялась у Либерманов в самой простой одежде – джинсах и водолазке или даже в белой форме медсестры, которую надевала, когда ехала гулять с внуками в Центральный парк.
Из коллег Алекса по Condé Nast у нас, помимо вечного Лео Лермана, появлялись Джессика Дейвс – пухленькая, невзрачная и застенчивая женщина, которая в 1950-х сменила Эдну Вулман Чейз на посту главного редактора; Джессика по рассеянности то и дело отправляла в рот вместе с канапе вуаль маленькой черной шляпки, которую никогда не снимала, и могла случайно украсить клейкой массой из тунца или печени; шляпка клонилась всё ниже и ниже, пока ее владелица не осознавала свой промах и со стонами бежала в ванную отмываться. Была здесь и Бабе Роулингс, главный редактор отдела моды, чьи губы цвета розовый “электрик” в сочетании с вертикально зачесанными платиновыми волосами, до блеска намазанными прозрачным гуталином, создавали образ, напоминавший мультяшного персонажа, которого ударило током. Она была невероятна хороша собой и даже в прохладную погоду щеголяла узкими ступнями в открытых сандалиях. Ее всегда сопровождала пара длинношерстных такс и муж, талантливый фотограф Джон Роулингс – человек исключительной красоты и любезности. Бабе обычно с важным видом крутилась в гуще толпы и изрекала предсказания на грядущий сезон, словно пифия мира моды: “Будут носить только маленькие головки!” “Подол обрежут на пять сантиметров минимум!” Кроме того, присутствовал фотограф Хорст. П. Хорст, крепко сбитый, добродушный немецкий беженец с армейской стрижкой, который первым стал учить меня танцевать; он узнал, что мне нравится фокстрот, и когда кто-нибудь из наших музыкантов брался за гитару, он ставил мои ноги к себе на ботинки, и мы пускались в пляс. Ирвинг Пенн и его ангельски-прелестная жена Лиза Фонссангрив (об их любви ходили легенды) держались куда тише, и через полчаса, как правило, сбегали домой, к сыну и уединенному дому на Лонг-Айленде; так же поступал и сдержанный Эрвин Блюменфельд – ядовитый и циничный интеллектуал, который никогда не задерживался на подобных мещанских сборищах более, чем на двадцать минут.
А в центре общества, разумеется, была мама, движущая сила вечера: она вращалась по комнате, выдавая провокационные заявления (“Достоевский – всего лишь журналист!”, “Все знают, что у женщин мозг меньше, чем у мужчин”), диктовала и критиковала: “Вам ужасно не идет ваш новый цвет, покрасьтесь обратно в блондинку” или “Вы купили это платье в Bloomingdales? Да там одно дерьмо продают!” Зачастую ее замечания шокировали окружающих.
– По походке вашей жены я вижу, клиторальный или вагинальный у нее оргазм, – сообщила она как-то потрясенному Андре Эммериху.
Самое ужасное воспоминание из подобных маминых “острот” относится к одному дождливому вечеру, когда я пришла домой с подружкой по колледжу. На ней был дождевик, и мы попытались проскользнуть на второй этаж, но были перехвачены: – Сними это немедленно! – воскликнула мама. – Он похож на презерватив!
В конце 1940-х годов музыка на наших сборищах сменилась, потому что Зизи де Свирски, Клод Альфан и Саша де Манзьярли вернулись во Францию. После их отъезда маминым кумиром стал князь Давид Чавчавадзе[136] чья мать Нина была урожденной Романовой. “У Давида царское происхождение”, – не уставала подчеркивать мама. Он часто ночевал у нас, когда брал увольнительную из армии в 1940-х и впоследствии, когда закончил Йель. Это был ехидный и обаятельный эмигрант второго поколения шестью годами старше меня, в которого я была влюблена с юных лет; он играл на гитаре и пел душераздирающие русские песни, в основном военно-патриотического характера: “Моя Москва”, “Катюша” и “Стенька Разин”.
Лучше всего с той поры мне запомнилась русскость всего происходящего: музыка, которая наполняла комнаты в конце 1940-х, белогвардейские офицеры, которые по маминой просьбе учили меня русским стихам (благодаря этому я и по сей день помню начало “Руслана и Людмилы”), и, наконец, игральные марафоны, которые устраивались по выходным. В те субботы, когда мы не давали обеды, к 11 утра в гостиной ставились два стола для бриджа, и за ними устраивались Алекс с Татьяной, София Гимбель, Гриша и Лидия Грегори и другие сменявшие друг друга игроки – они шлепали картами по столу до 6 вечера, когда подавали ужин. В такие субботы в доме царила тишина, нарушаемая только шорохом тасуемых карт и восклицаниями на одном из трех языков: “Поднимаю! Пас!”
Больше всего гости любили бридж, а впоследствии – канасту. К Алексу порой приходили поиграть в шашки. В отличие от мамы и дяди Пата, которые вели игру осторожно и боялись поражения, Алекс любил высокие ставки и хвастался, что он один из тех игроков Достоевского, кто (как мой дед) может поставить последний доллар. Оскар де ла Рента[137], который считал Либерманов самыми “загадочными и непостижимыми” людьми из всех, кого ему доводилось встречать, много лет играл с Алексом по выходным в шашки и рассказывал, что восторг от риска совершенно затмевал любое расстройство от проигрыша.
– Больше десяти лет Алекс регулярно и неизменно весело проигрывал мне несколько сотен долларов в неделю, – вспоминает Оскар, который прославился своей великолепной игрой. – Он всё шутил, что за несколько лет полностью оплатит мне бассейн.
Игра продолжалась с утра до поздней ночи и летом – в доме на Лонг-Айленде, который мы снимали с Пацевичами. Из-за нее в подростковом возрасте я отдалилась от родителей: поняв, что теперь у них нет на меня времени даже в те два дня, в которые мы могли бы насладиться каким-то подобием семейной жизни, я с радостью стала вливаться в другие семьи – поначалу своих одноклассников, а на протяжении первых двух лет учебы в колледже в семью моего милого жениха, Питера Бергарда. Питер был приемным сыном великого баритона Лоуренса Тиббетта, который вырастил его как родного. В этом огромном, пьющем клане было столько детей от стольких браков, что Тиббетты потакали решительно всем прихотям своих отпрысков. Дом Тиббеттов стал для меня первым примером семьи, жизнь которой сосредоточена вокруг детей; и в течение двух лет их теплое гостеприимство дарило мне чувство дома, а также множество роскошных обедов, похмельных страданий и билетов на оперу в первый ряд.
Но вернемся в нашу гостиную: щедрость Либерманов прославила наш дом как “типично русский”. Но были или нет в их приемах уют и душевность, которыми так славятся русские? Так считали не все. Кэтлин Блюменфельд, которую Алекс нанял, чтобы она управляла студиями Vogue (золовка фотографа Эрвина Блюменфельда), считала, что вечеринки моих родителей были “совершенно искусственными и устраивались только для того, чтобы поразить нью-йоркцев широким кругом общения Либерманов”.
– В этих вечерах не было ни малейшей искренности, – рассказала она мне недавно. – Атмосфера была ледяной, потому что все смертельно боялись Татьяну. Все, кого я знала, чувствовали себя чужими и всё равно ходили туда, потому что это был центр нью-йоркской жизни.
И, наконец, что думал Алекс об этих вечеринках? Обычно он маячил где-то в углу, как высококлассный метрдотель, с самым дружелюбным и отстраненным видом. После маминой смерти я поняла, что он тоже их ненавидел. Что он считал себя человеком без единого друга. Что большинство окружающих наводили на него смертельную скуку. Что он никем не интересовался, а гостеприимство для него было всего лишь полезным умением, очередной тоскливой обязанностью, которая развлекала Татьяну и помогала ему самому подниматься по карьерной лестнице. Впоследствии Алекс особенно злился от того, что мама поощряла нас с мужем во время визитов в Нью-Йорк приглашать своих друзей на Семидесятую улицу. Все те годы, когда моя бывшая детская была нашей нью-йоркской спальней, мама смертельно обижалась, если мы собирались в ресторан с друзьями и не приводили их предварительно домой. Одной из первых фраз, которую Алекс произнес через несколько часов после маминой смерти – скорее рявкнул, чем произнес, и это был первый предвестник тех пугающих перемен, которые наступили впоследствии, – была: “Больше никаких гостей в моем доме!”.
И тут мне вспоминаются мои шестнадцать лет. За мной ухаживал единственный русский кавалер, который мне достался из маминого круга и который, как это ни странно, выводил из себя Алекса больше, чем любой другой мой молодой человек. Князю Георгию Васильчикову было двадцать восемь лет, и, как большинство русских аристократов, он вырос в окружении французских, немецких и английских гувернанток, а потому свободно говорил на четырех языках. Он с семьей эмигрировал из России в Литву, потом во Францию, и во время войны участвовал во французском Сопротивлении. После освобождения Франции его таланты привлекли внимание организаторов Нюрнбергского процесса, затем он вошел в состав пионеров синхронного перевода. Его сестра, княжна Татьяна Меттерних[138], была подругой Елены Шуваловой, которая представила его Либерманам в 1946 году, когда он приехал в Нью-Йорк, чтобы работать в недавно основанной Организации Объединенных Наций. “Джорджи”, как все его звали, был коренастым мужчиной, напоминавшим льва, с гривой белокурых волос, голубыми глазами и длинными ресницами. В его обаянии было что-то по-славянски развратное, и даже то, что он чудовищно заикался на всех четырех языках, не мешало восхищаться его острым умом и образованностью. Феномен Джорджи, однако, заключался в том, что, взяв в руки микрофон, он тут же переставал заикаться и переходил с одного языка на другой свободнее, чем любой из обширного штата переводчиков ООН: чтобы совершить простейшее действие, ему, очевидно, требовалась многотысячная аудитория.
Алекса ужасно беспокоила наша разница в возрасте (двенадцать лет) и то, что Джорджи вращался в крайне разношерстном обществе, куда я с радостью нырнула: разведенные женщины с сомнительными любовниками из Латинской Америки, дворяне из Центральной Европы, не гнушавшиеся наркотиков. Я встречалась с Джорджи последние два школьных года и, вспоминая, как мало мы спали и как много пили, до сих пор не верю, что всё же закончила учебу и поступила в Брин-Мор. Хотя у Джорджи была масса возможностей воспользоваться моей невинностью, и, по маминому выражению, он вел себя со мной как “истинный джентльмен”, мы с ним предавались страстным ласкам. Мама, видимо, об этом прекрасно знала, но поскольку Джорджи был князем, а его старшая сестра – княгиней Меттерних, наши шалости ее не беспокоили. От перспективы такого блистательного союза (“Это же не просто аристократия, это практически королевская кровь!” – говорила она о Васильчиковых) в мамином воображении начинали носиться гербы и короны, и ее уже совершенно не волновало, что происходит с моим телом.
Поэтому все тревоги достались Алексу. В прошлом его отец был воинствующим социалистом, и, возможно, это вселило в Алекса тайную нелюбовь к русскому дворянству. Помимо этого, его очевидно пугала мысль, что его юную дочь растлит двадцативосьмилетний мужчина. Помню, как он как-то раз загонял меня в ночи домой и пробормотал под нос: “Царистская шваль!” Когда мы возвращались со свиданий, он неизменно поджидал нас в белом пластиковом кресле у дверей гостиной, притворяясь, что читает, и нервно дергал усом. Стоило нам подняться по лестнице, он отсылал Джорджи ледяным “прощайте” и кивком головы отправлял меня в детскую. Прошло более полувека, и Джорджи, который теперь прикован к инвалидному креслу и живет в швейцарской деревушке, вспоминает, что за все годы своих романтических приключений никогда не встречал такого агрессивного собственника, как Алекс.
– Казалось, он держит в кармане заряженный пистолет, – вспоминает Джорджи.
Оглядываясь назад, я понимаю, что по мере моего взросления Алекс переживал за меня всё больше, и не только потому, что любил меня: сексуальные темы вызывали в нем чудовищную нервозность вплоть до срывов.
Итак, гостиная на Семидесятой улице, где проходили шумные приемы и инспектировалась моя личная жизнь, отнюдь не была уютной комнаткой: скорее наоборот, это был выставочный зал, наподобие тех, что бывают в ателье или автомобильных магазинах, – лишенный всякой индивидуальности и слегка безвкусный. Это было место, где выносили приговоры – дорогим гостям, их ужасным или великолепным нарядам, их милым или жалким супругам, или же моим кавалерам.
Мама также выступала здесь инспектором. Больше всего на свете она любила знакомиться с людьми и демонстрировать тонкое понимание человеческой натуры. Год за годом якобы непринужденно мама спускалась по лестнице, пока я развлекала своих кавалеров, а позднее – наших с мужем друзей. Мы пили свою кока-колу или мартини, а она притворялась, что идет в кухню за чаем, но брови ее были вопросительно вздернуты, будто она спрашивала: “Можно к вам на минутку?” Я неизменно пасовала и приглашала ее присоединиться.
– Я на секундочку, – говорила она застенчиво, устраивалась на кушетке и несколько минут щебетала о погоде, ресторане или вечеринке, куда мы направлялись. Потом она исчезала, и из их спальни доносились голоса: она давала Алексу отчет. В маминых изысканиях, однако, не было ни малейшего проявления собственничества – ее искренне интересовали другие люди, и она вечно стремилась поразить меня своей проницательностью. “Очень милый”, – говорила она на следующий день, или: “Через пару недель они тебе до смерти наскучат!”, или даже угрожающе: “Берегись!” Если посетители действительно попадали в две последние категории, она торжествующе восклицала: “Видишь, видишь, я всегда права!” “Твоя мама никогда не ошибается”, – кротко добавлял Алекс, если присутствовал при нашем разговоре – этой фразой было легче всего ее утихомирить.
Подобной оценке подвергся тридцатидевятилетний американский художник Клив Грей осенью 1957 года, несколько недель спустя после моего возвращения из Парижа. Мне тогда было двадцать шесть. Мы встретились за обедом в Коннектикуте, где он тогда жил, и продолжили встречаться – обычно, для удобства, в городе. К тому моменту, когда он впервые посетил Семидесятую улицу, мама успела заподозрить, что что-то происходит. Клив говорил по-французски лучше других моих кавалеров, и потому разобрал, что мама говорила Алексу:
– Бубусик, очень милый молодой человек, – сообщила она, вернувшись из гостиной, – и вовсе не педераст!
Три месяца спустя, в феврале 1957 года, Клив Грей, стоя у окна всё той же гостиной, попросил у Алекса моей руки.
– Это будет счастливый брак, – сказал Алекс, и усы его задрожали от избытка чувств. Он оказался совершенно прав.
Глава 17 Наш дом № II
Поднимаясь со второго на третий этаж, вы проходили мимо одного из проявлений маминого экстравагантного вкуса – очаровательного неаполитанского херувимчика из крашеного дерева, который устроился в лестничном повороте. На стенах красовались черно-белые работы второстепенных художников из круга Либерманов: портреты и иллюстрации из Vogue Рене Буше, Эрика, Феликса Топольски и даже мои рисунки со времен моей учебы в школе Лиги студентов-художников Нью-Йорка. Правая дверь вела с лестничной площадки в спальню родителей с видом на сад, а левая – в мою комнату с видом на Семидесятую улицу.
В гостиной выставляли себя напоказ, производили впечатление на окружающих и выносили вердикты; тогда как родительская спальня ассоциировалась у меня с наклонностями каждого из них – самосозерцанием у Алекса и нарциссизмом у матери. Алтарем и центральным предметом в этой спальне был ярко освещенный туалетный столик, который стоял ровно по центру дальней стены, между двумя окнами в бледно-серых льняных шторах. Поверхность его была зеркальной, стена вокруг тоже, а по бокам стояли тройные лампы с абажурами из белого металла с узором из листьев. Сходство с алтарем усиливалось благодаря серебряному туалетному набору, украшенному гербами, который когда-то стоял в маминой синей ванной в Париже и отправился в изгнание вместе с нами. У противоположных стен стояли две одинаковые широкие кровати, обитые серым атласным дамастом. У изголовья маминой кровати стояли книжные полки с русскими книгами. У изголовья кровати Алекса стоял стол, на котором он держал записки с планами на неделю и памятные предметы: фотографии родителей, нас с мамой и альбом со снимками Венеции, которые я сделала во время первой нашей послевоенной поездки. Этот альбом хранился у него на столе, пока он не покинул дом в 1991 году. Фотография стала первым видом искусства, к которому я ощутила склонность, и я посвятила альбом ему: “Обожаемому Алексу мои первые попытки”. Подозреваю, что этот предмет имел для него сентиментальную ценность в том числе и потому, что служил еще одной связующей нас нитью: в юношестве он тоже сначала увлекался фотографией.
Все портреты на стенах родительской спальни семейные: единственный мой портрет работы Алекса – он написал меня сангиной, когда мы еще жили в Париже, мне было восемь лет, и я позировала ему в балетной пачке; к 1960-м годам к нему добавились фотографии моих сыновей, сделанные Алексом, и нас шестерых, снятые Буше, Верте или Иреной Уайли; а позднее – первые рисунки моих детей. Иногда я мысленно открываю дверь в эту комнату и вижу Алекса – он лежит на спине в своей постели, руки покоятся на животе, глаза либо полуоткрыты, если он отдыхает (но не спит), либо широко распахнуты. Таким образом он отдыхал каждый день между шестью и семью, вне зависимости от того, шли ли они куда-нибудь вечером. В те вечера, когда они никуда не ходили, Алекс надолго скрывался в спальне, чтобы избежать потока посетителей, которых мама принимала перед ужином. Я уважала его право на покой, потому что помнила, что он – инвалид, который уже несколько раз боролся со смертью, и его здоровье нужно оберегать от маминой ненасытной потребности в человеческом обществе, людском гомоне.
Маму я мысленно вижу сидящей за туалетным столиком – она красится или укладывает волосы так же самозабвенно, как и в парижской ванной. С возрастом, впрочем, она стала смотреть на себя более критично, с самоуничижительным удовлетворением. У каждой из кроватей стоит тумбочка. У Алекса на ней царит аскетичный порядок: стакан с водой и стопка журналов, которые он читает на этой неделе. Лекарства хранятся в шкафу в его ванной, потому что он не любит, чтобы о них знали – я ни разу в жизни не видала, чтобы он выпил таблетку прилюдно. Мамина тумбочка завалена иностранными журналами и лекарствами. Из французских журналов там можно обнаружить Match, Evenements de Paris и Jours de France. (Последний полон сплетен о европейских аристократах: помолвки и разводы испанских или бельгийских наследных принцесс, бальные платья, которые голландская королева носила во время визита шведского короля, и так далее.) Мама так и не выучила английский в достаточной степени, чтобы читать The New York Times или прочесть больше пары абзацев в любой моей книге, и с возрастом язык изгнания стал всё больше раздражать и утомлять ее. Все лекарства она хранит на полке тумбочки: они нужны для того, чтобы взбадривать ее, лечить мигрени и другие придуманные или реальные боли и помогать уснуть. Она пристрастилась к этому замкнутому циклу – тонизирующее, болеутоляющее, снотворное – очень давно, возможно, после автокатастрофы в 1936-м. Все знают о ее пристрастии, она не то что не скрывает его – напротив, словно выставляет напоказ. Услышав чьи-то жалобы на утреннюю слабость, она восклицала:
– Делай как я! Выпей декседрина с утра и сразу придешь в себя!
Если же ее собеседник начинал сомневаться, она отвечала:
– Если боишься, что не уснешь, выпей перед сном нем-бутал, будешь спать как бревно! Я их пью уже сто лет!
Ее пропаганда была столь действенной, что даже я ненадолго ей поддалась, хотя в переходном возрасте и не склонна была подражать матери. Всё началось в старших классах. Видимо, я рассказала маме, как важны для меня весенние экзамены, как они повлияют на поступление в колледж. Я твердо вознамерилась поступить в колледж Брин-Мор, и мама, видимо, почувствовала мою решимость: как-то вечером, когда я корпела над Мильтоном, вошла ко мне и протянула какую-то таблетку:
– Выпей перед экзаменом, – сказала она. – Вот увидишь, это чудо какое-то.
В самом деле, на экзамене я необыкновенно хорошо соображала, и меня поразил не только высокий балл, но и та легкость, с которой я излагала свои идеи. Я говорю “поразил”, а не “обрадовал”, потому что мне не нравилась сама идея подобных “улучшителей”. Я и без того пребывала тогда в постоянном напряжении, и даже в состоянии покоя у меня необыкновенно часто билось сердце, поэтому этот опыт меня встревожил и даже напугал. Однако с тех пор я иногда брала у мамы таблетку – перед экзаменом по английскому или философии. Из суеверных соображений (хотя возможно, во мне говорил здравый смысл) перед другими экзаменами я ничего не принимала, понимая, что перед математикой или даже историей мне это только помешает. Мама бывала разочарована, когда я шла на экзамен без таблетки: – Ты уверена, что не хочешь взбодриться?
Так же мама приохотила меня к снотворному. Со смерти отца меня преследовала бессонница, и лет с шестнадцати я не давала маме спать, меряя по ночам комнату шагами. Как-то ночью она вошла ко мне с очередной таблеткой – на сей раз желтой, и раздраженно сказала:
– Хватит сходить с ума, выпей таблетку и ложись спать! Эта привычка оказалась куда более тяжелой. К девятнадцати годам я принимала нембутал пару раз в неделю, когда не могла уснуть. Проработав несколько недель на своей первой работе, я окончательно пристрастилась к снотворному. Я работала в ночную смену в информационном агентстве United Press, где писала бюллетени для радио, а жила в подвальной комнатушке на Одиннадцатой улице. Напряженная работа (дело было в 1953 году во время репрессий Маккарти[139]) и грохот грузовиков, то и дело проезжающих мимо моих окон, привели к тому, что я пила в два-три раза больше таблеток, чем прежде.
Мамина привычка пичкать меня лекарствами могла привести к катастрофическим последствиям. Мне потребовалось счастливо выйти замуж и переехать в сравнительно тихую сельскую местность, чтобы окончательно попрощаться с барбитуратами. Но еще много лет ушло у меня на то, чтобы признать – большую часть жизни мама страдала наркотической зависимостью, именно лекарства были причиной ее пылкой энергии, обаяния и, наконец, успеха. В конце 1960-х, когда я начала подозревать, что таблетки подорвали ее здоровье, и увидела, что после выхода на пенсию она начала пить, я попыталась обсудить эту проблему с Алексом, но наткнулась на непрошибаемую стену отрицания. Он, разумеется, знал обо всех ее зависимостях, но яростно защищал ее чистый и безгрешный образ – точно так же, как все эти годы ограждал ее от реальной жизни и любых дурных новостей.
– Не знаю, о чем ты, – отрезал он холодно, и усы его зловеще зашевелились. – Она принимает совершенно обычное количество лекарств.
Но оставим тему маминых пристрастий и пагубного попустительства со стороны Алекса. Во многом высокомерное обаяние Либерманов и их власть над умами окражающих основывались на их бесконечной самоуверенности. Они строили легенду о своем счастливом браке с тщательностью советской пропагандистской машины: ни в коем случае нельзя было признавать наличие каких-либо щербинок в идеальном фасаде – даже если их ясно видели все окружающие. Подобно кремлевским верхам, Либерманы источали абсолютную уверенность, что каждая сторона их жизни, каждая привычка и склонность совершенна и гармонична.
Не могу оставить спальню родителей – ту самую комнату, в которую я вошла как-то в пятнадцать лет, и Алекс сказал мне: “Мой отец умер – мы становимся взрослыми только тогда, когда умирают наши родители”; ту самую комнату, в которой мы сказали родителям, что у нас будет ребенок, – не вспомнив несколько эпизодов, которые убедили меня в том, что Алекс с мамой в сексуальном плане совершенно не искушены и даже несколько наивны.
Эпизод первый. В юности я была куда более просвещена в этом вопросе, чем полагали родители. Как-то раз Алекс вызвал меня к себе для “разговора”. Это был 1949 год или около того – на стенах уже висели первые его минималистические рисунки, простые черные круги на белом фоне. Я сижу на высоком стуле, спиной к окну. Алекс мягко, очень подробно описывает способы, которыми может воспользоваться женщина, чтобы не забеременеть – в голосе его звучит смущение, губы ханжески поджаты.
– Существует такая вещь, как презерватив, – говорит он. – Это такие резиновые предметы, которые мужчины надевают на свои… штуки… ну ты поняла.
Возможно, он начал понимать, что я уже кое-что знаю об этом вопросе, хотя я тщательно оберегала свою личную жизнь от своих навязчивых родителей.
– А бывают женские колпачки – насколько я знаю, вполне удобные. Мужчина может также выйти перед оргазмом… это традиционный метод, – он пытается улыбнуться. – Но самый лучший метод, – и в голосе его наконец-то звучит искренний энтузиазм, – это воздержание!
Проходит несколько секунд, и он начинает понимать, какой эффект оказало на меня последнее высказывание.
– Было бы прекрасно, если бы ты сохраняла невинность до свадьбы, – тихо говорит он. – Твоя мать отказывала мужчинам, держалась неприступно, и в этом кроется секрет ее обаяния…
– У меня уже есть колпачок, – перебила его я.
Второй эпизод произошел тремя десятилетиями позже. Я была замужем уже двадцать пять лет, и у моего мужа сложились очень близкие отношения с Алексом. У нас с Кливом возникли вполне закономерные сложности в постели, когда он начал принимать сердечные лекарства. Когда мы были в Нью-Йорке, Клив рассказал мне, что поделился нашими проблемами с Алексом. Я была в ярости. Хотя я с юности стремилась держать свою личную жизнь в тайне, мой муж с готовностью отвечал на любые вопросы Алекса – так же, как когда-то позволял вмешиваться во всё своим родителям. Дело было сделано, но я пошла навещать Алекса, предчувствуя недоброе.
– Здравствуй, милая, – сказал он. – Мне очень жаль, что у вас такие проблемы.
Я пробормотала, что это всё неважно, но он не спешил уходить от темы.
– Но ты же знаешь, что можно испытать оргазм и без эрекции?
– Без эрекции? – переспросила я недоверчиво. – Хорошая шутка!
– Уверяю тебя, – сказал он раздраженно – как обычно, когда я ему противоречила. В этих случаях он неизбежно повторял только что сказанное по слогам: – Мож-но-ис-пы-тать-ор-газм-без-э-рек-ци-и!
Всё это звучит совершенно дико – вроде учений разных сект, которые разрешают только секс без пенетрации. Но я не стала спорить. Я пожелала ему спокойной ночи, поцеловала в щеку (он всё еще хмурился, раздраженный моим недоверием) и вышла, думая: “Что за бред!”
Покинем теперь спальню родителей и перейдем ко мне в комнату.
Войдя, вы прежде всего видите большой белый письменный стол, за которым я проучилась все шесть школьных лет и четыре года колледжа. Остальная мебель не сочетается друг с другом: широкая кровать с покрывалом из чинца, белый комод, белый туалетный столик между двумя зеркальными дверями – одна ведет на лестницу, другая в ванную. Письменный стол 1920-х годов мама купила на аукционе и перекрасила из грязно-бурого в сверкающий белый – за ним я училась, мечтала, вела дневник, сочиняла вдохновенные послания разнообразным Лотарио[140] и выпускную работу по Кьеркегору, читала романы Достоевского и прикалывала на стенку фотографии своих кумиров (де Голля, Энтони Идена, Риты Хэйворт). В этой комнате и за этим столом я прекратила оплакивать своего отца и стала забывать, если не совсем отвергать его.
В своем ключевом эссе “Печаль и меланхолия” (первоначальное и куда более точное название этой работы – “Trauer Arbeit”, “Труд горя”) Зигмунд Фрейд постоянно напоминает нам, что скорбь по близким – это долгий и тяжелый труд, который продолжается куда дольше, чем нам позволяют социальные нормы общества. Важнейшей его составляющей является подробное изучение каждой ассоциации, каждого места и предмета, связанного с ушедшим. (Не спешите убирать их вещи и продолжайте чистить их серебро.) Так же важны традиционные ритуалы скорби (поминальные службы, визиты на кладбище или в памятное место), подтверждающие, что близкого человека больше с нами нет. В этом медленном, тяжелом процессе, пишет Фрейд, каждое из воспоминаний и ожиданий, в которых либидо было связано с утраченным объектом, сталкивается с реальностью, в которой этого объекта больше не существует.
Что же случается, если огромные запасы энергии, которые могли бы высвободиться через горе, не находят себе выхода в ритуалах и действиях? Может возникнуть то, что Фрейд называет патологическим горем. Подобно покойникам в греческой литературе, которые преследовали живых, если их неправильно хоронили – уничтожали посадки, разрушали города, – энергия скорби, если ее подавлять, может нанести вам огромный ущерб. Чувства начинают уничтожать вас и могут перерасти в депрессию – Фрейд называл ее более звучным и традиционным словом “меланхолия”. И, что особенно опасно, человек в депрессии может начать ненавидеть и разрушать себя: “Эта картина преимущественно морального бреда преуменьшения дополняется бессонницей <…> и <…> преодолением влечения, которое заставляет всё живущее цепляться за жизнь”[141].
Перечитывая Фрейда, я наконец-то осознала эмоциональный контекст ночных рыданий, которые терзали меня первые два года после смерти отца. В моем случае определенные географические и исторические факторы делали невозможным проведение традиционных ритуалов, необходимых для того, чтобы, как пишет Фрейд, подтвердить уход любимого человека. Его могила на военном кладбище в Гибралтаре лежала за тысячу километров от меня, а война сделала ее и вовсе недоступной. Кроме того, Алекс ненавидел, когда мы о нем говорили, поэтому мы с мамой и вовсе не упоминали погибшего офицера, похороненного где-то за океаном.
Еще одной причиной приступов горя, которое охватывало меня в чужих домах, было то, что мама с Алексом откровенно избегали меня в первые два года нашей жизни в Нью-Йорке. Стоило мне устроиться в своей уютной комнате на Семидесятой улице, впервые ощутить, что я пускаю корни, горе мое во многом стихло. Тем временем мои новые родители ужинали, хохотали, играли и развлекались, искали дружбы богатых, талантливых и наделенных властью – и я понемногу занялась тем же. Я забывала об отце вместе с ними, потому что так было проще. Наша семья родилась совсем недавно, нас ожидало блестящее будущее в новой стране, и я перенесла на своего обаятельного, щедрого отчима большую часть любви, которую испытывала когда-то к погибшему отцу. Пляска забвения увлекла и меня, я стала предателем и познала, насколько легче хоронить свое прошлое, чем своих мертвецов. Что же до ночных кошмаров, в юности я успешно их подавляла, и они стирались из памяти вместе с воспоминаниями об отце и любовью к нему.
В 1948 году, поступив в колледж, я получила роль Исмены в постановке “Антигоны” Жана Ануя. (Это был единственный раз, когда родители навестили меня в колледже – они объявили, что я потрясающе играла, и еще несколько лет твердили, что я зарываю талант в землю.) В тексте пьесы обнаружились многие мотивы, которые недавно прояснились для меня на курсе по западной цивилизации: Антигона, хранительница древних традиций, сталкивается со своим дядей Креоном, архетипическим технократом, который ради своей выгоды готов попрать любой божественный закон. Креон обвинил брата Антигоны в измене, казнил и запретил хоронить его. Не слушая советов своей благоразумной сестры Исмены, Антигона спасает своего брата от величайшего бесчестия – стать пищей для бродячих собак и стервятников. Следуя голосу совести и греческой религии, она вопреки запрету Креона хоронит брата, и ее саму хоронят заживо. Женский очаг против мужского полиса. Пока я учу свою роль – я, протомарксистка, воинствующая атеистка с мальчишескими повадками – всецело симпатизирую кроткой, пугливой Йемене, и даже радуюсь, когда читаю, как хвалит ее тиран Креон. Выживание и благополучие превыше всего! Да победят силы природы! Антигона в моих глазах безнадежно устарела, ее страсть к бессмысленным ритуалам кажется мне нездоровой. Как я презираю Антигону, когда она говорит Йемене: “Тебе суждено жить, а мне – умереть”. Как я наслаждалась, отчитывая сестру за “глупости”, за “одержимость смертью”.
Только много лет спустя я осознала, что общего между покорностью Исмены и моей собственной трусостью. Только недавно я поняла, что мы с матерью много лет играли роль Исмены – “прелестного воплощения банальности”, как назвал ее Кьеркегор. И я играла ее еще много лет.
Через год после роли Исмены я получаю тревожное письмо от дяди Андре и тети Симоны Монестье, которых навещала два предыдущих года. Они сообщают, что тело отца, захороненное в Гибралтаре, должны репатриировать: в июле его останки привезут в семейный склеп в Бретани – и вся семья дю Плесси собирется, чтобы проводить его, разумеется, все ждут, что я приеду. Помню, на каком месте я стояла, когда читала это письмо, помню, как светило в окно апрельское солнце. Помню, какой уязвленной я себя почувствовала, как будто это письмо мне угрожало, – теперь я понимаю, что во мне всколыхнулось подавленное горе. Да как они смеют просить меня прилететь на другой конец света, чтобы принять участие в каком-то жутком бессмысленном ритуале?! Помню, что мысленно произнесла именно эти слова: “жуткий” и “бессмысленный”.
Поэтому, даже несмотря на то, что я собиралась тем летом во Францию, я написала Монестье, что не приеду – не могу в этом году никуда поехать.
“Спасибо, что написали мне. К сожалению, я ничего не могу сделать. Рада, что вы там будете”.
На самом деле я имела в виду – спасибо, что лезете не в свое дело, разбирайтесь с ним сами и не трогайте меня. Вот какие чувства охватывали меня в моей спальне на Семидесятой улице. А как вознаграждали меня родители и друзья за то, что я скрывала свое горе! Как весело нам было вместе – когда они давали мне возможность побыть вместе!
Появление в нашей семье Пацевичей очень украсило мою юность. Ива Пацевич был сыном тульского губернатора. Он обладал множеством талантов, в том числе – финансовым чутьем и обаянием, и в глазах нью-йоркского общества был воплощением старинной русской аристократии. Когда случилась революция, Пацевич служил в Санкт-Петербургской Морской академии и в начале 1920-х приехал в Нью-Йорк. На какой-то вечеринке он познакомился с дочерью Наста, Натикой, и она представила его отцу. Пата тут же приняли в штат, и он помог компании не развалиться в годы Депрессии.
Дядя Патси (так я звала его) буквально обожал меня. Он был невероятно хорош собой – орлиный нос, бирюзовые глаза с длинными ресницами и белая шапка волос (он очень рано поседел). Пат двигался танцующей походкой, как Нижинский, а летом носил минималистические купальные костюмы, которые в полной мере демонстрировали его великолепную фигуру. Казалось, он умеет всё на свете – читать стихи на трех языках, виртуозно играть на фортепиано, великолепно разбираться в русской музыке (любимым композитором его был Цезарь Кюи). В молодости он был чемпионом по шахматам, но и во всех остальных играх ему не было равных, будь то домино, шашки или крокет. Он потрясающе танцевал, блистательно играл в сквош, был выдающимся поваром и садоводом – и всё это давалось ему необычайно легко – во всём его поведении сквозила spezzatura[142].
Как и Алексу, Пату очень важно было жить в роскоши. Даже когда он бедствовал после переезда в Нью-Йорк, то всё равно покупал себе по два билета в театр – второе место предназначалось для его пальто. Бо́льшую часть жизни он носил в кармане золотую палочку от Картье для перемешивания коктейлей – он мешал ею шампанское, чтобы удалить избыток газа. Чувство прекрасного не позволило бы ему взять в жены невыдающуюся красавицу – и разумеется, Нада Пацевич поражала своей внешностью. Хотя впоследствии и страдала от бесконечных измен мужа, в 1930-е годы она считалась одной из первых красавиц Англии.
Но под великолепной внешностью Пата, его лоском, образованностью и обаянием крылся твердый характер. Он был работником неутомимым и очень скромным – во всём, что не касалось карьерных амбиций или его легендарного либидо. Пат обладал всеми необходимыми качествами для руководителя знаменитого издательского дома. Подобно Алексу и многим другим эмигрантам, он был изрядным снобом, и снобизм – хотя и разного толка – был их главной объединяющей чертой. Алекс был снобом в том, что касалось достижений и славы. Снобизм Пата же был врожденным – как у придирчивого заводчика коней или собак. Его пленяло дворянство и голубая кровь, и он таял перед пожилыми гранд-дамами Нью-Йорка: миссис Корнелиус Вандербильт-младшей или миссис Джон Хэй Уитни. Алекс бы даже не взглянул в их сторону.
На следующий год после каникул в порту Джефферсон, в 1943-м, Пацевичи и Либерманы вместе сняли летний дом – эта традиция сохранялась четыре года. После первого неудачного опыта в Гринвиче (штат Коннектикут), где пруд кишел пиявками и все мы по очереди пострадали от ядовитого плюща, следующие три лета мы провели в чудном доме в Стоуни-Брук на Лонг-Айленде, который стал нам родным. Это был милый колониальный дом со множеством пристроек, принадлежащий обедневшей католической семье, вокруг которого раскинулись просторные лужайки и корт для сквоша. Последние годы в доме жило множество детей, и комнаты, за исключением спальни, которую заняли Пацевичи, были разделены на небольший клетушки, что позволяло принимать бесчисленное количество гостей. Поскольку Нада была единственным взрослым человеком, который не работал, большую часть времени мы проводили с ней вдвоем, пока мама, Алекс и дядя Пат были в городе. Как повезло маме, что она нашла мне очередную подходящую “мать”! Гитта Серени к тому времени работала и лишь иногда навещала нас по выходным.
Следующие несколько лет, пока Алекс с Патом занимались своими мужскими делами – часами обсуждали Condé Nast, играли в сквош и шахматы, – мама с Надой были неразлучны и заявляли, что они не просто лучшие подруги, но “почти как сестры”. В самом деле, это были две высокие, щедрые, образованные, властные женщины, мужья которых удовлетворяли малейшие их капризы. Они всё делали одинаково: зачесывали волной свои белокурые волосы, пользовались одной и той же рубиновой помадой и таким же лаком для ногтей, одинаково одевались летом (шорты и мужские рубашки, завязанные на талии), носили на пляж украшения в варварском духе и даже смеялись похоже (чуть наклонившись и приложив правую руку к сердцу). Но хотя Татьяна по просьбе Алекса и подружилась с Надой и в течение нескольких лет казалась к ней искренне привязанной, всё же они очень отличались друг от друга. Мама – по природе своей домоседка – ненавидела путешествия и заявляла, что покинет Семидесятую улицу только вперед ногами. Нада же была путешественницей из разряда охотников до поверхностных знаний, удивительных фактов о разных странах – будь то Афганистан, Тибет или Северная Африка. Эти сведения были необходимой пищей для ее неглубокого, но жадного ума. Мама была сосредоточена на своей карьере и каждую поставленную перед собой задачу выполняла с необыкновенным тщанием; стол Нады был завален неоконченными эссе, рассказами и романами, скопившимися там за двадцать лет.
Обе они поражали своей красотой. Мама напоминала богиню Юнону своими идеальными пропорциями и носила шестнадцатый размер одежды[143]; изящная, тоненькая Нада была похожа на богиню Диану с лиловыми глазами, острым носом с горбинкой и тонкими невыразительными губами. В ней было 175 сантиметров росту, и она носила десятый размер[144] – эта худоба на грани истощения стала предметом моих мечтаний (в чем обе они меня поддерживали).
– Танюша, тебе не кажется, что нам надо проследить за ее весом? – спрашивала Нада маму, когда они замеряли меня.
– Мне тоже так кажется, Надюша. Велю Салли не готовить больше яблочный пирог.
– А грудь у нее как выросла…
– Всегда можно сделать операцию, – успокаивала ее мама.
Как проходил обычный будний день в Стоуни-Брук: я входила к Наде в спальню, где она, уже накрашенная, жаловалась на жизнь Салли, которая стояла перед ней, держа поднос с завтраком. (“Какие у нее груди, смотреть больно, – шептала мне Салли, – как дохлые лягушки!”) “Тост клеклый, война всё никак не закончится, никуда нельзя поехать, книжка Сесила Коннолли потерялась, а ты так и не поблагодарила меня по-человечески за новый купальник, дрянная девчонка… ” – жаловалась Нада. После этого приходило время главного события дня: Нада с корзинами, пляжным ковриком и маслами традиционно отправлялась принимать солнечные ванны. В те годы священным долгом каждой модницы было загореть дочерна. По выходным, когда к нам приезжала мама, мы втроем вытягивали руки перед Патом с Алексом, чтобы те определили, кто из нас темнее. Поэтому мы с Надой днями напролет неподвижно лежали под солнцем, поворачиваясь на несколько градусов в час, чтобы загар лег ровно. Иногда мы удалялись на часок в камыши, снимали купальники и, как выражалась Нада, “шли вразнос”.
После этого мы возвращались к книгам. С детства я могла часами лежать с книгой на пляже, но в Стоуни-Брук мне редко это удавалось, потому что тетя Нада любила поболтать – она вспоминала разные случаи, рассказывала мне о своих незавершенных проектах. Память Нады напоминала универмаг после взрыва или один из тех городов третьего мира, где недостроенные гостиницы ржавеют в центре забитых машинами площадей. Она читала мне отрывки из недописанных романов и рассказов. Помню первую фразу одного из них: “Сон окружал, плескался вокруг нее, как теплая вода в ванне”. Или же она обсуждала со мной недописанные исторические изыскания – о папстве или скульптуре майя. Иногда она рассказывала события из своей жизни: например, как ее представляли королеве и она, о ужас, уронила платок; о поездке в Бухарест в 1920-е годы или в Баден-Баден в 1930-е; о том, как за ней ухаживал граф такой-то или герцог такой-то; как ее холодная, равнодушная мать бросила детей на няню, какой мрачной мужененавистницей была эта няня и какие стишки она рассказывала детям:
Мама, что это за каша? Кто-то смял клубничный пай? Тише, детка, это папа, Задавил его трамвай.Нада хохотала – ее тонкое тело всё сотрясалось от смеха, тщательно накрашенные губы кривились.
К тому времени, как Пацевичи прочно вошли в нашу жизнь, Пат пришел к власти и разлюбил Наду, после чего ударился во все тяжкие. Они старались замаскировать свои разногласия. Когда мои родители с Патом возвращались из города в пятницу вечером, супруги встречались неизменно нежно: милая Надюша! Патси, дорогой мой! В знак раскаяния он привозил ей украшения, и она пылко его благодарила. “Какая красота, – восклицали растроганные свидетели, – какой у Патси превосходный вкус!”
Но я знала, настолько напряженные у них отношения, часто слыша, как они переругиваются за стенкой, как он в итоге хлопает дверью, уходя ночевать в гостевую спальню. В 1944 году в один из летних выходных к нам приехала Пегги Райли – очаровательная девушка двадцати четырех лет, которая недавно развелась (в культурную историю Нью-Йорка она вошла как выдающаяся эссеистка и преподавательница Розамунд Бернье). Она рассказала следующую историю: в воскресенье вечером Патси предложил отвезти ее из Стоуни-Брук в Нью-Йорк. Из-за пробок дорога затянулась, и по приезде в город Пат попросил Пегги подняться с ним в квартиру, чтобы он сразу же позвонил Наде – та ужасно нервничала, когда он куда-либо ездил без нее. Успокоив жену, он тут же начал приставать к Пегги.
– Это было для него обычным делом, – сказала Розамунд, когда мы обсуждали с ней события тех лет. – Сначала он звонил жене, как пай-мальчик, а потом бросался на вас.
Дождь из покаянных драгоценностей продолжался. Самым впечатляющим из них был ошейник, усыпанный турмалинами и бриллиантами, шириной был почти восемь сантиметров – он закрывал почти всю тонкую шею Нады. Ошейник стал ее фирменным украшением (каким у мамы было ее массивное гранатовое кольцо) – пока не закончился их брак, а вместе с ним и ее нью-йоркская жизнь.
С каждым летом в Стоуни-Брук связано одно-два особенно ярких воспоминания.
1944-й: союзники высадились в Нормандии, и объединенные силы двинулись к Парижу. Мы с Надой и Салли сидели в летнем доме с начала июля: чтобы следить за продвижением войск союзников на юго-восток от пляжа Омаха, прикололи к стене столовой большую карту Западной Европы и вооружились булавками. Нада с Патом половину своей кочевнической жизни провели во Франции и следили за событиями с не меньшим азартом, чем я. “Скоро грязных бошей вышвырнут прочь, – ликовали мы каждый день, – наш любимый Париж вот-вот освободят!” Хотя Алекс, мама и Пат были далеки от политики, они радовались вместе с нами – Париж для всех нас оставался центром вселенной, нашей родиной и Меккой, откуда вышли разные цивилизации. В начале августа Либерманы и Пацевичи собрали на воскресный обед большую компанию. За столом царит сплошное либерманщество – горы еды, все хохочут и говорят на трех языках одновременно. Эдна Вулман Чейз привезла с собой дочь – писательницу Илку Чейз; блистательная Пегги Райли приехала с любовником – высоким мрачным фотографом Костей Иоффе; тетя Елена Шувалова квохчет над своим сыном Андрюшей, который скоро уедет учиться в Эксетер[145]; а наш милый друг Альберт (Альби) Корнфельд, редактор журнала House and Garden, рассказывает нам, как арендовал яхту только для того, чтобы развеять прах матери над океаном. (Когда любопытный стюарт поинтересовался, зачем Алби высунулся по пояс из иллюминатора, тот раздраженно рявкнул: “Не видишь, мать развеиваю!”) Кроме того, за столом сидят наши главные спонсоры – Беатрис и Фернан Девали, и друзья по прошлой жизни, Клод Альфан и Саша де Манзьярли – последний мне был особенно дорог.
Стол – деревянная доска на козлах – залит светом, вино течет рекой, и мы наслаждаемся жареной курицей и черничным пирогом работы Салли. Все разговоры крутятся вокруг одной-единственной темы: когда освободят наш любимый Париж? Союзные войска движутся к Сарту – сообщает Саша де Манзьярли, – после этого они выступят в направлении Ла-Манша, следующая цель – Луара. Многие настроены пессимистично – немцы зачастую сопротивляются куда более ожесточенно, чем можно было ожидать, нас ждет большое кровопролитие. Мама предполагает худшее – Алекс считает, что причина этого в пережитых ею трагедиях.
– Раньше октября они в Париж не войдут! – заявляет она мрачно. – Боши будут драться как безумные!
Но день стоит прекрасный, и большинство гостей согласны на компромисс. Тут же все начинают делать ставки – в конце концов, большинство присутствующих русские.
– Ставлю 100 долларов, что к 10 сентября Париж освободят, – говорит Саша.
– А я за то, что его освободят не раньше 15-го, – отвечает Алекс.
– Две сотни на то, что его освободят еще раньше, к 5-му! – вмешивается Пат – он любит повышать ставки.
Но я в последнее время слушала радио так же страстно, как и три года назад, когда еще не знала о смерти отца, и теперь думаю, что все они не учитывают героизм бойцов Сопротивления, которые готовят восстания по всей Франции.
– К 26 августа Париж будет освобожден! – говорю я.
– Ну, если окажется права тринадцатилетняя девочка, она заслуживает браслета Картье, – говорит Саша. – Вы ставите на 26 августа, юная леди?
– Именно так.
– Решено – Картье!
Мама, Нада и Пат светятся от гордости. Алекс недовольно поводит усами – ему не нравится, когда я попадаю в центр всеобщего внимания, и тем более, когда мужчины дарят мне украшения.
В следующие недели союзные войска так стремительно продвигаются вперед, что мы с Надой по два раза на дню переставляем булавки.
17 августа американские войска берут Орлеан, 19 августа пересекают Сену в Манте, и в тот же день участники Сопротивления устраивают восстания по всему Парижу, захватывают Ратушу и почту. 25-го наши войска входят в Париж – за день до предсказанной мной даты. В 18 часов французские войска под предводительством генерала Леклерка проходят по Елисейским Полям, а несколько часов спустя мой кумир, Шарль де Голль, въезжает в город на танке. Мы, по-прежнему в Стоуни-Брук, обнимаемся и плачем от радости, а Алекс, которого никто никогда не видел плачущим, открывает шампанское, и усы его дрожат от волнения.
Несколько недель спустя, когда мы вернулись на Семидесятую улицу, мама начинает звонить в Париж – тетя Сандра, тетя Лиля, Монестье благополучно пережили оккупацию. И, разумеется, вскоре мне доставляют черную шкатулку – галантный Саша сдержал свое слово и послал мне изящный золотой браслет. Еще много лет, пока я не упустила его из вида в одной гостинице – возможно, он был украден, возможно, потерялся в пылу страсти, – этот браслет остается самым ценным моим украшением, самым дорогим напоминанием об освобождении моей родины.
Это происходило летом 1944-го. Лето 1946-го также оставило в моей памяти два ярких воспоминания. Мне тогда было пятнадцать лет, и тетя Нада с дядей Патом подарили мне на день рождения поездку в конноспортивный лагерь в Стимбот-Спрингс – я мечтала о ней несколько лет, но родители не могли себе этого позволить. На второй неделе пребывания в лагере моя лошадь понесла, я упала и сломала ключицу – в тринадцати местах. Добрая воспитательница отвезла меня на маленьком тряском горном поезде в Денвер – такую боль я не испытывала больше никогда в жизни, даже во время родов, – и устроила меня в детскую больницу, после чего осталась там на ночь, пока мне делали первую операцию из пяти предстоящих. После того, как она вернулась на работу, я осталась в одиночестве. Родители звонили мне каждые несколько дней с наилучшими пожеланиями. Всякий раз, когда я приходила в себя от очередного наркоза, который в то время давался посредством маски с хлороформом, я испытывала приступ отчаяния. После операций, лежа в палате с другими всхлипывающими детьми, я рыдала не от неясного горя, как в прошлые годы, а от одиночества и сильной боли. Но мне и в голову не приходило кого-либо винить. Только много лет спустя, рассказывая об этом случае (“Они что, правда не приехали?” – спрашивали меня пораженные слушатели), я задумалась, почему же мама с Алексом не приехали ко мне. Но тогда, в пятнадцать лет, я уже так привыкла сама о себе заботиться, что этот вопрос даже не пришел мне в голову.
Другое воспоминание относится к тому случаю, когда мама с Алексом уговорили меня позировать обнаженной. Более полувека я подавляла это воспоминание, и оно всплыло на поверхность только после смерти мамы в 1991 году, когда я стала перебирать фотографии, которые хранились на Семидесятой улице. Не помню, как именно родители меня уговаривали, – помню, что они озвучили эту идею одним августовским утром, во время завтрака. Мамин голос звучал мягко, почти заискивающе:
– Пойдем туда вместе, Фросенька, и всё сделаем вместе.
“Туда” обозначало наш маленький пляж слева от дома, где мы с Надой любили загорать нагишом.
– Встанем там в камышах, будет очень красиво, – нежно сказал Алекс – в глазах его была мольба. – Ты не против, милая?
– Да нет, почему, – ответила я неуверенно: мне было приятно и вместе с тем неловко. Все мы щепетильно относились к своему телу, и эта идея казалась какой-то неестественной. Но услышав предложение, я уже не могла ждать, мне хотелось с этим покончить.
Мы направились в камыши, и, пока Алекс заправлял пленку, я сняла купальник, чувствуя себя оскорбленной. Хорошая ли эта идея? Можно ли родителям фотографировать свою дочь голой на пляже? А что подумают тетя Нада с дядей Патом? А если кто-нибудь увидит эти снимки – например, у Алекса на работе? А что подумают в пункте проявки фотографий? Как только Алекс начал снимать, они с мамой заговорили особенно нежно.
– Всё в порядке, милая, всё хорошо? – спрашивал Алекс.
– Красавица! – восклицала мама.
Алекс был сторонником самой идеи мусора (американская цивилизация, важно говорил он, построена на великолепном мусоре) и изводил на каждый снимок множество кадров. Пока щелкала камера, я поворачивала голову в разные стороны, стараясь выглядеть томно и величественно, и чувствовала гордость и смущение. А потом, к моему облегчению, всё кончилось, и мы вернулись в дом, где тетя Нада с дядей Патом читали на террасе газеты. Этот эпизод больше никогда не вспоминали, и я ни разу не видела этих фотографий – вообще-то я полностью вытеснила из памяти этот эпизод, и даже в разговорах с психологом он не всплывал.
Впервые я увидела эти фотографии в 1991 году и задумалась – а что этот случай говорит о моих родителях? Сделали ли они это из сентиментальных побуждений, чтобы запечатлеть последние дни моего детства? Или же для двух этих фригидных людей фотосессия стала своего рада сексуальным стимулом? Так я впервые поняла, что родители мои были склонны к вуайеризму. Где проходила граница наклонности и извращения? Я нашла эти фотографии за восемь лет до смерти Алекса, и то, что у меня и мысли не было обсудить их с ним, многое говорит о наших характерах. Иногда, впрочем, я иронически размышляла, что многие мои современницы, обнаружив подобные семейные реликвии, подали бы в суд на своего стареющего отчима и стребовали бы с него кругленькую сумму.
Каким же непостоянным был мир моих родителей. Летом 1947-го мы поехали в Европу и уже не снимали дом с Пацевичами – они разошлись. Пат влюбился в Марлен Дитрих, которая тут же стала лучшей подругой мамы с Алексом. Нада следующие двадцать лет путешествовала по теплым краям – Корсика, Сардиния, Мексика, Дордонь, греческие острова – и нигде не могла найти себе покоя, нигде не жила дольше года-двух. Все эти годы я слала ей рождественские открытки и виделась с нею в те редкие моменты, когда Нада приезжала в город, где я в тот момент жила – Париж или Нью-Йорк. Она была очень непростым человеком, и я первая страдала от ее неврозов. Но я была благодарна за ее требовательную щедрость и за материнскую любовь, которой она меня осыпала, пусть и неловко, в мои юные годы.
С тех пор как Нада с Патом разошлись, родители прекратили с ней общаться. В то временя я была занята учебой, работой, романами и не могла в полной мере осознать предательство Либерманов – женщина, которую мать называла своей сестрой, перестала быть им интересной, стоило ей развестись с начальником Алекса. Когда я выросла, то поняла, что Нада была просто примером того, как Либерманы отбрасывали ненужных людей.
Когда мы встречались, Нада из гордости не жаловалась на неверность родителей.
– Как они? – спрашивала она многозначительно, с печальной улыбкой. – Я часто вспоминаю их, особенно мою так называемую сестру. Она счастлива?
Нада умерла в Греции в 1960-х годах после долгой болезни и оставила мне то немногое из покаянных украшений Пата, которые дожили до ее последних дней.
В последующие годы мама очень сблизилась с Марлен Дитрих – на несколько лет она стала ее любимой подругой. Впервые я встретила Марлен в коттедже на побережье Лонг-Айленда, который Пат снял осенью 1948-го, через несколько месяцев после развода с Надой. Впервые я увидела звезду, когда она босиком стояла у плиты и готовила изысканный ужин. Белокурые волосы ее были тщательно взлохмачены, косметика наложена так искусно, что была практически не заметна, роскошная рубашка Пата не скрывала длинных обнаженных ног. Во время готовки она любила порассуждать об ингредиентах того или иного блюда. Однажды, говоря о том, что в говядину по-бургундски совершенно необходимо добавить полчашки бренди, она наклонилась за бутылкой и явила миру единственное, что было на ней в тот день помимо рубашки – веревочку от тампона, стыдливо болтавшуюся между ног.
“Ничего себе, – подумала я, – никаких трусиков! Эта женщина настолько исключительна, что может позволить себе показаться на людях как ей заблагорассудится!” Как и любая девочка в переходном возрасте, я постоянно стремилась стать как можно “круче”, поэтому фотографии моего предыдущего кумира, вопиюще сексуальной Риты Хэйворт, отправились в корзину. Теперь я поклонялась меланхоличным соблазнительницам, каких играла Марлен в фильмах “Шанхайский экспресс” или “Голубой ангел” (где ее героиня Лола сводила мужчин с ума и в образе андрогина в смокинге, и в сверкающем платье леди вамп с глубоким декольте). Но больше всего меня восхищала запись ее выступления на фронте – Марлен в армейской форме рисковала собой, чтобы спеть перед солдатами и тем самым поднять их боевой дух. Родители мои, понятное дело, были так же очарованы. Их восхищало, как сочетаются в ней бисексуальная авантюристка и предельно приземленная заботливая бабушка. Они годами рассказывали, как она штопала свои бисерные вечерние платья с помощью древней швейной машинки или, одетая в простой белый фартук кормила друзей ужином и отказывалась сесть с ними за стол. Следующие двадцать лет Марлен полностью удовлетворяла потребности Либерманов в том, что касалось славы и блеска.
Так складывалась жизнь в нашем летнем доме. Моя комната в квартире на Семидесятой улице, описанная выше, ассоциируется у меня с напряженными отношениями с матерью в период взросления. Одним из примеров может послужить тот день осенью 1946 года, когда я сообщила маме, что у меня начались месячные.
Мне исполнилось шестнадцать. Последние года три у всех моих одноклассниц уже были “эти дни”, как мы стыдливо называли их в школе. Я же вела свою собственную игру – каждые четыре недели отправляла записку с извинениями в спортзал, со знанием дела болтала о тампонах, прокладках, спазмах – о-о, кто-нибудь, дайте таблетку, у меня жуткие боли. Мне не с кем было поделиться своей ужасной тайной – мама со мной о таком не говорила, Алекс что-то туманно описал, но я не могла обсудить с ним свои страхи: я боялась, что месячные так никогда и не начнутся, что у меня не будет детей, что я останусь старой девой, бесполезной для всего мира… А потом, поздней осенью, всё вдруг случилось. После тренировки по баскетболу я поняла, что происходит, и бросилась домой. Видимо, было около шести вечера, потому что мама как раз вернулась с работы и заглянула ко мне в туалет. Взгляд у нее был, как обычно по возвращении домой, смущенный и настойчивый, как будто она хотела спросить: “Всё в порядке?”
– Мама, у меня начались месячные! Но я не знаю, как лучше быть: у нас многие пользуются прокладками, а некоторые тампонами, но я что-то боюсь пробовать… А ты когда-нибудь пользовалась тампонами?
Мама взглянула на меня с ужасом.
– Да я туда всё что угодно могу засунуть, хоть теннисные мячи! – внезапно заявила она и в панике исчезла.
Итак, я снова осталась одна, и мне вновь предстояло понять, что она имела в виду. К тому моменту я была начитанным подростком, хорошо разбиралась в символах. Может быть, она говорила о количестве мужчин, или метафорично намекнула, что в семье она играет мужскую роль? Или же она пыталась продемонстрировать мне свою “продвинутость” и побуждала меня открыто принять свою сексуальность и не мучаться комплексами, как она? Тогда, пожалуй, я ее поняла. Но всё равно это было очень странное заявление.
Глава 18 Вечно в моде
В моей спальне на Семидесятой улице, в нашем летнем домике и в мастерской Saks разворачивалась битва, знакомая всем матерям, но у нас она приобрела особо масштабную форму – Татьяна пыталась смириться с моим взрослением.
В детстве я страдала от того, что меня не замечают, но подростком меня мучало постоянное мамино внимание к моему телу За ее критикой крылись собственные комплексы. Больше всего она стеснялась своей обвисшей груди и не уставала повторять, что это всё из-за того, что она меня кормила (“А что еще мне было делать в Варшаве?”). Поэтому с тринадцати лет ее заветы звучали примерно так:
– Нам с тобой нельзя носить ремни, милая, у нас слишком большая грудь.
Или:
– Нам с тобой нельзя носить красные туфли, у нас слишком широкие ступни.
Или:
– Всегда завивай волосы, так тебе гораздо лучше, чем с прямыми.
Больше всего замечаний изливалось на меня в те долгожданные и страшные моменты, когда мы отправлялись за обновками – тогда мы могли себе позволить только Saks, потому что маме там полагалась большая скидка.
Первые годы после переезда, когда мне было двенадцать-тринадцать лет, прошли спокойно. Я училась сначала в седьмом, а потом восьмом классе, вокруг меня были одни девочки, я влюблялась в старшеклассниц и училась справляться с влюбленными в меня младшеклассницами. У меня в те годы было три подруги, и каждая из них удовлетворяла определенные мои потребности: хорошенькая, популярная у одноклассников Надин, наполовину француженка – наполовину русская, прекрасно меня понимала; тоненькая лисичка Жанетт со сверкающими брекетами была главной спортсменкой в классе и обеспечивала мне доступ в высшие круги общества; пухленькая большегрудая Джейн с огромными синими глазами с поволокой была помешана на творчестве. С Жанетт и Надин мы менялись открытками (эта форма досуга была доступна только избранным), а с Джейн читали Халил я Джебрана[146] и каждую субботу бегали в оперу, где платили пятьдесят центов за стоячие места. Красный томик под названием “История ста опер” мы изучали с таким же рвением, с каким впоследствии хунвейбины[147] учили высказывания председателя Мао.
Когда нам исполнилось четырнадцать, в школе решили, что всем нам надо обзавестись длинными вечерними нарядами, чтобы пройти обряд посвящения во взрослую жизнь – рождественский бал. Матери Надин и Джейн выполнили свой долг заранее, и с октября я восхищалась шлейфами их платьев, пышными облаками розовой органзы и тюля цвета шербета. Я с начала семестра просила маму купить мне платье, но она всё время была слишком занята. Наконец в конце ноября она снизошла к моей просьбе и предложила встретиться в Saks.
Каждый нормальный ребенок в душе конформист, и я уже знала, какое платье хочу – розовое или голубое, со множеством оборочек и, может быть, разноцветными пайетками на юбке, как у Джейн. Я совершенно не была готова к тому, что произошло. Взглянув на часы, мама приказала своим ассистенткам вызвать ее, если придет клиент (“Мы вернемся через двадцать пять минут!”), схватила меня за руку и потащила по мрачной серой служебной лестнице в девичий отдел, который располагался двумя этажами ниже.
– Девочки! Быстро! – восклицает она. Весь магазин ее знает, поэтому к нам тут же подбегают:
– Графиня дю Плесси, вам помочь?
– Ей нужно длинное черное вечернее платье, – командует мама.
– Мама, я не хочу черное, – робко говорю я. – Я хочу розовое или голубое, я ненавижу черный цвет…
– Чушь! – отвечает она. – Вечером можно носить только черное!
– Мама…
Но она уже перебирает вешалки и отвергает с полудюжины платьев, которые я бы всей душой хотела примерить – потрогать их ткань, посмотреть, как эти цветы и рюши будут выглядеть на моем уродливом теле, сравнить их с нарядами Жанетт и Джейн или хотя бы рассмотреть их, чтобы потом описать подружкам. Но мама уже протягивает мне выбранное ею платье. Грудь оно, безусловно, скроет – у него плотный черный бархатный лиф, унылая юбка в черно-белую клетку и рукава крылышками. Это совершенно неженственное монашеское платье – в общем, полный кошмар.
– Примерь, – приказывает она и заталкивает меня в кабинку, снимает с меня ремень, помогает стянуть свитер – и вот я уже в платье. Пока она восклицает: “Какая прелесть! Сама элегантность!”, я уныло гляжусь в зеркало. Платье выглядит ужасно. Я его стыжусь. Я еще ребенок и не могу пойти в магазин в одиночку, мне хочется задержаться хоть на полчаса, чтобы примерить что-нибудь розовое или нежно-голубое.
– Мама, а можно я примерю…
– Ну разумеется, теперь ты весь магазин перемеришь!
Она вылетает из кабинки с черно-белым чудовищем в руках, и я не спорю, покоряюсь, потому что ее любовь так сложно заслужить, что малейшая стычка может всё испортить.
Рабочий день позади, и мы возвращаемся на Семидесятую улицу. Мама ликует. “Надо похвастаться Алексу!” – восклицает она, поворачивая ключ во входной двери.
Мы собираемся в моей комнате, на дверях которой висят зеркала в полный рост, и пока они шепчутся о событиях дня, я переодеваюсь в ванной.
– Как стильно! Как чудно ты выглядишь, милая! – ахает Алекс, когда я выхожу. Подозреваю, что его проинструктировали заранее. – Твоя мама всегда права!
Сопротивление бесполезно. Несколько недель спустя, во время пресловутого рождественского бала, я весь вечер торчу рядом с прыщавым девятиклассником из соседней школы, который, очевидно, стесняется подойти к одной из красоток в рюшах и весь вечер докучает мне подробными описаниями своих химических экспериментов. В то же Рождество Пат с Надой, поняв, как я возненавидела свой наряд, подарили мне прелестное бирюзовое платье, расшитое пайетками, которое я с гордостью носила все праздники. Впоследствии я часто пыталась понять, почему мама заставила меня тогда надеть черное? Может быть, она почувствовала во мне соперницу и стремилась подавить мою сексуальность? Или она, не отдавая себе отчета, проецировала на меня свои сексуальные комплексы?
В связи с этим мне вспоминается другой эпизод с одеждой – куда более мирный, но столь же непонятный. Тогда мама купила мне первую пару брюк. Это было событием. Она считала себя “эмансипированной”, поскольку начала носить брюки в 1920-х, когда они действительно были символом сексуальной свободы. Но ее чувство моды застряло где-то между Ривьерой 1930-х и войной 1940-х, поэтому представление о шикарных свободных женщинах брюками и ограничивалось. Примерно через год после того, как у меня начались “эти дни”, я стояла в примерочной, надев свои первые брючки. Мама смотрела на меня с восхищением, которого я всегда добивалась, и восклицала: “Великолепно! Всегда носи брюки!”
И она продолжала – какие худые у меня бедра, куда лучше, чем у нее, зачем мне вообще носить юбки? Следующие полвека она повторяла: “Всегда носи брюки!”, и я решила, что так она сигнализирует мне о необходимости играть в семье роль мужчины. Сама она, безусловно, выполняла мужские функции. Впоследствии я поняла, что “Всегда носи брюки” относилось к разряду тех фраз-талисманов, которыми матери пытаются контролировать своих детей: сюда же относится “Ты же девочка!” или “Кто тебя замуж возьмет?”, или же ария царицы Ночи из оперы “Волшебная флейта” – на мой феминистский взгляд, она представляет собой гипнотическое заклятье, с помощью которого царица управляет своей дочерью Паминой.
Но у нас с мамой были и счастливые моменты, например когда на каникулах я встречала ее в обед и мы отправлялись в “Рай гамбургеров” на Пятьдесят первой улице, через дорогу от храма Святого Патрика.
– Тридцать пять минут! – объявляла мама, взглянув на часы, и мы сбегали по унылым серым лестницам. Сидя на высоких стульчиках, мы заговорщически друг другу подмигивали, пока официантки приносили нам подносы с едой. Как и для многих переживших голод, еда была очень важна для мамы, а также, в отличие от Нады и многих других модниц, она не слишком заботилась о фигуре. Она ела с удовольствием, и в расцвете лет больше всего ценила простые американские блюда – полусырые стейки и гамбургеры, вареную кукурузу, яблочный пирог. Мы заказывали гору еды, сдабривали ее нашим любимым американским “мусором” – всеми этими маринованными овощами и кетчупом, а на десерт брали лимонный пирог с меренгой, – эти лакомства были символом нашей новой родины. А если мне везло, то мне удавалось продлить наши обеды до сорока, сорока пяти минут – я добивалась этого, расспрашивая, кто придет днем на примерку. “Очень важные люди, – говорила мама, глядя на часы, – Ирен Данн и Клодетт!” И она рассказывала, какие шляпки придумала для этих дам. Мы никогда не говорили о моей школе – мама боялась обнаружить свою полную некомпетентность в данном вопросе. За семь лет моей учебы она побывала там один раз – у меня на выпускном. Но благодаря смеси преклонения и страха перед мамой и пьянящего чувства нашей близости (она уделила мне целых тридцать пять минут своего драгоценного времени!) это были счастливые моменты, тем более ценные, что доставались мне редко и с трудом. Во время наших обедов мама держалась со мной особенно тепло, – и я так сильно стремилась добиться ее любви, что не замечала ее вечной занятости и пренебрежения ко мне.
В истории моды шляпы, как никакой другой предмет одежды, служат символом сексуальности, власти и показателем статуса. Можно вспомнить и немесы египетских фараонов, и митры епископов, и средневековые короны, и головные уборы военных или полицейских. С другой стороны, существует масса обычаев, связанных со шляпами, например традиция снимать шляпу в церкви, суде или при входе в любое помещение.
Однако именно с помощью шляп и правил их ношения общество много веков подавляло женскую сексуальность. Пышная мужская шевелюра служила предметом гордости и символом потенции, тогда как распущенные волосы у женщин являлись признаком сумасшествия (Офелия) или продажности (Мария Магдалина). Всю историю человечества женщины в большинстве стран обязаны были покрывать головы на публике, а иногда даже дома – вуалями, чепцами, мантильями и платками. В первые десятилетия XX века ношение шляпы (за исключением вечерних мероприятий) было показателем женской скромности: если женщина выходила из дому с непокрытой головой, ее считали принадлежащей к низшим классам общества или попросту легкого поведения. После Первой мировой войны и особенно после Второй произошло некоторое послабление, но шляпки оставались обязательным дневным аксессуаром – в них ходили на обеды, встречи, в церковь.
– Считалось престижным носить шляпку в офисе, – рассказывает культуролог Розамунд Бернье, бывшая мамина клиентка. – Секретарши Vogue снимали головные уборы, когда приходили на работу, зато редакторы носили их весь день и сидели за пишущими машинками прямо в вуали. Вскоре после того, как я пришла туда работать, мне сказали, что если я хочу сохранить свое место, мне стоит купить шляпку у Татьяны. Они стоили 95 долларов – недельную зарплату.
Возможно, меня заставляло преклоняться и трепетать перед матерью инстинктивное уважение к привилегированным кастам, этикету и военному порядку? (Мать в данном случае выступала как полицейский тела.) Обладала ли она такой же властью надо мной, если бы была, скажем, знаменитым дизайнером купальников (как мадам Коул) или обычных платьев (как Клэр Маккарделл или Энн Фогарти)? Неизвестно.
Привязанность девочки к матери со временем проходит, писал Фрейд – именно потому, что это первая и сильная связь. Любовь сменяется горем из-за неизбежных разочарований и накопившейся агрессии. Доктор Фрейд не дал нам шанса. Однако его рассуждения помогли мне понять, какие по-византийски мощные усилия предпринимают дочери, чтобы получить независимость от матерей. Мальчикам это дается легко – они отделяются от первого объекта своих чувств, матери, благодаря тому, что начинают ассоциировать себя с отцом. Но поскольку для формирования здоровой полоролевой идентичности девочкам тоже необходимо сепарироваться, им приходится отделяться от матери, одновременно продолжая себя с ней идентифицировать. И этот парадоксальный процесс становится еще более сложным, если мать в совершенстве владеет искусством, преуспеть в котором стремятся все подростки: искусством соблазнения.
Между моими тринадцатью и восемнадцатью годами (когда я уехала из дома в колледж) мама постоянно заставляла меня общаться с иконами моды (среди них были Бейб Пейли и Глория Гиннесс[148]), блестящими сотрудниками Vogue и бесчисленными истощенными манекенщицами, которые бывали у Либерманов на Семидесятой улице. Мама требовала, чтобы я бывала на всех вечеринках – у работающих женщин в те дни редко бывали дети, и когда я выросла и стала более “презентабельной”, как она выражалась, ей постоянно хотелось мной хвастаться. Перед приходом гостей она изучала меня с ног до головы (“Только не этот свитер, у тебя слишком большая грудь!” или “Сколько раз говорить, у тебя слишком широкое лицо, чтобы носить прямые волосы!”), а потом вталкивала меня в гостиную и командовала: “Чаруй!”
В этом обществе я сталкивалась с невероятно запутанными и зачастую тройственными любовными союзами, поскольку они преобладали в высшем обществе (“Нет, милая, Алексис де Реде[149]любовник Артуро Лопес-Уиллшоу, а не Патрисии”), и всё это оказало на меня большое влияние. Передо мной были судьи, которые дирижировали длиной юбок на всём Западе, диктовали тысячам женщин, как причесываться, следить за фигурой, соблазнять мужчин и кормить гостей, будоражили общество броскими заголовками вроде “Смелая трапеция – хит зимы!” или “Что носить вечером: бархатные брюки с мехами!”. Всю свою юность я бросалась из крайности в крайность – то слепо покорялась этому чванливому обществу, то яростно бунтовала.
Последние мои годы в школе пришлись на период слепого служения. Большую часть сил я тратила на то, чтобы соответствовать невозможным стандартам Либерманов и моей летней “матери”, Наде. Сбегая по выходным из казино, в которое превращался наш дом на Семидесятой улице, я тратила всё время на то, чтобы найти лифчики для уменьшения груди или туфли, в которых ноги казались бы меньше, – что-нибудь, что позволило бы мне замаскировать собственное несоответствие. Я перебирала диеты, которые помогли бы мне приблизиться к истощенным манекенщицам: три дня на содовой и пахте, три дня на вареных яйцах и помидорах, три дня на черносливе и чае. Стремясь приблизиться к вожделенным параметрам 81 × 60 × 86[150], я ходила в спортивные клубы и подолгу стояла в автоматических массажерах, которые оставляли на теле ужасные синяки. Впоследствии я осознала, что стремление похудеть было связано с желанием одновременно угодить матери и отдалиться от нее: я рабски следовала ее представлениям о прекрасном и вместе с тем стремилась как можно меньше на нее походить. Как мучительно порой дочь с матерью не могут понять друг друга! Частично мое недовольство собой объяснялось тем, что по сравнению с Татьяной и ее блистательными подругами я была очень блеклой девушкой; и вместе с тем она всё больше мной гордилась, потому что я становилась всё более “презентабельной”, а главное – той, кем она всегда хотела быть: худенькой “интеллектуалкой” с мальчишескими повадками.
Из-за всего этого меня терзали противоречия. Едва не падая в обморок от диеты, я сияла улыбкой и угощала канапе Эльзу Максвелл[151], Жака Бальмена и Юбера де Живанши, в глубине души мечтая, что моя жизнь будет полностью отличаться от жизни родителей. Я, Франсин Людмила Полин Анн-Мари дю Плесси, мечтала выйти замуж за фермера, который увез бы меня из этого дурдома. Во мне всё еще была сильна религиозная жилка, и я рисовала в своем воображении образованного и немного таинственного сквайра, который в свободное время пишет стихи или романы, и наша жизнь похожа на фотографии в журнале Country Life с подписями вроде “Мистер и миссис Терциус Во и их пятеро прелестных ребятишек”. Никаких больше белоснежных комнат, никакой жесткой мебели, никаких истеричек с намазанными ваксой волосами, которые провозглашают, что прическа тореадора – хит этой осени. Моя душа тосковала по уютному тюдоровскому дому наподобие дома пастора, стены которого были бы обиты темными панелями, на окнах висели занавески из чинца, а кушетки были бордовыми. Я бы варила ежевичный джем на уютной кухне, а мой муж рассуждал о взглядах апостола Павла на воскресение и об эсхатологии отцов церкви… Так во мне зарождался очередной бунт против Них, моих любимых родителей.
Первые два года я училась в колледже Брин-Мор, вторые – в Барнарде и часто приезжала домой, на Семидесятую улицу. В те годы я пробовала себя в разных областях, и все они разительно отличались от мира, в котором жили мои родители. Для начала я занялась Средними веками, потом переключилась на физику, потом пошла на медицинские курсы, а в конечном итоге специализировалась на философии и религиоведении и чуть было не поступила в семинарию, чтобы изучать богословие. (“Заниматься богом – это очень оригинально”, – заметила мама по этому поводу.) После третьего и четвертого курса я посещала летние занятия в колледже Блэк Маунтин, и царящий там Zeitgeist – бунт против всех и вся – окончательно убедил меня восстать против родителей.
В Блэк Маунтин я курила травку, слушала дзен-анархистские лекции Джона Кейджа[152], играла в покер на раздевание с Бобом Раушенбергом[153], носила кожаную косуху и очень коротко стриглась. Последнее привело маму в ужас:
– Она побрилась налысо!
– Ты как будто только что вышла из тюрьмы, – стонал Алекс. Он никогда в жизни не был на американской автобусной остановке или на вокзале, но публиковал их жуткие фотографии работы Гьона Мили у себя в журнале.
Летом после выпуска я купила подержанный “плимут” на деньги, которые выиграла на писательском конкурсе в колледже Барнард, уехала в Новый Орлеан и два месяца провела в тумане бурбона, общаясь с джазовыми кларнетистами и играя в покер с коммунистами (очень полезный опыт – они оказались настолько скучными, что навсегда отвратили меня от своей идеологии). Тем летом я почти не общалась с родителями, и Алекс, опасаясь, что я стану падшей женщиной, да еще и коммунисткой, вызвал Мейбл с юга Франции и приказал ей лететь за мной в Новый Орлеан. Мейбл, обрадовавшись перспективе бесплатной поездки, тут же приехала и застала меня в однокомнатной квартирке – “в приподнятом настроении и в кругу друзей”, как она деликатно выразилась в разговоре с родителями. Ее приезд привел меня в чувство: мы уселись в мой автомобиль и три дня катались по окрестностям, останавливаясь в “мотелях для цветных” – иначе нам бы не удалось поселиться вместе.
Я вернулась в Нью-Йорк и два года проработала ночным репортером на радиостанции Объединенной прессы. В мои задачи входило делать короткие сообщения об убийствах, землетрясениях, фьючерсах[154] на зерно и репрессиях Маккарти. Итак, я стала мужеподобным трудоголиком и единственной женщиной в компании репортеров, которые в 8 утра пили в баре мартини, – разве не к этому готовила меня мама? После работы я возвращалась в полуподвальную комнату в Вест-Вилладж, которую делила со своей милой подругой по колледжу, Джоанной Роуз – она в ту пору работала манекенщицей на Седьмой авеню. Мама восприняла мой переезд как личной оскорбление и так расстроилась, что три дня пролежала в постели, требуя морфия для своей воображаемой мигрени. Она так никогда и не навестила меня в той квартире. Но Алекс, наш вечный миротворец, один раз всё же приезжал и, доложив матери, что это “очень достойный, даже изысканный район”, помог нам восстановить отношения.
В середине 1950-х карьера Татьяны достигла своего пика. Это была бескомпромиссно женственная эпоха, золотой век той моды, которая подразумевала ношение шляпок. “Главное украшение женщины – шляпка нашей Татьяны, – писали во внутреннем журнале универмага. – Ее шедевры приводят в восторг самых выдающихся наших клиентов”. Журналистка The New York Times Вирджиния Поуп писала, что шляпки Татьяны отличаются “ироничностью и благородством”, и до небес превозносила ее изысканный вкус и совершенство творений. Мамины шляпки пользовались такой популярностью, что в 1955 году было принято решение: в дополнение к шляпкам на заказ она должна разрабатывать дизайн шляп для массового производства, чтобы расширить их аудиторию. “Татьяна – хит сезона! – провозглашала реклама в The New York Times. – Эти шляпки превосходно подойдут для Пасхи, но и летом вы не сможете без них обойтись – три бриллианта из новой коллекции: «Избыток», «Темный гриб» (доступна в полупрозрачном или бархатном варианте) и «Театральный шиньон». Покупайте во всех наших магазинах!”
В тот период я не следила за маминой карьерой, потому что в двадцать три года переехала в Париж. Тогда у меня настал очередной период дочерней покорности – теперь я стремилась заручиться маминой любовью, имитируя ее собственную жизнь. С помощью родителей я устроилась на работу в главный модный журнал Франции Elle и начала вращаться в тех же кругах, в которые мама пробивалась сорок лет назад после эмиграции.
Я жила в темной комнатушке на острове Сен-Луи, весила меньше 50 килограмм и была близка к анорексии, устраивала совещания, закалывала булавками платья на истощенных манекенщицах и писала заголовки вроде “Новейшая блузка от Баленсиага!” “Двойные потайные швы и однобортная застежка на боку”. Как и мама в 1930-х, я плела интриги, чтобы попасть на ужин к Ротшильдам, и для выходов в свет брала наряды напрокат. (“Милая, у тебя не найдется чего-нибудь мне на вечер? Коричневый шифон шестого размера? Спасибо!”) В общем, я пыталась повторить мамин успех на ее же поле – в блистательном Париже.
В моих письмах к родителям в те годы ясно читается страх, что их успех, их друзья окажутся им куда важнее меня.
Милая мама [говорится в одном из писем, отправленных весной 1955 года], я просто безумно счастлива при одной мысли, что мы с тобой поедем летом в Рим! <…> Только не передумай, ради бога. <…> Меня даже не столько радует мысль о самом Риме, сколько перспектива побыть с тобой наедине. <…> Вы с Алексом для меня важнее всего на свете.
В других письмах я старалась показать, что мы с ними – настоящие коллеги и единомышленники (к тому моменту я уже понимала, что не создана для мира моды).
С понедельника у нас начинается суматоха [писала я в 1955-м, когда шла работа над зимними коллекциями]. Надо будет писать о трех коллекциях в день, а потом у нас до ночи будут съемки. <…> Я сейчас в фотостудии и буду здесь до конца недели – мы намерены снимать коллекции, которые еще нигде не показывали, в атмосфере полной секретности. Только что привезли костюм от Диора для нашей обложки – в бронированном автомобиле и с вооруженной охраной.
Судя по всему, на маму производили большое впечатление мои зачастую ядовитые описания парижского общества и моды середины 1950-х. Она не писала писем длиннее нескольких строчек, ссылаясь на изуродованную руку, и обычно посылала мне телеграммы или царапала несколько слов в конце редких писем Алекса. Но осенью 1955 года она, видимо, наняла секретаршу, потому что я получила напечатанное на машинке письмо на трех страницах, в котором она впервые намекнула, что у меня может быть “писательский дар”.
Твое длинное письмо с <…> острова Сен-Луи – это просто шедевр современной прозы. И зря ты думаешь, что оно вышло слишком долгим – я три вечера подряд заставляла Алекса читать его.
Но в каком бы восторге мама ни была от моих скромных успехов в ее мире и как бы ни восхищал ее мой писательский талант, больше всего ее радовала моя личная жизнь. Я думала, что за мной, как за Татьяной когда-то, будут ухаживать графы и бароны, но мне удалось ее превзойти, и я стала встречаться с принцем-алкоголиком. Никакие прошлые мои достижения – ни отличные оценки на экзаменах, ни награды – не вызывали у моей матери такого бурного одобрения, как роман с этим кретином. У всех моих знакомых писателей есть любимая собственная строчка. Есть она и у меня – в романе “Тираны и любовники” я подвела итог своего двухлетнего пребывания в Париже: “с любым уродом ради мамочки”[155]. И в самом деле – почему я встречалась с этим идиотом-принцем, зачем носила взятые взаймы наряды, по-дурацки начесывала волосы, изматывала себя диетами и продолжала работать в глянце, который довел меня до депрессии? Я стремилась упасть в объятья обожаемых родителей, любовь которых пыталась завоевать со смерти моего отца, всей душой рвалась к ним и словно твердила: “Я теперь такая же, как и вы, ну посмотрите, посмотрите же на меня… ”
И вдруг всё оборвалось. Как-то утром я проснулась в бреду, с высокой температурой, внутренним кровоизлиянием – у меня был один из тяжелейших случаев мононуклеоза в истории. Врачи прописали мне постельный режим на два месяца и полу-постельный – как минимум на год. Осенью 1956-го я вернулась в США, чтобы заняться выздоровлением. Стоит отметить, что я возвращалась домой в твидовом серо-розовом костюме от Шанель, который мне подарили родители несколькими неделями ранее на двадцатишестилетие. Это был мой первый и последний наряд от кутюр, и на нем моя карьера в мире моды закончилась. Несколько месяцев спустя я познакомилась с будущим мужем, и на мне был всё тот же костюм. Сдержанный, задумчивый художник Клив Грей подарил мне тихую сельскую жизнь в уютном сумрачном домике, о котором я мечтала в детстве.
Клив Грей спас меня так же, как в детстве – Алекс. Он любил и уважал моих родителей, но относился к ним критически и презирал мир моды; понимая, что моя жизнь не должна повторять их судьбу, Клив ценил, что я отличалась от своих родителей, но и уважал мои к ним чувства. Чрезмерно заботливая мать-неврастеничка избаловала Клива – человека менее цельного она бы вконец испортила. Война избавила его от юношеского высокомерия, но у него оставалось множество проблем – Клив страдал от собственной закрытости, пассивности, застенчивости, нетерпимости и неумения вести себя в обществе. Однако он был цельной и сложной личностью, и тем самым разительно отличался от моих родителей. Совершенно не умевший хвалить и продвигать себя, наивный и непрактичный, он составлял полную противоположность Алексу. Клив был настолько верным, насколько мои родители непостоянны, он вовсе не следил за внешним видом, а они были помешаны на моде, ему было наплевать на положение в обществе, а для них в этом крылся смысл жизни. Его нежность и искренность подарили мне такую уверенность в себе и в своей жизни, о которой я раньше и не мечтала. Клив с отличием закончил Принстон по классу искусствоведения и куда глубже родителей разбирался в тех областях, в которых они мнили себя знатоками. Поначалу он понравился им своими манерами и приятной внешностью, но вскоре они поняли, насколько он мудрее и образованнее их, и оценили его по заслугам.
С замужеством дочери ее связь с матерью меняет свою природу. Как ни странно, когда я покинула мир моды и вошла в свою новую жизнь, наши с мамой отношения стали налаживаться. Возможно, мы куда сильнее соперничали с ней за любовь Алекса и всеобщее признание, чем я полагала. Возможно также, что после моего замужества она подумали: “Одним ртом меньше” – как Татьяна печально вспоминала о собственной матери (хотя я и после колледжа сама зарабатывала на жизнь). Кроме того, мои эксцентричные родители в душе были консерваторами и более всего на свете желали “удачно пристроить” свою дочь. Через несколько месяцев мама уже хвасталась, что у нее “лучший зять на свете” – еврей, свободно говорит по-французски, присоединился к операции “Нептун”[156] вскоре после ее начала и первым из военных пришел к Пикассо и Гертруде Стайн после освобождения Парижа (всё это идеально укладывалось в ее несложную систему ценностей).
У меня родилось два сына с разницей в шестнадцать месяцев. Им досталось всё, чего я не получила в детстве, – тихая жизнь, семья и дом, так не похожие на то, что дала мне мать. Я каждый день возила их в бассейн, готовила ужины, учила кататься на лыжах и играть в теннис, старалась всегда быть для них другом и собеседником. Возможно, наши с Татьяной отношения в те годы улучшились и потому, что я исполнила мечту всех матерей мира, которые надеются, что дочери не повторят их ошибок, что будут жить лучше, чем они.
Сама став матерью, я также осознала, что в характере Татьяны скрыта конфуцианская жилка, неожиданно открыла для себя ее незаурядный потенциал в семейном быту. Они с Алексом с первого дня полюбили своих внуков, и меня забавляло и радовало, что моим детям достается куда больше любви и внимания, чем мне, – возможно, моих родителей смягчил успех, чувство, что все их амбиции удовлетворены. Они не могли наглядеться на мальчиков и с радостью отменяли вечеринки, чтобы посидеть с ними. Не могу забыть, как впервые принесла своего полуторамесячного старшего сына к ним на Семидесятую улицу – мама как раз вернулась с работы и сразу же бросилась к внуку: “Вот он! Наконец-то”, схватила его на руки и заворковала: “Кто тут мой красавец?” Как и во всех остальных сферах жизни, с внуками она до смешного старалась быть лучшей во всём. А мальчики, в свою очередь, обожали бабушку, и в три года мой старший, Тадеуш, заявил, что женится на ней, когда вырастет. Татьяна с гордостью повторяла: “Так-то, он хочет жениться на мне, а не на маме!”
В наших с ней отношениях были свои сложности. Татьяна почти не читала по-английски и в тех моих работах, что не были переведены на французский, прочла не больше нескольких страниц. Она гордилась мной исключительно потому, что слышала о моей “репутации”. Кроме того, из инстинкта самосохранения я тщательно охраняла границы своего внутреннего мирка, чтобы она не ворвалась в него и не присоединила всё, что я создала, к своему царству. Мы с мужем почти каждую неделю навещали родителей, но мама, если бы могла, контролировала бы нас полностью – она хотела, чтобы мы ходили с ними на все приемы, сопровождали в летних путешествиях в Ва-э-Вьен, Венецию и Лидо. Единственный раз, когда мы сдались и провели с ними месяц в Ва-э-Вьен, поездка обернулась, как я и опасалась, полным крахом: мы не могли участвовать в их бурной светской жизни, а они постоянно нарушали наше уединение. С тех пор я вежливо отказывалась от большинства ее приглашений. Нет, мамочка, мы не поедем с вами летом в Лидо; нет, мама, мне не нужен такой же костюм от Диор, как у тебя, он слишком строгий, мне некуда его надеть; нет, мы не поедем с вами на бал в Париж.
В первые месяцы нашего брака мой муж, сам страдавший от чрезмерной навязчивости своих родителей, спросил:
– Почему ты всё время отказываешь матери?
Через год он всё понял и перестал меня спрашивать. А со временем и мама поняла, что мой успех основан на моей способности строить свою жизнь самостоятельно. Поэтому наши встречи проходили мирно, но при полном вооружении сторон – мы обнимались и обсуждали школьные успехи детей, книги, которые обе читали по-французски, болезни и смерти старых знакомых.
Как ни странно, моя карьера пошла вверх в том же году, когда стала рушиться мамина. Весной 1965 года, когда я впервые написала в журнал The New Yorker, у Татьяны наступили черные дни. Со стороны казалось, что ее дело процветает. Прошлой осенью в пресс-релизе универмага говорилось, что “шляпки Татьяны – настоящие шедевры”, чикагская газета Sun-Times называла ее работы “изысканными и изящными”, а Луи Лонг писала в своей колонке в The New Yorker, что Татьяне особенно удаются банты: “Аккуратные черные атласные бантики становятся восхитительным украшением лаконичных шляпок”. Однако руководство Saks решило, что на отдел шляп уходит слишком много денег, и мамин друг, Адам Гимбель, уволил ее без лишних церемоний. Поскольку к тому времени шляпы носили всё меньше и меньше, Софи Гимбель через четыре года окончательно закрыла салон – что удивительно, они с мамой остались подругами.
Больше всего в истории маминой работы в Saks меня поражает то, что даже на пике карьеры ей ни разу не предложили повышение, а сама она ни разу не осмелилась о нем попросить. Подобную стеснительность в денежных вопросах она унаследовала от своего отца – в этом проявлялось их старосветское воспитание: говорить о деньгах было еще менее прилично, чем о сексе. Сыграла роль и ее невероятная скромность. Сколько бы шляпок мама ни продала, ей всегда казалось, что надо продать больше.
– Я не стою того, что они мне платят, – отвечала она Алексу всякий раз, когда он предлагал ей попросить Адама о прибавке. Поэтому знаменитая Татьяна дю Плесси закончила свою блистательную карьеру в Saks с той же зарплатой, которую ей положили по приходе в универмаг: чуть меньше иооо долларов в год. Более того, ей не назначили никакой пенсии.
– Она же графиня, – сказал Гимбель Алексу, когда тот набрался смелости и спросил его о пенсии. – К тому же все знают, что ты теперь неплохо зарабатываешь.
В 1960-х годах мода на шляпки пошла на убыль. То, как резко устарел этот аксессуар, было уникальным случаем в западной моде. На то были глобальные социоэкономические причины: в качестве примера можно привести общую тенденцию к демократизации, возникшую в эпоху прихода к власти Кеннеди, и последующий отказ от шляп, которые всегда подчеркивали классовые различия (можно заметить, что Джон Кеннеди был первым кандидатом в президенты, который проводил свою кампанию с непокрытой головой); феминистское движение, которое яростно выступало против диктатуры моды; возрастающее влияние молодежи, которую традиционно освобождали от необходимости носить головные уборы. К концу 1960-х единственными, кто до сих пор носил что-то на голове, были представители контркультуры, и это, как правило, были эксцентричные головные уборы, призванные выразить их симпатию различным меньшинствам: это были енотовые шапки[157], береты как у Че Гевары, ситцевые чепчики наподобие тех, что носили жены первых переселенцев.
Как бы самоуверенно ни держалась Татьяна, ее предпочтения в одежде лежали в области сдержанной элитарности, соблазнительной, но скромной женственности. И прямолинейная чувственность, пришедшая на смену эпохе шляпок и заполонившая некогда священные для нее модные журналы, была совершенно чужда ей: теперь на этих страницах толпились развратные валькирии Хельмута Ньютона или фотографии мастурбирующих девушек Деборы Тарбевиль. Еще несколько лет после ухода на пенсию она листала альбомы с фотографиями Джона Роулингса или Хорста П. Хорста, на которых элегантная Джин Пэтчетт представала в изящных канотье или токах ее работы, и печально спрашивала меня: “Неужели женщинам больше не хочется носить вещи, которые их украшают?”
Я с болью думаю о том, что мама чувствовала, когда в пятницу в последний раз ушла с работы, зная, что в понедельник ей будет некуда пойти. В 1965 году ей было всего пятьдесят девять, в ней по-прежнему бурлила энергия. Привычка к ежедневному труду была в ней сильнее пристрастия к любым лекарствам, и отказаться от работы ей было так же тяжело, как ее отцу – покончить с игрой. Если бы я могла прожить жизнь заново, я бы постаралась почаще навещать ее в первые годы пенсии, чаще напоминать, какого успеха она добилась, чтобы мама знала, что в самые тяжелые моменты ее упрямая дочь остается ее лучшей подругой и самой верной поклонницей. Если бы я могла прожить жизнь заново, я бы постаралась стать ей настоящим другом и ценить нашу дружбу вопреки неизбежным трениям, которые возникают между матерью и дочерью. Как она ценила дружбу, как умела дружить! Порой она играла по прагматичным правилам Алекса (например, когда бросила ставшую ненужной Наду), но она отличалась верностью, которая распространялась не только на “полезных” людей. Она была верна многим своим друзьям 1940-х годов и заботилась об опустившихся русских или кротких и унылых квакершах, которых поручали ей Уайли – кормила и опекала их всех, потому что они были вверены ее заботе.
Когда Татьяна вышла на пенсию, я поняла, как много для нее значит семья – это было видно хотя бы по ее любви к внукам. К тому моменту она уже убедила Алекса помогать многим ее разорившимся родственникам. Либерманы посылали содержание моей двоюродной бабушке Сандре, которая после шестидесяти была вынуждена уволиться из музыкальной школы, где много лет преподавала вокал. Они опекали моего деда, чья жена, милая Зиночка, которая была так добра ко мне в Рочестере, скончалась от рака в 1958 году. Мама с Алексом пригласили его переехать к ним на Семидесятую улицу, и он поселился в моей бывшей спальне на третьем этаже и прожил там два года, пока в него не влюбилась добросердечная обаятельная француженка и не перевезла его к себе в пансион в долине реки Гудзон. Кроме того, в 1950-1960-е годы мои родители помогали маминому сводному брату Жике, который уже обзавелся собственной семьей, но серьезно пострадал в автокатастрофе и мог работать только на полставки. И некоторое время они даже посылали несколько тысяч в год папиному кузену Андре Монестье, который так и не оправился после экономического краха, вызванного Второй мировой войной.
Вскоре после выхода на пенсию маму ждала еще одна трагедия. В 1963 году при очень тяжелых обстоятельствах она узнала о смерти своей матери, Любови Николаевны Орловой. В конце 1950-х переписка между США и СССР по-прежнему была затруднена, хотя после смерти Сталина ситуация значительно улучшилась. Доходило одно письмо из четырех, и советских граждан по-прежнему могли ожидать неприятности за связи с “капиталистской властью”. Но некоторые готовы были рисковать. Мамина сестра Лиля, которая тогда жила в Париже, начала писать матери в 1957 году, и никаких неприятностей не последовало. Однако я сомневаюсь, что она рассказала об этом сестре, потому что они уже давно не общались. Кроме того, мама всецело пребывала под влиянием Джона Уайли, протеже Джона Фостера Даллеса[158], который убедил ее, что писать в Россию очень опасно. Мама страдала подозрительностью по отношению к Советскому Союзу и свято верила его словам.
Ко всему этому следует прибавить ее врожденную лень и склонность оберегать себя, а также изуродованную правую руку, которая мешала ей писать. В итоге Татьяна не писала матери вплоть до апреля 1963 года, когда Джон Уайли с неохотой дал ей зеленый свет, и она поведала ей о новостях последних восемнадцати лет, рассказала обо мне, моем браке, моих детях и приложила наши фотографии. Месяц спустя она получила письмо от отчима, в котором говорилось, что Любовь Николаевна скончалась от сердечной недостаточности за день до того, как пришло письмо. Как это принято у женщин русской ветви моей семьи, бабушка стоически следила за собой: в день смерти она отправилась к парикмахеру, сделала укладку, вернулась домой, уселась в любимое кресло и скончалась.
Выглядит как настоящая греческая трагедия, не правда ли? Всего за несколько недель до своей смерти Любовь Николаевна в очередной раз пожаловалась Лиле на молчание дочери. Когда Лиля скончалась в конце 1990-х, я унаследовала письма бабушки и прочла этот крик материнской души: “Придумай хоть одну причину, по которой Татьяна мне не пишет”, “Если увидишь Франсин и ее детишек, напиши мне, какие они”, “Больше всего на свете меня огорчает Танюшино молчание”. Если бы Лиля передала сестре слова матери, та наверняка не повиновалась бы Джону Уайли, и бабушка бы утешилась перед смертью. Но отношения между сестрами были слишком напряженными. Мама рассказала мне о своей потере, когда я приехала к ним из Коннектикута. Когда я вошла, она, в задумчивости сидя на китайской кушетке, подозвала меня к себе.
– Я впервые за много лет написала матери, – сказала она бесстрастно. – Она умерла за день до того, как пришло мое письмо.
Впервые она заговорила о матери без моих расспросов, после чего встала, послала в мою сторону воздушный поцелуй и вышла из комнаты.
Это был еще один момент, когда мне следовало попытаться приблизиться к ней, попробовать выразить свое сочувствие. Но внезапное упоминание матери, о которой она никогда не говорила (я предполагала, что между ними нет никакой любви), застало меня врасплох.
Кроме того, я совершенно погрузилась в жизнь, которая обычно затягивает женщин после тридцати: я воспитывала детей, работала в политике и писала об этом. В конце 1960-х мое участие в антивоенном движении стало еще одним поводом для трений с матерью. Она была верна своим эмигрантским корням, и даже в то время, когда начался туризм и обмен студентами между СССР и Штатами, отказывалась признавать, что с коммунистами возможна дружба. Для нее хорошим коммунистом был только мертвый коммунист, а о войне во Вьетнаме она читала в главной русской газете Нью-Йорка “Новое русское слово” и горячо ее поддерживала. Муж мой, как и я, был яростным противником войны, и наши стычки на этой почве происходили особенно бурно, когда она выпивала – всю свою жизнь она была трезвенницей, но после выхода на пенсию стала пить. Когда мы приезжали в Нью-Йорк и она видела, как Клив рисует плакаты к выступлению Юджина Маккарти[159], или слышала, как я договариваюсь по телефону об очередном митинге в защиту мира, она презрительно смотрела на нас поверх стакана с виски или бордо и спрашивала: “Продались Ханою? Играете за Вьетконг?” Но бывают ли идеальные родители?
Как-то раз примерно в те же годы, возвращаясь с антивоенной демонстрации в Вашингтоне с Кливом и Диком Аведоном, я задумчиво спросила:
– А что бы со мной стало, если бы у меня была мать, которая разделяла мои убеждения? Как Ханна Арендт[160], например…
– Ты бы стала манекенщицей, – отрезал Аведон.
Закончить эту главу мне хочется примером того, как я, бунтующий отпрыск модного семейства, рачительно относилась к одежде и как берегла подарки от родителей: в 1994 году я надела на крещение нашего старшего внука костюм от Шанель, в котором когда-то познакомилась с мужем.
Глава 19 Художник в своей мастерской
Теперь надо рассказать о том, как Алекс снова начал рисовать.
В марте 1946 года, когда ему было тридцать три, у него случилось первое язвенное кровотечение с семнадцати лет, и он снова чуть не умер. Ему велели прекратить работу на два месяца. Мейбл в тот момент была в декретном отпуске, Салли могла приходить только на несколько часов в день, а я как раз приехала домой на каникулы, поэтому мне и выпало готовить Алексу еду – если, конечно, эту жалкую кашицу можно было назвать едой. Он ел только белые продукты – куриную грудку, пюре, рис, манную кашу, ванильный пудинг. Я гордилась тем, что ухаживаю за ним, и неизменно украшала белые кушанья чем-нибудь зеленым – горошинкой или листиком петрушки. Все каникулы я либо ходила за продуктами, либо сидела дома и читала Достоевского, либо готовила. В назначенное время обеда, в час дня, я приносила Алексу поднос с едой. Он лежал в своей кровати и читал, облокотившись на гору подушек.
– Привет, милая, – говорил он, каким бы сонным ни был, а потом, приподнявшись (в первые недели после кровотечения ему приходилось делать для этого заметное усилие), брал меня за руку. – Спасибо, любовь моя.
Потом он спрашивал меня, чем я занималась утром, что читала. Прежде чем уйти, я целовала его в лоб. Я никогда не забывала, что передо мной не просто любимый человек, а тот, кто когда-то практически спас мне жизнь.
Этот год выдался непростым. В январе от рака умер его отец. Симон ничего не оставил сыну – к тому моменту его бизнес пошел прахом. Генриетта со смертью мужа стала еще невыносимее. (Когда она на следующий год вернулась в Париж, мы все облегченно вздохнули.) В том же году, вскоре после получения Алексом американского гражданства, срок аренды нашего дома на Семидесятой улице истек и Алекс занял у Конде Наста огромную сумму, чтобы выкупить его. Шуваловы оставались нашими съемщиками. Но, как мне кажется, несмотря на все эти события, кровотечение было вызвано тем, что его успех в глянцевой журналистике совершенно не оставлял ему времени на живопись. За пять лет, прошедшие с нашего переезда в Америку, он нарисовал только гиперреалистичный портрет отца. Летом после кровотечения Алекс решил взять долгий отпуск и принял приглашение Левалей навестить их на острове Мартас-Вайнъярд в штате Массачусетс. Обычно у Алекса совершенно не было времени путешествовать по Штатам, и, оказавшись в маленьком рыбацком городке на этом острове, он был необыкновенно воодушевлен совершенно новой для него местностью и неожиданно приобрел складной мольберт, кисти и масляные краски.
Особенно Алекса вдохновляли рыбацкие лодки и туманные краски округи. Он расставлял этюдник посреди ловушек для омаров и писал пейзажи – куда более свободными мазками, чем на сдержанных, академичных работах предвоенных лет. Удовольствие от живописи росло. Когда в августе мы поехали в Стоуни-Брук, Алекс поставил мольберт в галерее у площадки для сквоша, забросил карточные игры и по шесть часов в день уделял живописи. Он писал цветы, которые мама собирала в саду, виды на море, мой портрет (первый с 1938 года). В его работах еще чувствовалось влияние реалистической манеры Яковлева.
Той же осенью, вернувшись на Семидесятую улицу, Алекс переделал библиотеку на втором этаже в мастерскую, тихо рисовал там по выходным, отдыхая от светской жизни, и не показывал свои работы никому, кроме нас с мамой.
Следующий прорыв случился летом 1947 года, когда он впервые после войны поехал в Венецию. Либерманы сняли комнату в отеле “Гритте”, который стоит на берегу Гранд-канала напротив церкви Санта-Мария-делла-Салюте, и Алекс принялся писать вид из окна – он работал гуашью, стараясь запечатлеть игру света на куполах церкви и изящных арках в разное время суток. Проведя две недели в Венеции, они отправились в Сент-Максим. Возвращение в Ва-э-Вьен было радостным, он лишь немного пострадал за время оккупации. Их со слезами встретила домоправительница Мария. Этот маршрут оказался настолько удачным, что они повторяли его каждый год – две недели в Венеции, а потом Ва-э-Вьен.
В следующие зимы Алекс всё больше времени уделял живописи. Пытаясь выразить свое видение, он экспериментировал с разными стилями. В следующие три года он с головокружительной скоростью пропутешествовал по всей истории современного искусства: он пробовал себя в экспрессионизме, импрессионизме, пуантилизме и, как выражался сам, “воплощал в жизнь свои пристрастия”, то есть стили своих любимых мастеров. Картина 1948 года, вдохновленная концертом Владимира Горовица[161], представляет собой неприкрытую интерпретацию Брака. Мучительный автопортрет того же года – пастиш Ван Гога. В моем портрете 1949 года, написанном, когда я приехала из колледжа на каникулы, искаженные пропорции напоминают манеру Хаима Сутина[162]. В том, как стремительно Алекс менял направление своего творчества, проявлялись его выдающаяся гибкость и цыганская непоседливость.
Но конец 1940-х стал для него еще и временем духовного и эстетического подъема. Он восставал против кубизма, господствовавшего во французском искусстве XX века. Его восхищали работы американских абстрактных экспрессионистов: Ротко, Поллока, Ньюмана[163] – но его собственная живописность всё равно казалась ему чрезмерно европейской. Нью-йоркская школа автобиографического импульса также не была ему близка. В те годы он любил цитировать Паскаля: “Le moi est haïssable” (“Я – ненавистно”). Эта цитата была его девизом в годы учебы в Рош. Он мечтал о таком искусстве, которое было бы совершенно отдельно от его личности и при этом могло быть так же воспроизводимо, как музыка или театр.
Виды Гранд-канала в Венеции сыграли важную роль в его становлении как абстракциониста. Он передавал игру света на воде крупными каплями белой гуаши, которую выдавливал прямо из тюбика, и в 1949 году эти пуантилистические кляксы обрели собственную жизнь. Он начал рисовать неровные, абстрактные круги, которые напоминали солнца Моне или вулканические кратеры. Но и в них было пока слишком много от импрессионизма и экспрессионизма. Позже его, как он сам выражался, “отвращение ко всему личному” вдохновило на создание огромных кругов, которые он рисовал циркулем. Алекс отринул все традиционные материалы и вместо холста писал на прессованном картоне или алюминиевых панелях, а вместо масла использовал глянцевую эмаль, которая напоминала покрытие холодильника или автомобиля. Он назвал свой стиль “кругизм” и несколько лет спустя в тексте для Музея современного искусства описал его следующим образом: “Я считаю круг самой простой и ясной формой визуального выражения. Круг – это совместная собственность двух бесконечностей, от необъятного солнца до малейшего атома. <…> Круг – это чистейший символ, поскольку он полностью виден в своей целостности”.
К началу 1950-х Алекс так всё устроил, что его круги могли создаваться его помощниками по макетам без его участия. Он всё еще был слаб от болезни и, возможно, искал форму выражения своего видения, которую могли бы воспроизводить и в том случае, если он будет слишком болен, чтобы писать самому. Кроме того, его, очевидно, вдохновляли супрематисты и конструктивисты, которые были очень популярны в России 1910-1920-х годов. А его идею искусства как чего-то нерушимого, непреходящего (искусствовед Барбара Роуз в своей работе об Алексе 1983 года видит в этом неоплатоническую концепцию) можно связать с его травматичным опытом участия в одном из величайших переворотов века. Что бы ни послужило причиной, он, несомненно, стал одним из первых минималистов нашего времени. Одна из самых знаменитых его работ 1949 года представляла собой белый круг, вписанный в черный квадрат, и называлась “Минимум” – это было задолго до того, как в наш словарь вошли “измы”.
Примечательно, что Алекс создавал свои абстрактные геометрические работы в совершеннейшей изоляции. Он стоял в оппозиции к художественной жизни Нью-Йорка в 1950-е годы – тогда была популярна живопись действия. (В те годы единственным американским художником поколения Алекса, который также работал с геометрическими формами, был Элсуорт Келли, который до середины 1950-х жил в Париже.) Был ли у Алекса круг друзей и коллег, с кем он обсуждал свою работу? Нет. Его ближайшее окружение – дядя Пат, Марлен Дитрих, Девали – считали его работы забавной ерундой. Учитывая, сколько времени уходило у него на управление своей империей, домашнее хозяйство и творчество по выходным, Алекс не имел ни единой секунды на общение с американскими художниками, которые тогда преобразовывали современное искусство – Поллоком, Ротко, Мазервеллом, Адом Рейнхардтом[164]. Что же до моей матери, она была равнодушна к художникам, если они не были известны во всём мире – вроде Пикассо, Дали или ее соотечественника Шагала. Кроме того, несмотря на обширное образование, вкусы ее в визуальном искусстве оставались совершенно реакционными. Ее любимым художником был Вермеер – она вплоть до 1950-х умоляла Алекса писать в его стиле. Импрессионизм остался ее потолком, она была возмущена, когда Алекс отошел от реалистичных портретов и милых пейзажей и, как и остальные их друзья, считала его круги “какой-то чушью”.
Что самое интересное, наибольший энтузиазм работы Алекса в начале 1950-х вызвали у радикальных художников, с которыми я познакомилась летом 1951–1952 года. Ближайшими моими друзьями были Джон Кейдж, Мерс Каннингем[165] и Боб Раушенберг, и в конце лета 1951-го я привела их на Семидесятую улицу. Они были в восторге от экспериментов Алекса с кругами и часто навещали его в последующие годы, пока я жила в Париже. Особенно Алексу полюбился Кейдж, и Алекс нередко пользовался его методом случайности при создании своих работ. Он всегда оставался благодарен художникам, которые так поддержали его в начале его минималистского пути.
Итак, по будням Алекс управлял журналами, в заголовках которых говорилось, например, о том, что юбки стали короче на восемь сантиметров. Вечером он становился светским львом.
А по выходным создавал самые смелые работы своего времени – зачастую в полном одиночестве. Искусствовед Клемент Гринберг и художник Барнетт Ньюман навестили Алекса как-то в 1953 году – пробыли довольно долго, выпили довольно много, но ничем ему не помогли, после чего они еще несколько лет не виделись. В те же месяцы к нему пришел скупщик произведений искусства Сидней Дженис и посоветовал Алексу заняться декорациями для балета. Единственным лучом света в его одиночестве в то десятилетие было то, что в 1954 году Джеймс Джонсон Суини выбрал один из его минималистских холстов – два черных круга на белом фоне – для групповой выставки “Молодые американские художники” в музее Гуггенхайма. Это была единственная работа Алекса, которая выставлялась до 1960 года, и в тот раз он впервые почувствовал, как помешает его карьере художника работа в журнале: Time пренебрежительно назвал его картину “примитивной бессмыслицей кисти редактора Condé Nast”.
В таком одиночестве Алекс начал проект по фотосъемке художников парижской школы – впоследствии эти фотографии вошли в его книгу “Художник в своей мастерской”.
Со временем Алекс, стремясь уберечь себя от лишних тревог, стал относиться к своей работе в Condé Nast с некоторым презрением. Он понимал, что только так сможет обеспечить их с мамой комфорт и безопасность, в которых они так нуждались из-за проблем со здоровьем и драматических событий юности. Финансовая защищенность, которую давала работа, позволяла ему творить вне зависимости от ограничений рынка, прихотей критиков и коллекционеров (по крайней мере, так он оправдывал себя). Алекс часто говорил мне, что, будучи художником, ощущает себя на голову выше коллег – отсюда его уверенность в себе, необходимая каждому хорошему руководителю. Всё это время Алекс смотрел на творчество – и свое, и чужое – как на некое идеальное пространство, где можно укрыться от пустого блеска мира моды. Летом 1948 года, когда они с мамой, как обычно, отдыхали во Франции, один знакомый предложил Алексу сфотографировать Жоржа Брака в его доме на нормандском побережье. Алекс ухватился за эту идею. Он давно жалел, что не успел до войны познакомиться с кем-нибудь из парижской живописной школы, а теперь у него появился шанс. Знакомство с Браком так вдохновило Алекса, что в последующие четыре года он сфотографировал еще дюжину с лишним художников, а также мастерские нескольких покойных мастеров – Сезанна, Моне и Кандинского.
Запечатление жизни и творчества пионеров модернизма XX века, как и живопись, поначалу были для него сугубо личным проектом: так Алекс исследовал, какой могла бы быть его жизнь, если бы он посвятил ее живописи. Он работал над проектом четыре года, без намерения его публиковать. Эта хроника, возможно, была для Алекса своего рода формой диалога со внутренним художником, погребенным под грузом фаустовской личности, художником, которого так мечтала увидеть его мать. В этой хронике много размышлений о творческих муках и личной самоотверженности, которая так часто требуется не только от самих художников, но и от их близких – сам Алекс был не способен на подобное.
В конце 1940-х и начале 1950-х я несколько раз сопровождала Алекса во время визитов в мастерские, которые он фотографировал, и наблюдала за его работой. К искусству он относился с благоговением – это было наследие русской культуры, в которой выросли его родители: искусство превыше всего. В процессе творчества Алекс словно забывал о себе, отрекался от своей эгоцентричности и снобизма. Подобно Анри Картье-Брессону, которого он ставил выше любого другого фотографа своего поколения, Алекс работал очень тихо и ненавязчиво. Он снимал только ручной камерой “Лейка”, не пользовался штативом и дополнительным освещением. Его визиты были краткими, около часа, но он возвращался на следующий год, если чувствовал, что нужно сделать дополнительные фотографии. Поскольку он обращался с художниками неизменно вежливо и уважительно, его всегда принимали радушно.
Так вышло, что я была с Алексом, когда он впервые навещал Брака и Джакометти – это были художники, жизнь которых восхищала и ужасала его более всего. Брак – дружелюбный элегантный мужчина, которому в пору первого визита Алекса было шестьдесят два года – показался ему “вельможей от современного искусства”. Алекса совершенно поразил его дом – бесконечно элегантный и продуманный.
“Брак возвел материальный комфорт в наивысшую степень, – писал он в книге «Художник в своей мастерской». – Его мастерские выглядят величественно – они напоминают тронные залы времен Возрождения. Роскошь не бросается в глаза, но она повсюду – это роскошь умиротворения, простора и тишины… Жизнь будто вращается вокруг Брака. Он совершенно решил материальный вопрос”.
Когда мы в тот день возвращались в Париж из Нормандии, я заметила во взгляде Алекса ностальгию. Он оживленно обсуждал наш визит – ты когда-нибудь видела более шикарную мастерскую? Мадам Брак просто прелесть! Ты заметила, как она его опекает? У них идеальная семья! Сколько бы Алекс ни находил причин продолжать работать в Condé Nast, я не раз видела, как он с грустью созерцал жизнь других художников, которым удавалось найти баланс между творчеством и материальным комфортом, – собственный роскошный быт казался ему в такие моменты неполноценным.
Совершенно противоположным опытом был визит к Джакометти, который жил с женой в тесной неряшливой комнатушке, которая одновременно служила им гостиной, спальней, кухней и ванной. Джакометти был настоящим аскетом – его работы уже неплохо продавались, но он предпочитал из суеверных соображений придерживаться такого же скромного образа жизни, как и в начале пути. Особенно Алекса потрясла пыль – если не сказать грязь – по всей комнате: Джакометти так боялся нарушить свой творческий процесс, что не позволял выбрасывать ни гипсовые крошки, ни карандашные стружки.
“Возможно, в нем говорит суеверное стремление продлить вдохновение, – размышлял Алекс в своей книге. – Переехать в лучший дом значит обрубить нить, оставить плодородную почву, породившую уже столько шедевров”.
Разумеется, стоило нам покинуть дом Джакометти, Алекс уже не мог сдержать своего ужаса:
– Ты когда-нибудь видела такой кошмар? – восклицал он. – А его жена, такая прелестная девочка… Что же это такое? Слава богу, что твоя мама с нами не пошла!
Эта хроника никогда не увидела бы света, если бы не Ирвинг Пенн, который в 1952 году уговорил Алекса опубликовать несколько фотографий и сопутствующих эссе в Vogue – я редактировала первые черновики этих эссе, написанные от руки. (Впоследствии он без тени сомнений публиковал в своих журналах свои работы или статьи о себе. “Они меня уговорили”, – с напускной скромностью говорил Алекс, когда его портреты или фотографии его дома появлялись в Vogue, House and Garden или Vanity Fair. В 1980-х годах в Vanity Fair появился двадцатичетырехстраничный обзор нового издания “Художника в своей мастерской”.)
В 1959 году серия “Художник в своей мастерской” была выставлена в Музее современного искусства и названа уникальной хроникой пионеров героической уходящей эпохи. В ней также увидели первое фотографическое исследование современных художников, которое в равной степени уделяло внимание и их творческому методу, и инструментам, и характерам самих творцов. Успех выставки привел к тому, что в 1960 году в издательстве Viking Press вышла книга, которую встретили очень одобрительно и впоследствии не раз переиздавали.
Если говорить о взглядах самого Алекса, нельзя забывать, что фотография для него не являлась настоящим искусством. Он считал, что снимок – это всего лишь фиксация реальности, а не произведение искусства, поскольку он не способен пробудить к жизни “нечто неосязаемое, иллюзорное и метафизическое”. Эта цитата хорошо характеризует благоговейное отношение Алекса к искусству, отношение, произраставшее из мистической эстетики русских мыслителей начала XX века – например Бердяева, которого Алекс много читал в 1940-е. Религиозность действительно во многом определила идеологию его фотографического проекта. Визиты к художникам он рассматривал как “паломничества”, а самих художников, беззаветно преданных искусству, как членов религиозного ордена. Эти паломничества позволяли ему восстановить утраченную связь с русским мистицизмом и концепцией искусства как духовной трансцендентности, “поиска чуда”. Яснее всего его идея духовности искусства видна в эссе о Кандинском: “Высшая степень абстрактного искусства – это выражение стремления человека подняться над смысловым наполнением в высшие сферы, это молитва, которая вызывает к жизни его духовную энергию”.
Барбара Роуз видит в кругистском периоде творчества Алекса сильную славянскую составляющую и связывает его работы того времени с влиянием Кандинского, Малевича и чеха Франтишека Купки – все они выступали против картезианского, рационалистского французского кубизма, все они в своем творчестве пребывали в поиске космического или религиозного.
Так вышло, что Алекс впервые получил общественное признание за успехи в жанре, который не считал формой искусства. Что же до его картин, то через год после выставки в Музее современного искусства они также увидели свет – друг и почти тезка Алекса, Уильям Либерман (их познакомила Марлен Дитрих), куратор Музея Метрополитен, уговорил организатора выставок Бетти Парсонс продемонстрировать полотна у себя. Ни пресса, ни публика не удостоили выставку вниманием. Но у нью-йоркских художников, среди которых были Барнетт Ньюман (монтировавший ее), Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг, она получила одобрение. А единственная проданная картина, тондо[166], попала в хорошие руки: ее купил Альфред Барр-младший, главный куратор Музея современного искусства.
Светская жизнь Либерманов в 1950-е годы полностью сосредоточилась на Пате и Марлен. “Они как сестры”, – с гордостью говорил Алекс о своей супруге и кинозвезде – этими же словами за несколько лет до того он описывал отношения мамы с бедной Надой. Маму с Алексом приводило в восторг, как в Марлен сочетаются роскошная соблазнительница и трудолюбивая домохозяйка, родители млели от ее готовности услужить друзьям. Когда у Алекса обострилась язва, она по десять часов варила вырезку, чтобы сделать кварту крепкого бульона; Марлен сама зашивала мамины вечерние платья – специальной иглой, которая хранилась у нее еще с отъезда из Берлина в 1930-е.
Эти четверо были неразлучны – они проводили вместе все выходные, летний отпуск и Рождество, а Марлен стала для меня очередной приемной матерью. На зимние праздники 1951 года к нам в гости приехал мой друг из Северной Каролины. Алекс, мама и дядя Пат собирались на какую-то шикарную вечеринку, но Марлен заявила, что “нельзя бросать детей одних”, и осталась на Семидесятой улице, чтобы приготовить нам рождественский ужин. Меню этого вечера навсегда осталось запечатленным в памяти Джонатана Уильямса: черная икра, шампанское “Вдова Клико”, говяжье филе и домашний лимонный шербет, политый “Гевюрцтраминером”. “Помню, как мы втроем сидели на кухне у твоих родителей и поедали невероятные рождественские угощения”, – ностальгировал он в недавнем письме.
Близость с мамой привела к тому, что Марлен начала вмешиваться в вопросы моего здоровья – с катастрофическими последствиями. Как-то раз Татьяна рассказала ей, что первые месячные у меня пришли в шестнадцать лет и с тех пор это случалось не чаще двух-трех раз в год. Марлен, со свойственным ей немецким чувством порядка, пришла в негодование:
– Это ненормально! – воскликнула она.
– Марлен, милая, можешь с ней сама поговорить? – взмолилась мама.
Поэтому в один прекрасный день, когда я сидела у себя и готовилась к экзамену – мне тогда был двадцать один год, и я вот-вот должна была закончить колледж, – Марлен ворвалась ко мне со словами:
– Дорогая, три цикла в год – это ненормально! – Она стояла в дверях, подбоченившись, в белом медицинском халате, который надела днем, чтобы вести внуков в парк, и грозила мне пальцем, как рассерженная учительница. – Это ненормально! Я веду тебя к доктору Уилсону!
На следующей неделе она заставила меня пойти к кошмарному врачу Роберту Уилсону – специалисту по гормонозаместительной терапии. В своей книге “Вечная женственность” он писал, что любая гормональная недостаточность – это “серьезная и зачастую калечащая” болезнь, которая “губительна как для характера женщины, так и для ее здоровья” и может даже навредить ее “отношениям в семье и с друзьями”. Он, как и Марлен, пришел в ужас от нерегулярности моего расписания и велел мне приходить к нему трижды в неделю на уколы эстрогена. Только те, кому прописывали огромные дозы чистого эстрогена, понимают, как мне было плохо. За две недели я набрала пять килограмм. Грудь у меня так распухла и болела, что я боялась спускаться в метро в часы пик, опасаясь, что меня кто-нибудь заденет. Через несколько дней у меня, как по часам, пошла кровь, хотя это и не были настоящие месячные. Ничего не сказав маме и Марлен, через месяц я прекратила лечение. Что же до месячных, они наладились сами, семь лет спустя, после моих первых родов.
Идиллия Пата и Марлен продлилась до начала 1950-х, когда звезда ушла от него к Майклу Уайлдингу, с которым она играла в хичкоковском “Страхе сцены”. За этим последовали интрижки с Юлом Бриннером и другими мужчинами. Марлен была самой большой любовью Пата – у него были романы с разными ослепительными красавицами, но никем он не был поглощен так полно и мучительно, как Марлен. Их расставание опустошило Пата, он был подавлен и как никогда прежде стал искать утешения в более глубокой дружбе с Либерманами. Алекс уговаривал его начать рисовать. Каждую субботу Пат приходил на Семидесятую улицу и работал в углу мастерской Алекса, которая теперь располагалась на верхнем этаже, в комнатах, которые раньше занимали Шуваловы. Он ставил свой мольберт в противоположном углу от Алекса, который тогда писал большие эмалевые круги, и рисовал изящные виды окрестных улиц в стиле Бабушки Мозес[167]. К середине 1950-х Пат уже так зависел от Либерманов, что продал свою квартиру вблизи Ист-Ривер и переехал в дом по соседству, который ему подыскал Алекс. (За дом было уплачено из средств издательства – которому, соответственно, он и принадлежал.)
В эти годы Алекс и Пат были ближе, чем когда-либо. На работе они подолгу сидели друг у друга в кабинетах за разговорами, вертевшимися в основном вокруг разбитого сердца Пата. Летом они на одном корабле отправлялись во Францию, где ходили по выставкам и жили в соседних номерах в “Рице” или “Крийоне”. В Нью-Йорке они вместе бывали на спектаклях и концертах, вместе проводили выходные у Гриши и Лидии Грегори – в 1940-х их связывали романтические отношения, но теперь она довольствовалась его дружбой.
Приятельство Алекса и Пата несколько увяло, когда Пат влюбился в Чезборо (Чесси) Эймори, жену повесы-весельчака Чарльза (Чаза) Эймори. Супруги Эймори принадлежали к самому консервативному кругу англосаксонских протестантов Восточного побережья и жили раздельно – Пат на несколько лет стал третьим в их семье. Несмотря на многолетнее недоверие, которое Татьяна с Алексом испытывали к антисемитизму американской элиты, она подружилась с Чессе – высокой, элегантной блондинкой, смешливой и остроумной. Она работала манекенщицей у Мэйна Бокера и немедленно англицизировала своего нового любовника, окрестив его Патриком. Когда в 1956 году я вернулась в Нью-Йорк из Парижа, то обнаружила, что Либерманы по-прежнему дружат с Марлен, пытаясь одновременно угодить новой семье Пата – супругам Эймори.
Пока Алекс наслаждался первым своим творческим успехом, его мать стала требовать, чтобы он ушел с работы и полностью посвятил себя живописи. Генриетта жила в Париже с 1947 года. Незадолго до того ей пришлось закрыть свое дело, “школу изящных манер”, в которой она преподавала женщинам сомнительного происхождения великосветские манеры: как садиться, как держать чашку (отставив мизинчик). Алекс как-то язвительно заметил, что туда ходило несколько провинциалок да жен мясников.
Мамаше теперь было за шестьдесят – она носила короткие юбки на манер Брижит Бардо и прозрачные блузы. Она по-прежнему спала со всеми, кто соглашался, и чтобы число побед не уменьшалось, сделала несколько операций по подтяжке лица. (Алекс как-то подсчитал, что за жизнь она сделала семнадцать абортов и семь пластических операций.) Либерманам приходилось оплачивать не только потребности мамаши, но и ее прихоти, а также терпеть практически ежедневные письма с обвинениями в пренебрежении своим призванием и тяге к фальшивому миру глянца: “Ты – смысл моей жизни <…> в тебе сокрыто столько сокровищ, не трать силы на пустой мир моды. <…> Твой единственный путь – быть художником, ты должен выражать свою душу в творчестве”.
Необходимость финансировать капризы мамаши, содержать остальных членов семьи и поддерживать свой роскошный образ жизни давалась Либерманам нелегко, а займы на работе Алекс мог брать до определенного предела. В этом неустойчивом положении Алекс в очередной раз предпочел свои интересы дружеской верности, когда его наниматель, Condé Nast, и лучший друг, Ива Пацевич, столкнулись с величайшим кризисом в истории компании.
С 1930-х по 1950-е годы финансовый контроль над издательским домом Condé Nast находился в руках лорда Камроуза, британского газетного магната, который спас Наста от финансового краха в 1929 году. Но в 1958-м, после смерти Камроуза, его сын продал большую часть принадлежавших семье акций Сесилу Кингу, издателю бульварной газеты Daily Mirror. Согласно договору между Камроузом и Пацевичем, в случае подобной продажи у американских издателей будет льготный период в шесть месяцев, во время которого они смогут выкупить акции обратно. В тот момент журналы Condé Nast не приносили особого дохода, и задача оказалась непростой. С помощью одного из вице-президентов, финансового ловкача Даниэля Салема, Пацевич обратился в различные организации – Collier's, Time-Life и издательский дом Коулса, – но тщетно. Прошло пять месяцев, перспектив никаких не было, и Пацевич с Салемом стали впадать в отчаяние… Внезапно, в последнюю неделю, на горизонте возник богатый издатель по имени Сэмюэл Ньюхаус.
Низкорослый Сэмюэл был старшим из восьми детей русского эмигранта; когда в 1908 году здоровье его отца пошатнулось, ему в тринадцать лет пришлось бросить школу. Он пошел работать клерком в городской суд в Байонне. Его начальник, судья Хаймен Лазарус, приобрел 51 % акций в местной газетенке, редакция которой находилась по соседству с его кабинетом. Он уволил несколько бездарных редакторов и назначил своего семнадцатилетнего клерка главным со словами: “Займись пока этим, а потом мы всё продадим”. Сэм с семи лет подрабатывал разносчиком газет и хорошо понимал эту сферу.
Целый год Сэм трудолюбиво собирал подписки и планировал агрессивные рекламные кампании – в результате газета стала приносить прибыль. Четыре года спустя он зарабатывал на ней 20 000 долларов в год (по современным меркам это было бы примерно 350000) и пристроил в редакцию всех своих совершеннолетних братьев и сестер. Еще через десять лет он выкупил тридцать газет в двадцати двух разных городах и обошел своих главных соперников, Хёрста и Скриппса-Говарда[168], в тиражах, оборотах и доходах.
В начале карьеры Сэм Ньюхаус, скромный и добродушный человек, женился на прелестной и такой же застенчивой девушке, Мици Эпштейн, которая мечтала о карьере в театре. Она родилась в семье успешного фабриканта с Седьмой авеню, выросла в комфорте и закончила Парсонскую школу дизайна. Даже пока они жили на Стейтен-Айленде, воспитывая сыновей, Дональда и Сэмюэла (Сая) Ньюхауса-младшего, Мици умудрялась то и дело водить мужа в театр. В 1940-х положение их дел поправилось, Ньюхаусы переехали на Парк-авеню, и мечта Мици сбылась – теперь они ходили на премьеры всех нью-йоркских спектаклей и опер и покупали билеты только в первый ряд, чтобы ничто не заслоняло сцену. Моду Мици любила так же страстно, как и театр, и к началу 1950-х одевалась исключительно у Живанши и Диора. Сэм обожал свою жену и любил рассказывать, что как-то утром 1958 года Мици попросила его сходить за глянцевым журналом – тогда он “пошел и купил Vogue”.
Хотя, по слухам, Ньюхаус купил издательство в подарок жене на день рождения, это было очень дальновидное решение. Он закрыл роскошную типографию в Коннектикуте, где с 1930-х годов печатались журналы Condé Nast, и перевел производство в более современные и дешевые типографии на Среднем Западе. В результате через девять месяцев после покупки дела наладились и прибыль компании стала стремиться к полутора миллионам в год.
Пат между тем был поглощен романом с надменной Чесси Эймори, к новому хозяину Condé Nast относился с высокомерным презрением и за спиной называл его “надоедой”. Он с самого начала понимал, что Чесси, будучи противницей всего интеллектуального, не сойдется с жадными до культуры Ньюхаусами, и стал для общения с ними прибегать к посредничеству Алекса, поскольку тот тоже был евреем. После первого ужина у Пата с Ньюхаусами мама тут же объявила Мици “неотразимой” – она прекрасно понимала, откуда ветер дует. Либерманы и Ньюхаусы сразу же подружились, и совместные ужины стали повторяться. Мама с Мици радостно щебетали о книгах, детях, нарядах и служанках, тогда как Сэм вещал Алексу об издательских делах. Пат и Чесси (надо сказать, что Чесси сразу же невзлюбила маму из-за ее крепкой дружбы с Марлен) поженились в день убийства Кеннеди – празднество состоялось невзирая на мрачные обстоятельства.
Пока один художник-эмигрант, Пат, легко, как хамелеон, приспосабливался ко всем склонностям и увлечениям своей новой жены – Саутгемптон, Палм-Бич, загородные клубы, турниры по канасте, – другой, Алекс, решил поставить на Нью-хауса и стал его доверенным лицом и правой рукой в компании. Тридцать лет спустя Алекс объяснял, что любил компанию, любил свои журналы, ему надо было как-то выживать. И он выжил.
В конце 1962-го, когда старая гвардия Конде Наста была свергнута и на место Джессики Дейвс пришла Диана Бриланд, Ньюхаус назначил Алекса шеф-редактором всей империи Condé Nast. К тому времени родители уже окончательно разошлись с Патом. И мама, и Алекс считали, что его отношение к Ньюхаусу просто нелепо, а Алекс еще и тревожился, что это пойдет во вред компании. Отношения остыли, и те двадцать лет, что Алекс с Патом были “как братья” и Пат плакался ему об истериках Нады или предательстве Марлен, казались невероятно далекими. Перестановки в Condé Nast начались весной 1967 года. Как-то во время ужина Сэм отвел Алекса в сторонку и спросил, справляется ли Пат с работой. “Я не смог соврать”, – рассказывал впоследствии Алекс.
Несколько месяцев спустя, в сентябре 1967-го, еще одна ошибка Пата привела к его падению. Боливийский консервный магнат Патиньор устроил праздник в португальском городе Эсторил – торжества длились неделю, и все мало-мальски важные персоны получили приглашение. Там были и Ньюхаусы – они общались с другими американскими воротилами из мира прессы и моды. Для Мици это был прекрасный случай похвастаться своим гардеробом и обсудить талант мужа к возрождению издательских империй. По обе стороны океана устраивались обеды, завтраки и коктейльные вечеринки, и Ньюхаусы были приглашены повсюду – за исключением вечера, который устраивали Чесси с Патом, о чем Мици узнала на следующий день от своей маникюрши.
Последствия этой оплошности наступили две недели спустя. Пата сместили с должности владельца журнала до простого председателя, выполнявшего, в сущности, секретарские функции, – на его место заступил старший сын Ньюхауса, Сэмюэл (Сай). Тяжелее всего Пату было узнать, что ему предстоит оставить дом на Семидесятой улице – он прожил там уже десять лет. Из-за своего обычного высокомерия Пат не сомневался, что будет жить там вечно, и даже не предупредил свою жену Чесси, что дом им не принадлежит. Тем тяжелее им было узнать, что дом отходит новому владельцу – Саю Ньюхаусу-младшему.
Во время этих перемен Алекс сказал Пату, что готов в знак солидарности тоже подать в отставку. Пат прекрасно понимал, что это всего лишь риторический жест, и уверил своего коллегу, что его этот дворцовый переворот совершенно не касается, но дружба очевидно подошла к концу. Пат и Чесси в бессильной ярости укрылись в своих домах в Саутгемптоне и Палм-Бич, где ежедневно играли в карты и прилежно посещали клубные вечеринки – например теннисного клуба Палм-Бич, который аж до 1970-х имел строгие расовые ограничения для посетителей, не говоря уже о членах.
В 1970-е годы мама с Алексом стали каждую зиму проводить две недели в Палм-Бич – Пацевичи жили там большую часть года. Но в следующие десять лет они встретились только один раз, когда столкнулись с ним на Уорт-авеню. Мне, однако, удавалось поддерживать с ним связь. Мамин отец тоже жил в Палм-Бич, и во время ежегодных визитов к нему я обычно навещала и Пата с Чесси. Пат неизменно бурно радовался моему появлению. Чесси встречала меня очень тепло. Эти визиты продолжались в течение двадцати лет, и в первые годы он всё еще был прежним щеголеватым Бо Браммелом[169]: седым, загорелым, в галстуке “Аскотт” и шикарной рубашке – таким же, каким я запомнила его с детства, когда он без конца приударял за каждой юбкой (эту привычку он оставил с появлением благопристойной Чесси).
В последний раз я видела Пата в 1991-м, за несколько месяцев до смерти мамы и за два года до его собственной кончины. Он был болен: тонкое, точеное лицо осунулось так, что напоминало мумию, вместо голоса – еле слышный хрип. Он приходил в себя после операции по тройному шунтированию: из-за нерадивости медсестры восстановление проходило тяжело. Но в этом была и его вина: через сутки после операции в Иве Сергеевиче Пацевиче проснулась какая-то дикая славянская сила, он оторвал от себя все провода и с воплями помчался по больничным коридорам, проклиная врачей. На восстановление ушли месяцы, на протяжении которых ему давали сильное успокоительное.
– Как моя подруга Татьяна? – прошептал он чуть слышно по-русски, когда я в тот год навестила его в Палм-Бич, и слабо, но совершенно ослепительно улыбнулся. – Как там мой братец Алекс?
Я сказала ему, что у них всё в порядке, хотя мама на тот момент уже тяжело болела. Когда я целовала его на прощание, глядя в бирюзовые глаза, теперь казавшиеся еще больше, вдыхая знакомый аромат одеколона “Khize”, я невольно молча поблагодарила его за радости моей юности – уроки верховой езды, пышные бальные платья, в которых я казалась себе такой взрослой, коттедж на Ямайке, который он снял для нас с мужем в подарок на медовый месяц. Как бы дурно ни поступили с ним мои родители, дядя Патси был для меня настоящей феей-крестной.
О разрыве между Патом и Алексом много говорили.
– Я был в восторге от Пацевича, – рассказал мне Сай тридцать пять лет спустя. – Он был настоящим белым эмигрантом, невероятно благородным человеком.
Даниэль Салем, который в те годы был главным финансовым консультантом в Condé Nast, прокомментировал:
– Я по сей день не могу поверить, что Алекс так обошелся с Патом. Тот практически создал его карьеру… Хотя Алекс никогда ни за кого не сражался.
Подозреваю, что карьера Алекса зиждилась на многих подобных случаях – просто мне не было о них известно. Об одном схожем предательстве я, однако, помню – тогда Алекс по приказанию Ньюхаусов уволил исполнительного редактора французского издания Vogue, Эдмонду Шарль-Ру. Эдмонда, статная, величественная дама, напоминавшая игуменью (она зачесывала темные волосы в гладкий узел и много лет носила строгие блузки одного и того же покроя от Баленсиага – они были пошиты для нее из различных тканей на все времена года), работала в журнале с послевоенной поры – это была всеми уважаемая интеллектуалка родом из одной из самых богатых семей Франции. Ее кузены и братья учились в Рош в одно время с Алексом. Ее отец до войны был французским послом в Ватикане. Связь Эдмонды с нашей семьей была тем крепче, что Саша Яковлев на протяжении многих лет каждое лето гостил в Италии у ее родственников и близко дружил с ней самой. Вплоть до 1966 года Алекс говорил, что Эдмонда – одна из ближайших его подруг.
Эдмонду решили уволить, когда она захотела поставить на обложку французского Vogue фотографию афроамериканской модели работы Уильяма Кляйна. Осторожный и консервативный Сэм Ньюхаус услышал об этой идее и попросил Алекса настоять, чтобы Эдмонда выбрала другую фотографию. По слухам, Эдмонда ответила, что редактор здесь она и обложка остается. Никакие уловки и лесть не помогли, Эдмонда стояла на своем, а через несколько дней ей сообщили об увольнении.
Дело было в марте 1966 года. В июле того же года ей позвонил Алекс – он собирался в свою ежегодную поездку в Париж на модные показы. Из печати вот-вот должна была выйти книга Эдмонды “Забыть Палермо” – о ней уже много писали (говорили, что она будет главным претендентом на Гонкуровскую премию – так и вышло). Алекс спросил, можно ли навестить ее, и Эдмонда согласилась – любопытство оказалось в ней сильнее гордости. Что было дальше, расскажет сама Эдмонда:
Я ничего от него не слышала со дня увольнения, поэтому мне было интересно, что он скажет. Но такого я предположить не могла. Он позвонил в дверь, я открыла, и он, стоя на пороге, разрыдался – это была настоящая буря слез. Я не знала, что и делать. Это были не тихие слезы грусти, а какой-то взрыв. Я усадила его, дала воды. Он всё всхлипывал, но наконец выдавил: “Я ничего, ничего не мог сделать”. Я дала ему успокоиться и сказала, что мы навсегда останемся друзьями. Он пробыл у меня еще полчаса, мы мало говорили. С тех пор мы встречались нечасто.
Когда Эдмонда в 2002 году рассказала мне об этом случае, я была в шоке. Никто никогда не видел Алекса в слезах, и я знала, что он не плакал, даже когда умерла моя мать. Так как объяснить этот “взрыв”? Возможно, в тот раз он болезненно осознал свою слабость: Эдмонда воплощала в европейском обществе всё, чего Алекс мог достичь и не достиг, – интеллектуальные вершины, строгую личную дисциплину.
Подтекст этого эпизода таков: Алекс был в достаточной мере снобом, чтобы страдать от потери старой подруги, очевидно его превосходящей и которую явно ждала слава. Ему хватило благородства, чтобы попросить у нее прощения. Но из-за его гордости вся ситуация была для него унизительна, поскольку ему пришлось признать свою вину. Чрезмерный снобизм, некоторое благородство и феноменальное тщеславие – это, в общем, полностью характеризует Алекса.
В начале 1960-х творчество Алекса претерпело очередную трансформацию. Причиной этой метаморфозы, как и многих других, стали проблемы со здоровьем – третье и последнее кровотечение. Оно было самым тяжелым из всех, но к тому времени уже можно было прибегнуть к хирургии.
Кровотечение произошло в конце августа 1962 года, когда мои родители возвращались из Европы на корабле “Королева Елизавета”. Как-то вечером мама позвонила мне с борта и сказала, что у него очень сильно идет кровь. Мне было велено вызвать доктора, чтобы тот встретил их в порту. Мы сразу же отвезли Алекса в больницу. Он, видимо, понял всю серьезность своего положения, потому что перед операцией попросил привести к нему моих детей – младшему, Люку, было всего шестнадцать месяцев. Он нежно поцеловал нас и отправился на четырехчасовую операцию, в ходе которой ему удалили поврежденную часть желудка. Всё прошло успешно. Через несколько недель Алекс был дома и месяц спустя уже стал ходить на работу – проводя там по несколько часов в день. Ему прописали перед обедом пить разбавленный виски, чтобы расслабить мускулы желудка. Мама стала выпивать с ним за компанию. Ему было пятьдесят, ей – пятьдесят шесть, и они, видимо, впервые в жизни попробовали алкоголь. Через несколько месяцев диета стала менее строгой и Алексу позволили пить красное вино. Родители вскоре стали пылкими энофилами и стали коллекционировать бордо.
Пюсле того как Алекс пришел в себя, он с удвоенным пылом вернулся к работе. Его внутренний цыган вновь разбушевался – теперь Алекс восставал против всего, что проповедовал в прошлом десятилетии. Он отвергал геометрическую простоту и интеллектуальность своих кругов, видел в них “гипнотический побег от мира”. Теперь он писал в радикально-романтическом, избыточном стиле. На место безличных тонких кругов пришли широкие неровные мазки, кляксы, размытые цветные полосы. Его язва была исцелена, ему повезло полностью восстановить здоровье, и теперь он рисовал, чтобы выплеснуть свои эмоции. Сняв мастерскую по соседству, в бывшем похоронном бюро, он стал писать большие работы: к середине 1960-х Алекс клал холст на пол и выливал на него краску или размазывал ее шваброй. Идею он позаимствовал у Поллока, которому теперь поклонялся. А мой муж показал ему “Ликвитекс” – быстросохнущую акриловую краску, которую можно наносить на большие поверхности. У Хелен Франкенталер[170] и Барнетта Ньюмана Алекс позаимствовал идею использования грубого полотна, которое продавалось в больших рулонах и позволяло ему создавать огромные работы.
В 1960-е годы в радикально-экспрессивных работах Алекса вновь проявился его внутренний уличный сорванец. Он очень гордился своим необузданным внутренним ребенком, который скрывался за лакированным фасадом, и чувствовал большую приязнь к нему. Алекс постоянно и с удовольствием рассказывал, как бил камнями окна в Москве, как изводил учителей и справлял большую нужду прямо в штаны до девяти лет. Этот несносный мальчишка годами скрывался за изящными манерами, а тут вдруг вырвался на свободу: долго сдерживаемые эмоции выплеснулись на холст. Положительным результатом было то, что Алекс теперь творил, не оглядываясь на рынок и тенденции. Последняя выставка его геометрических работ состоялась в 1962-м, и все они были распроданы – галерист Алекса Бетти Парсонс в ужасе наблюдала, как он отходит от стиля, который стал пользоваться успехом. Кроме того, Алекс пришел к абстрактному экспрессионизму как раз тогда, когда он вышел из моды: теперь в центре всеобщего внимания был поп-арт – тот самый минималистический “оп-арт”, с которым он экспериментировал в начале 1950-х.
Первая выставка по-новому свободных романтических работ состоялась в 1963-м, через год после операции. Отзывов почти не было, картины продавались плохо. Влиятельный молодой критик Майкл Фрайд написал в журнале Art International: “Это профессионально сделанные, но совершенно не оригинальные работы”. Алекс не смог удержаться в однажды выбранном стиле, поддался своему капризу, и его вновь постигло поражение: как художника его никто не принимал всерьез.
К середине 1960-х у Алекса появились друзья в мире искусства. Вскоре после свадьбы мы с Кливом познакомили его с Барнеттом (Барни) Ньюманом, и хотя они несколько лет не виделись, впоследствии очень подружились. Алекс, безусловно, пользовался полезными знакомствами, которые мог ему предложить Барни, но вместе с тем искренне любил и ценил его. В Барни его восхищали ум, глубокое понимание метафизики и эстетики, на которое Алексу не хватало терпения. Кроме того, Барни был олицетворением свободного художника, на что Алекс никогда бы не осмелился: Ньюман жил на зарплату жены-учительницы в убогой квартирке, за двадцать лет у него не купили ни одной работы, и ему было наплевать, что есть и где спать. Алекса трогало и восхищало, как Ньюман всецело отдает себя искусству. На протяжении 1960-х они почти каждый день говорили по телефону о живописи и “о высоком” – у Ньюмана была масса запутанных и грандиозных идей. Эти разговоры утверждали Алекса в мысли, что искусство – это “метафизическая и духовная трансцендентность”, призыв взяться за “духовное оружие”.
Мы с Кливом познакомили Алекса еще с двумя нашими друзьями, с Бобом Мазервеллом и Хелен Франкенталер – последнюю мама тут же утащила в свой близкий круг, поскольку Хелен тоже была, как выразилась мама, “хорошо воспитана”, бесподобно принимала гостей и свободно говорила по-французски. Алекс выдоил из этих отношений всё что мог. В 1965 году Хелен благородно устроила ему выставку в Беннингтон-колледже, а в 1967-м познакомила с галеристом Андре Эммерихом, начавшим выставлять скульптуры Алекса, которые были слишком велики для Бетти Парсонс.
– Алекс был изрядным льстецом – он старался, чтобы его считали художником первого поколения нью-йоркской школы, – рассказала мне Франкенталер недавно. – Он бесконечно слал нам с Бобом цветы, шампанское, лимузины… Увы, это не помогало, потому что в середине 1960-х работы его были вторичны, но мы с Бобом просто наслаждались его щедростью и обаянием.
Эммерих продавал работы Алекса следующую четверть века – ему тоже не понравились последние экспрессионистские вещи, и он сказал, что выставляет их только “по дружбе”.
– Алекс переоценил свои способности и совершенно зря забросил круги, – говорит Эммерих. – В ослеплении он считал, что все его работы будут шедеврами, но его погубила собственная переменчивость. Если бы он придерживался одного направления и работал в нем, то заслужил бы заметное место в истории искусства XX века.
(“Ищи самую суть”, – часто говорил Алексу его первый учитель, Саша Яковлев.)
Но у Алекса теперь было новое увлечение – металлические скульптуры. Всё началось, когда он в 1959 году отдыхал в Ва-э-Вьен, и муж хозяйки дома, который делал чугунные балконы, показал ему, что такое сварка. Алекс нашел это зрелище восхитительным и весьма “чувственным”. Он занимался сваркой в последующие годы – в том числе в те дни, когда они с мамой приезжали к нам в Уоррен, где мой муж поселился за десять лет до нашей свадьбы. Нам принадлежала старая ферма с несколькими пристройками, и Клив со свойственной ему щедростью предложил Алексу один из амбаров и одолжил несколько тысяч долларов на обустройство мастерской (мы все тогда жили бедно, но в тот год Либерманы оказались беднее нас). Алекс взялся за работу с обычным энтузиазмом и принялся сваривать детали поломанных сельскохозяйственных машин, которые скопились у нас за несколько лет. Год спустя Клив уговорил местного сварщика и дорожного рабочего Уильяма Лаймана помочь Алексу в создании его гигантских скульптур – в итоге со временем Лайман и двое его сыновей стали работать на него на постоянной основе. Результаты выглядели многообещающе. В 1966 году Еврейский музей – оживленная галерея, где выставлялось ультрасовременное искусство – устроил Алексу персональную выставку.
К тому времени круги Алекса также росли в цене. В 1965 году одну из его работ “Непрерывное на красном”, тондо, которое Альфред Барр купил на первой выставке Алекса у Бетти Парсонс, включили в важную выставку Музея современного искусства, которую курировал Уильям Сейц: “Восприимчивый взгляд”. Алекс оказался в компании двух художников, которые впоследствии получили международное признание, – Фрэнка Стеллы[171]и Элсуорта Келли[172]. Келли и Стелла пришли в такой восторг от Алекса, что оба написали ему с предложением обменяться картинами. Алекс презирал переписку и так им и не ответил. Он обычно не снисходил до художников, которые были менее, чем всемирно знамениты, из-за чего рисковал выглядеть высокомерным невежей. Исключение составляли лишь Джаспер Джонс и Энди Уорхол, которых он любил и поддерживал с самого начала.
Период с середины 1960-х по середину 1970-х был для Алекса самым счастливым и плодотворным. В Condé Nast он теперь занимал второе по старшинству место – выше его стоял только сам Ньюхаус. Он наконец-то обрел признание как художник, скульптор и фотограф. Он выдал меня замуж. Он дружил со своим зятем – они регулярно ходили друг к другу в мастерские, чтобы обсудить свои работы, и Алекс неизменно уверял Клива, что тот его “ближайший друг во всём мире”. В любой выходной он мог уехать за город и заниматься своим новым увлечением – монументальной скульптурой. Наконец, он обожал своих внуков, а те буквально боготворили его.
– Он говорил с нами так, что мы казались себе ужасно важными, – вспоминает мой старший сын Тадеуш. – Он умел одновременно быть и дедом, и другом… других таких людей я не встречал.
(Надо сказать, что когда мои сыновья подросли, их отношения с дедом обострились – Алекс в силу своих вуайеристских наклонностей стал чересчур уж вмешиваться в их личную жизнь. “Куда делись девочки?” – обеспокоенно спрашивал он меня, когда мои сыновья вдруг ненадолго переставали водить домой юных красоток.)
Что же до светской жизни, то она процветала, как никогда ранее, хотя он так и не признался, насколько этот успех вредил его карьере художника. В 1967-м на Семидесятую улицу приехали погостить принцесса Маргарет с супругом, фотографом лордом Сноудоном, – Алекс подружился с ними пятью годам ранее. На две недели нас с мужем изгнали из моей бывшей комнаты, и дом превратился в светскую арену. Всё происходящее подробно документировалось в колонке сплетен в Daily News:
У Либерманов собрались все. <…> Фэй Данауэй <…> была там и большеглазая красотка Пенелопа Три[173]. <…> Также пришла Кэтрин Миллинэр, дочь графини Бэдфорд, и прелестные юные маркиз и маркиза Дафферин, и Ава[174], <…> Айрин Данн, <…> Франсуаза де Ланглад де ла Рента, <…> Чарльз Ревсон[175], Сальвадор Дали со своим оцелотом – в общем, можете себе вообразить.
Гостеприимство Алекса не помогло, однако, наладить отношения с королевской четой.
– Маргарет было непросто с Алексом, – вспоминает лорд Сноудон (сам он называет Алекса “покровителем всего популярного и пустого”). – Она была женщиной проницательной и чувствовала, что нравится ему по причинам, которые находила недостойными. Она насквозь видела Либерманов с их снобизмом и относилась к ним соответственно.
Во всех колонках отмечали мамины наряды от Сен-Лорана – молодой дизайнер стал дарить их ей, когда она переметнулась к нему от Диора. Стиль Алекса оставался по-кальвинистски строгим: серые или темно-синие костюмы, которые он десятилетиями шил в Лондоне, узкие вязаные галстуки из темно-синего шелка и бледно-голубые сорочки, которые он дюжинами покупал в римском ателье через дорогу от “Гранд-Отеля”. Но, несмотря на монотонность этой униформы, в середине 1960-х его вносили в список самых элегантных мужчин, составленный Евгенией Шеппард[176]: туда также входили Фред Астер[177], Кэри Грант[178], Олег Кассини[179] и герцог Виндзорский.
Кабинет, мастерская, гостиная и, главное, дом – Алекс, казалось, обладал способностью бывать повсюду одновременно.
– Это был человек-загадка, – вспоминает главный редактор Vogue Анна Винтур. Она любила Алекса и считает, что он оказал на нее самое большое влияние в жизни, потому что “искренне верил в идеалы в журналистике”. – Он был совершенно непредсказуемым. Мы никогда не знали, что он скажет, что сделает, одобрит наши решения или нет. Он уходил, ни с кем не прощаясь, приходил незаметно… Его униформа была для него и доспехами, и маской, она делала его еще более загадочным и неуязвимым.
– Он был чудовищно требовательным и стремился контролировать всё вокруг, – вспоминает Чарльз Чёрчуорд, еще один протеже Алекса, который с 1970 года работал арт-директором в нескольких журналах Condé Nast. – Например, каждую фотографию надо было распечатать в десяти размерах, прежде чем давать ему макет на утверждение. И он поразительно много работал. Он целыми днями носился по лестнице и контролировал свои тринадцать журналов – читал все статьи, все подписи и даже утверждал обложки.
Но Чёрчуорд также пишет, что характер Алекса с годами не улучшился:
– Помню, как он накричал на недавно устроившуюся к нам редакторшу: “Да вы вообще в моде ничего не понимаете, что вы тут делаете?!” Двери при этом были открыты настежь, и он попросил меня подождать снаружи, как будто для того, чтобы это точно уж была публичная порка.
Хотя на работе злобный мистер Хайд заставлял своих коллег трепетать в ужасе, дома он превращался в доброго доктора Джекилла и жил в постоянной тревоге – сравнимой, видимо, со страхом, который он наводил на окружающих в Condé Nast. На протяжении многих лет его коллеги веселились, видя, с каким испуганным лицом он бросается к телефону, когда звонит моя мать.
– Складывалось впечатление, что она щелкает кнутом, а он только с ужасом и обожанием смотрит на нее, – вспоминает Винтур. – Он во всех своих отношениях с женщинами искал доминанток.
Как правило, мама звонила, чтобы пожаловаться, что дома что-то сломалось – морозилка или кондиционер. В этом случае Алекс мгновенно бросался на Семидесятую улицу, чтобы всё починить.
Мне вспоминается, с каким важным видом он решал подобные проблемы: как-то раз зимним вечером я поскользнулась на льду и сломала ногу. Твердо решив не тревожить родителей, я вернулась домой и на четвереньках вскарабкалась по лестнице, наглоталась обезболивающих и легла спать. В 6 утра меня разбудил звонок нашей подруги – рыдая, она сообщила, что у нее только что умер муж. Я кое-как успокоила ее – Либерманы на ночь отключали телефон в спальне, чтобы не тревожить мамин сон, – и, как только услышала из родительской спальни знакомые утренние звуки, подползла к их двери и сообщила: – Алекс, милый, Николас умер, а я сломала ногу.
Через полчаса мне уже был назначен прием у известного хирурга-ортопеда, Алекс погрузил меня в лимузин и повез в клинику, вызвал другой лимузин, чтобы тот отвез меня домой, а сам отправился в Челси, чтобы помочь с организацией похорон. Разумеется, маму при этом не будили – она обычно вставала не раньше и часов.
(“Как нам с тобой повезло! – повторяла мама, вспоминая этот случай. – Как же нам повезло с Суперменом!”)
Поразительно, что Алекс никогда не подводил нас – даже в последние мамины годы, когда он сам уже тяжело болел, никогда не сдавался под грузом тяжелой работы. Этот феномен частично можно объяснить тем, что сам он невероятно гордился своей выносливостью. Коллеги не переставали дивиться безграничным запасам энергии Алекса.
– Он всю жизнь болел, откуда у него было столько времени? – задается вопросом Грейс Мирабелла, которая была главным редактором Vogue бо́льшую часть 1970-х и 1980-х годов. – Мы не понимали, откуда в нем столько энергии.
Я жила за городом, растила детей, вела хозяйство и силилась найти время на творчество – вездесущесть Алекса мне казалась мистической, дьявольской. Мне было некомфортно от мысли об этом: не слишком ли он разбрасывается? Мне вспоминался дурацкий стишок, популярный в 1940-х среди элиты восьмого класса, – мы читали его с комически преувеличенным британским акцентом:
Он как туман неуловим, Он люцнфер? Он херувим? Он вездесущ и вездеслед, Проклятый Алый Первоцвет![180]Маму подобные вопросы не волновали. Она звала мужа Суперменом, подразумевая, что Супермен никогда не устает, и обращалась с ним соответственно.
Глава 20 Закат Татьяны
Выйдя на пенсию, мама стала читать больше прежнего – в неделю она прочитывала три-четыре французские или русские книги. Она через день ходила в парикмахерскую на укладку. По меньшей мере час в день она говорила по телефону с Лидией Грегори, с которой их связывали воспоминания о Маяковском. Кроме того, она начала пить. Я приезжала в Нью-Йорк почти каждую неделю и вскоре заметила, что она превратилась в одну из тех профессиональных пьяниц, которые используют массу хитростей, чтобы скрыть свое пристрастие. Многие уловки она переняла у Марлен, которая начала серьезно пить с начала 1960-х, когда ее карьера пошла на убыль и пришлось зарабатывать на жизнь в одном из кабаре Лас-Вегаса. Когда я приезжала к родителям и заставала Марлен, то неизменно видела их с мамой в библиотеке – они пили виски и оживленно болтали. А когда я приходила в первой половине дня, около полудня, то находила расставленные по дому стаканы со смесью дюбонне[181] и водки (возможно, мама полагала, что после водки от нее будет меньше пахнуть). Она бродила по дому нечесаная, в халате, разрумянившаяся, с лейкой в руках, и притворялась, что строит планы на день. Если я видела, как она отпивает из одного из этих стаканов, она восклицала: “Я только чуть-чуть! Так у меня меньше болят суставы”. Почти каждый день она обедала в “Ла-Гренуй”, где, подозреваю, также пила вино и дюбонне, и почти каждый день играла в канасту.
В те дни, когда Марлен не было, мама восседала в гостиной, попивая виски или бордо, и принимала бывших клиенток – те были в ужасе от ее отставки и продолжали обращаться к ней за советами. Кроме того, с середины 1960-х в Америку стали приезжать русские художники и писатели, для которых Татьяна Яковлева дю Плесси Либерман была своего рода культурной иконой: среди них были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Мстислав Ростропович. Особенно она подружилась с Михаилом Барышниковым и Иосифом Бродским. Поэт много раз приходил послушать, как Татьяна читает стихи, как с мудрым видом рассуждает о русской литературе, и сам не раз читал стихи на ее приемах. Эти вечера не всегда проходили гладко: выпив лишнего, мама иногда перебивала Евтушенко или Бродского, когда они читали что-нибудь из русской классики, и утверждала, что они ошиблись. После этого она сама дочитывала стихотворение, и только самые стойкие осмеливались после этого продолжить.
Но хотя она с готовностью обсуждала стихи Маяковского, о своих с ним отношениях Татьяна говорить отказывалась и не давала никаких интервью. В 1970-е годы одному из советских телеканалов удалось обманом заставить ее немного поговорить о поэте – они притворились, что хотят снять фильм об Алексе, который обожал рекламу и был недоволен маминой известностью. Тем сильнее он был возмущен, когда выяснилось, что телевизионщики приехали к Татьяне, а та, чтобы “показать этим кретинам, как надо читать Маяковского”, с неохотой согласилась прочесть его стихи перед камерой для советской передачи.
Русские хлынули и в Новую Англию. В 1968 году Либерманы купили соседний с нашим дом в Уоррене. С тех пор как я вышла замуж за Клива, они как минимум раз в две недели приезжали к нам на выходные, обычно с парочкой друзей. Они всегда мечтали обзавестись собственным загородным домом, но у них никогда не было на него денег – а наш дом полностью отвечал их вкусам. Они изо всех сил старались быть полезными, привозили нам дивные лакомства работы Мейбл, чтобы я не слишком много стояла у плиты, и всегда вызывались посидеть с внуками. Но мне нелегко давались их визиты. Первые несколько лет на пенсии мамина энергия оставалась прежней, и она пыталась полностью управлять моим домом и даже иногда убираться. В одно январское воскресенье я вернулась из церкви с детьми и увидела, что она намела в гостиную снега с подъездной дорожки и теперь пытается вымести его.
– Что случилось? – воскликнула я. Она отставила метлу, подбоченилась и взглянула на меня свысока.
– Ты что, не знаешь, как чистить ковры?! Мы в России только так и делали!
Когда Алекс занялся скульптурой, а мама вышла на пенсию, они стали приезжать к нам еще чаще. Начиная с середины 1960-х, они чаще всего привозили с собой Жака Тиффо, знаменитого тогда кутюрье. Он возглавлял крупный дом моды “Тиффо и Буш” на Седьмой авеню; его лаконичные пальто и костюмы дважды за десятилетие были награждены премией “Коти”. Тиффо родился в крестьянской семье на западе Франции и обучался профессии у самого Кристиана Диора – в начале 1950-х он был его протеже и, недолго, любовником. Очень немногие были готовы спать с некрасивым Диором дважды, но добросердечный мэтр всегда готов был помочь своим бывшим возлюбленным. Либерманы считали Тиффо крайне полезным, поскольку он очень хорошо готовил. Если кушаний Мейбл не хватало, на помощь тут же приходили его изысканные блюда: баранья нога с фасолью, клафути[182], крем-карамель. Это был красивый мужчина с крепкими волосатыми руками и ногами, уверенной походкой и превосходным чувством юмора. Он был знатным гулякой, знакомился с любовниками на Таймс-сквер, в банях, в Центральном парке и любил услаждать слух близких рассказами о своих сексуальных похождениях – мои родители были в восторге.
Тиффо любил сельскую жизнь так же, как и Либерманы. Чувствуя, что для меня утомительны их еженедельные вторжения, он уговорил их подыскать себе дом неподалеку. Через несколько месяцев Клив нашел им просторный дом 1930-х годов в трехстах метрах от нас – с тремя спальнями и великолепным видом. Алекс так доверял мнению Клива, что купил его по телефону, ни разу не осмотрев. Мама и Тиффо пустили все силы на ремонт – они выкрасили стены в белый цвет, купили яркие ткани для гостевых спален, столы из оргстекла, белую пластиковую мебель в гостиную – мама превыше всех материалов ценила пластик. Стоит ли говорить, что Алекс никогда не стеснялся выставлять на всеобщее обозрение свою жизнь – вскоре на обложке журнала House and Garden, а также в тридцатишестистраничной статье появились фотографии коннектикутской гостиной, украшенной его картинами. (Наш сосед, Филип Рот, терпеть не мог моих родителей и говорил, что дом напоминает ему “операционную в больнице Маунт-Синай”.)
Тиффо также занялся садом вокруг “Косогора” – так родители окрестили свой дом. Садовником он был не менее искусным, чем поваром, и каждые выходные теперь возился в земле – сажал кусты, подрезал глицинии, устраивал розовые клумбы. Дом и сад теперь выглядели так прелестно, что родители с легкостью убеждали своих друзей по миру моды – первыми стали Франсуаза и Оскар де ла Рента и Диана фон Фюрстенберг[183] – купить себе дом в этом районе.
– Правда он душка? – ворковала мама, глядя на Тиффо. – Какая энергия, какой талант!
– Мама с ним так счастлива, – шептал мне Алекс – на лице его было написано благодарное облегчение, как обычно, когда дома всё шло хорошо.
К 1968 году Либерманы начали проводить выходные в “Косогоре”, Марлен большую часть времени жила в Париже, и маминым собутыльником стал Тиффо. Проблема была в том, что, как и многие физически крепкие мужчины, он мог выпить очень много – она, напротив, быстро напивалась и при этом стремилась за ним угнаться. Он пытался контролировать ее, но она протестовала и восклицала: “Налей мне того же, что ученым” – это была строчка из знаменитой песни Марлен[184]. По будням мама выпивала с обеда, и это стало заметно даже Алексу. Так я впервые узнала, как странно он реагирует на ее алкоголизм. После того, как мама споткнулась, выходя из кухни, упала и с безумным смехом залила весь обеденный стол борщом, я набралась смелости для серьезного разговора. Застав Алекса на лестнице, я загнала его в угол и спросила:
– Ты уверен, что ей полезно столько пить?
– Не лезь не в свое дело и никогда больше об этом не говори! – огрызнулся он так же злобно, как за десять лет до того, когда я заговорила с ним про мамино пристрастие к таблеткам.
Я была поражена и оскорблена и, наконец, решила поговорить с Тиффо. Он сказал, что получил от Алекса такую же отповедь. Видимо, он решил разобраться с проблемой по-своему, но в его подходе проявилась та склонность к садизму, о которой не раз говорили его подчиненные. Алекс выбрал стратегию постоянного незаметного унижения. Только я понимала, что происходит, поскольку он говорил по-русски. Стоило ей в очередной раз споткнуться, разлить что-нибудь или заговорить громче обычного, он сердито бормотал: “Снова надралась!” Это слово звучало особенно грубо, и каждый раз мне было больно видеть, как униженно она смотрела после этих слов.
Я наблюдала эти сцены с беспомощной печалью, поскольку ничем не могла помочь родителям и не могла заговорить с Алексом, боясь поссориться. Почему он не отведет ее к врачу, почему не посмотрит в суть проблемы – ей просто нечего делать? В отсутствие постоянной работы ее можно было свести с каким-нибудь благотворительным обществом, которое помогает русским эмигрантам, например с Толстовским фондом. Теперь я понимаю, что все эти идеи были бессмысленны – я не понимала тогда, что Либерманы настолько поглощены собой, что не способны заботиться о других. Кроме того, я не учитывала стремления Алекса оставаться центром маминой вселенной. Через несколько лет после выхода Татьяны на пенсию, мы как-то обедали с ним вдвоем, и я сказала, что ей было бы полезно заняться какой-нибудь благотворительностью. Он покачал головой и с загадочной улыбкой ответил:
– Нет уж, после стольких лет мне бы хотелось, чтобы она сидела дома и ждала меня.
Я вспомнила, как один наш знакомый в Париже отзывался об Алексе: “Он совершенно восточный человек, эдакий визирь-садист”.
Но проблема была совершенно реальной: Алекс, маэстро с безукоризненной репутацией и внешностью, вдруг оказался мужем женщины, которая то и дело выставляла себя не в лучшем свете. Его наверняка выводили из себя эти метаморфозы. Он впервые в жизни стыдился ее, и инстинктивной реакцией было отрицание. Можно великодушно увидеть в этом поведении очередное стремление уберечь Татьяну от реальности, на котором зиждился их брак: она была настолько закрытым человеком, что больше всего на свете ее бы смутило, если бы ее стали обсуждать врачи или даже родственники. Но будем честны, поведение Алекса скорее демонстрировало его склонность к полному контролю – для их брака было важно, чтобы Татьяна без остатка принадлежала ему: в их жизнь не должны были вмешиваться ни я, ни близкие друзья, ни даже врачи. Пока у них жил Тиффо и удерживал ее от окончательного распада, Алекс мог спокойно работать в своей мастерской. В то время творчество для него было превыше всего. Так проходила жизнь – в 1969,1970,1971 годах. Когда мы с Кливом возвращались домой с демонстраций, на которых нас не раз арестовывали, мама всё так же хмуро поглядывала на нас из-за стакана.
– Выступаете за Коминтерн? – бормотала она. – Помогаете Ханою?
Алекс не участвовал в этих нападках, но зачастую ругал нас за “возмутительную” политическую деятельность и выражал свое негодование “на языке усов”. Тиффо полностью разделял наши взгляды, сажал глицинии и готовил по выходным говядину по-бургундски.
Но он был беспокойным и самовлюбленным человеком. К 1972 году – тогда он уже заработал миллион – Тиффо вдруг закрыл свой нью-йоркский дом, почувствовав слишком сильное давление более обеспеченных конкурентов: Бласса[185], Халстона[186] и де ла Рента. Он переехал в Париж, год проработал у Сен-Лорана, но не сошелся характером с начальством и принялся переходить с одной неудачной работы на другую по обе стороны океана. К середине 1970-х, когда стало ясно, что успех Тиффо уже давно позади, Либерманы перестали с ним общаться. Когда они приезжали в Париж или он приезжал в Нью-Йорк, они не отвечали на его звонки: его отправили на помойку, куда попадали все бывшие друзья Либерманов. Он умер в 1989 году в своей родной деревне – от рака легких, а не СПИДа – и оставил всё другу детства, который самоотверженно возился с ним в последние годы.
После отъезда Тиффо Либерманам стало недоставать полезного друга, который мог бы развлекать Татьяну и готовить. Но это место никогда не пустовало подолгу. Не прошло и месяца, как в “Косогоре” появился очередной постоялец – известный композитор и импресарио Николай Набоков, двоюродный брат писателя. Он также был прекрасным поваром, к тому же теперь мама могла хвастаться, что ей по дому помогает представитель одной из самых благородных семей России.
Мои родители много лет знали Набокова как светского человека и, поужинав как-то у него в начале 1970-х, сочли его хорошим хозяином. В те годы он был высоким, энергичным, обаятельным человеком семидесяти лет с копной белоснежных волос и ярко-синими озорными глазами. Лицо Николая было странно асимметричным: в годы службы в американских войсках во время Второй мировой он страдал от сильной невралгии, из-за которой правый угол рта у него был всё время приподнят. Это придавало лицу выражение легкого злорадства, что превосходно сочеталось с едким чувством юмора. Тогда Николай был женат на своей пятой жене, Доминике, очаровательной француженке сорока годами его младше, которая была по уши в него влюблена. Мы с мужем и детьми часто приходили к родителям на субботний ужин или воскресный ланч. Когда Николай и Доминика стали их постоянными гостями, их стол ломился от бефстроганова, пожарских котлет и горячей каши. Мама с возрастом стала всё больше тянуться ко всему родному, русскому – друзьям, кухне, языку, – и дружба с Николаем была ей очень по сердцу. Он готовил ее любимые кушанья, с ним можно было бесконечно обсуждать русскую литературу. Мама полюбила и Доминику, которая стала для нее второй дочерью. Еще одним положительным эффектом появления Николая было то, что в его присутствии мама пила меньше, поскольку боялась оскорбить его чувства.
Что же до Алекса, для него тогда настал период, о котором он мало говорил впоследствии. Он начал страдать от сильного тремора в руке. Поскольку он был озабочен своей внешностью, любые внешние неэстетичные проявления приводили его в ужас. Алекс нашел невролога, который сумел снизить дрожь, но побочными эффектами от лечения стали сонливость и депрессия. Он тихо съедал свой обед, односложно отвечая на любые вопросы и прятался в мастерской, где делал макеты для огромных металлических скульптур, исполнение которых заказывал семье Лайманов. В остальном в “Косогоре” при Набоковых всё было спокойно – увы, эта пора продлилась всего три года. В конце 1975 года у Набокова случился сердечный приступ, и он уже не мог каждые выходные ездить в Коннектикут. Алекс стал звонить всем русским друзьям, чтобы те срочно нашли кого-нибудь, кто готовил бы для них и развлекал Татьяну. Через два месяца в доме появился Геннадий Шмаков и пробыл с Либерманами почти все оставшиеся годы маминой жизни. О нем я расскажу позже, теперь же мне надо поведать о еще одном поворотном моменте в маминой жизни.
Несмотря на то, что Татьяна вела тихую и размеренную жизнь – Алекс занимался хозяйством в обоих домах, русские друзья любили и опекали ее, сама она обожала внуков и гордилась ими, – после выхода на пенсию в 1965 году мама пала духом и утратила жизненные силы. Постепенно ее покидала та восхитительная энергия, которой она отличалась, когда была Татьяной из Saks. Начиная с 1970-х годов и позже это стало заметно даже по ее фотографиям. Некогда блистательная и самоуверенная, теперь Татьяна смотрела печально, потерянно, будто с ностальгией вспоминая утраченное сокровище – ее былую власть и то, где она могла ее проявить, – свою работу.
Физический упадок ее начался с 1976 года. Большую часть жизни злоупотребляя лекарствами, а последние десять лет регулярно выпивая, весной того года мама заработала сердечный приступ, после которого был поставлен диагноз – сердечная недостаточность. Мама очень испугалась. Алекс решил, что во время ежегодного летнего путешествия им надо провести побольше времени на острове Искья, а потом отправиться в любимую ими Венецию. (Дом в Ва-э-Вьен они продали в середине 1960-х, потому что считали, что на Ривьере стало слишком много туристов.) Мамины доктора велели ей ограничить употребление алкоголя красным вином, в результате чего она стала тише и спокойнее, но, к сожалению, печальнее.
Можно ли считать простым совпадением, что первый сердечный приступ случился у нее, когда мы с мужем впервые отправились в Советский Союз? Сомневаюсь. Для нее тяжелы были любые воспоминания об СССР, любые ассоциации. Ее страшила сама мысль, что мы отправимся к ней на родину, и она много месяцев пыталась нас отговорить.
– Там так опасно! – твердила она. – За вами по пятам будет ходить КГБ!
Но когда эта интриганка поняла, что нас не переубедить, а мы, в свою очередь, пообещали давать телеграммы через день, она неожиданно решила рассказать нам историю Маяковского, которая так много для нее значила и о которой она до того почти не говорила. Когда мы приземлились в аэропорту Шереметьево, нас с преувеличенным, раболепным восторгом встретил некий Владимир Макаров, который назвался директором музея Маяковского. Он вручил мне букет цветов и чуть не прослезился: “К нам вернулась дочь Татьяны Яковлевой! Я и не надеялся дожить до такого!”, после чего сообщил, что накануне получил от мамы телеграммы и готов сделать для нас всё, что потребуется.
К счастью, нас ждала программа общества “Интурист”, согласно которой всего пять дней мы проводили в Москве, после чего должны были отправиться в Киев, Одессу и Ленинград. Но во время пребывания в столице товарищ Макаров, сомнительный функционер, следовал за нами неотступно с утра до ночи. Очевидно, он имел обширные связи во власти, раз без труда смог выписать нас из группы “Интуриста”, устроив собственную экскурсию по Москве, – состоявшую в основном из долгих визитов в музей Маяковского, в доме на площади Дзержинского, где поэт покончил с собой. Как же мы были потрясены, увидев в первом же зале наши семейные фотографии, на которых были запечатлены более сорока лет семейной истории – свадьба моих родителей в 1929 году, мои младенческие и детские снимки и даже фото моей американской семьи – мужа и детей. Меня немедленно охватили параноидальные подозрения о роли КГБ в составлении этой коллекции (эта организация прославилась собственническими наклонностями во всём, что касалось наследия поэта). Но мои страхи утихли, когда Макаров сообщил, что фотографии достались им от моей бабушки. После отъезда во Францию, рассказал он, Татьяна посылала матери фотографии своей семьи. А через несколько лет после ее смерти в 1963 году ее вдовец, Николай Александрович Орлов, услышав, что музей Маяковского ищет документы, имеющие отношение к музе поэта, счел своим “гражданским долгом” отправить туда все фотографии.
Перед отъездом из России, в последний вечер в Москве, Макаров снова вытащил нас на обильный ужин, во время которого слезно клялся в вечной дружбе.
Мы улетели из Москвы утренним рейсом и прибыли в Нью-Йорк в тот же вечер. К нашему удивлению, в аэропорту Кеннеди нас встречал Алекс.
– У мамы был сердечный приступ, – сказал он, когда мы обнялись. Видимо, он хотел подготовить нас, но сам выглядел при этом слишком озабоченным, уязвимым – его потрясло осознание того, что у Татьяны начался новый, тяжелый период жизни. – Мы получали ваши телеграммы, но она всё равно очень волновалась – она ведь боится всего, что связано с Советским Союзом.
Мы рассказали ему о любопытном спутнике, которого мама отправила нам из своего прошлого.
– Видимо, она телеграфировала ему перед нашим отъездом, – пояснила я.
Алекс едва заметно пошевелил усами.
– Она мне ничего не говорила, мы с ней не обсуждаем Маяковского, – сказал он. – Мы не говорим о ее прошлом.
Тогда я поняла, что даже в разговорах с близкими мама сохраняла ледяное молчание, когда дело касалось величайшей трагедии ее жизни.
После сердечного приступа в 1976 году мама начала капитулировать – теперь она считала себя инвалидом и ждала, что так с ней и будут обращаться. Она забросила все дела, и единственным утешением для нее была компания Гены Шмакова. Интеллектуал, полиглот, историк балета, кинокритик и беллетрист, он недавно эмигрировал в Штаты из России. Это был темноволосый брюнет тридцати с лишним лет с густыми усами и большими печальными глазами. Его манеры менялись в зависимости от того, как он к вам относится – Геннадий мог держаться преувеличенно любезно, холодно-вежливо или крайне язвительно. Он происходил из семьи советских интеллигентов, которые старались сохранить дореволюционную гуманистическую культуру. Это был умнейший, надменный, самовлюбленный человек и преданный друг. Он обожал демонстрировать свои широкие познания в литературе, цитируя наизусть сотни строк из Вергилия, Гомера, Леопарди, Гейне и Рембо в оригинале, а также Пушкина, Лермонтова и других поэтов. (Иосиф Бродский, его лучший друг, называл Гену “своим личным университетом”.) С первой же встречи (Бродский их и познакомил) Гена с мамой тут же подружились, и она пригласила его приезжать в Коннектикут по выходным. Теперь обеды в “Косогоре” превратились в настоящие поэтические марафоны: поскольку мама знала русскую поэзию так же хорошо, как Гена, они часам по очереди читали стихи. Стоит ли говорить, что Либерманы с радостью приняли Гену в семью еще и потому, что готовил он не хуже Тиффо и Набокова? Для тех, кто пережил голод, еда играет огромную роль в жизни, и мои родители не были исключением. Алекс так высоко ценил общество и кухню Гены, что начал помогать ему деньгами и даже снял для него квартиру в модном районе Гринвич-Вилладж.
– Ну разве он не чудо? – вопрошала мама, когда Шмакова не было рядом. – Ты когда-нибудь встречала такого образованного человека? Он скоро напишет шедевр.
Как и Тиффо, Гена был гомосексуалистом и привык вести себя весьма свободно, но когда в начале 1980-х стал распространяться СПИД, ему пришлось умерить пыл. Это заставило маму еще сильнее к нему привязаться. Доминирование было в ее характере, и она не могла не наслаждаться своим господством над покорным квази-сыном, который был в некотором роде кастрирован социальными обстоятельствами. Я тоже полюбила Гену – мы с ним проводили много времени за русской поэзией, которой я не занималась с юности. Он напоминал мне одну из тех печальных обнищавших тетушек или кузин, которых можно встретить за обеденными столами в русских романах XIX века – например, у Тургенева. Во всём он предвидел мрачный исход: плохую погоду, эпидемию тифа, упадок демократии. Но мама с радостью впадала в пессимизм вместе с ним, и в его обществе последние годы ее жизни были относительно счастливыми. Гена так очаровал ее, что с легкостью убедил Либерманов разделить его пристрастия – он обожал Вагнера, и хотя они всегда презирали этого композитора, теперь в доме в любое время суток гремела его музыка.
Кроме того, Гена упрочил свои позиции, заявив, что будет писать биографию Татьяны. “Пора работать”, – объявлял он, усаживал маму в гостиной и включал (или притворялся, что включает) диктофон. (Любая книга, в которой речь бы шла об одной из двух муз Маяковского, имела бы в России огромный успех, и Гена, наряду со множеством советских литераторов, видел в Татьяне золотую жилу.) Но на протяжении их дружбы Гена очень уклончиво говорил об их беседах.
– Сложнее всего заставить ее рассказывать о личном, – признавался он, прижимая палец к губам. – А если речь заходит о сексе, она держится как партизан!
К тому времени у Алекса прошла дрожь в руке, он перестал пить лекарства, которые вгоняли его в депрессию, – в общем, период затишья кончился. Но в присутствии Гены он держался сумрачно и неприветливо по многим причинам: его раздражали Генины манерные повадки, рядом с ним Алекс чувствовал неловкость, которая всегда охватывала его в присутствии подлинных интеллектуалов, наконец, он вовсе не интересовался поэзией и очень мало – литературой, и всегда хвалился, что не прочел ни единой книги после “В круге первом” Солженицына, вышедшей в 1968 году. Разговоры Алекса с вечным гостем состояли в основном из ядовитых подколов. Кроме того, в те годы жизнь Алекса омрачал тот факт, что я стала писателем – чем практически полностью обязана поддержке Клива Грея.
Первые мои книги были публицистическими – одна была посвящена католическому социализму, а другая Гавайям. Родители ими не интересовались и гордились мной весьма умеренно: этих двух перфекционистов удовлетворил бы только громкий успех, и они упрекали меня, что я мало рекламирую свои работы. Проблемы начались, когда я опубликовала свой первый роман, “Любовники и тираны”[187]. Его героиня, Стефани, приезжает в Нью-Йорк во время войны, после того как ее отец погибает во время освобождения Франции. Как и большинство первых романов, эта книга довольно автобиографична, и Либерманам очень не понравилась ирония, порой доходящая до сатиры, с которой я описывала родителей героини, во многом похожих на них. Помешанная на успехе мать Стефани была описана как “трудолюбивая замкнутая красавица со множеством поклонников”, которая приписывает себе якобы дворянский титул. Седовласый, властолюбивый, умный и успешный отчим героини – верный муж и отец под каблуком у своей жены. Когда он везет семью на свой любимый пляж во Франции, его усы “дрожат от избытка чувств”. Пляж Стефани не нравится – “умащенная маслом плоть блестит на солнце, как разделанное мясо”, и вся обстановка напоминает ей “устье реки, поблескивающее от зашедшей для спаривания рыбы”.
Несмотря на то, что в целом книга была написана очень мягко, я совершила непростительный грех, описав размышления Стефани о гибели папы и о том, как трусливо ее мать скрыла этот факт. Маму больше всего поразил эпизод, в котором Стефани подводит итог многолетней нереализованной скорби, увидив могилу отца. Это напоминало мою собственную историю: через тридцать лет после смерти папы я вдруг ощутила сильную потребность узнать о нем всё, что только можно, и наконец-то набралась смелости впервые посетить семейный склеп в Бретани. В романе есть момент, где я описываю, как Стефани впервые приходит к могиле отца: “Я опустилась на колени на камне, который отделял от меня покойного, камне, который стоял между его и моим телами… В этот момент я почувствовала, как освобождаюсь от тяжкого груза. Я свободна, стоя на коленях на могильной плите, свободна и вся дрожу, опираясь лбом о ржавую металлическую ручку, которую теперь можно приподнять в честь нашего воссоединения. Я плачу, дрожу и бьюсь головой о камень, бью его кулаками, пинаю… Он здесь, здесь, здесь. Теперь он может жить в моей памяти, как будто он воскрес, когда я наконец приняла его смерть”.
В 1976 году, вскоре после того, как в журнале The New Yorker был опубликован отрывок из романа, включавший этот эпизод, я, как обычно, приехала в Нью-Йорк. Я понимала, что никто не обрадуется тому, что я вернула к жизни лейтенанта дю Плесси и пролила свет на ложь и тайны. Был поздний вечер, Алекс готовил себе “Овалтин”[188] на кухне. Он поцеловал меня холоднее обычного.
– Мама хочет тебя видеть, – сообщил он и так пошевелил усами, будто хотел сказать: ты не заслуживаешь предостережений, но она недовольна.
Когда я вошла к маме, она лежала в постели и, разумеется, держала в руке журнал, словно в доказательство того, что только что перечитала его.
– Это ужасно, – заявила она, указывая на вышеприведенный абзац. А затем произнесла две совершенно отдельные фразы: – Как ты могла? – глядя мне в глаза. – Рассказать правду таким образом? – отводя взгляд и вжимаясь в подушки.
– Мне нужно было это рассказать, – мягко сказала я. – Мне нужно было исцелиться.
– Исцелиться? – переспросила она так, будто не поняла, что я сказала. После чего нетерпеливо пожала плечами, легла на бок, натянула на голову одеяло и притворилась, что спит.
На следующее утро я вернулась к себе и не видела маму с Алексом до следующей недели. К тому времени стало известно, что книжный клуб выбрал “Любовников и тиранов” книгой месяца. Родителям пришлось решать следующую проблему: как быть с этой чертовой книгой, раз уж она имеет успех? Они вышли из положения единственным известным им способом и тут же стали планировать прием.
Но как бы великолепно они ни держались все дальнейшие месяцы и годы, до конца жизни они гордились мной и одновременно опасались: что еще выкинет их жуткая дочь? Какие еще ошибки решит исправить, в чем исповедуется? (“Было бы замечательно, если бы ты и дальше писала о религии, – не раз говорил мне Алекс. – Тебе эта тема удается лучше всего”.) Как-то днем я пришла к ним и застала маму в кресле Алекса в столовой – она согнулась над журналом. Услышав мои шаги, она взглянула на меня с опаской, как русская крестьянка XIX века – злая, подозрительная старуха, которая видит постороннего в своем курятнике или огороде. Что еще она задумала? Как бы ее побыстрее выгнать?
Я сочувствую им. Ужасно должно быть иметь ребенка-писателя. Я благодарю Небеса, что мои сыновья не пишут – это постоянная угроза частной жизни, неприкосновенность которой я сама ценю превыше всего. С середины 1970-х в наших отношениях с родителями появилась горечь. Я сожалела об этом и всё же была рада – так мне удалось завоевать их настороженное уважение, и это было единственное мое оружие против них. Как сказала Мейбл Мозес: “Слава богу, ты стала писательницей! Мадам даже не смотрела на тебя, пока ты не написала ту книжку”.
Раз уж я вспомнила Мейбл – так и вижу ее в белом фартуке, подбоченившуюся, готовую воскликнуть: “Да ладно!” и густо засмеяться, – надо рассказать о переменах в хозяйстве Либерманов, которые произошли несколькими годами ранее. Около 1970 года, когда Жан, замкнутый француз, который двадцать лет был дворецким у родителей, вышел на пенсию и уехал во Францию, ему на смену пришел проворный, задиристый испанец Хосе Гомес. Хосе был худеньким барселонцем среднего роста с быстрыми недоверчивыми карими глазами. С посторонними он держался немногословно и почти надменно. Надо сказать, что Хосе был гомосексуалистом (тем больше он нравился маме), но держал это в тайне – возможно, эта самоцензура была причиной его вспыльчивости. Помимо гневливости, еще одной характерной чертой Хосе была его каталонская гордыня. Он наотрез отказывался носить что-нибудь помимо джинсов и водолазки в рабочие часы, даже когда прислуживал у стола.
Алекс называл это чудачеством, “совершенно естественным для нашей демократичной эпохи”, а мама терпела только потому, что Хосе необычайно проворно бегал по лестницам и выполнял любые ее поручения.
Поручений было немало, поскольку после шестидесяти у Мейбл начались проблемы с сердцем, и Хосе приходилось вызывать плотников, сантехников, электриков и других работников. Он работал безупречно – родителей это приводило в восторг – и был всем сердцем, по-собачьи предан дому и, в частности, Алексу. Ни одно требование не казалось ему чрезмерным: сбегать в русский магазин в Брайтон-Бич за кассетами с русскими фильмами или обойти весь Манхэттен в поисках какой-нибудь редкой французской сосиски. Поэтому больше десяти лет ворчливый Хосе изображал Лепорелло при Алексе Дон Жуане – Io non voglio più servir[189] – и заботился о Либерманах, когда здоровье их пошатнулось.
Мамино здоровье резко ухудшилось в 1981 году, когда ей пришлось перенести пятичасовую операцию на желчном пузыре и провести в больнице два с половиной месяца. Она страдала от всех возможных осложнений – сначала у нее началась пневмония, а позже, когда она пришла в себя, инфекция поразила мозг, и потребовалось несколько недель, чтобы побороть ее. Первые дни после операции каждые четыре часа ей давали большую дозу демерола, и она настояла на продолжении приема лекарства до окончания пребывания в больнице. Когда врачи пытались снизить дозу, она начинала стонать от болей (мнимых или реальных) и требовала вернуть прежнюю схему лечения. К моменту выписки у нее развилась серьезная зависимость. Помню, как меня поразило, что она считала демерол едой. Как-то раз во время очередного визита я застала ее с чашкой желе. Она подробно рассказала, какую боль ей причиняет еда, и заявила, что нуждается только в чае и лекарствах.
– Выйди, мне нужно судно, – сказала она и позвонила медсестре.
Я вышла, понимая, что она сейчас попытается выпросить инъекцию вне очереди. Мама смотрела мне вслед усталым, невыразительным взглядом, в котором не было ни грамма любви. Она будто говорила: мне наплевать на весь мир, мне наплевать, увижу ли я тебя снова, ты для меня теперь всё равно что весь остальной мир, мне нужен только демерол.
За несколько дней до выписки мне позвонил врач родителей Айседор Розенфельд, замечательный доктор, безгранично преданный своим пациентам:
– Как мне уговорить ее отказаться от демерола? – спросил он. – Каждый раз, когда я пытаюсь снизить дозу, Алекс говорит: пожалуйста, не надо, мне невыносимо видеть ее страдания. Но я не имею права выписывать ей лекарства, если не зарегистрирую ее как наркоманку.
Я объяснила, что никогда не могла говорить с Алексом о маминых зависимостях, что в период ее пьянства я поняла: его забота лежит в основе их брака, и он разбирается с такими вещами в одиночку.
– Возможно, вам придется ее зарегистрировать, – сказала я чуть не плача.
Айседор сердито вздохнул:
– С такими дозами она превратится в овощ.
Чтобы продолжать инъекции дома, наняли сиделок. Поскольку Алекс рвался в свою студию, сиделки ездили с ними в Коннектикут. С одной из них, Рейган, я по утрам, пока мама не проснется, играла в теннис – это была симпатичная, искренняя женщина тридцати с чем-то лет с рыжими волосами и спортивной фигурой. В эти месяцы Рейган стала единственной, кроме мужа, с кем я могла говорить о маминой зависимости. Она откровенно не одобряла ее поведения.
– Ваша мать из тех, кто счастлив только под кайфом, – объяснила она, пока мы отдыхали между сетами. – Кайф для нее важнее всего в жизни.
Я рассказала Рейган, как мама злоупотребляла бензедрином и нембуталом в годы работы, как выпивала, выйдя на пенсию.
– Что и требовалось доказать, – ответила она. – Наркоманами не становятся, ими рождаются.
Возможно, Рейган чересчур критично относилась к Татьяне, но она не желала мириться с отговорками Алекса, сводившимися к тому, что мамину зависимость нельзя не только обсуждать, но даже упоминать. Через полгода на смену Рейган пришла тихая филиппинка лет сорока, Мелинда Печангко, которая держалась с большим достоинством и полюбилась маме еще в больнице. Мелинда завязывала темные волосы в гладкий узел, вела себя спокойно, но дружелюбно, а смех у нее был тихий и мягкий. Она родилась в семье санитарного инспектора филиппинского острова Висайя, у нее было семеро братьев и сестер, и перед тем, как стать медсестрой, она прошла непростую подготовку – каждый день ей приходилось преодолевать десятки километров по болотам и принимать роды, порой имея в своем распоряжении разве что банановые листья. После переезда в Штаты она стала специализироваться на интенсивной терапии и много лет была старшей сестрой отделения.
Но, несмотря на непростую жизнь, Мелинда сохранила в себе благородство и внутреннее достоинство, которое восхищало маму. Днем она носила элегантные твидовые костюмы, а вечером, если шла с родителями в гости к Оскару де ла Рента, надевала скромные черные шелковые платья и жемчужные украшения. В этих случаях Мелинда вела себя особенно сдержанно – она говорила, что соблюдает строгую диету, и уходила наверх, чтобы посмотреть телевизор, пока остальные гости веселились, и спускалась только чтобы позвать маму на очередной укол.
– Какое благородство! – восклицала мама, когда сиделки не было рядом. Мелинда отличалась от своей предшественницы тем, что в душе была собственницей, а потому легко приспособилась к тому, что Алекс предпочитал замалчивать и отрицать мамино пристрастие. Сама она порицала маму.
– Если бы мы остались с ней вдвоем, я бы ее вылечила, – сказала она мне много лет спустя, – но рядом с Алексом это было невозможно – он не мог ей ни в чем отказать.
Хотя Мелинда строго отказывала матери, когда та умоляла увеличить дозу, она считала, что должна следовать принятой в доме политике молчания.
Вернувшись из больницы, мама отказалась прогуливаться даже по своему кварталу и вообще не выходила из дома при дневном свете, исключая поездку в салон красоты на лимузине два раза в неделю. Она всё больше зависела от Гены, который каждые несколько дней приходил на Семидесятую улицу и приносил ей русские продукты и журналы. Татьяна всё так же обожала внуков (Тадеуш теперь строил карьеру в финансах, Люк стал художником), но они рассказывали, что иногда она засыпает посреди разговора. Мама по-прежнему любила играть в канасту, хотя друзья и жаловались, что она стала плохо соображать; чтобы приободрить ее, они намеренно проигрывали несколько раз в месяц. (Тут надо знать маму – она притворялась, что всегда выигрывает, и раз в несколько месяцев подсовывала мне чек со словами “я только что выиграла, купи себе что-нибудь”.)
Когда Татьяна пристрастилась к наркотикам, их с Алексом светская жизнь поутихла, и в результате у нас с мамой в последние десять лет ее жизни возникла новая форма отношений, связанных с тем, как я одевалась. Когда я приезжала в Нью-Йорк, чтобы поужинать с друзьями, она неизменно просила меня заглянуть к ней перед уходом.
– Покажись-ка! – командовала она, оглядывая меня сквозь бифокальные очки, после чего неизменно следовал какой-нибудь комментарий: – Ты похожа на побирушку, подойди поближе, мне надо понять, что не так. – Или же: – Очень неплохо – что бы мы делали без шалей!
Как бы одурманена наркотиками она ни была, если в моем наряде было что похвалить или поругать, она каким-то образом пробуждалась и приходила в сознание:
– Слава богу, что у тебя вьются волосы, но зачем ты надела юбку, если тебе надо носить только брюки?
Я содрогалась под ее взглядом, но что было делать? Теперь я заменяла ей манекенщицу, служила единственным механизмом для удовлетворения ее нарциссических наклонностей и мое тело осталось единственным, которое она могла изучать и выставлять напоказ.
Глава 21 Последние годы Татьяны
На протяжении 1980-х годов в загородном доме родителей стали особенно очевидны все те уловки, которыми пользовался Алекс, чтобы скрыть мамины пристрастия. Чем сильнее она впадала в зависимость, тем более мрачная атмосфера воцарялась в “Косогоре”. Мама стала ужасно разборчива в еде – она едва прикасалась к яствам, рецепты которых Гена находил в старых русских поваренных книгах, требовала, чтобы он к каждому обеду готовил шесть-восемь блюд, чтобы все их перепробовать, после чего сидела за столом с совершенно отсутствующим видом и каждые несколько минут гляделась в карманное зеркальце. Гена растолстел от обилия пищи, которую ему приходилось готовить и доедать, чувствовал себя очень одиноким от ограничений, появившихся в его жизни из-за эпидемии СПИДа, и угасшей светской жизни Либерманов, бесконечно болтался по дому и жаловался на скуку сельской жизни. Алекс держался холоднее и циничнее обычного и при малейшем упоминании сексуальности в любом аспекте принимался задавать вопросы – не лесбиянка ли такая-то актриса? был ли Наполеон геем? В этом тепличном мире, полностью отрезанном от реалий 1980-х, за обедом Гена вяло говорил с мамой о русской поэзии, а с Алексом только переругивался, оба ядовито передразнивали голоса и акценты друг друга. По вечерам мама становилась более агрессивной – торопила всех есть быстрее, чтобы поскорее получить свой восьмичасовый укол и вернуться к порнографическим фильмам, которые Алекс привозил из города по выходным (в последнее время это было их любимым развлечением – когда они ужинали вдвоем, мама неизбежно просила Алекса включить “этих девочек”).
– Кто хочет супа? – вопрошала она за столом. – Бубусь, суп только у тебя, ешь быстрее.
– Я не хочу суп, если больше никто не будет, – протестовал Алекс.
– Тебе уже налили, так что ешь быстрей!
Ужин поглощался с такой скоростью, что гости часто страдали от несварения, а потом начиналась пантомима перед вечерним уколом. Через несколько минут после десерта мама бралась за живот и говорила Алексу что-то вроде:
– Бубусь, я не переварила торт, поднимись наверх и помоги мне с лекарством.
Или же, если мы ужинали у меня, мама громко кашляла за обедом, а под конец говорила:
– Бубусь, у меня ужасный кашель! Отвези меня домой, мне надо выпить сироп.
Наблюдая за этими спектаклями, я дивилась тому, как в Либерманах сочетались наивность и прагматизм – эта наивность была тем более примечательна, если учитывать, какие усилия Алекс прилагал к тому, чтобы скрыть мамину зависимость. (В 2004 году я связалась с юношей, который работал у родителей в последние два года маминой жизни после Хосе. Он ответил, что не может поговорить со мной, поскольку Алекс заставил его подписать соглашение о конфиденциальности.)
Около 1982 года Алекс с доктором Розенфельдом решили, что мама может жить дома без помощи медсестер – Алекс половину дохода тратил на свои скульптуры, и ему стало не хватать денег. За исключением ежедневных визитов врача, который делал ей уколы в полдень и в 16:00, всё остальное легло на плечи Алекса. Он делал ей укол в 8:оо, прежде чем уйти на работу, а также в 20:00 и в полночь. Больше всего меня тревожило, что мама будит его посреди ночи, чтобы он выдал ей трехчасовую дозу. Я беспокоилась, что он не высыпается, так как сам стал слаб здоровьем – Алекс много лет страдал от диабета, а недавно у него начались проблемы с сердцем. Кроме того, я гадала, как это участие отразится на динамике их брака: полвека мама была его госпожой, и главной его радостью и задачей было укротить это восхитительное создание, выполняя все ее пожелания. Но теперь они словно поменялись местами, и наркотики дали Алексу полную власть над Татьяной. Не пострадают ли от этого их отношения? Не утратит ли она очарования для Алекса? И не держал ли он ее постоянно в забытьи, чтобы она не мешала ему творить? Андре Эммерих сказал как-то, что для Алекса мастерская была тем же, чем для других мужчин является любовница.
Пока у мамы ухудшалось здоровье, Алексу сопутствовал успех. Дружба с Саем Ньюхаусом-младшим открыла новую главу в его жизни – в середине 1960-х, став главой Condé Nasty он поднял зарплату Алекса до полумиллиона долларов в год. (В 1980-х эта сумма увеличилась до миллиона.) Младший Ньюхаус стал серьезно коллекционировать современную американскую живопись, и Алекс его консультировал. Распознав в нем ценителя, Алекс стал каждую неделю водить его по галереям. То, что Сай купил у Алекса четыре его картины, а также работы Мазервелла, де Кунинга и Раушенберга, только укрепило их дружбу. К началу 1970-х Алекс стал ближайшим другом и почти “отцом” своему начальнику, а также помог Саю преодолеть серьезный кризис в Condé Nasty наступивший после увольнения эксцентричной Дианы Вриланд, которая была редактором Vogue с 1962 года. Тогда она произнесла свой лучший афоризм: “Я слышала о белых русских, о красных, но никогда о желтых”[190].
Не обращая внимания на бурю в прессе, которая поднялась после ухода Бриланд, Алекс следующие пятнадцать лет наслаждался тишиной и покоем, пока журналом управляла его протеже, пришедшая на смену Бриланд, Грейс Мирабелла: живая, практичная красавица, американка с головы до ног. Под ее руководством в Vogue вновь появились стильные лаконичные наряды и продажи взлетели до небес.
– Естественность – это разновидность благородства, – сказал как-то Алекс про новый стиль журнала.
Между ним и Мирабеллой сложились близкие отношения, одновременно покровительственные и игривые, и Алекс ими наслаждался.
– Он был необыкновенно щедрым человеком, – вспоминает Мирабелла. – Мог вызвать вас обсуждать парижскую командировку и заявить – берите “Конкорд”, сорите деньгами, переснимайте всё по десять раз, только не экономьте.
Широта редакторской души Алекса основывалась на том, что начиная с середины 1970-х Condé Nast начал расти и процветать. (“Мы каждую неделю обедали в отеле Four Seasons, – с ностальгией вспоминал Сай Ньюхаус двадцать лет спустя, – и обсуждали, какой журнал нам надо открыть или переделать”.) Первый за сорок лет новый журнал назывался Self и имел огромный успех. За ним последовало полное преображение House and Garden, покупка и переделка Mademoiselle, Gourmet, GQ и Details, а также основание Condé Nast Traveller. Всеми этими проектами руководил Алекс – самым драматичным из них было воскрешение в начале 1980-х журнала Vanity Fair, который в 1920-1930-е гг. был воплощением вкуса высшего американского общества.
С этим журналом возникли некоторые проблемы, поскольку ему надо было превзойти свою предыдущую инкарнацию. Тут на помощь снова пришел мягкий подход Алекса к увольнениям. Первыми двумя редакторами журнала были Ричард Локе и Лео Лерман (последний был самым давним и близким другом Алекса) – два интеллектуала, которые пытались сохранить первоначальный дух журнала и печатали авторов вроде Клемента Гринберга[191], Габриэля Гарсии Маркеса и Сьюзан Зонтаг. Через несколько месяцев обоих уволили. Лермана заменили знаменитой Тиной Браун, исполнительным редактором британской версии журнала Tatler. Под ее руководством Vanity Fair прославился – она исповедовала знаменитую доктрину Энди Уорхола: “Культура – это нирвана для масс” и опиралась на опыт как Нью-Йорка, так и Голливуда. Лерман, который до того звал Алекса “женушкиной радостью”, был глубоко обижен. И даже Тину Браун потрясло холодное равнодушие, с которым Алекс уволил старого друга.
– Он совершенно хладнокровно отвернулся от него, и меня напугало, что он, похоже, ничуть не раскаивался, – вспоминает она.
Следующее увольнение было еще болезненнее. Несмотря на то, что под руководством Грейс Мирабеллы Vogue процветал, а продажи за десять лет выросли втрое, Алекс с Саем решили, что журналу требуется новый образ. Они начали опасаться конкуренции со стороны Elle, который Алекс восхвалял за отсутствие острых тем (“Только яркие картинки на каждой странице!”). Как он считал, по сравнению с Elle, серьезный, сдержанный тон Vogue и его уважение к женщинам начинали выглядеть несколько старомодно. В 1988-м их очаровала очередная британка с алебастровой кожей, Анна Винтур, которая тогда была редактором английского издания Vogue. Ее стиль – каре в духе 1920-х и невозмутимость, благодаря которой ее почему-то прозвали “Ядерная зима”[192], – был именно тем, что Алекс хотел видеть в новом Vogue.
В те годы американская журналистика начала полниться выходцами из Великобритании, и путем долгих переговоров, которые до последнего держались в тайне, было решено, что Винтур придет на смену Мирабелле. Увы, в какой-то момент конспирация провалилась: как-то вечером муж Мирабеллы, знаменитый хирург Уильям Каи услышал, как Лиз Смит в пятичасовых теленовостях сообщает, что его жену скоро уволят. Он тут же позвонил ей: “Грейси, Лиз Смит говорит, что тебя уволили”.
– Я была потрясена, – вспоминает Мирабелла. – Алекс был моим лучшим другом. Я и не подозревала, что что-то не так. Я пришла к нему, он поднял взгляд и сказал: “Грейс, я старею”. Подставил ли он меня? Да, он был трусом.
Но Алекс, как глава Condé Nast, обязан был следить за тем, чтобы все редакторы его журналов соответствовали времени, чтобы сами журналы регулярно обновлялись. Продажи Self падают: уволить редактора и взять очередную стильную британку, Антею Дисней. Дисней недостаточно хорошо выполняет указания Алекса? Уволить ее, и нанять энергичную авторшу книжек “Как заниматься любовью с мужчиной” и “Отличный секс” Александру Пенни. Сай хочет мужской журнал и еще один, для молодых мужчин? Купить и переделать GQ и Details, поставив во главе последнего блестящего молодого англичанина Джеймса Трумана. Следующим успехом компании был журнал Allure – половину 1991 года Алекс занимался только им. Allure разрастался быстрее остальных журналов империи, и это значило, что Алекс – хотя ему было почти восемьдесят и он был тяжело болен – по-прежнему оставался настоящим волшебником американской глянцевой журналистики.
В 1970–1980-е годы Алекс играл Бога в том числе в своей мастерской. Билл Лайман возил его на экскурсии на коннектикутские свалки, где грудами лежали искореженные металлические детали. Сначала им попались выхлопные трубы, и вскоре на наших участках возвышались горы этих изогнутых труб. Особенно Алекса влекли крупные предметы – ржавые чугунные бойлеры и бензобаки. К этому времени он полюбил работы Марка ди Суверо[193] и хотел делать большие скульптуры. Он тут же понял, что измятые бойлеры можно резать различными способами и сплавлять в огромные конструкции. Лайман с большой фантазией подходил к сгибанию, закручиванию и деформации металлических объектов. Он давил бойлеры бульдозером, взрывал их динамитными шашками (как-то раз к нему даже приехали обеспокоенные пожарные), а один из результатов таких взрывов вдохновил Алекса на создание самой большой его скульптуры, четырнадцатиметровой “Евы”. “Ева” и ее спутник “Адам” (8,5 × 9 × 10 метров) были первыми скульптурами в серии монументальных работ, для постройки которых требовались подъемные краны, леса и другие приспособления. Все они предназначались для демонстрации в общественных местах. Со временем его произведения выросли в два раза – одна из самых больших скульптур, “Путь”, насчитывала 30 метров в длину, 15 – в ширину и 15 – в высоту. К концу 1970-х можно было сказать, что только Роберт Смитсон и несколько других художников делают работы большего размера.
Увлечение крупными формами сказалось на его финансах. Стоимость изготовления скульптур сильно превосходила их цену при продаже. Трое из семейства Лаймана и работники, которых нанимали на время, трудились семь дней в неделю – на это уходило 360 ооо долларов в год, больше половины его дохода в Condé Nast. Для изготовления таких скульптур требуется изрядная самоуверенность – которая тем более удивительна, учитывая, что работы Алекса не пользовались успехом. Если не считать язвительных замечаний Хилтона Крамера[194], который как-то назвал его “третьеразрядным модерновым копиистом”, ежегодные выставки в галерее Парсонса почти не получали отзывов. Экспозиция в музее Коркоран в Вашингтоне в 1970 году получила мало отзывов, но и те отличались остроумием: арт-критик The Washington Post увидел в ней “нечто, вызывающее в памяти изящные и великолепно оформленные страницы журналов Либермана”. Критик Джон Расселл[195] назвал его скульптуры “фаллической артиллерией”. (В самом деле, его работы очень эротичны, и в них маниакально повторяется тема проникновения.)
Ирония жизни Алекса заключалась в том, что, хотя его картины значили для него гораздо больше, именно скульптуры принесли ему известность. Андре Эмерих прозорливо сыграл на том факте, что работы самых знаменитых скульпторов послевоенной эпохи – Генри Мура и Александра Кальдера – стали слишком дороги для большинства американских коллекционеров. Он написал соответствующие таблички к работам Алекса, оценил их в скромные шестизначные суммы и выставил в своем загородном доме в Путнеме. Деньги начали поступать в начале 1970-х, когда строительная компания позаимствовала шесть работ для инсталляции на Второй авеню, между Сорок шестой и Сорок седьмой улицами. Одна из работ так поразила Нельсона Рокфеллера, что он купил ее себе домой. К середине 1980-х Алекс стал одним из двух-трех самых плодовитых скульпторов страны. Я видела его работы во всех городах, куда приезжала рекламировать свою книгу – они стояли перед аэропортами и офисными зданиями, посреди торговых центров. К тому времени работы Либермана красовались в (список неполон) Нью-Хейвене, Сент-Луисе, Фениксе, Олбани, Сиэтле, Майами, Корал-Гейблс, Стемфорде, Рокфорде, Миннеаполисе и Грэнвилле, в кампусе пенсильванского университета в Филадельфии, в аэропорту Грейт-Баффало, в Уодсвортской библиотеке Хартфорда. А “Адам”, огромная красная скульптура, которую директор музея Картер Браун установил перед Национальной галереей Вашингтона в честь открытия восточного крыла, уже засветилась в газетах, когда стояла в музее Коркоран: Ричард Никсон был оскорблен видом на “Адама” из окон Белого дома и попросил ее убрать.
К каким событиям в биографии автора привязать эту потребность в монументальности? Сам Алекс говорил, что всё идет из детства, проведенного в дореволюционной России – огромная легендарная пушка на Красной площади, временные памятники, которые воздвигли в Москве в честь героев революции 1917 года – гигантские импровизированные скульптуры, построенные движением Агитпроп с целью просветить безграмотное население и приобщить его к зрелищному, доступному искусству. Билл Лайман, который работал с Алексом двадцать пять лет, считает, что эта масштабность была для автора способом выплеснуть фрустрацию, которую он испытывал на работе и дома – эта фрустрация ярко проявлялась в его обращении с Лайманом и другими помощниками.
– В начале 1960-х, когда дома было всё в порядке и никто не претендовал на его работу, Алекс был сама вежливость, – вспоминает Лайман. – В конце 1970-х и в 1980-х, когда Татьяна уже тяжело болела, а на работе накопились проблемы, он стал куда более резким и требовательным – приходил в пятницу вечером, когда мы уже отработали восьмидесятичасовую неделю, и говорил: “Я разочарован, ничего не готово!” Мы словно были для него механизмом для получения удовольствия… Когда Татьяне стало хуже и ему пришлось тяжелее, Алекс стал еще грубее.
Жена Билла Лаймана Элен, которую Алекс очень любил, вспоминает, как встретила его как-то в магазине и сказала что-то вроде: “Вы выглядите расстроенным”, на что он ответил:
– Дорогая, вы себе и представить не можете…
Для нашей семьи 1987 год стал самым тяжелым. Весной выяснилось, что у Алекса рак простаты и серьезные проблемы с сердцем. (Он рассказал о диагнозе только ближайшим родственникам и позволил коллегам думать, что отсутствовал на работе из-за острой пневмонии.) Несколько месяцев спустя мы узнали, что моему мужу Кливу предстоит операция на открытом сердце. А в мае мама, пытаясь натянуть брюки перед игрой в канасту, упала и сломала бедро. Нас ждали больницы и осложнения – ее вновь надолго госпитализировали.
Зависимость уже повлияла на маму – она отказывалась гулять, мало что ела, – но теперь она стала настоящим инвалидом. После ухода Мелинды Алекс позволил матери увеличить дозу демерола, а теперь ее пришлось увеличить снова из-за усилившихся болей. Когда Мелинда вернулась, она была потрясена огромными дозировками.
– Я ушла в 1982-м, тогда она получала двадцать пять миллиграмм каждые четыре часа, – вспоминает она. – Когда я вернулась в 1987-м, она получала пятьдесят миллиграмм каждые два часа. Заправлявший всем Алекс вечно уступал ее просьбам дать побольше лекарства.
На Семидесятой улице и в “Косогоре” пришлось установить электрические подъемники. Когда мама вернулась из больницы, я сразу заметила перемены в ее внешности. Я ждала ее в холле и протянула руки, чтобы обнять. Она прошла мимо, сутулясь и опираясь на трость, она не узнала меня – все мысли ее были только о следующей дозе. Ее голову украшал какой-то тюрбан, и она нетерпеливо махала сухой рукой с проступившими венами медсестре, которая должна была сделать ей укол. Мне вспомнились безумные principessas[196], которые запирались в своих венецианских палаццо, приказывали запереть окна, двери, ставни, увольняли дворецких… Жест сухой руки как бы говорил: оставьте меня в покое, к черту весь мир, он мне не нужен, прощай, жизнь, я никогда тебя не любила, а теперь и подавно. Этот жест символизировал переход в замкнутый мирок, сложившийся вокруг ее зависимостей.
Не прошло и месяца после маминого выхода из больницы, как на родителей свалилось очередное горе: у Гены обнаружили СПИД. Мама отреагировала неожиданно – она была возмущена, негодовала. Умирающие – не победители; узнав, что ее друг обречен, она стала резкой и раздражительной – одергивала его за столом, приказывала есть быстрее, вытирать рот, отвечала на его вопросы односложно. Мама тут же перестала хвалить его окружающим – панегирики его уму и великолепию прекратились. Он не оправдал ее ожиданий, не доказал своей гениальности и тем самым подвел ее.
В “Косогоре” воцарилась гнетущая атмосфера. Вечно недовольная, изможденная мама и слабеющий Алекс то и дело нападали на мрачного Гену. Вдобавок к проблемам со здоровьем Алексу теперь приходилось записывать Гену к врачам, вызывать лимузины, чтобы он туда съездил. Я чувствовала, как в Алексе растет пессимизм и цинизм. Он выполнял свой всё растущий семейный долг с раздраженным видом, со сжатыми губами – от прежней нежной заботы не осталось и следа. Я часто думала, что, возможно, это было частью его сделки с дьяволом – в обмен на фаустовскую гибкость и всемогущество. Возможно, ответ на извечный вопрос коллег: “Да как ему это всё удается?” крылся в том, что Алекс просто выключил эмоциональное участие и обратил часть сердца в лед. В общем, он сосредоточился на том, что поставлял маме людей и лекарства, которые ей были нужны, поскольку на этом этапе жизни хотел лишь немного тишины и покоя.
– Мне ужасно не повезло, – прошептал Гена, когда я в последний раз навестила его в квартирке на Девятой улице, которую мы нашли ему десятью годами ранее.
Он умер в августе 1988-го. В последние недели его постоянно навещали друзья – Иосиф Бродский, Миша Барышников, журналистка Люда Штерн. За ним круглосуточно ухаживали доброжелательные медсестры, которых нанял Алекс. Когда Гена умер, я поняла, что мамин гнев был всего лишь формой отрицания его близящегося ухода – эта форма давалась ей лучше всего. Вскоре она ощутила глубокую скорбь и почти перестала есть. Мама потеряла лучшего друга, практически сына, человека, который крепче всего связывал ее с утраченной Россией. В следующие месяцы я делала попытки утешить ее чем-нибудь русским – приносила книги, готовила ей блюда русской кухни. Она не была верующим человеком, скорее относилась к религии романтически – любила православные праздники и всегда говорила, что ее соотечественники совершенно справедливо считают Пасху, а не Рождество центром литургического года.
– Все мы когда-то родились, – говорила она, – но воскрес-то Он один.
На Пасху после Гениной смерти я заказала традиционные блюда, которыми мы кормили ее последние десять лет, – густую кремовую пасху и золотистый кулич с фруктами – и привезла их в “Косогор”. Мама так похудела, что зубные протезы начали спадать; всю зиму она отказывалась пойти к стоматологу; мышцы ее ослабли из-за того, что она не желала вставать; и к этому времени она могла есть только мягкую пищу. Но в то воскресенье она села в постели и очень медленно съела изрядную порцию угощений, порой поднимая на меня ехидный взгляд, будто хотела сказать: “Видишь, я могу есть, если хочу, если специально для меня готовят русскую еду”.
Смерть Гены, который больше десяти лет вел их дом в Коннектикуте, была не последней бедой этого года для Алекса. Тогда же он решил закончить отношения с семьей Лайманов и полностью перестроить систему создания скульптур – теперь их делали в литейном цехе на берегу Гудзона. В тот же год руководитель персонала в Condé Nast Боб Леман, который более двадцати лет проработал в издательстве, вынужден был оставить свою должность, поскольку тоже заболел СПИДом. Он умер через несколько месяцев. Наконец, через некоторое время после кончины Лемана Алекс узнал, что их домашнего помощника Хосе, который вел дом на Семидесятой улице более двадцати лет, поразил тот же недуг, а Мейбл, которой уже было под семьдесят, должна уйти на пенсию из-за проблем со здоровьем. За несколько месяцев сложная многоуровневая жизнь, которую Алекс строил десятилетиями с макиавеллиевской тщательностью: мастерская, работа, дом – рухнула. Кроме того, надо же было не забывать об интригах. (Сколько же лет мы с ним играли в эту игру!) Рассказав мне о диагнозе Хосе, он решил, что маме пока что сообщать об этом не нужно.
К этому моменту Алекс раз в несколько недель ненадолго ложился в больницу из-за проблем с сердцем и хронической анемии (которая развилась у него из-за облучения) – ему требовались постоянные переливания крови. Это не заставило его бросить ведение дома на Семидесятой улице и перестать, как обычно, преданно заботиться о маме. Как-то раз я навещала его в больнице, и он вкратце рассказал мне о “падении дома Ашеров”, как он выражался.
– Как нам быть? Как нам жить теперь? – спрашивал он. Лежа на подушках с медицинскими иглами в обеих руках, он с горечью говорил, что и “Косогор”, и Семидесятая улица стали ему не по силам. – Я больше не могу. Я мечтаю переехать в какую-нибудь простую квартиру, где надо будет просто позвонить, чтобы вызвать сантехника или сменить лампочку… У меня нет сил, – усы его дрожали от избытка чувств. – Но это безнадежно – мама скорее умрет, чем уедет с Семидесятой улицы.
С ностальгией вспоминая, как безупречно складывалась когда-то жизнь на Семидесятой улице, он принялся перечислять, какие помощники ему нужны – кто-то вроде Мейбл, чтобы готовить и вести хозяйство, кто-то вроде Хосе, чтобы всё чинить… Я поцеловала Алекса и сказала, что сделаю всё возможное.
– Когда приходишь к нам, бери трубку, если зазвонит телефон, – попросил он, когда я уходила. – Au fond, l’Anglais la fatigue[197].
Я шла и размышляла, что почти полвека спустя английский всё еще утомляет маму, а мы между тем стали настоящей американской семьей – СПИД, наркотики и прочее в этом духе.
Вскоре Алекс вернулся на работу и несколько приободрился. Он нанял умного и трудолюбивого помощника, Лэнса Хьюстона, которому тогда было двадцать шесть, нашел талантливого художника Кросби Кафлина на замену Бобу Леману. И, что не менее важно, из Москвы к Либерманам выехал друг Иосифа Бродского и Миши Барышникова, который должен был заменить Гену на посту маминого компаньона.
Мамин новый спутник, некий Юрий Тюрин, недотягивал до Гены: это был поверхностный и далеко не такой образованный человек, низкого роста, с мелкими потемневшими зубами, зловонным дыханием и жеманными, угодливыми манерами балетмейстера. Он тоже был гомосексуалистом, и возраст его давно перевалил за сорок. Юрий утверждал, что был стоматологом, танцовщиком, телеведущим, и говорил только по-русски. Но нас не волновало его мутное советское прошлое, пока он мог развлекать маму русскими стихами и готовить ей бефстроганов. В первые же выходные, которые он провел в “Косогоре”, стало ясно, что это удачный выбор.
– Он настоящий мастер, – торжественно объявила Татьяна, попробовав борщ и пирожки. Несколько обедов спустя Либерманы стали петь дифирамбы своему новому другу.
– Как тебе наш дорогой новый Геночка? – мечтательно вопрошала мама. – Он просто ангел, нам так повезло.
Пока Юрий шел наверх, чтобы спустить маму на подъемнике, Алекс прошептал:
– Я нашел ему квартиру в Гринвич-Вилладж.
(Алексу удалось записать Юрия в штат Condé Nast в качестве “консультанта” – так же он когда-то поступил с Геной.)
Мама стала приходить в себя и предлагала приготовить кисель на субботний обед и щи на воскресный ужин. Алекс был в восторге, что теперь может подолгу стоять в мастерской, которая всё более играла для него роль любовницы – источник наслаждений, радости и возможность бежать от мира.
Пока мама поправлялась, Юрий, завороженный финансовыми перспективами, объявил, что тоже будет писать о ней книгу. Для этого ему нужны были записи разговоров с Геной – он совершенно справедливо полагал, что там будет упоминаться Маяковский. Однако изучая Генины документы, которые мы хранили в погребе на Семидесятой улице, он обнаружил только несколько листов со списками вопросов и ответов. (Один диалог выглядел следующим образом: “Какого размера у Маяковского член?” – “Да откуда мне знать! В сотый раз говорю тебе, я не спала с ним!”) Потому Юрий начал выпрашивать кассеты у Алекса, а тот, по обыкновению, уходил от разговора – то же самое произошло десятью годами позднее с письмами Маяковского. “Наверное, моя секретарша положила их в банковскую ячейку”, – говорил он, или: “Ты уверен, что кассеты вообще существуют?” или: “Может, Гена уничтожил их перед смертью?”. Поэтому бедному Юрию пришлось заново интервьюировать маму, и он столкнулся с теми же трудностями, что и Гена. Он не был ни опытным исследователем, ни хорошим писателем и через тринадцать лет после маминой смерти попросил меня предоставить ему какие-нибудь семейные документы – оказывается, он всё еще планировал написать книгу.
(Генины записи всплыли только после смерти Алекса: они всё это время хранились в подписанном конверте в его рабочем столе. Их отправили мне с другими его документами. Слушая эти записи, я поняла, как непросто было Гене “работать” с мамой в 1980-е: все его исследования и единственный итог трехлетних бесед укладывались в трехчасовую запись. Мамину речь порой нелегко разобрать из-за обилия принимаемых ей лекарств, а во многих эпизодах она откровенно лжет. Стремясь создать образ праведницы, она, в частности, сообщила, что они с Алексом стали любовниками только летом 1940 года, после смерти моего отца. Несмотря на страстную довоенную переписку с Алексом, которая перешла ко мне по завещанию от матери, в интервью она с трогательной наивностью пыталась предстать безгрешной пуританкой.)
Теперь мама была окончательно привязана к дому и много времени проводила за туалетным столиком – каждое утро, прежде чем выйти из спальни, она красилась, укладывала волосы и надевала атласный костюм. Каждый мой приезд она, как и раньше, критиковала мои наряды.
– Подойди-ка, а то мне не видно, – командовала мама и тянулась за синими бифокальными очками.
– Я ничуть не переменилась, – говорила я в шутку.
– Да, вижу, не переменилась, – отвечала она, пристально меня разглядывая. – Хотелось бы мне дожить до того, чтобы увидеть твои брови под этой чертовой челкой.
В феврале 1991 года Алекс снова попал в больницу – у него случился первый обширный инфаркт, осложненный диабетом и раком простаты. Я вылетела к ним из Флориды, где навещала больную свекровь. Мама сама то и дело ложилась в больницу из-за проблем с почками, иногда они с Алексом попадали в больницу одновременно. Мне было больно думать, что вскоре я их потеряю, и я боялась думать, кто уйдет первым. (“Будь же джентльменом – дамы вперед”, – много лет говорила мама Алексу, поскольку боялась пережить его.) Когда Татьяна оказывалась дома одна, то становилась неуправляема – она отказывалась вставать, принимать врачей, есть Юрины деликатесы.
– Не могу ее такой видеть, она будто вышла из Бухен-вальда, всё так сложно, – жаловался Алекс, когда я навещала их в Нью-Йорке. – Я всё думаю, кто же будет о ней заботиться, если я не смогу. Семидесятая улица превратилась в дурдом, всё так сложно…
Я никогда раньше не слышала от Алекса Либермана слово “сложно”. Пока что для Супермена всё было постижимо, посильно, исполнимо. Слыша это слово, я понимала, что он говорит: “Всё пропало, я в ловушке, она меня убивает”.
Худшие наши недостатки и лучшие достоинства усиливаются под весом времени. Чем мы старше, тем тяжелее нам жить под грузом сложного характера, со всеми его свойствами и качествами, поэтому мы концентрируемся на главном в себе – черты нашей личности заостряются. Колетт стала добрее, но прижимистее, Айзек Динесен исхудала и смягчилась, а вы, дорогой читатель, могли заметить, как с течением времени усиливаются альтруизм и ипохондрия. Мама, к несчастью, была исключением из вышеописанного правила – с возрастом ее легендарная щедрость, экстравагантная и прихотливая доброта становились всё прихотливее и эгоцентричнее под неизбежным влиянием демерола. Больнее всего в последние годы жизни родителей мне было видеть, как мама отрицает тяжелые недуги Алекса. Словно завидуя его инфарктам и раку простаты, она злилась на него: в любую минуту Алекс мог отнять у нее почетное звание самой больной – этого бы она не вынесла. Мама перестала быть средоточием забот Супермена и старалась поразить его единственно доступным ей орудием – отказом есть. Она превратилась в настоящего мастера голода и изводила своими отказами всех; на Семидесятой улице только и говорили, что о ее рационе – мама шантажировала нас в открытую. За полтора года Алекс нанял и затем отказался от услуг тридцати четырех поваров. Он заказывал некогда любимые ею лакомства отовсюду – меншиковский шоколад, который продавался только в Шартре, кнели[198] и шоколадный мусс из ресторана “Ла-Гренуй”, белые трюфели и провансальские калиссоны[199] из кондитерской “Фошон”. Она притворялась, что радуется, пробовала и отодвигала блюда, уверяя, что теперь они совсем не те, что раньше.
В те дни, когда их обоих госпитализировали и я бегала между больничными палатами, Алекс всякий раз первым делом спрашивал меня, как мама. Она же ни разу не поинтересовалась его самочувствием.
– Ее настолько мало волновало его здоровье, – вспоминает доктор Розенфельд, – что я сомневался, любит ли она его вообще.
В последние месяцы мама развлекалась только тем, что пробовала, насколько ей удается контролировать родных. Помню один эпизод за пять недель до ее смерти – лежа на больничной койке, такая хрупкая и опрятная, она, судя по виду, замышляла что-то недоброе. Я передала ей привет от Клива.
– Он тебя целует и очень любит, – сказала я.
– Меня все любят, кроме тебя, – огрызнулась она. Прежде чем мне удалось запротестовать, она села в постели, подняла сухонькую руку и наставила на меня палец. – Ты меня не любишь, а только боишься! – После чего с довольным видом улеглась обратно и добавила: “Шутка!” Что ж, подумала я, в яблочко.
Впрочем, маму злило не только то, что Алекс теперь был самым тяжелобольным в нашей семье – ее стали раздражать и некоторые особенности его характера. Он стал заводить новых друзей и ввязываться в новые проекты, не спрашивая ее совета. Главным делом тех лет для него была собственная биография, которую составляла молодая писательница Доди Казанджян. Они сразу же сдружились. Мама была слишком умна, чтобы не понимать, что Доди, миниатюрная жизнерадостная брюнетка, которая превозносила Алекса до небес, символизирует его бунт против высоких, белокурых, холодных валькирий (то есть Татьяны, Хильды и меня), которые прежде управляли его жизнью. “Алекса и Доди связывали страстные отношения, – говорит Анна Винтур. – У него был поразительный дар к саморекламе, и нашлась женщина, которая бесконечно восхищалась им, превозносила его”.
Мама невзлюбила тихую кроткую Доди и саму идею биографии. “Неужели тебе кажется, что при жизни человека можно написать честную и достойную его биографию? – вопрошала она Алекса. – Да и нужна ли такая книга в принципе? Tu vas te couvrir de ridicule![200]” – предостерегала его Татьяна снова и снова. “Кто эта Доди?” – спрашивала она меня. Алекс никогда раньше самостоятельно не заводил друзей. “Эта девочка не нашего круга, она даже не знает ни слова по-французски – как она собирается нас понять?” (В самом деле, даже я, хотя и полюбила Доди, как-то спросила, почему он не взял какого-нибудь писателя из Condé Nasty который говорил бы на нескольких языках, вроде Джоан Джулиет Бак. “Она слишком много знает, – сразу же ответил Алекс. – Мне нужна tabula rasa”.)
В последние годы жизни мама стала своего рода провокатором – она ковыряла воспаленное эго Алекса, безустанно призывала его к скромности и не давала жить двум его внутренним ипостасям: ни его внутреннему цыгану ни ребенку. Подозреваю, что она возненавидела Доди и саму идею биографии потому, что понимала: Алекс, возможно, готовится к новой жизни, которая наступит после ее смерти. Мама была собственницей и не желала, чтобы Алекс жил после нее. Сколько бы она ни говорила: “Будь джентльменом!”, – на самом деле она воображала, что он канет в бездну следом за ней, и маячащий на горизонте ковчег не вписывался в эту картину.
Мне вспоминается, как мама как-то вернулась из больницы, а Алекса в тот же день госпитализировали из-за проблем с сердцем. Вскоре после обеда я обнаружила ее накрашенной, в атласном костюме и со свежим маникюром – они с Мелиндой смотрели телевизор. Очевидно, она ждала меня, а увидев, поднялась, опираясь на трость, и пошла ко мне, призывно махнув рукой в сторону соседней комнаты. Мама загнала меня в угол гостиной и настойчиво прошептала:
– Врачи Алекса ошибаются! Нет у него никаких проблем с сердцем, это всё слухи! Его проверяют насчет диабета, – она выпрямилась, стараясь выглядеть величественно. – Я больна гораздо сильнее. Только я здесь больна!
Итак, пифия сказала свое слово. Мама вернулась в библиотеку и уселась перед телевизором. Я поднялась наверх, чтобы принять ванну, и перед сном зашла к ней пожелать спокойной ночи. Без украшений и изящных одежд мама выглядела удручающе. Питаясь лишь крохотными порциями жидкой еды – пара ложек пюре, бульона, Юриного киселя и овсянки, – она достигла веса около сорока килограмм, ее истощенные ноги были покрыты фурункулами и язвами – в основном из-за инъекций демерола. Существовала угроза инфекции, и сиделки тщательно следили за ее ранами. Видимо, она заметила мой взгляд и, чтобы отвлечь меня от мыслей об уколах, заговорила:
– Помнишь, какие ноги были у тети Сандры в последние годы жизни? Она всегда ходила в бинтах, это наследственное.
Несколько дней спустя Алекс вернулся из больницы, и тут жизнь в доме усложнилась еще больше. После его выписки Мелинда позвонила мне и рассказала, что мама будила Алекса посреди ночи – звала или бросала журналы к нему на кровать. В 5 утра она попыталась уговорить его приготовить ей овсянки – потому что, мол, только его овсянку она и могла есть. Алекс ответил ей, что у него только что был инфаркт и ему пока не разрешают ходить. Несложно догадаться, что мама ответила: “Я же больна гораздо сильнее!” На следующий день я узнала, что мама просит Алекса принести ей устрицы и любимое кофейное мороженое. Была полночь, все магазины уже закрылись, – и он отправился в гостиницу “Уолдорф-Астория”. Попробовав принесенные лакомства, она объявила их несъедобными. Услышав это, я позвонила Айседору Розенфельду, чтобы он проявил врачебную твердость и приказал им расселиться по отдельным комнатам. Алекс должен был переехать в мою, а я остановилась бы у друзей по соседству.
Доктор Розенфельд сразу же понял, в чем дело, и пришел на Семидесятую улицу.
– Если он не переедет в тихую комнату, он может умереть! – объявил он, невзирая на яростный мамин протест. Всемогущий инстинкт подсказал ей, кто стоит за этими перемещениями, и она рассердилась на меня. Как только врач ушел, она позвала меня из библиотеки, где я сидела и читала:
– Франсин!
Если родители звали меня полным именем, а не русским“ Фросенька”, это означало, что дело плохо. Я поднялась к ней и увидела, что она впервые за несколько недель стоит, опираясь на комод.
– Только нам решать, где мы спим! – Она пыталась кричать, но голос у нее был тонкий и хриплый. – Не вмешивайся! Я ни разу его не разбудила! Он очень много спит!
И она изо всех сил хлопнула дверью у меня перед носом.
Дрожа, я направилась в новую спальню Алекса. Он лежал в моей постели, как полвека до этого лежал по вечерам в своей, закинув руки за голову.
– Спасибо, что приехала, милая, – сказал он. – Я позвонил плотникам и малярам, чтобы тебе сделали комнату наверху, в моей старой мастерской.
И в самом деле, две недели спустя – как обычно действовала магия Либерманов – мастерскую на четвертом этаже уже переделали в комнату с ванной для нас с Кливом. Я старалась проводить на Семидесятой улице как можно больше времени – там витала трагическая атмосфера, характерная для позднего, маразматического периода брака моих родителей. Наркотики и болезни подкосили эту легендарную чету. Алекс, бесстрашный изгнанник, столько преодолевший, стал отдаляться от своей любимой жены, как только почувствовал, что она хочет утянуть его с собой на дно. А когда мама поняла, что Супермен ей больше не подвластен, что ее чары слабеют, то расхотела жить.
Но как бы она ни была больна, как бы плохо себя ни чувствовала, до самого конца мама следила за собой.
– Я умираю, Фросенька, мы все умираем, – рыдала она в трубку раз в несколько дней. – Слушай, можешь заглянуть ко мне в шкаф в “Косогоре” и достать розовую атласную пижаму и бархатный сен-лорановский жакет? Алекс пошлет автомобиль, мне они нужны сегодня вечером.
Время от времени я видела, как она пытается восстановить утраченную власть над Алексом с помощью обычных женских уловок. Как-то раз после обеда, пока он отдыхал в новой спальне, она час просидела перед зеркалом, тщательно накладывая макияж и накручивая истончившиеся пряди на электробигуди, – всё только ради того, чтобы заглянуть к нему. Белокурые волосы ореолом окружали ее исхудавшее лицо. Затем пришло время принимать решение: она сидела перед шкафом, а Мелинда мягко советовала, какой костюм надеть. Потом начался нелегкий процесс натягивания одежды на исколотое иглами тело. После чего наконец, опираясь на трость, мама проковыляла к моей бывшей комнате, осторожно постучала в дверь и, услышав тихий голос мужа, дохромала до кровати и прилегла рядом. Она держала его за руку и говорила, как одиноко ей спать одной, что она всю неделю не ела ничего приличного, – не согласится ли он спуститься и поужинать с ней. Он лежал молча, глядя на нее со смесью грусти, жалости и страха, гладил ее по руке, радуясь, что у нее еще остались силы наряжаться для него.
– Знал бы ты, как мне плохо… – простонала она наконец. – Никто не знает… Не пора ли еще делать укол?
Конец пришел быстро. В последнюю неделю апреля 1991 года Алекс был дома – его самочувствие стабилизировалось, но мама быстро угасала.
– Я за нее очень боюсь, – сказал мне Алекс по телефону в четверг. – Лучше приезжай, она… она как-то изменилась.
Я приехала около шести вечера и впервые увидела ее в терминальном состоянии. Она сидела в кресле посреди спальни в белом халате, ненакрашенная, с зализанными волосами – она впервые предстала перед кем-то в таком виде, впервые сидела в центре комнаты, не имела сил подойти к туалетному столику и взглянуть на свое отражение, она умирала от зеркального голода…
– What's new? – прошептала она, когда я зашла. Она впервые обратилась ко мне по-английски. Я присела рядом и стала тихо рассказывать о сыновьях – внуки интересовали ее в любом состоянии. Казалось, она терпеливо и даже с некоторым интересом слушает меня, но в глазах не было никаких чувств, никакого желания, и через минуту она начала клевать носом. Я помогла Мелинде перенести маму в постель. Губы ее двигались, дрожащая рука неуверенно тянулась к очкам на тумбочке, но падала на кровать. Собравшись с силами, она попыталась открыть глаза и оглядеть меня.
– Кажется, ты в брюках, – прошептала мама. – Всегда носи брюки.
Она закрыла глаза. Я посидела с ней еще десять минут и вышла. Это были ее последние слова.
Мне казалось, что это состояние продлится еще какое-то время, поэтому я вернулась на ночь домой. Но на следующий вечер, в пятницу, Алекс сообщил, что у нее начались ужасные боли в животе и ему пришлось отвезти ее в больницу. Ей диагностировали ишемическую болезнь кишечника – смертельный случай. Алекс потом рассказал, что в больнице произошла жуткая сцена: когда он незадолго до полуночи вышел из палаты, она закричала: “Я хочу умереть дома, забери меня домой, не бросай меня… ” В этот момент в ней откуда-то появилась демоническая сила, и она бросилась вслед за ним – так, что сиделкам пришлось удерживать ее. Любовь всей его жизни цеплялась за него, рыдала и умоляла забрать с собой, но он выбежал прочь.
– Всё время вспоминаю этот кошмар, – сказал он несколько дней спустя. Она прожила еще полтора дня, но он ее больше не видел.
Утром субботы я примчалась к ней в реанимацию. Мама лежала в тишине, окруженная тихим жужжанием машин. Она выглядела лет на тридцать младше и казалась одновременно умиротворенной и рассерженной. Лицо ее порозовело, словно обгорело на солнце. В этом зрелище не было ничего ужасного или пугающего, за исключением трубки во рту, из-за которой угол рта ее был чуть приподнят. Я взяла маму за руку, и она оказалась очень горячей – видимо, из-за температуры. Когда я коснулась ее лба, она не отреагировала, хотя я и ждала этого – как ждала всю жизнь. Меня вдруг охватило ощущение дежавю, вспомнились моменты, когда мама выглядела так же – покрасневшая, нахмуренная, – ну конечно, мама была такой, когда загорала на камнях, песчаных дюнах, в шезлонгах и на лодках на Лонг-Айленде или в Европе, впитывая солнце, хмурясь, как сейчас, словно сосредоточившись на его горячей красоте. Я была счастлива, что она умирает молодой и привлекательной, какой хотела бы, чтобы ее видели в последние мгновения. Я прижалась залитой слезами щекой к горячему маминому лицу и попросила прощения за всю боль, которую причинила ей, и сама простила ее за всё.
Я вернулась на Семидесятую улицу. Я вошла в гостиную. Был день. Клив тоже приехал в Нью-Йорк. Алекс встал из своего кресла.
– Сюда, – сказал он строго и указал на кресло, в котором полвека сидела мама. – Садись сюда.
Теперь это было мое место, я чувствовала, что теперь мое место здесь.
Врач позвонил нам в 2 часа ночи. Мы с Кливом отправились в комнату к Алексу. Он лежал, одетый в пижаму, заложив руки за голову, – спокойный, отстраненный, освобожденный. Слез не было. Мало кто видел, как он плачет.
– Мы с ней работали в Saks, это был какой-то кошмар! – сказала одна из тех, кто пришел в похоронный дом Фрэнка Кэмпбелла двумя днями позже. Там были многочисленные коллеги Алекса – редакторы Vogue, Self, Glamour, Mademoiselle, Gourmet, GQ, Details, Condé Nast Traveller, Vanity Fair, Allure. Были и представители светского мира Либерманов – супруги де ла Рента, Киссинджеры[201], Пат Бакли, леди Дадли, Эртеганы[202], Билл Бласс, Кеннет Джей Лейн[203].
Отпевали ее в русской церкви на углу Парк-авеню и Девяносто третьей улицы. Мы с Алексом и Мелиндой выбрали ей платье – тунику из коричневого атласа. В православной церкви молящиеся стоят во время службы, но Алексу разрешили присесть – голова его была опущена, глаза смотрели в пол, слез по-прежнему не было. К тому времени у него начался обычный для сердечников кашель, и Мелинда, которую он попросил остаться с ним, держала в руках сироп. Когда он закашлялся, она дала ему ложку сиропа, и он послушно выпил его, как ребенок, не поднимая головы, не поднимая взгляда. Коллеги его были потрясены этой резкой переменой.
– Увидев его на похоронах, отчаявшегося, разбитого, я поняла, что прежняя жизнь для него кончена, – вспоминает неизменно проницательная Анна Винтур.
Когда подошло время, мы с Тадеушем и Люком подошли, чтобы попрощаться. Мама выглядела такой мирной, такой хрупкой и – впервые в жизни – такой вежливой. Я навсегда запомню этот образ, милый, утешающий, и хотела бы разделить его с другими. По сей день я помню, что тогда она казалась деликатной, как никогда прежде. Хотелось бы мне всегда знать ее такой – доброжелательной, загорелой, искренней, – мне хотелось остаться с ней в этой церкви, говорить с ней и оплакивать ее.
И откуда-то из-под океана горя, из-под острого чувства потери, которое сильнее всего ощущают дочери, вдруг всплыла благодарность: “Господи, я пережила ее”.
После службы Алекс, не чувствуя сил принимать гостей, попросил нас с Кливом отвезти на обед тех, кто специально прилетел в Нью-Йорк: парижан и друзей из разных концов Америки. Мы сидели за столом ресторана на Лексингтон-авеню, неподалеку от Семидесятой улицы, и вспоминали Татьяну. Как она вышла навстречу нашему другу Фредерику Татену, когда он приехал в “Косогор” и заявила: “Сними этот жуткий свитер!”
Как в 1940-е, когда в моде были высокие прически и кто-то в театре попросил ее снять шляпку, мама повернулась и негодующе заявила: “Это не шляпка, это волосы\” Как она набросилась на Хелен Франкенталер, когда та принесла ей свежие цветы: мама говорила, что приходить в гости с цветами – дурной тон, поскольку это обязывает хозяйку бросить всё и искать вазу, поэтому уместны только растения в горшках. Как редакторы Vanity Fair приехали к Алексу в “Косогор” и мама вышла к ним в огромной соломенной шляпе и всех своих украшениях, но за столом обращалась только к Гене, причем по-русски; вдруг, посреди обеда, она обвела всех взглядом и объявила по-английски: “Мы собираемся на садомазо-шоу в “Майншафт”[204], после чего вернулась к разговору с Геной. Как однажды в 1970-х, когда Алекс повел нас всех обедать в парижский ресторан “Серебряная башня” и заказал бутылку дорогого вина, а сомелье начал, как полагается, нюхать пробку, смотреть вино на свет, поворачивать бутылку, и мама нетерпеливо приказала ему поторопиться и перейти к делу, после чего он занервничал и залил шикарным вином скатерть и нас всех впридачу. И как она сидела на пляже в Сен-Тропе и раздевала Люсьена Вожеля пальцами ног – у нее были невероятно ловкие пальцы ног, которыми она могла развязать у мужчины галстук, расстегнуть рубашку и брюки, снять с него большую часть одежды, – и пока она проделывала этот трюк (мама рассказывала, что в 1920-е, когда только приехала в Париж, подрабатывала на пляжах, демонстрируя этот фокус), то тихо, по-садистски хихикала. За обедом мы говорили, что она была блестящей дамой, порой невероятно грубой, порой нежной и щедрой, что страстно обожала жизнь и равных ей не было во всём мире.
После службы Алекс поехал домой. Когда я вернулась, он ждал меня на своем обычном месте – в сером кресле у окна с видом на сад. Он смотрел на меня выжидательно и чуть ли не возбужденно, и я поняла, что он ждет моего рассказа – так же, как ждал, когда я возвращалась домой после бесед с психоаналитиком или любого другого важного мероприятия, куда сам он не смог пойти.
– Как она выглядела? – спросил он.
Глава 22 После Татьяны
Воспоминания о первых скорбных днях после маминой смерти в моем сознании погребены под сотнями метров ткани – тонкой шерсти, шелка, бархата, которые я перебирала, пока возилась с ее нарядами. Вся одежда висела в бесконечных шкафах в погребе – полувековая сокровищница платьев, небрежно развешанных на дешевых металлических вешалках, которые выдают в химчистке. Многие вещи заплесневели, были порваны или испачканы ржавчиной – в этом было что-то неприятное; эта одежда воплощала нарциссизм моих родителей, их праздность и зацикленность на себе. Приходило ли ей в голову отдать ненужные вещи в благотворительные организации или даже в музей? Забота о других не была сильной стороной характеров Либерманов. Передо мной разворачивалась панорама маминой жизни в моде: изящные твидовые платья, которые она носила, будучи работящей эмигранткой в наши первые годы в Америке; широкоплечие черные платья – наподобие нарядов из“ Милдред Пирс”[205] в исполнении Джоан Кроуфорд, – украшавшие ее на корабле, когда после войны мама отправилась в Европу; бежевый шелковый костюм с этикеткой Софи Сакс, в котором она была на моей свадьбе в 1957-м; бесчисленные разноцветные копии трапециевидного диоровского платья 1960-х – оригинал у нее был только один.
Некоторые платья по-прежнему благоухали ее духами; перебирать их было и скучно, и как-то особенно больно. Я разбирала вещи не по своей инициативе: мне казалось, что надо заняться этим через несколько месяцев, и только тогда начинать постепенно раздавать ее гардероб. Идея принадлежала Алексу, и он довольно резко озвучил ее на следующий день после похорон. Когда я поднималась в свою новую комнату, он позвал меня к себе и сказал, что вечером идет на ужин.
– Ты уверен, что это безопасно? – спросила я. – Ты хорошо себя чувствуешь?
Внезапно доктор Джекил превратился в мистера Хайда и с невиданной ранее злобой огрызнулся:
– Я сказал, что пойду! Не смей больше лезть в мои дела. – Он смерил меня разгневанным взглядом. – И разбери мамины вещи. Я хочу, чтобы через три дня их здесь не было!
Мне было больно от этой внезапной ледяной грубости, и вместе с тем я вдруг осознала, что повторяю про себя слово “цыган”. Это была естественная ассоциация: мне уже случалось размышлять о цыганской крови Алекса и его мамаши – именно она, как мне казалось, делала их такими непостоянными и вспыльчивыми. Возможно, так цыгане справляются со смертью, сказала я себе тогда, они стараются как можно скорее удалить из жизни все следы покойного, чтобы не тратить время на горе. (Несколько лет спустя я изучала цыганскую культуру и узнала, что цыгане в самом деле отрицают концепцию скорби или траура. В цыганском этосе в течение суток после смерти необходимо сжечь всё, что связано с умершим: его шатер, одежду, подушки, предметы быта, чашки. И даже по любимым не полагалось горевать долго, потому что согласно цыганским обычаям жить надо настоящим.)
Через несколько недель, в конце мая, я отправилась во Францию, чтобы закончить исследования для очередной книги, которые надолго отложила из-за здоровья родителей. К тому времени Алекс уже устроился на Семидесятой улице вместе с Мелиндой и Юрием и стал возвращаться к работе. Я сочла, что могу ненадолго уехать. Через несколько дней после приезда в Авиньон мне позвонил Клив:
– Ты не поверишь, – сказал он. – Алекс продал дом на Семидесятой улице.
– Что?! Быть такого не может, он мне ни слова не сказал.
– Ты же его знаешь.
Мы поговорили еще немного – я негодовала, Клив, как обычно, меня успокаивал. Это был тяжелый удар. Почему Алекс даже не предупредил меня? Дом на Семидесятой улице значил для меня еще больше, чем наш с мужем дом в Коннектикуте. Кроме того, это был в гораздо большей степени дом мамы, чем Алекса: каждый сантиметр, каждый предмет, каждое зеркало – всё здесь говорило о ее вкусах. Мы раньше шутили, что вкусам Алекса лучше всего соответствуют кубики льда. Что же будет с Алексом без этого дома, маминого творения, которое помогло им обрести успех?
Я погрузилась в раздумья – вспоминала, например, как Алекс в больнице сказал, что хотел бы переехать в квартиру, где можно было бы просто взять и вызвать электрика. Через час я собралась с духом и перезвонила мужу:
– Куда он переезжает?
– На Сорок девятую улицу, у него квартира в том же доме, что и у Сая Ньюхауса, – ответил Клив. – Кстати, он подчеркнул, что у нас в этой квартире будет отдельная комната.
Я невольно улыбнулась. Всю жизнь Алекс всеми возможными способами стремился удержать власть в своих руках. Как сказала Анна Винтур: “Алекс прежде всего был придворным Сая”. Жизнь его возвращалась в прежнюю колею.
Через несколько недель после того, как я вернулась из Франдни, Алекс предложил мне посмотреть его новую квартиру – он собирался переехать туда через пару месяцев. Стоило мне войти в дом – громоздкое здание в духе Муссолини, – я поняла, что первая за полвека холостяцкая берлога Алекса будет, как мы и предполагали, холодной и безликой. Будущие комнаты выходили окнами на реку, среди них – его просторная спальня и небольшие комнатки для нас с Кливом и Мелинды. Сквозь огромные голые окна лился яркий свет, на улице ревели сирены и автомобили, и я понимала, что здесь не приживется ни единая крупица маминого уюта. Именно в этой ледяной квартире я осознала – ее больше нет.
Всё лето квартиру перекрашивали, а мы пытались вернуться к нормальной жизни. По пятницам Алекс с Мелиндой и Юрием ездили в “Косогор” – их возил его любимый шофер от Condé Nast, благообразный пожилой алжирец Френчи. За последние годы с мамой Алекс ни разу не был в ресторане. “Я забыл, как читать меню”, – печально сказал он, когда мы в первый раз вышли поужинать; чтобы отвлечь его, мы по субботам водили всю компанию по местным бистро. По воскресеньям я проводила в “Косогоре” несколько часов, чтобы убедиться, что хозяйство ведется без сбоев. Алекс в это время бродил взад-вперед по кромке вдоль бассейна, заложив руки за спину, опустив взгляд, ссутулившись – так он выполнял предписание врачей больше гулять.
Глядя на новую жизнь Алекса, я часто вспоминала, как воображала будущее после маминой смерти: мне представлялось, что Алекс станет отшельником, будет жить в “Косогоре” и ездить в Нью-Йорк два-три раза в месяц, чтобы посетить врачей и ближайших друзей, а единственным утешением его станет живопись, которой он будет отдаваться всецело… Я стану навещать его каждый день и готовить еду или же приносить с собой приготовленные дома французские кушанья, чтобы, подобно Корделии, быть ему поддержкой и утешением… каким мягкосердечным Алекс станет, как благодарно будет улыбаться нам за обеденным столом… Задним числом мне кажется нелепым, что разумная шестидесятилетняя женщина может лелеять настолько абсурдные фантазии об отце. В реальности же Алекс теперь ни на минуту не оставался один – его окружали прислужники и приживалки.
В середине августа, как раз в предполагаемые дни переезда, у Алекса случился очередной сердечный приступ. Мелинда отвезла его в местную клинику, но осталась ею недовольна, и его на вертолете отправили в нью-йоркскую больницу, где сделали операцию на сосудах. Мы с Кливом были в Куперстауне и оставили Алексу с Мелиндой номера телефонов, по которым нам можно было дозвониться. Услышала о произошедшем, я бросилась в Нью-Йорк. Алекс встретил меня с недовольным видом.
– Где ты была? Тебя не найти, – сказал он обиженно.
– Я оставила Мелинде наши номера.
– Видимо, она их потеряла, – пробормотал он и начал жаловаться на коннектикутский дом: там всё напоминает ему о маме, вечерами особенно тяжело, все вещи вокруг будто говорят о ней. Он мечтает скорее переехать в новую квартиру в Нью-Йорке – и тут он уже заговорил об отделке. Одно время ему хотелось увеличить мамин портрет работы Ирвинга Пенна, чтобы повесить его на стену в холле, но потом он подумал, что лучше там будет висеть его собственная картина. Так сложно решить, какие памятные объекты оставить, а от каких отказаться – не будет ли кощунственно сохранить все ее портреты? Но и избавиться от них было бы неправильно. (Впоследствии я не раз вспоминала это его замечание.)
– Конечно, продай “Косогор”, если тебе там плохо, – сказала я, когда собралась уходить.
– Хорошо, – ответил он. Предполагаю, что он наверняка всё решил до моего прихода, но испытал облегчение, что я согласилась.
Я вернулась на Семидесятую улицу. Это была моя последняя ночь в нашем старом доме – впоследствии его постепенно разобрали на кусочки. Алекс продал почти всю мебель, включая ту, что стояла в квартире моих родителей в довоенном Париже. Все любимые картины моего детства – Джакометти, Брак, Пикассо и Шагал с дарственными надписями маме – были сняты со стен. Алекс передал большую часть в музеи, чтобы компенсировать налоги, которые пришлось заплатить при продаже дома. Чтобы утешиться после прощания с домом, я договорилась поужинать со своим сыном Тадеушем, который любил его так же, как и я. Мы обнимались, целовали белую дверь и плакали над воспоминаниями. Хотя в ту неделю нас ждали и хорошие новости – Тадеуш объявил о помолвке с замечательной девушкой, – в тот вечер я радовалась тому, что не одна.
Когда сын ушел, я допоздна лежала на раскладушке в библиотеке и смотрела по телевизору, как рушится Советский Союз. После полуночи начался специальный выпуск новостей – в нем среди прочего упомянули, что Ленинград могут переименовать обратно в Петербург. Мне вспомнилось, что мама отказывалась даже произносить слово “Ленинград”. Семидесятилетнее господство Союза она считала проклятием и называла свой родной город Петербургом – даже несмотря на то что собеседники на обоих континентах считали ее ненормальной – и voilà! Даже через несколько месяцев после смерти она вновь оказалась права.
После переезда на новую квартиру состояние Алекса значительно ухудшилось, и доктор Розенфельд сделал решительный шаг, назначив ему шунтирование. Учитывая, в каком состоянии находилась сердечная мышца, это был большой риск – Розенфельду даже пришлось подписать документ, в котором говорилось, что он несет ответственность за решение сделать операцию. Вечером после операции, когда мы с Кливом и Мелиндой навещали Алекса в реанимации, произошел интересный эпизод. Нам с мужем удалось только ненадолго взять его за руку и увидеть, как он мигает. Зато Мелинда буквально набросилась на него, стала поправлять дыхательную трубку, подушки, твердить, что медсестры всё делают не так, гладить его лицо и повторять: “Милый мой, дорогой”. Ага, подумала я, но решительно отмела эту мысль как невероятную.
Той осенью мы с Кливом вернулись к прежнему расписанию – приезжали в Нью-Йорк раз в неделю и, прежде чем отправиться ужинать с друзьями, заходили к Алексу на полчаса, а иногда обедали или ужинали все вместе. Карьера в Condé Nast, за которой он так гнался, сошла на нет перед лицом куда более важной задачи – сохранить здоровье.
– После смерти Татьяны, – вспоминает Анна Винтур, – он заглядывал к нам на пару часов раз-другой в неделю. Он стал ипохондриком, и больше всего его заботили здоровье и новая квартира.
Хотя я видела, с каким наслаждением Алекс купается в заботе Мелинды, мне и в голову не приходило, что между ними могут зародиться чувства. Тому было три причины: во-первых, Алекс мне всегда казался абсолютно асексуальным человеком, во-вторых, он был невероятным снобом, и в-третьих, я, подобно окружающему миру, сохраняла наивную веру в то, что Алекс страстно любил маму. Общее мнение было таково, что ему не суждено оправиться после ее потери, и, несмотря на то что мне приходилось видеть разные стороны их отношений, я всецело разделяла это убеждение. Первый раз эта иллюзия пошатнулась в ноябре, когда мне в истерике позвонил домработник Алекса Лэнс Хьюстон, который в прошлом году был нанят на смену Хосе и переехал с хозяином на новую квартиру.
– Хочу сказать, что мне, возможно, придется уйти, – встревоженно сообщил Лэнс. – Здесь невыносимо, эта сиделка нами командует, словно она теперь миссис Либерман…
Я поблагодарила его за звонок, сказала, что с этим ничего сделать не могу, и попросила быть на связи. Повесив трубку, я подумала, что у него паранойя… и тут мне вспомнилась сцена в реанимации.
С тех пор улики только накапливались. Когда мы с Юрием летели в Техас на свадьбу к Тадеушу в начале 1992 года, он поделился со мной своими наблюдениями. (Алекс постепенно разлюбил Юрия и с радостью отделался от него на три дня, вручив ему билет на самолет, – оставалось только гадать, почему он до сих пор платил ему.) Юрий рассказал, что Алекс теперь полностью под каблуком у Мелинды, во всём ее слушается, они всё время держатся за руки и зовут друг друга “зайками”.
До сентября 1992 года это были только догадки. Мы с Кливом отдыхали в доме на Лонг-Айленде, который Алекс снял на всё лето. Накануне Мелинда устроила пышную вечеринку в честь его восьмидесятилетия – здесь были и филиппинские танцовщицы живота, и живая музыка, и дюжина жареных молочных поросят, и фонтаны с шампанским, и самолеты, которые рисовали в небе надпись: “С днем рождения, Алекс”. (“Мама бы никогда такого не устроила, – прошептал мне Алекс в перерыве. – Она бы сказала: что за вульгарность, ненавижу такое”.) На следующий день, когда мы сидели на террасе, он начал очередной свой монолог с весьма подходящей диатрибы[206] в адрес Юрия. Все советские люди – прохиндеи и эксплуататоры, все они отравлены режимом, и Юрий не исключение: он хочет привезти в Штаты своего бойфренда, разве это не ужас? Поэтому Алекс собирается отправить Юрия в Россию – дать ему денег за три месяца вперед и пусть катится в свою чертову Москву.
– Мне надо действовать быстро, потому что я еще недолго буду жить, – продолжал он, ловко меняя тему. – Не могу быть один, я схожу с ума в одиночестве, мне нужна женщина… Ты далеко, у тебя своя жизнь – что мне делать? Мелинда спасает меня, больше у меня ничего нет. Может, потом я на ней женюсь… Как приятно, когда к тебе снова кто-то прикасается.
Он сощурился и посмотрел на меня многозначительно. Бедный мой, подумала я, потому что прекрасно помнила, какой холодной могла быть мама. Прощай, Юрий: теперь было ясно, зачем Алекс держал его при себе – он служил дуэньей, чтобы все приличия были соблюдены и отношения с Мелиндой выглядели благопристойно. Когда мы уходили, Алекс снова начал сердиться:
– По-моему, Клив против того, чтобы я женился на Мелинде, – заявил он.
Несколько месяцев назад он и правда заговорил с моим мужем о возможном браке – хотя со смерти мамы не прошло еще и года. Из-за сыновей, которые обожали бабушку, Клив (семья для него была превыше всего) действительно сказал Алексу, что это, возможно, “ужасная идея” – так быстро снова жениться. Алекс не терпел критики; со смертью мамы он привык лелеять свои обиды; и хотя он прежде называл зятя “лучшим другом во всём свете”, прямота Клива, к сожалению, возвела стену между моей семьей и Алексом – и стена эта существовала до его смерти.
По крайней мере, он дал нам время привыкнуть к этой идее. Два месяца спустя, в ноябре 1992-го, мы с Кливом уехали в Париж и остановились у Этель де Круассе, одной из ближайших европейских подруг родителей. Воскресным вечером мы вернулись из Шартра и сели за холодный ужин. Зазвонил телефон, Клив взял трубку – это был Алекс. У Этель в доме стоял телефон, который позволял включить громкую связь, поэтому все мы слышали разговор. Алекс позвонил, чтобы сообщить, что 2 декабря у них с Мелиндой будет свадьба, но приглашает он только супругов Ньюхаус и Доди Казанджян с мужем – его свидетелями будут Сай и Доди.
– Если вы приглашаете на свадьбу начальника и биографа, хорошо бы позвать туда и родственников, – заметил Клив.
– Нет у меня никаких родственников, – заявил Алекс. – Вы только мне мешаете. Ненавижу, когда мне мешают.
– Вы сами всё усложняете, а раз у вас нет родственников, то и говорить нам не о чем, – ответил Клив, положил трубку и разразился ругательствами: – Чертов осел, видеть его больше не хочу!
Через пять минут телефон зазвонил снова.
– Я не узнаю Алекса, он меня пугает, – твердила негодующая Этель. – Никогда его таким не видела.
Я всё еще сидела в столовой и плакала.
– Помирись с ним, пожалуйста, – взмолилась я, когда Клив пошел к телефону. – Пожалуйста, ради Татьяны!
– Клив, дорогой, разумеется, я жду вас с Франсин и детьми, – сказал Алекс. – Вы же знаете, как я вас люблю.
– Алекс, мы тоже вас любим, поэтому всё так непросто.
К следующему утру я уже была способна смотреть на ситуацию с юмором: Алекс хотел пригласить начальника и биографа. Власть и слава – вот к чему он стремился всю жизнь.
Они поженились в мэрии. Церемонию вел судья Пьер Леваль, сын Беатрис и Фернанда Лева ля – той самой пары, к кому мои родители уехали летом 1941-го, когда Гитта Серени рассказала мне правду о смерти отца. Я разглядывала канареечно-желтый костюм Мелинды, ее ручки, усыпанные бриллиантами, и думала, что жизнь не перестает меня удивлять. Поскольку Алекс отказался от идеи отметить свадьбу в компании начальника и биографа, он устроил прием. Нас было около двадцати человек, включая несколько элегантных дам из Condé Nast. После короткой церемонии был подан обед в шикарном итальянском ресторане в Вест-Вилладж. А несколько недель спустя Алекс позвонил и холодно попросил нас с Кливом подписать бумаги, которые снимали бы с нас обязанности его душеприказчиков – он выбрал нас на эту роль тридцать пять лет назад, вскоре после нашей свадьбы. Алекс звонил из Майами, где только что купил двухэтажную квартиру с видом на залив Бискейн. Теперь его душеприказчиками стали Пол Шерер, администратор Condé Nast, Мелинда и Доди Казанджян – последние две уже были лучшими подругами. В общем, он распустил свою старую семью (на работе Алекс в совершенстве освоил это ремесло!) и нанял новую (включая квазидочь) – до смешного непохожую на нас с мамой.
Войдя в гостиную Либерманов в Нью-Йорке или Майами, вы попадали в такую же белоснежную комнату, как на Семидесятой улице, но еще более ослепительно-холодную – из-за яркого света, который лился из огромных окон без занавесок, из-за белой пластиковой мебели, из-за стен, на которых висели лишь последние работы Алекса: огромные яркие картины 1980-х, написанные в том же (лишь немного пригасшем) экспрессионистском стиле, в котором он работал последние двадцать лет. Белизна обеих квартир странно не сочеталась с безделушками, которые расставила хозяйка на свой вкус: салфетки для приборов на столах и похожие кружевные – на стульях, аляповатые вазы из розового фарфора и – в Нью-Йорке – огромная хрустальная люстра над обеденным столом (увидев которую, я немедленно услышала голос мамы, который произнес ровно то, что сказал Алексу на свой день рождения: “Ненавижу такое”).
В обеих квартирах Либерманов было что-то от Океании, царящей там атмосферы разложения – можно было представить, что они принадлежат преступным торговцам бриллиантами в Сингапуре или Джакарте. В этих квартирах отчетливо видно было, что в новой жизни Алекс обзавелся множеством новых привычек. Во Флориде он большую часть времени проводил, гуляя по торговым центрам с Мелиндой или возлежа в белом пластиковом кресле за просмотром телевикторин.
– Обожаю Майами. И торговые центры мне нравятся. Мы просто сидим на террасе, ни с кем не видимся, и всё прекрасно, – восторженно рассказывал Алекс, когда я звонила.
– Он смотрел по телевизору всё подряд, – вспоминает Чарли Чёрчуорд. – Когда мы приезжали, он всякий раз требовал, чтоб мы сели что-нибудь смотреть. Мы переглядывались и понимали, что он уже не тот.
Теперь к ним постоянно приходили дети, хотя Алекс никогда не любил такого. У Мелинды было семеро братьев и сестер, и будучи бездетной, она опекала нескольких племянников и племянниц. Они приветствовали “дядю Алекса”, касаясь головой коленей на филиппинский манер. Это было невероятное зрелище! Алекс (безупречная внешность, безукоризненные манеры воспитанника британского пансиона) стал настоящим патриархом в футболке: дети карабкались к нему на колени, а он лишь смущенно улыбался. Когда у моего сына Тадеуша появились свои дети, Мелинда поставила в прихожей их нью-йоркской квартиры детскую коляску, чтобы Алекс не забывал: теперь его семья и его дети – это ее маленькие филиппинские племянники и племянницы. (Все они были перечислены в его завещании.)
– Умение выживать было у него в крови, – рассуждает Айседор Розенфельд о тех днях. – Как ни тяжело ему было привыкнуть ко всем этим босоногим младенцам, он не говорил о Мелинде ни единого дурного слова – как не говорил и о Татьяне.
Новая семья Алекса состояла и из друзей Мелинды по школе медсестер, которые теперь жили в Майами или Нью-Йорке. В Нью-Йорке была Джанет, сочная незамужняя красотка, которая училась несколькими классами младше Мелинды. В Майами была Джой, супруга немецкого автоторговца Ганса, которая не расставалась с Либерманами, пока из-за чего-то не поссорилась с ними. (Оскар де ла Рента говорит, как после поездки в Майами Анна Винтур весело сообщила, что Либерманы общаются в основном с автомеханиками.) В выходные все эти дамы, такие же спокойно-улыбчивые, как и Мелинда, приходили к Либерманам, чтобы поиграть в маджонг с хозяйкой дома. В эти часы тишина в квартире нарушалась лишь щелканьем костяшек и треском бесконечных фисташек. Тем временем Алекс отдыхал на террасе и листал журналы Condé Nast, которые ему присылали, или даже The New Yorker или The New York Review of Books. Когда я приезжала в Майами и видела, как он слоняется по дому, мне вспоминался Обломов, который с возрастом впал в детство, отдался лени и праздности и полностью оказался под влиянием властной домохозяйки.
– Здесь настоящий рай, рай! Эти филиппинки такие красивые! – восклицал он в первые годы жизни в Майами. – Хочу выучить филиппинский, хочу переехать туда… Хочу походить на них. Я подумываю сделать операцию на глаза, чтобы напоминать филиппинца!
Новая жизнь Алекса не способствовала улучшению отношений с его прежними друзьями и родственниками. Он жил в праздности и чувствовал себя забытым целым миром, а потому постепенно стал мелочным. К третьему году их брака большинству старых друзей было отказано в общении, за исключением Лео Лермана и Марти Стивенс – певицы, близкой подруги мамы и Марлен и горячей поклонницы Алекса. Среди отверженных были такие близкие люди, как Беатрис Леваль (Алекс жаловался, что ее йоркширский терьер “слишком громко лает”) и, к моему горю, некогда обожаемый внук Тадеуш, который попал в опалу, поскольку не пригласил Либерманов поужинать в День Благодарения, хотя они уже уехали на зиму в Майами (надо понимать, что дети Тадеуша могли стать соперниками новым внукам Алекса). Наконец, среди них были старые приятели, которые уже не могли быть полезны, – например Андре Эммерих, который некогда был одним из ближайших друзей Алекса.
– Я раньше переживал, что Алекс на меня за что-то обиделся, – рассказывает Эммерих, который не получил от Алекса ни единой весточки с тех пор, как в 1994 году закрылась его галерея художника. – А потом я понял, что раз галереи уже нет, я ему больше не нужен.
Все парижские знакомые тоже остались за бортом – по разным причинам. Летом 1994 года он повез супругу в Евpony (раньше она там никогда не была) – показать ей виды и познакомить со своими друзьями; однако всё вышло не так, как предполагал Алекс, – возможно, из-за ряда оплошностей с его стороны. Одно такое faux pas произошло, когда Алекс представлял новую жену Пьеру Берже, крайне щепетильному парижанину, который в 1960-е годы основал модный дом Ива Сен-Лорана и впоследствии стал ближайшим маминым другом в Париже.
– Я открыл дверь, – вспоминает Берже, – и Алекс сразу же сказал мне по-английски: “Позволь мне представить тебе любовь всей моей жизни”. Я ответил ему по-французски: “Ne te fous pas de moi mon vieux, j’ai bein connu l’amour de ta vie”[207].
Другой близкий друг, Франсуа Катру, рассказывает, что Алекс обзванивал всех заранее и предупреждал, что Мелинда ест только рыбу.
– Мы все лезли из кожи вон, водили ее по рыбным ресторанам, но она только сидела, опустив глаза, даже не пытаясь участвовать в разговоре и не прикоснувшись к рыбе.
В общем, опыт не удался: попытавшись сделать Мелинду частью своего мира и обнаружив, что она этого не хочет, он с готовностью отказался от этого мира – так же, как уже отказался от себя самого, – и посвятил жизнь заботе о ней.
Постепенно прежний щедрый Алекс исчез. В основе нового его хозяйства лежала бережливость и неусыпная бдительность. Винный шкаф был под замком, и каждая бутылка и коробка печенья были под строгим учетом.
– Вижу, ты приложилась к бренди из бара? – спросил как-то Алекс, когда мы с ним и Мелиндой ехали в такси.
– Алекс, ты не забыл, что у меня тахикардия? Я уже больше тридцати лет не пила ничего крепче вина, – ответила я.
– Я и забыл, что у нее проблемы с сердцем, зайка, – виновато сказал он Мелинде. – Ей уже много лет нельзя бренди.
Я выросла в доме Алекса, в котором замок был только на входной двери, в котором все были слишком заняты, чтобы носиться со своими проблемами или преувеличивать оплошности других, и теперь часто чувствовала изумление. Среди жалких остатков его семьи и друзей стало обычным новое и очень утомительное развлечение: мы гадали, кого же Алекс бросит на этой неделе, а кого приблизит.
Надо сказать, что наш цыганский хамелеон постоянно пребывал в окружении новых людей. Помимо родственников и коллег Мелинды новая семья Алекса включала в себя две супружеские пары, которые прекрасно уживались с его женой: Доди Казанджян с мужем, знаменитым автором The New Yorker Келвином (Тэдом) Томкинсом, которого мама совершенно несправедливо невзлюбила – возможно, предвидя, что он прочно войдет в жизнь Алекса после ее смерти; и Дениз Барбут и Мерк-Хайн Хайнеман – мама никогда с ними не встречалась, но по иронии судьбы наверняка полюбила бы их. Последние были полиглотами и врачами – у Алекса всегда было много друзей в этой профессии (ему нравилось держать при себе врачей – на всякий случай). Теперь он полюбил длинные белые лимузины – по-детски наслаждаясь вульгарностью, которой никогда бы не допустила Татьяна, – и нанимал их, чтобы возить друзей поиграть в казино в Атлантик-Сити или пообедать в псевдоазиатских забегаловках (я снова слышу мамин шепот: “Ненавижу такое!”).
Но зачем слушать мамин шепот и саркастические насмешки над популистскими радостями новой жизни Алекса? Мелинда была всецело предана любимому, она подарила ему несколько месяцев или даже лет жизни. Мелинда играла свою роль с необычайным достоинством, была нежна и заботлива, и черствый старый изгнанник, переживший множество бед, был бесконечно признателен за подаренное ему время. Он полвека был Суперменом для той, которая держала его под каблуком, а теперь наслаждался своим эгоизмом. Если отношения сиделки и инвалида заканчиваются смертью, бывшая сиделка зачастую сама становится инвалидом и находит себе опекуна. Именно эта смена ролей и произошла с Алексом – Мелинда стала для него тем, кем он был для мамы. “Милый”, над которым она склонилась когда-то в реанимации, теперь всецело принадлежал ей, и она холила и лелеяла его изо всех сил. По утрам она шнуровала ему туфли, завязывала галстуки, руководила невероятно сложной системой приема лекарств, нарезала ему мясо, завязывала вокруг шеи салфетку, если видела, что перед обедом у него сильнее обычного дрожат руки.
– Как прекрасно, когда тебе по утрам шнуруют туфли! – восклицал Алекс. – Я всю жизнь об этом мечтал!
Мелинда была настоящей львицей, строго запрещала Алексу сладкое, а поймав его с конфетой, принималась так угрожающе рычать: “За-а-айка!”, что он надолго оставлял всякие попытки схитрить. Честно говоря, единственным недостатком в ее любви было то, что, как многие любящие матери, она позволила Алексу растолстеть.
Интересно было наблюдать, как быстро исчезли из виду фотографии бывшей миссис Либерман. Переехав в квартиру, Алекс поставил на книжной полке у кровати те же фотографии, что хранил у себя на столе на Семидесятой улице: портреты родителей, снимок нас с Кливом и детьми и пять-шесть маминых фотографий. Нас убрали первыми – на это потребовалось всего несколько недель. Затем понемногу стала исчезать мама. Поначалу она занимала центральное место в книжном шкафу, но затем ее фотографии переехали в левый угол и стали потихоньку пропадать. Так же незаметно она исчезла из наших разговоров. В первый год после ее смерти Алекс чуть ли не при каждой встрече спрашивал с самым невинным видом:
– Когда ты будешь писать о маме? Она так хотела, чтобы ты написала о ней книгу.
Ага, думала я, он хочет, чтобы я поскорее взялась за работу, чтобы он успел ее проконтролировать! У меня был совсем другой план: я хотела написать про них обоих, а поскольку у меня самой начались проблемы со здоровьем, мне хотелось пережить его настолько, чтобы еще успеть написать книгу. Поэтому я загадочно качала головой и говорила, что еще слишком рано, это слишком болезненная тема, надо подождать.
Когда прошло два года, Тина Браун уговорила меня написать эссе в The New Yorker, посвященное моей маме как иконе моды. Я позвонила Алексу (который к тому моменту уже вовсе не упоминал маму), чтобы обсудить с ним свой текст.
– Я напишу о маме для Тины, как ты и хотел.
– Это прекрасно, милая, очень хорошо… Зайка, а почему кофе невкусный? – Он, как обычно, был погружен в свой домашний уют.
– Как ты думаешь, можно еще найти кого-нибудь, кто работал с ней в Saks?
– Ну конечно можно, дорогая… Зайка, сделай мне приличного кофе!
Поэтому эссе пришлось писать самостоятельно. Несколько знакомых похвалили при нем мой текст, что не могло его не порадовать – он по-прежнему оставался страстным любителем саморекламы и следил за всем, что писали о нашей семье.
– Говорят еще что-нибудь про твое эссе? – спрашивал он. Пока я говорила, отважная Мелинда, натянув на глаза маску для сна, притворялась, что спит.
Это был один из последних случаев, когда Алекс упоминал маму. Был и еще один, довольно забавный, – произошел он после того, как была опубликована его биография работы Доди Казанджян и Келвина Томкинса, и рецензии показались ему недостаточно восторженными. Стоило мне войти в квартиру, я поняла, что он хочет поговорить: он медленно, хромая, шел ко мне навстречу и тут же попросил присесть (Мелинды в тот день не было дома). Было ясно, что он хочет пожаловаться на книгу.
– Мы стали какими-то клоунами, – жалобно сказал он (имея в виду себя, маму и Доди). – Последуй моему совету – не позволяй писать о себе, пока ты жива. Твоя мать была права! Мне больно видеть, как оскорбляют ее память эти рецензии. Она была великой женщиной, к ней приезжали из Норвегии, со всего мира…
Весь наш дальнейший разговор он превозносил Татьяну (это был первый раз за несколько лет, когда он вообще о ней вспомнил).
Справедливо будет добавить, что после маминой смерти Алекс всё же выражал любовь к нам и тоску по жене – какими бы малозаметными ни были эти знаки. Даже если он старался выказывать чувства так, чтобы Мелинда не заметила, в эти мгновения мы снова видели прежнего, любящего, чудаковатого Алекса. Услышав о помолвке Тадеуша (это произошло на следующий день после его операции на сосудах), он добрался до телефона, позвонил в наш любимый ресторан “Ла-Гренуй” и заказал для внука с невестой шикарный ужин с бутылкой дорогого бордо. Когда моя подруга Джоанна Роуз устраивала презентацию для меня или Гитты Серени, он непременно приходил туда, хотя бы на десять минут. Они с Мелиндой поддерживали близкие отношения с моим младшим сыном Люком, которого Алекс обожал всем сердцем, – он вел тот вольный творческий образ жизни, который Алекс так и не осмелился выбрать. Когда мне в середине 1990-х делали операцию по замене тазобедренного сустава, он послал мне букет цветов с запиской, в которой говорилось по-русски: “Я тебя люблю”. (Когда-то он учил меня алфавиту, а теперь сам позабыл его – он ошибся в двух буквах и зачеркнул их.) Иногда он вспоминал о наших днях рождения, звонил, и, когда я слышала, как он говорит мне “Фросенька”, сердце мое истекало кровью в тоске по нашей былой любви.
Кроме того, возможно, книги, которые он выпускал после маминой смерти (альбомы фотографий, большую часть которых он сделал вместе с ней), стали своего рода обращением к ее памяти. Первой среди книг был альбом “Марлен”, который в спешке опубликовали в декабре 1992-го, через семь месяцев после смерти маминой подруги. (В процессе работы над книгой эгоцентризм Алекса проявился в полной мере – он попросил своего ассистента Кросби Кафлина отложить свой медовый месяц на полгода, чтобы принять участие в работе над книгой. Но Кросби уже забронировал путешествие в далекое Зимбабве и поэтому, к счастью, проявил твердость и отказался.) После “Марлен” был опубликован “Кампидольо” – тонкий альбом фотографий знаменитой римской площади, спроектированной Микеланджело, где они с мамой бывали множество раз. Тексты к фотографиям писал Иосиф Бродский.
Самой значительной работой тех лет была антология “Тогда” – интересный, хотя и несколько эгоцентричный альбом фотографий их с мамой общих знакомых из художественного мира. Среди них был Анри Картье-Брессон, который, увидев выставку фоторабот Алекса в 1959 году в Музее современного искусства, “по-французски торжественно поздравил меня [Алекса] и выразил свое восхищение”; Роберт Хьюс – “верный мой поклонник”; Пабло Пикассо, который был так очарован Алексом, что пригласил “приехать к нему на два-три месяца”; Ив Сен-Лоран – “человек тонкого вкуса и подлинного благородства”, который “любил Татьяну и выбирал ей платья из всех своих коллекций”; Тина Браун, “блистательный редактор журнала The New Yorker… чье восхищение моим творчеством придает мне силы”; первая жена Алекса Хильда Штурм, “белокурая богиня”, на которой он женился “как можно быстрее”, поскольку родители его были против; сама Татьяна Яковлева дю Плесси – “моя большая любовь <…> родом из мелкопоместных дворян, <…> которая восхищала и поражала меня в течение полувека”; а также Мелинда Печангко Либерман, о которой он написал: “Ее близость, смех, любовь и острый ум дарят мне волю к жизни. Она прекрасна – точеная красота, смягченная нежностью и мудростью. <…> Мелинда возглавляет большую филиппинскую семью – она строгая и щедрая тетушка. Мы можем говорить часами о жизни, которую я уже никогда не узнаю”.
За этим альбомом последовала “Молитва в камне” – фотографии церквей в Италии, Франции и Греции. В этих книгах много самоповторов, но если они помогли Алексу наконец обрести баланс – сберечь связь с прошлым и направить все силы на уверения Мелинды в своей преданности, – они были изданы не зря.
Утром 25 января 1994-го мой факс зажужжал и из него выползло письмо от Сая Ньюхауса. Приведу здесь основные пассажи:
Я попросил Александра Либермана принять новую должность – заместителя руководителя, а Джеймса Трумана – заступить на пост шеф-редактора Сопбё Nast. <…> Алекс пришел в издательство в 1941 году и 31 год успешно выполнял обязанности шеф-редактора. <…> На новой должности Алекс будет продолжать делиться с нами своим богатым опытом. <…> Джеймс Труман станет вторым в истории Condé Nast шеф-редактором и сменит Алекса Либермана на одном из важнейших постов в американской журналистике.
Я понимала, что это решение неизбежно – учитывая, как небрежно Алекс стал относиться к работе после смерти мамы. Когда пришло сообщение, он разгуливал по магазинам в Майами и уже несколько месяцев не появлялся на работе. (Как впоследствии сказала Анна Винтур: “Сай понимал, что Алекс уже отошел от дел”.) Но я боялась, что он расстроится, поэтому тут же позвонила и с удивлением услышала его бодрый голос.
– Давно пора, я устал, – сказал равнодушно. – К тому же у меня останется кабинет и мои подчиненные!
Я ощутила к Саю благодарность за его легендарную щедрость к давним сотрудникам: Алекс с Ньюхаусом уже давно обсуждали предстоящие перемены, и преданная команда Алекса (Кросби Кафлин, Сьюзан Питерс и Лорна Кейн) действительно оставались с ним до конца его дней.
Преемник Алекса Джеймс Труман, тридцатипятилетний англичанин, сделал себе имя в знаменитом британском журнале The Face, посвященном андерграунду. Алекс ненавидел рок-музыку и всегда противился ее упоминанию в журналах Condé Nast. Но Сай Ньюхаус верил в Трумана и в 1990 году поставил его во главе нового журнала Detailes, который уже к 1993-му имел огромный успех. Это был скромный, умеренно неформальный, превосходно воспитанный человек с мягким взглядом и потрясающей эрудицией. Через несколько недель после официального объявления Трумана пригласили домой к Алексу, где его ждала двухчасовая лекция об основных проблемах издательства. Странная это была встреча – почтенный старосветский волшебник глянцевой журналистики и молодой британец, который, по его же словам, пришел в этот мир из “жестокой и агрессивной уличной культуры”. Но они тут же нашли общий язык и стали друзьями.
– В тот день я вывел пять основных принципов из указаний Алекса, – рассказывает Труман. – Будь коварен, как Макиавелли. Веди себя так, как будто ты здесь хозяин, а твои коллеги – прислуга. Лесть – единственное оружие. Не тревожься, если тебе ставят препоны, – подожди, и твои противники сами увянут. Не ставь работу во главу угла, а то сойдешь с ума.
(Через несколько месяцев на посту шеф-редактора Труман всерьез занялся дзен-буддизмом, а одиннадцать лет спустя уволился из Condé Nast, так как ему это “наскучило”.)
Возможно, Алекс и испытал облегчение, узнав о переменах, но с 1994 года в его отношении к Condé Nast появилась некая самоуверенная надменность. Оставшиеся за ним льготы – лимузины с водителями, прислуга – казались для него теперь важнейшей составляющей карьеры. Он использовал своих сотрудников исключительно для того, чтобы они заказывали ему авиабилеты, нанимали автомобили, заказывали столики в ресторанах, и заглядывал в издательство пару раз в год, когда там печатали материал, по какой-либо причине заинтересовавший его лично.
Уэйн Лоусон, литературный редактор Vanity Fair.; вспоминает об одном таком визите: Алекс пришел, когда в журнал готовили материал об импрессионистских и модернистских картинах, которые со Второй мировой войны хранились в запасниках, а теперь впервые были выставлены в Эрмитаже.
– Алекс горячо участвовал в выборе картин для иллюстрации статьи, – рассказывает Лоусон. – Он хотел лично проконтролировать макет, и материал получился блестящим.
Но это были отдельные случаи, и в целом Алекс уже не мог держать руку на пульсе. В конце 1990-х Анна Винтур ощутила, что он уже отошел от дел: она поставила на обложку Vogue фотографию Хиллари Клинтон, и это был исторический момент, поскольку на обложке журнала никогда ранее не было первых леди.
– Когда номер вышел, он был в Майами и тут же позвонил мне в гневе, – вспоминает Винтур. – “Как ты могла?! Это чудовищно, это вульгарно, она похожа на домохозяйку, где здесь гламур?” Тогда я и поняла, что он утратил нюх. Люди начали стремиться к такой информации, этот номер пользовался огромным успехом – когда Алекс узнал об этом, то позвонил мне и извинился. А вы знаете, что извиняться он не любил.
В старости Алекса одолела та же напасть, что и маму в ее последние годы – его стали раздражать ошибки окружающих. Присущий ему эгоизм перешел в болезненную стадию. Гордость заменило неприкрытое, чванливое высокомерие. Он располнел, и его эго будто увеличилось вместе с телом. Через некоторое время после перемен в Condé Nast я отправилась на очередную выставку Алекса в галерею Эммериха, после чего сделала следующую запись в дневнике:
К нам подошел опухший седеющий человек, напоминавший шар в человеческом облике, утративший все следы былой элегантности. <…> Как будто его постоянно подкачивают легковоспламеняющимся газом, горячим воздухом беспрестанной лести.
Прошло десять лет, но Алекс помнится мне именно таким. И меня преследуют строчки из Шекспира: “Я это представленье и задумал, // Чтоб совесть короля на нем суметь // Намеками, как на крючок, поддеть”. Мама то и дело колола его воспаленное эго, постоянно напоминала, что он всего лишь очередной смертный, что мир ему ничего не должен. Теперь Татьяны рядом не было, и любящая жена уверяла, что он величайший художник современности – и личность его стала распадаться. Он стал по-детски хвалиться, какую важную роль играет в Condé Nast: во время очередных проблем со здоровьем он рассказывал налево и направо, что Айседор Розенфельд прилетел к нему в Майами на частном самолете Ньюхауса. Он воспринимал как должное, что может держать четырех подчиненных и не ходить на работу, и был не в состоянии сказать что-либо, не апеллируя к собственному величию.
– Как тебе Саймон Шама? – спросил он меня как-то раз. – Мне понравились “Граждане”, – ответила я. – Много лет не читала ничего подобного.
– А мне вот его читать не нужно, – сообщил он как бы иронически. – Мне он нравится, потому что он сказал Тине [Браун], что ему нравится моя новая книга.
Но самоирония не работала – теперь стало ясно, что лишившись власти, он стал еще более падким на лесть.
К 1997-му я чувствовала, что мы ужасно отдалились. В те месяцы, что он жил в Нью-Йорке, я заходила лишь ненадолго, и мы всего два-три раза в год ужинали с ним и Мелиндой. Мне бы хотелось чувствовать, как раньше, что он любит меня. Чтобы восстановить утраченную связь, как-то во время ужина я предложила ему устроить прием в честь выхода новой книги – “Молитва в камне”. Впервые за много лет он горячо меня обнял. Я снова стала милой Фросенькой! Не знаю другого человека, который бы больше любил восхваления и так по-детски нуждался бы во внимании. Сколько бы ему ни льстили, я чувствовала, что он погружается в стариковскую печаль, ощущает, что жизнь осталась позади.
– Скучаю по своему столику в Four Seasons, – сказал он мне грустно через пару лет после того, как Джеймс Труман занял его пост. Я понимала, что скучает не по еде и обслуживанию, а по элитному столу в центре зала, за которым было позволено сидеть всего нескольким важным шишкам нью-йоркской прессы – он царил за этим столом несколько раз в неделю, а все, кто проходили мимо, приветствовали его, как главаря мафии.
После смерти Татьяны Алекс стал еще более капризным и переменчивым. Весной 1997-го, когда мы обедали в его новом любимом ресторане “Даниэль”, он объявил, что в Майами стало “скучно”. Погода была не такой, как он надеялся, делать было нечего. Прожив там четыре года, Либерманы подумывали продать квартиру и купить что-нибудь в пригороде Нью-Йорка. Разумеется, не успев еще выставить квартиру на продажу, они нашли себе домик на Лонг-Айленде – громоздкое помпезное здание в Сэндс-Пойнт, – заняли у Сая миллион долларов и купили его.
(“Зачем вы купили этого монстра?” – спросил Розенфельд. “Так хотела Мелинда”, – ответил Алекс.)
Когда я впервые пришла в этот дом, то немедленно услышала в голове мамино злорадное хихиканье – входная дверь здесь была сделана из резного дуба, кухонные столешницы отделаны золотом. Алекс оправдывался тем, что Сэндс-Пойнт был для него первым местом, где мы с ним и мамой отдыхали после переезда в Америку. Действительно, когда я ехала туда, то всё время оглядывалась в поисках места, которое напомнило бы мне обветшалый домик, приютивший нас в то лето.
Либерманы наслаждались новым домом всего год. Осенью 1988 года Алексу стало совсем плохо. Вероятно, на его хрупкое здоровье – у него вновь проявился рак простаты, осложненный диабетом, проблемами с сердцем и хронической анемией – повлиял и тяжелый шок. Весной того же года издательство Condé Nast готовилось к переезду с Мэдисон-авеню, где оно располагалось четверть века, в новое здание на Таймс-сквер. Алексу сообщили, что в новом здании у него не будет кабинета – вместе с подчиненными Лео Лермана, который скончался четырьмя годами ранее, его ассистентов разместили в тесной комнатушке на Сорок четвертой улице.
Хотя он почти не бывал в своем кабинете в последние годы, известие о том, что ему не нашлось места в новом здании, повергло Алекса в тяжелую депрессию. Он так гордился своим положением в издательстве, что воображал себя неуязвимым.
– Лучше бы сразу вытащили меня из конюшни и пристрелили, – сказал он Мелинде, услышав новости.
Неужели он действительно полагал, что в эпоху, когда все решения принимались из соображений экономии, отставному полуинвалиду выделят столько же места, сколько тем, кто действительно работал в компании? В этом случае его самонадеянность, подпитываемая постоянной лестью окружающих, ввела его в заблуждение. Когда мы осенью того же года приехали в Нью-Йорк, он встретил нас в инвалидном кресле и казался рассерженным на весь мир. Алекс смотрел так сердито, как будто наше присутствие было совершенно неуместно. Неужели паранойя заставила его поверить, что мы в чем-то его подвели? Или же для его гордости было невыносимо, что его прежняя “семья” видит его в таком жалком состоянии? Вслед за нами пришла Доди. Как же он любил свою новую компанию! Увидев ее, Алекс заставил себя слабо улыбнуться.
Большую часть зимы и весны он пробыл в Майами, а летом 1999-го Мелинда привезла его в Нью-Йорк на осмотр к доктору Розенфельду. К тому времени Алекс принимал столько лекарств, что спал двадцать часов из двадцати четырех. Порой он не мог даже поесть самостоятельно и его приходилось кормить с ложечки. Весь день Мелинда периодически шлепала его по бедру и восклицала: “Зайка!”, чтобы он не проспал круглые сутки.
Именно в тот раз я дождалась, пока Мелинда выйдет по делам, и в последний раз попыталась добиться у него правды о письмах великого поэта.
– Алекс, дорогой, где письма?
– Где-то там, – ответил он и махнул рукой, после чего снова уснул. Это были одни из последних слов, которые я услышала от него в Нью-Йорке. На следующий день они улетели в Майами, где он стал дожидаться смерти. А несколько дней спустя я вернулась в их квартиру и нашла свое наследство – письма Маяковского маме, после чего стала планировать эту книгу.
Пока я писала ее, мне пришла в голову еще одна версия того, почему Алекс не хотел отдавать мне письма Маяковского: помимо его желания остаться в истории единственной любовью легендарной женщины, он мог спрятать их еще и потому, что они представляли изрядную ценность. Когда мама умерла, больше всего меня потрясло превращение некогда щедрого и открытого человека в мелочного скупца. Ему хотелось оставить себе всё ценное, что принадлежало маме, невзирая на то, что это предназначалось мне и сколько это значило для меня. Именно поэтому он не отдал мне ничего из дома на Семидесятой улице. А я в то время слишком горевала по дому, чтобы думать о его содержимом; но когда поняла, что произошло, – пришла в ярость.
Та же скупость толкнула его на еще более низкий поступок: за портретом мамы хранилось завещание Алекса, по которому мне не досталось ни одной работы Яковлева – всё перешло его вдове. И еще одно доказательство его бесчувственности: на следующий день после смерти мамы (она оставила мне всё свое имущество) Алекс попросил меня принести поднос с ее украшениями, чтобы выбрать подарок для Мелинды в знак благодарности. Когда я поставила поднос ему на кровать, он тут же указал на платиновую брошь с бриллиантами, которую я помнила с детства. Это не только был самый ценный предмет в коллекции – это был подарок моего отца, Бертрана дю Плесси, которому он достался от его матери. В тот день мне слишком хотелось ободрить и порадовать Алекса, и я не стала протестовать. Только несколько месяцев спустя я подумала – да как он посмел? И как я позволила своему наследству, этому бесценному напоминанию о своих родителях, ускользнуть сквозь пальцы? В такие моменты я думала – да существует ли вообще “настоящий Алекс”? Или же этот человек – всего лишь пустая, ледяная планета, которая вращалась вокруг женщин-солнц, отражая их привычки и характеры?
В конце лета 1999-го здоровье Алекса стало ухудшаться еще быстрее. Мелинда сообщила, что ему пришлось обзавестись аппаратом суточного мониторинга кардиограммы, по которому она периодически стучала, чтобы разбудить его. Мне ужасно хотелось его увидеть, но она отговаривала меня, справедливо полагая, что мое появление будет для него шоком, потому что он поймет, что конец близок. Я бы всё отдала за возможность подержать его за руку, заглянуть ему в глаза – даже если бы я ничего не увидела во взгляде. Но мне оставалось только воображать его последние месяцы в Майами – как он ездит на своем электрокресле, засыпает, пока Мелинда кормит его, как она везет его к окну, за которым простирается Бискейн залив. Я звонила ему каждый день, кричала в трубку: “Как ты?”, а он шелестел в ответ, словно из-за пелены тумана: всё хорошо.
Мелинда сдержала свое слово и сказала мне, когда стало ясно, что конец близок. Она позвонила мне в среду, на второй неделе ноября. Плача, она сказала, что не уверена, выйдет ли он уже из больницы, так что не займусь ли я некрологами, она совсем не знает, что делать в таких случаях, ему осталось не больше двух недель. Я бросила всё и помчалась в Майами и в восемь вечера уже была в больнице. Он неподвижно лежал на койке, до прозрачности бледный, на лице его покоилась кислородная маска. Я присела у изголовья, взяла его за руку, и его усы пошевелились – он взглянул на меня и отвернулся. Судя по его виду, он мог думать что угодно: “Господи, только не это” или же: “Какое счастье, что она приехала”. Полчаса спустя зашел врач и, чтобы оценить его состояние, спросил:
– Кто вас сегодня навещает?
– Моя дочь, – прошептал Алекс.
Следующие два дня он проспал и лишь иногда кивал нам в ответ или чуть шевелил руками. Накануне моего отъезда он вдруг посмотрел на меня и с усилием спросил:
– Ты куда-нибудь вчера ходила?
Этот вопрос он задавал мне каждое воскресное утро, когда я была еще подростком и мы жили на Семидесятой улице.
– Нет, милый, я была здесь, – ответила я. – Мне никуда не хотелось.
– Спокойной, – прошептал он, закрывая глаза. Возможно, он хотел сказать: “Спокойной ночи”.
На следующий день нам казалось, что он чувствует себя лучше, что он пришел в сознание, и на мгновение я увидела милого доктора Джекила, заботливого Алекса моего детства. Вскоре после полудня он открыл глаза, посмотрел на меня и спросил, словно мне было десять лет:
– Фросенька, ты уже пообедала?
– Спасибо, как раз начала, – ответила я и показала ему полную тарелку.
– Вкусно? – прошептал он чуть слышно.
И в этот момент мне вспомнился первый день, когда я была вверена его заботе, – то утро на юге Франции в 1940 году, когда я бродила по его дому, голодная, грустная, и он вылетел из кухни с миской хлопьев и яичницей – всё это он раздобыл на черном рынке.
– Вкусно тебе, Фросенька? – спрашивал он, пока я ела.
Сколько личин он сменил с того утра – трудолюбивый молодой беженец, напористый редактор-эмигрант, светский лев, лучше-всех-в-городе-одетый мужчина, любящий отец семейства, маститый журналист, озадаченный вдовец, а теперь – умирающий пенсионер, супруг последней его повелительницы. А сколько личин сменила я: послушный печальный ребенок, дерзкий подросток, эмансипированная журналистка, невеста-трудоголик, успешная писательница, хрупкая мать семейства. Но при звуках этого вопроса: “Ты поела?.. Тебе вкусно?” – время растворилось, повинуясь нашему общему, только нашему воспоминанию. В тот далекий 1940 год нашей памяти мы вновь стали любящим отцом и голодным ребенком, которых свели вместе силы, разрушившие судьбы наших поколений, и нам вот-вот предстояло бежать от величайшей трагедии в истории человечества. И этот застывший момент впитал и растворил все обиды, которые стояли между нами, и мы дали друг другу лучшее, чем могут обменяться родители с детьми – мы простили друг друга.
Он закрыл глаза и снова заснул. Вокруг снова был 1999 год. Через полчаса мне надо было ехать в аэропорт, и я сидела у его изголовья, надеясь, что он узнает меня, и понимая, что этого не произойдет. Когда я в последний раз поцеловала его, лоб у него был чистый и нежный – будто принадлежал не обычному человеку, а заколдованному спящему рыцарю, которого я встретила в волшебном лесу, или же свежевыкупанному ребенку, которого я уложила в постель.
Десять дней спустя Мелинда позвонила нам посреди ночи. Я снова полетела в Майами – настало время похорон. Он лежал на чем-то вроде носилок, укрытый до подбородка зеленым одеялом – такой серебристый, по-гречески прекрасный. Голова его была запрокинута – так хрупко, так благородно, что он напоминал воина. Мне никак не удавалось отделаться от этого образа – воин на поле боя, – в каком-то смысле он был героем, потому что прожил больше жизней, чем кому-либо из нас удалось и за три цикла реинкарнации, и всю свою жизнь сражался – за себя, маму, меня, а порой и за других. Да, он выглядел благородно – так, как хотел, чтобы выглядели его творения. Любовь моего детства, наставник мой, защитник, я наконец-то плакала по тебе. Я коснулась рукой твоего мраморного лба, еще не ледяного, а лишь слегка прохладного, и вспомнила, каким он был горячим, нежным, пульсирующим, когда я поцеловала тебя десять дней назад, и вдруг как никогда ярко ощутила – как бесценно наше дыхание, как уникален каждый человек. Я перекрестила тебя и вышла. Я была ребенком, и ты подарил мне жизнь, и теперь мне надо было жить.
Эпилог
Сейчас июнь 2004 года, и мне так много надо сделать на маминой могиле! Надо подрезать рододендроны, которые я посадила больше десяти лет назад, подкормить их после холодной зимы и, возможно, посадить еще вечнозеленых растений по обе стороны от камня, на котором выбито ее имя: Татьяна Яковлева дю Плесси Либерман, 1906–1991. От моего дома до нее меньше километра, если смотреть по карте, и около полутора километров, если идти пешком. В хорошую погоду можно срезать путь через поле – и вот она, под миртовым кустом, в северо-западном углу нашего деревенского кладбища. Ее конфуцианской, приземленной душе подходит это прелестное место с чудесным видом, неподалеку от дома, который она так любила, там, где ее часто навещают любимые.
Мы выбрали это место для нашей семьи несколько десятков лет назад. С тех пор как я побывала на могиле отца, смерть не пугала меня – приходя на кладбище, мы с Кливом порой спорили, какие надгробия хотели бы для себя. Мама ушла первой и ждала нас. Найдя подходящий камень, Алекс заказал на нем надпись – ее имя и годы жизни, его имя и год рождения. Через несколько лет мы выбили на этом камне год его смерти. После того, как я подрежу и подкормлю рододендроны, надо будет прополоть мирт, что вовсе не легко – надо выдернуть всю траву, не повредив деликатные корни растения. Я фанатично соблюдаю порядок у нее на могиле – так же, как она когда-то следила за своей внешностью. Я прихожу сюда не только на Рождество, в дни рождения или чтобы подрезать растения – я навещаю маму перед каждым серьезным событием в жизни: перед дальним путешествием, чтобы она благословила меня, в тяжелые минуты, чтобы попросить совета, когда рождаются внуки – чтобы разделить радость.
Внимательный читатель уже, наверное, думает: почему же я говорю о том, что навещаю маму, а не их обоих? Я объясню: хотя на камне стоят годы жизни Алекса в честь их полувекового брака, это был символичный жест уважения с моей стороны. Его прах – у его третьей жены, и она повсюду возит его с собой. В Нью-Йорке, например, она ставит урну на комод у кровати в окружении церковных свечей и свежих цветов (как это принято у нее в стране). Но с тех пор как Алекс умер, ей нет покоя, и ему приходится много путешествовать: он упакован в аккуратный чемоданчик, который вызывает массу вопросов у службы безопасности в аэропортах, и ездит с ней повсюду: в Майами, на Филиппины, в Атлантик-Сити, в Лас-Вегас и куда только не занесет ее судьба. Превосходная судьба для останков скитальца! В душе он был цыганом, вечным изгнанником, и теперь он всегда в пути – ни к чему не привязан, нигде не укоренен, и судьбу его, как и при жизни, определяют женские капризы. Он вездесущ и вездеслед, проклятый Алый Первоцвет!
Но поскольку могилы – это символические места упокоения бессмертных душ, а не бренных тел, то Алекс покоится здесь же, на коннектикутском кладбище, поскольку тех, чьи судьбы были так прочно переплетены, как их с мамой, невозможно разлучить какой-то там смертью. Поэтому я говорю иногда, что это Их могила, и теперь я обращаюсь к Ним обоим. Какой пример Вы мне подали, говорю я Им, – несмотря на Вашу трусость, ненадежность, надменность, какую силу и практичность, какую волю к жизни Вы мне подарили! Теперь Вы под моей опекой, Вы стали моими послушными детьми, и воспоминания о Вас теперь повинуются моей воле – я могу стереть все темные места и сохранить в памяти только лучшее о Вас: Вашу щедрость, жажду счастья, Ваше эпическое гостеприимство. Спасибо Вам, любимые, говорю я Им, я никогда не устану благодарить Вас.
В декабре 2004-го мой лучший друг, мой дорогой товарищ, мой любимый муж, с кем мы прожили сорок семь лет, Клив Грей присоединился к моим родителям на коннектикутском кладбище – в месте, которое он выбрал для нас четверть века назад. Весной, когда земля очнется, у него тоже будут цвести рододендроны и мирт, его укроет надгробный камень и моя неусыпная забота. Навещая могилы близких, я постепенно поняла, что здоровая скорбь напоминает постепенное познание реальности; что как бы мы ни горевали, нам не следует желать возвращения близких – нам надо освободить в душе место, где мы будем любить их издалека. И главное, что я поняла – мы лишь частично можем осознать, что значили их жизни и что значили наши на их фоне. Но это осознание важнее всего остального: прежде, чем стать собой, нам, возможно, потребуется узнать их жизнь. Могила родного человека – это бесценно, особенно если в юности у вас их не было. Теперь мои Хранители покинули меня, и, подрезая рододендроны, я размышляю, что их нет, а я – единственная берегу их память. Груз воспоминаний и знаний лежит на моих плечах, и только мне решать, что с ними делать. Как это горько, как легко – наконец-то оказаться одной.
Благодарности
В первую очередь я хочу поблагодарить Энн Годофф, моего издателя и редактора, – ее энтузиазм вдохновлял и поддерживал меня, и она была моим наставником на протяжении всего пути. Так же я благодарна Лизе Дарнтон (издательство Penguin Press) – бесконечно терпеливому и увлеченному редактору.
Спасибо моему другу, Василию Рудычу, чьи безграничные познания в русской истории и культуре мне очень помогли, и моей дорогой подруге-полиглоту Наде Мичустиной, которая не раз приходила на помощь в трудную минуту. Столь же бесценной была помощь Джорджа Лечнера, историка культуры из Хартфордского университета, и моей соседки Лилиан Ловитт, которая превосходно умеет работать с фотографиями.
Я в неоплатном долгу у Доди Казанджян и Келвина Томкинса, авторов биографии моего отчима – их книга “Алекс” содержит множество рассказов и воспоминаний, из которых складывается наша (да и любая) семейная история. Во время работы над этим текстом я опиралась на их бережную хронику основных событий жизни Алекса. Кроме того, мне очень помогла его предыдущая биография работы Барбары Роуз – “Александр Либерман”.
Среди тех, кто поделился со мной своими воспоминаниями о родителях, мне хочется отдельно поблагодарить мою мачеху, Мелинду Либерман; Гитту Серени и Патрицию Грин, которые так поддерживали родителей в первые годы жизни в США; Сая Ньюхауса-младшего, центрального персонажа последних сорока лет жизни Алекса; Кросби Кафлина, друга и помощника в последние десять лет его жизни; и мою дорогую подругу Розамунд Бернье, которая знала моих родителей с 1944 года и много поведала об их мире. Я благодарю за рассказы о жизни и карьере моих родителей доктора Айседора Розенфельда, Ирвинга Пенна, Джеймса Трумана, Анну Винтур, Тину Браун, Чарльза Чёрчуорда, Даниэля Салема, Пьера Берже, Мари и Бернара д’Англжанов, Сьюзан Трейн, Клод Набокову, Эдмонда Шарль-Ру, Зозо де Равенель, лорда Сноудона, Люду Штерн, Уильяма Рейнора, Линду Прайс, Аню Каялофф, Мэри Джейн Пуль, Елизавету Свербееву, Сару Славин, Сьюзан Питерс, Грей Фой, Томаса Гинзбурга, Жан-Мишеля Монтиаса, Грейс Мирабеллу, Надин Бертин Стернс, Билла и Элен Лайман, Бетти и Франсуа Катру, Кэтлин Блюменфельд, Диану фон Фюрстенберг, Уэйна Лоусона, Оскара де ла Ренту, Алексиса Грегори, Андре Эммериха, покойную Деспину Мессинези, Жан-Пьера Фурно, ближайшего товарища Алекса по пансиону, и покойного Ричарда Аведона, моего дорогого друга. Наконец, я хочу поблагодарить моих редакторов из The New Yorker, которые опубликовали отрывки из этой книги, Тину Браун и Дэвида Ремника, за поддержку и участие.
Спасибо моей любимой подружке Габриэль ван Зуйлен за приют в Париже, за то, как она заботилась обо мне, пока я работала во Франции, и за бесконечный источник вдохновения.
Эта книга не была бы написана без поддержки музея Владимира Маяковского в Москве, директор которого, Светлана Стрижнёва, сообщила мне о существовании архива Татьяны Яковлевой. Сотрудники музея были бесконечно гостеприимны и внимательны, но особенно мне бы хотелось поблагодарить Наташу Андрееву и Адольфа Аксёнкина, которые оказали мне неоценимую поддержку в разборе и переводе архивных документов.
Наконец, я благодарю первых читателей этой книги, Джорджи и Анну Борхардт, которые поддерживают меня вот уже три десятилетия; мою дорогую Джоанну Роуз, с которой мы дружим полвека, моих остроглазых подруг: Маргерит Уитни, Карен Марту и Дженнифер Филлипс; и мою любимую троицу: Тадеуша Грея, Люка Грея и покойного Клива Грея – они помогли мне вырасти как писателю, а их любовь и мудрость защищают меня день ото дня.
Сергей Николаевич
Последний сейл: вместо послесловия
Апрель 1996 года, Нью-Йорк. Мне предстоит написать репортаж об историческом аукционе-распродаже имущества Жаклин Кеннеди Онассис. Я уже отстоял длинную очередь, чтобы купить увесистый каталог и поглядеть на мебель, драгоценности и картины бывшей первой леди. Размах аукционных торгов впечатляет и даже приводит в некоторую оторопь. Всё выставлено на продажу: от детских игрушек до памятных безделушек, от бесконечных стопок книг, перевязанных бечевками, до бижу, разложенных, как на восточном базаре. Кажется, ими можно торговать на вес. При этом никаких сантиментов. Типичный американский гаражный sale, с той лишь существенной разницей, что проводит его старейший аукционный дом Sotheby's. И цены потом взметнутся на миллионы долларов.
В Москве меня снабдили одним нью-йоркским номером, который я долго не решаюсь набрать. У меня есть правило: если не уверен, что тебе обрадуются, лучше не спешить. Но тут был особый случай, да и времени у меня оставалось в обрез. В общем, звоню. Трубку берет женщина. Грудной, низкий, медленный голос. Меццо с заметным южно-азиатским акцентом. Вопросы задает с пристрастием: кто, зачем, по какому вопросу? Властный голос хозяйки. Узнав, что я из Москвы, замирает глухо и даже как будто неприязненно. Можно легко представить, как она накрывает трубку ладонью и шепчет в сторону: “Russia, Russia… ”. Я даже слышу это “ша-ша”. Потом уже в трубку безразлично, как в магазине: “One moment”. И через несколько секунд каким-то дальним эхом возник старческий голос, говорящий по-русски:
– Александр Либерман слушает.
Это был он! Седой Лис, великий архитектор издательской империи Condé Nast, гений глянца и гламура, приятель всех великих, муж героини поздней лирики Маяковского, легендарной Татьяны Яковлевой. Я даже вздрогнул от неожиданности. Столько у меня было приготовлено вопросов к этому человеку! Так хотелось его расспросить и о знаменитых обложках для Vogue и Vanity Fair, и о его эпохальном сотрудничестве с лучшими художниками XX века. Узнать о собственных его дизайнерских и архитектурных проектах. Ну и, конечно, поговорить о Татьяне… Я много знал о ней от нашего общего приятеля, журналиста и балетомана Юры Тюрина, который был своим в их доме и даже собирался писать с ней мемуары. Но не успел. Татьяна умерла. Собственно, поводом для моего звонка и послужила публикация в журнале “Домовой”. Узнав, что я собираюсь в Нью-Йорк, Юра сам попросил меня передать номер с его статьей.
… В трубке журчит очень правильная русская речь. Каждое слово Алекс будто медленно прожевывает своими фарфоровыми вставными зубами.
– Вы надолго приехали в Нью-Йорк?
– На четыре дня.
– Что собираетесь делать?
– Я должен написать репортаж об аукционе вещей Жаклин Кеннеди в Sotheby's.
– А, Джеки… Мы бывали у нее дома на Пятой авеню. Она была очень милая. Но я что-то не припомню у нее дорогих вещей. Ни серьезных картин, ни антиквариата. Интересно, чем же “Сотбис” собирается торговать три дня?
– Наверное, историей.
– Да, вы правы. История – это товар, который всегда в цене. А что вы хотите от меня?
Я снова говорю про журнал, вспоминаю Юру, объясняю, какая это была бы для меня честь с ним познакомиться…
Повисает долгая пауза. В какой-то момент я даже засомневался. Может, он забыл повесить трубку? Впрочем, через какое-то время он возник снова, чтобы церемонно отчеканить:
– К сожалению, я не смогу вас принять. Я болен. Журнал вы можете оставить в офисе Condé Nast на Мэдисон-авеню, 350. Мне передадут.
Разговор окончен. В памяти остался старческий голос, чуть окрашенный чем-то похожим на любопытство: какие-то новые русские, какой-то неведомый глянцевый журнал, который зачем-то пишет о нем, о Татьяне, о Джеки. Зачем? Кому это может быть интересно? И еще страх. Страх, что кто-то может нарушить сонный коматозный покой, где уже безраздельно властвовала бывшая сиделка, а теперь законная жена Мелинда. Мы попрощались.
Никогда не думал, что мне придется вспоминать ту свою давнюю “невстречу” с Александром Либерманом, но вышли мемуары его падчерицы Франсин дю Плесси Грей “Они: воспоминания о родителях”, которые вы сейчас держите в руках. Лично у меня эта книга вызывает довольно сложные и противоречивые эмоции, в чем-то схожие с теми, которые я испытывал, разглядывая выставленные на продажу вещи Жаклин Кеннеди. С одной стороны, всё это уже давняя история, с другой – налицо шокирующая достоверность интимных деталей, свидетельств, подробностей. Такое случается, когда становишься невольным свидетелем и даже соучастником чьей-то жизни или чужой тайны, которая для тебя вовсе не была предназначена. Всё-таки мы не привыкли, чтобы на аукционах торговали семейными реликвиями и любовными письмами или чтобы о собственных родителях дети рассказывали с такой беспощадной откровенностью, как это сделала Франсин дю Плесси Грей.
По жанру ее книга – это эпическая семейная сага, охватывающая почти весь XX век. В центре ее оказались два самых близких автору человека – мать Татьяна Яковлева и отчим Александр Либерман. Сама Франсин – фигура довольно необычная в писательском мире Америки. Она неохотно дает интервью, хотя до недавнего времени регулярно печаталась в престижном журнале The New Yorker. Является автором солидных книг-биографий о маркизе де Саде и французской общественной деятельнице Симоне Вейль, а также сочинила фундаментальный труд под названием “Советские женщины”. Ее семейная жизнь сложилась вполне счастливо: замужем была один раз, зато удачно. Долгие годы Франсин жила в загородном поместье в Южном Коннектикуте с любимым мужем, художником Кливом Греем и двумя сыновьям, Тадеушем и Люком. Никогда не нуждалась, никогда не работала ради денег. С самого своего переезда в США в начале 1940-х она и ее семья принадлежали к истеблишменту, а точнее, к той интеллектуальной элите, которая определяла вкусы, моду и умонастроения самой просвещенной части американского общества. Можно только гадать, что заставило ее взяться за мемуары. Во всяком случае, точно не деньги. Тогда что?
Думаю, чувство справедливости, которое гораздо сильнее правил хорошего тона или даже страха быть заподозренной в желании прославиться за чужой счет. Похоже, Франсин решила сама поставить точку в истории, где нет правых и виноватых, победителей и побежденных. А есть жертвы Истории, заложники чужих амбиций и собственных предрассудков, немые свидетели событий, не всегда справедливо задвинутые в тень другими, более яркими и волевыми, персонажами.
Всю жизнь она была идеальной дочерью, тихой, воспитанной девочкой, но когда подошел ее черед, заговорила неожиданно громко, страстно и решительно. Ничего не забыла, всё припомнила, перебрала сохранившиеся письма, записки, метрики, старые паспорта, пожелтевшие фотографии. Попыталась честно разобраться в прошедшей жизни, отделив мифы от реальности, правду от вымысла, ни разу не сбилась на тон строгого судьи. Постаралась быть объективной, постаралась быть любящей. Впрочем, почему “постаралась”? Была, есть и будет всегда.
Конечно, проще всего представить ее воспоминания как своего рода книгу-реванш. В чем-то она перекликается со скандально известными мемуарами Марии Ривы “Моя мать Марлен Дитрих” – одна эпоха, один и тот же набор героев. По странному совпадению Марлен Дитрих и Татьяна Яковлева были ближайшими подругами и даже называли другу друга “сестрами”. Хотя на самом деле сестрами оказались их дочери. Не по крови, разумеется, но по судьбе прожить полжизни в тени. Молчать, терпеть, восхищаться, обожать, даже обожествлять своих знаменитых матерей, чтобы потом, много позднее, похоронив их, прокричать о своей любви-ненависти со страниц собственных книг воспоминаний. Мария Рива это сделала грубее, смелее и откровеннее. Франсин дю Плесси Грей – тоньше и литературнее. Ее книга – попытка самопознания, акт дочернего неповиновения, последняя черта, которая возможна только когда оказываешься один на один с собственной памятью и родными могилами.
Франсин пишет про родителей, но на самом деле – про себя, свое время, свое прошлое, которое не отпускает и продолжает терзать ее неразрешимыми вопросами и загадками. И, может быть, самые горькие страницы посвящены ее родному отцу, о котором российским читателям известно только по ревнивым остротам Владимира Маяковского, мол, какой-то там виконт увел любимую женщину. А между тем Бертран дю Плесси был не только обладателем знатного титула и красивой, эталонной кинематографической внешности. Дипломат, летчик, спортсмен, герой французского Сопротивления. Один из немногих, кто после оккупации Франции первым выступил на стороне де Голля в стремлении отстоять честь свой страны. Фактически он повторил геройскую судьбу Антуана де Сент-Экзюпери, чей самолет был сбит фашистами при неизвестных обстоятельствах. Впрочем, имя отца почти не присутствовало в жизни Франсин. Его не было ни в прошлом, ни в настоящем. Его место прочно и навсегда занял Алекс Либерман. И это Франсин не смогла простить ни ему, ни своей матери.
Говорят, что полюса притягивают друг друга, контрасты сходятся там, где меньше всего этого ждешь. Что-то подобное произошло с Татьяной и Алексом. Оба были из одной породы людей, которых по-английски называют survivors. По-русски и слова такого не подберешь. Но судя по воспоминаниям Франсин, эти двое умели выживать в любых обстоятельствах, при любых режимах и правлениях. Вот уж кто знал, как стать победителем или, по крайней мере, как им казаться. У них было достаточно шансов погибнуть, быть раздавленными войной, нищетой, чужбиной. Ничего не давалось им в руки само собой, просто так, без усилия и упорного труда. За всё приходилось бороться. За всё приходилось платить.
Но оба нашли себя в сфере моды и глянцевой индустрии послевоенной Америки. Татьяна стала известным дизайнером дамских шляп, а Либерман сделал феерическую карьеру в главной цитадели мирового гламура, издательском доме Condé Nast. Именно ему обязаны своим успехом американский Vogue, Vanity Fan; GQ и др. Более того, судя по воспоминаниям Франсин, всё гламурное сообщество тех лет говорило с сильным русским акцентом. С чем это связано? Полагаю, что именно выходцы из России сумели привнести в американскую жизнь ощущение класса, шика, какого-то невиданного размаха. Им всем от рождения было дано чувство роскоши, которого начисто были лишены прижимистые американцы. К тому же, как правило, русские сохраняли родственные связи с Европой, неизменно были в курсе всех новейших течений в литературе и искусстве, а также в совершенстве владели французским языком. Последнее обстоятельство делало их особенно конкурентоспособными в Новом Свете, где большая часть населения никаких языков, кроме английского, как правило, не знала и имела весьма поверхностные представления о моде и хороших манерах.
Немудрено, что Алекс и Татьяна довольно быстро стали самой влиятельной парой Нью-Йорка 1950-1970-х годов. Ими восхищались, их боялись, перед ними заискивали, их дружбы добивались. Секрет их многолетнего влияния на художественную, светскую и модную жизнь заключался в довольно экстравагантном сочетании несокрушимого американского прагматизма, утонченной европейской культуры, безусловной восприимчивости ко всему новому и какого-то нездешнего, неамериканского лоска. Этот ухоженный седовласый еврей с тихим вкрадчивым голосом и тоненькой ниточкой усов оставался для всех своих друзей, подчиненных и коллег воплощением подлинного, стопроцентного аристократизма. А его властная жена, с громовым голосом и выбеленным, как у циркового клоуна, лицом, смотрелась величественной королевой в изгнании.
Алекс и Татьяна не были богатыми людьми. Хотя всю жизнь старались держаться около больших денег и заводить дружбу исключительно с теми, кто занимал более высокую ступень в светской иерархии, чем они сами. Чтобы подняться выше среднеэмигрантского уровня, им надо было стать предприимчивыми, бессердечными и смелыми. Чтобы удержаться на достигнутой высоте, они должны были выглядеть на миллион долларов. Вот еще одно непереводимое английское слово приходит на ум – look! Лощеная глянцевая картинка, где всё выверено до миллиметра, где не бывает ни ссор, ни болезней, ни горя, ни страданий. Никогда и никакой физиологии. И даже секса. “Секс – это всегда опасно для прически”, – любила шутить Татьяна. Представляю, каким адом для них обоих обернулась старость. Ведь они так не хотели, чтобы их видели дряхлыми и жалкими. Так стыдились своей немощи и зависимости от лекарств, врачей и сиделок.
Еще при жизни они сумели сотворить из истории своей любви и брака прекрасную глянцевую легенду и больше всего опасались, что кто-то придет и разрушит результат их трудов, стараний и обманов. Могли ли они предположить, что этим человеком станет их любимая и единственная дочь Фросенька? А может быть, наоборот? Рассказывая об их слабостях, лицемерии и малодушии, об их страстном желании выглядеть и “держать спину”, она сделала их человечнее, понятнее и даже в чем-то трогательнее. И разве то, что мы сегодня про них вспоминаем, думаем и говорим, не продлевает их посмертную легенду, не продолжает их историю?
Вспоминаю, как Василий Васильевич Катанян, известный режиссер-кинодокументалист, пасынок Лили Брик, приехав из Нью-Йорка, не скрывал своего изумления от своей встречи с Татьяной. “Никогда не видел женщины, которая бы так была похожа на Лилю Юрьевну”, – восклицал он. “Но как это возможно?” – удивлялся я, более или менее представляя внешность обеих дам по многочисленным фотографиям. А вот так! Непостижимо, но обе музы Маяковского были неуловимо похожи. И этот всепроникающий взгляд в упор, глаза в глаза. И манера делать подарки сразу, без раздумий и колебаний. Просто снять с руки кольцо или браслет. Держите, пусть будет на память! И привычка повелевать, царить, знать, что такой, как она, больше нет, свято верить в эту свою неотразимость, даже уже когда никаких подтверждений не осталось. Один женский тип, одна королевская порода, воспетая и прославленная великим поэтом. Теперь к его стихам, посвященным Татьяне Яковлевой, последнему адресату его любовной лирики, добавилась еще и прекрасная проза ее дочери.
Иллюстрации
Алексей Евгеньевич и Любовь Николаевна Яковлевы.
Санкт-Петербург, 1904 г.
Сестры Лиля и Таня Яковлевы.
Пенза, 1910-е гг.
Николай Сергеевич Аистов.
Санкт-Петербург, 1890-е гг.
Александра Яковлева (Сандра). Париж, 1925 г.
Сандра в сценическом костюме. Париж, 1925 г.
Александр Яковлев (дядя Саша).
Капри, середина 1920-х гг.
Портрет Татьяны Яковлевой работы Александра Яковлева. 1929 г.
Татьяна. Париж, 1925–1926 гг.
Париж, 1929–1930 гг.
Владимир Маяковский. Москва, 1929 г.
Копия страниц записной книжки, подаренной Владимиром Маяковским Татьяне Яковлевой, с автографом стихотворения “Письмо Татьяне Яковлевой”.
Франция, 1920-е гг.
Париж, 1927 г.
Татьяна Яковлева. Варшава, 1930 г.
Бертран дю Плесси. 1920-е гг.
Бертран дю Плесси (на переднем плане). Варшава, 1930 г.
Молодожены дю Плесси. Варшава, 1931 г.
На картоне надпись: “Бедный Бертран на заднем плане и потому вышел таким маленьким. Очень были красивы мои собственные волосы, намазанные белой мастикой, присланной «Антуаном» из Парижа”.
Вверху: Татьяна, Бертран и Франсин. Середина 1930-х гг.
Внизу: Бертран с дочерью. Середина 1930-х гг.
На обороте надпись: “Тут видно, как они друг друга любят”.
Франсин дю Плесси. Франция, 1940 г.
На пути в Новый Свет. 1941 г.
Вверху: Татьяна, Александр Либерман и Франсин на теплоходе, плывущем в США. 1941 г.
Внизу: Через пару месяцев после прибытия в Америку. 1941 г.
Франсин и Татьяна. Лонг-Айленд, 1946 г.
Нью-Йорк, 1948 г.
Внизу: Татьяна и Алекс Либерманы на пароходе Queen Mary. 1956 г.
Вверху: Съемка для Vogue. 1948 г. Фотограф И. Пенн. (фотобанк “Восток-Медиа”)
Франсин дю Плесси Грей. 1963 г.
Алекс Либерман. 1963 г.
Татьяна в Швейцарии. 1960-е гг.
Первая обложка журнала Vogue, созданная Александром Либерманом для майского выпуска 1941 г. Фотограф модели Хорст П. Хорст.
Книга Александра Либермана о мастерских великих художников ХХ века.
Скульптура “Корабль” Александра Либермана. Флорида, 1980 г.
Алекс Либерман у себя в студии. 1985 г. Фото Л. Штерн.
Татьяна и Алекс. 40 лет вместе. Коннектикут, 1981 г. Фото В. Сычева.
Примечания
1
Здесь и далее в подобных случаях имеется в виду год написания книги – 2005. – Примеч. ред.
(обратно)2
Plessix Gray F. du. Growing up fashionable. The New Yorker, May 8, 1995.
(обратно)3
Сидони-Габриэль Колетт (1873–1954) – писательница, актриса, звезда Прекрасной эпохи, лауреат и член жюри Гонкуровской премии. Автор романов, в основу которых легли подробности ее биографии. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)4
Майя Анжелу (Маргерит Энн Джонсон, 1928–2014) – американская писательница и поэтесса, автор биографических романов.
(обратно)5
Гарольд Николсон (1886–1968) – английский дипломат, автор биографических романов о жизни Дж. Г. Байрона, П. Верлена, А. Теннисона и др.
(обратно)6
См. Plessix Gray F. du. At Home with the Marquis De Sade: A Life. N. Y: Simon and Shuster; 1998 и Simone Weil. N.Y.: Viking Press, 2001. Симона Вейль (1909–1943) – французский философ, в чьем творчестве причудливо сочетались идеи иудаизма, христианства и социализма: по ее мнению, “одухотворенный труд” – единственный путь человека к своим корням – природным и социальным.
(обратно)7
“Свободная Франция” (затем “Сражающаяся Франция”) – организация французского сопротивления под руководством Ш. де Голля в период с 1940 по 1943 г.
(обратно)8
Нагрудный доспех североамериканских индейцев, состоящий из двух-трех рядов костяных трубок, нанизанных на прочную нить.
(обратно)9
Сюда, быстро, это единственное подходящее место! (фр.)
(обратно)10
Умение жить (фр.).
(обратно)11
Жанна Пакен (1869–1936) – французская художница и кутюрье, прославившаяся вечерними платьями в стиле XVIII в. – из невесомых тканей пастельных оттенков и кружева. Сотрудничала с Л. Бакстом и Ж. Барбье в создании театральных костюмов.
(обратно)12
Жюли Рекамье (1777–1849) – основательница знаменитого литературного салона, завсегдатаями которого были сливки французского общества: Р. де Шатобриан, Ш. О. Сент-Бёв, Ж. де Сталь и др. На знаменитом портрете работы Ж.-Л. Давида она сидит на кушетке со спинкой S-образной формы – этот вид мебели впоследствии получил ее имя.
(обратно)13
Речь идет о балете “Эсмеральда” (по роману В. Гюго ‘‘Собор Парижской Богоматери” на музыку Ц. Пуни, в постановке М. Петипа), в котором Н. Аистов исполнял партию Клода Фролло.
(обратно)14
Для сравнения: младшая современница С. П. Кузьминой – знаменитая С. В. Ковалевская (1850–1891) в 1868-м еще не могла поступить в университет и отправилась обучаться за границу.
(обратно)15
Возможно, ошибка автора: дебют состоялся в 1915 году в опере “Аида”.
(обратно)16
Отец, батюшка (фр.).
(обратно)17
Белла Георгиевна Шеншева (1893–1929) – эстрадная певица и танцовщица, чья слава пришлась на 1910-е гг. Псевдоним Казароза (исп. – “розовый домик”) был придуман М. Кузминым, чей цикл “Детские песни” она исполняла.
(обратно)18
Жозефина Бейкер (1906–1975) – легендарная чернокожая танцовщица эпохи джаза, открывшая чарльстон для европейской публики, была также известна танцем в юбочке из бананов.
(обратно)19
Повесть Б. де Сен-Пьера (1787).
(обратно)20
Жак-Луи Давид (1748–1825) – французский живописец-неоклассицист, автор знаменитой картины “Смерть Марата”.
(обратно)21
Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) – французский живописец-академист, ученик Ж.-Л. Давида.
(обратно)22
Джон Сингер Сарджент (1856–1925) – художник-космополит Belle Epoque, мастер портрета.
(обратно)23
Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) – философ, теолог, палеонтолог. Осмысливал догматы церкви через теорию эволюции в попытке создать новую теологию.
(обратно)24
Aquavit (от лат. aqua vitae – “вода жизни”) – алкогольный напиток на травах и специях крепостью около сорока градусов, известен с XV в.
(обратно)25
Иегуди Менухин (1916–1999) – выдающийся американский скрипач, сын раввина из Гомеля. Многие концерты исполнял на знаменитых инструментах Гварнери. Выступал перед войсками союзников во Вторую мировую, а в 1947-м – в Германии, “чтобы реабилитировать немецкую музыку и дух”, приезжал в СССР, где исполнял И. С. Баха с Д. Ойстрахом.
(обратно)26
Бестактность (фр.).
(обратно)27
Главы о Маяковском даны в книге в авторской интерпретации событий и личностей. – Примеч. ред.
(обратно)28
Манифест был составлен В. Маяковским, Д. Бурлюком, А. Крученых и В. Хлебниковым.
(обратно)29
Партийный псевдоним (фр. букв, “военное имя”).
(обратно)30
Любовный треугольник (фр. букв, “семья на троих”).
(обратно)31
Об игре Маяковского в русскую рулетку и попытке самоубийства в 1916 г. известно со слов Л. Ю. Брик.
(обратно)32
Источники слухов, упомянутых автором, не установлены.
(обратно)33
Любовь с первого взгляда, дословно – удар молнии (фр.).
(обратно)34
“Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви”.
(обратно)35
Здесь и в последующих письмах В. Маяковского сохранены авторские орфография и пунктуация.
(обратно)36
М.М. Яншин стал супругом Н.Я. Полонской в 1924 г. в возрасте двадцати четырех лет, будучи старше нее всего на пару лет. На тот момент он еще не был столь знаменит, т. к. недавно вошел в труппу МХАТ.
(обратно)37
Весной 1929 г. Сталин избавился от последних соратников: Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и Μ. П. Томского – с этого момента наступила его личная диктатура.
(обратно)38
С начала 1930-х гг.
(обратно)39
Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг. М.: ACT: Corpus, 2016.
(обратно)40
Затем в книге В. В. Катаняна “Прикосновение к идолам” (М.: Захаров, 2004), по которой приводится диалог, Т. Яковлева говорит: “И я уже слышала про Полонскую. Через пятьдесят лет это трудно объяснить”.
(обратно)41
Далее Т. Яковлева поясняет: “Иначе бы сплетничали, что дю Плесси женился на мне, когда я была беременна от другого”.
(обратно)42
6 февраля на областной конференции МАПП Маяковский объявил о своем вступлении в РАПП. 8 февраля по итогам конференции появилась статья, в которой говорилось: “Вступление в РАПП на московской конференции Маяковского, Багрицкого… отнюдь не означает, что они стали пролетарскими писателями. Им еще предстоит сложная и трудная работа над собой… и напостовское большевистское ядро пролетарской литературы должно оказывать всяческую помощь им в этом отношении”. “В наступление по всему фронту” // На литературном посту, № 4. 1930.
(обратно)43
Пастернак Б. Люди и положения. М.: Эксмо, 2008.
(обратно)44
Там же.
(обратно)45
В оригинале: “Да и вообще мне казалось, что Лиля Юрьевна очень легко относилась к его [Маяковского] романам”. Цит. по Полонская В.
Воспоминания о В. Маяковском. М.: Известия, 1990.
(обратно)46
Советский военачальник В.М. Примаков (1897–1937).
(обратно)47
Цит. по: Шатерникова М. В пожелтевшей связке старых писем… Маяковский, Брик, Яковлева и др. Чайка, 13 (29). Нью-Йорк, 8 июля 2002 г.
(обратно)48
‘Media World Mourns a Legend”.
(обратно)49
Реформистский иудаизм – современный прогрессивный иудаизм, основанный на сохранении этических заповедей при отказе от ритуальных.
(обратно)50
Либерман С. Дела и люди (На советской стройке). Нью-Йорк, 1945 (Ориг. Building Lenin s Russia).
(обратно)51
Pascar Н. The Errant Heart. Washington DC: Island Press, 1950.
(обратно)52
Г. Паскар училась у В. Мейерхольда в 1911 г., когда жила в Петербурге.
(обратно)53
Принц Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932) – русский военачальник, сенатор, во время Первой мировой войны организовывал санитарное дело и эвакуацию в армии.
(обратно)54
Балашов Петр Николаевич (1871–1939) – член Государственной думы (III и IV).
(обратно)55
Предположительно В. И. Ленин страдал от обострения атеросклероза, приступы которого вызвали частичный паралич и расстройство речи.
(обратно)56
Вероятно, ошибка автора и имеется в виду школа-пансион Ecole des Roches (Эколь де Рош), основанная в 1899 году для детей из аристократических семей. Далее по тексту упоминается как школа Рош.
(обратно)57
Конфирмация у протестантов – это обряд, в котором человек (как правило, подросток) сознательно подтверждает исповедание своей веры.
(обратно)58
Вы всего лишь два жида (фр.).
(обратно)59
Наталья Сергеевна Гончарова (1881–1962) – правнучатая племянница Η. Н. Гончаровой, художница-авангардистка.
(обратно)60
Бронислава Фоминична Нижинская (1891–1972) – балерина, балетмейстер, сестра В. Нижинского.
(обратно)61
Дариус Мийо (1892–1974) – композитор, дирижер, участник “Шестерки”.
(обратно)62
Имеются в виду три самых престижных французских вуза: Ecole Normale Superieure, Ecole des Sciences Politiques и Hantes Etudes Commerciales.
(обратно)63
Межев – местность во французском регионе Альп.
(обратно)64
Андре Леон Блюм (1872–1950) – политик, первый социалист на посту премьер-министра Франции.
(обратно)65
Народный фронт – коалиция левых политических партий и движений, находившаяся у власти во Франции в 1936–1937 гг.
(обратно)66
“Концентрационные лагеря, исправительные дома и тюрьмы в Германии” (#·)·
(обратно)67
Кицбюэль (нем. Kitzbiihel) – старинный австрийский город и горно
лыжный курорт в Тироле.
(обратно)68
Эдуард Даладье (1884–1970) – премьер-министр Франции в 1933–1934,
1938–1940 годы.
(обратно)69
Невилл Чемберлен (1869–1940) – премьер-министр Великобритании
в 1938–1940 годы.
(обратно)70
“Он был строен, он был красив, / От него пахло горячим песком… ” (фр.).
(обратно)71
“Вы проходите мимо, / не сказав мне «привет»… ” – слова из одноименной песни Ж. Саблона.
(обратно)72
Робер Казадезюс (1899–1972) – знаменитый французский пианист.
(обратно)73
Лексикон – игра, придуманная в 1933 г. на основе обычных игральных карт, в которых масти и значения заменены буквами и очками, которые может заработать игрок, составляя из них слова.
(обратно)74
Имеется в виду романтическая история отречения принца Уэльского от британского престола, произошедшая в 1936 г. по причине того, что английское правительство не одобрило его невесту – разведенную американку Уоллис Симпсон, которую принц в итоге предпочел короне. По отречении Эдуард VIII получил титул герцога Виндзорского – так его и называет в дальнейшем в этой книге Ф. дю Плесси Грей.
(обратно)75
Дерьмо (фр.).
(обратно)76
Венсан д’Энди (1851–1931) – знаменитый французский композитор, органист, дирижер. Основатель Школы канторов в Париже.
(обратно)77
Морис Гюстав Гамелей (1872–1958) – генерал, руководивший французской армией в начале Второй мировой войны (1939–1940), в 1940-м был осужден как виновник поражения Франции.
(обратно)78
Авейронский дикарь – мальчик-подросток, которого нашли в 1800 г. в одном из лесов в южной Франции: предположительно, он вырос в обществе животных, адаптировать его к жизни в обществе получилось лишь отчасти.
(обратно)79
Национальный музей восточных искусств (Musee national des arts asiatique Guimet).
(обратно)80
Перевод И. Бродского.
(обратно)81
Вот дерьмо! (фр.)
(обратно)82
Ганс Кальтенборн (1878–1965) – американский радиокомментатор международных новостей.
(обратно)83
Мажоретки – девушки в военной форме и с барабанами, участвующие в парадах.
(обратно)84
Янки Дудл (англ. Yankee Doodle) – старинная национальная американская песня ироничного содержания (сейчас гимн штата Коннектикут).
(обратно)85
Малышка (фр.).
(обратно)86
Кутила, весельчак (фр.).
(обратно)87
Бездельник (фр.).
(обратно)88
Господи, как же она напомнила мне свою мать (фр.).
(обратно)89
Хорошие манеры (фр.).
(обратно)90
Монти Вулли (наст, имя Эдгар Монтильон, 1888–1963) – первоначально преподаватель английского и драмы в Йельском университете (среди его студентов был Т. Уайлдер). В возрасте 47 лет стал актером, получил признание публики, дважды был номинирован на “Оскар”.
(обратно)91
Коул Портер (1891–1964) – выдающийся американский композитор, автор музыки и текстов знаменитых песен (в т. ч. “Let's Do It, Let's Fall in-Love"), саундтреков к фильмам (например, к “Страху сцены” А. Хичкока (1950)).
(обратно)92
Люсия Мара де Вескови (1893–1971) – американский дизайнер галстуков, сделавшая их коллекционными и узнаваемыми. Ее творения могли напоминать “джунгли”, изображать зарисовки из жизни (игроков в теннис или поло), на них встречалось букально всё, вплоть до астрологических знаков.
(обратно)93
“Автомат” – сеть кафе быстрого питания, где еда продается из автоматов за монеты.
(обратно)94
Кобблер – десерт из фруктов или ягод, запеченных под крошкой из масла и муки.
(обратно)95
Кункен – мексиканская карточная игра.
(обратно)96
Ж. Саблон. “Я прощаюсь и ухожу” (фр. “Je tire ma Révérence”).
(обратно)97
Сэр Энтони Иден (1897–1977) – британский политик, впоследствии премьер-министр Великобритании.
(обратно)98
Lanin Е. Russian Characteristics. L.: Chapman and Hall, 1892. E. Ланин – псевдоним английского журналиста Эмиля Диллона, который публиковал свои очерки о русской жизни в журнале Fortnightly Review.
(обратно)99
Джулия Чайлд (1912–2004) – автор кулинарных книг французской кухни, с которой она знакомила домохозяек с телеэкрана. Во время Второй мировой войны была сотрудником ЦРУ – участвовала в изготовлении антиакульего репеллента для боеголовок, которыми обстреливали немецкие подлодки, чтобы акулы не проглатывали снаряды.
(обратно)100
Марсель Верте (1895–1961) – художник, иллюстратор, автор декораций и костюмов для балета и цирка, создатель обложек для Vogue и Harper's Bazaar. Работал в стиле книжной графики начала XX в.
(обратно)101
Рене Буше (1905–1963) – иллюстратор, работал в глянцевой журналистике и на отдельных модельеров (Е. Рубинштейн и др.).
(обратно)102
Отсылка к роману М. Пруста “В поисках утраченного времени”: печенья-мадленки для рассказчика – символ детства, их вкус воссоздает в его памяти прошлое.
(обратно)103
Ну как, всё в порядке? Это было не слишком ужасно? (фр.)
(обратно)104
Картезианский – декартовский (от лат. наименования Р. Декарта (Cartesius), в переносном смысле– отчетливый, рожденный здравым умом, непоколебимый.
(обратно)105
Балет, поставленный М. Фокиным на музыку Н. Римского-Корсакова в рамках “Русских сезонов” С. Дягилева.
(обратно)106
Аншлюс – присоединение Австрии к Германии 12–13 апреля 1938 г.
(обратно)107
Кловис I (Хлодвиг, 466–511) – первый король франков, объединивший их племена.
(обратно)108
Шарлемань (от фр. Charle Magne) – король франкской империи Карл Великий, основатель династии Каролингов.
(обратно)109
Генрих IV (Наваррский) – лидер гугенотов, положивший конец религиозным войнам, основатель французской династии Бурбонов.
(обратно)110
Мэйн Руссо Бокер (1890–1976) – американский кутюрье, основатель модного бренда эксклюзивной одежды «Манбоше», шивший наряды для высшего света Франции и Америки; в годы Второй мировой войны придумал дизайн формы для единственной женской дивизии морской пехоты.
(обратно)111
Хэтти Карнеги (наст, имя Генриетта Каненгейзер, 1880–1956) – американский дизайнер одежды и украшений, имевших большую популярность в 1920-1950-е годы.
(обратно)112
Лили Даше (1898–1989) – американский дизайнер французского происхождения, прославившаяся своими шляпками, а впоследствии и парфюмом и аксессуарами; ее клиентками были Марлен Дитрих, Одри Хепбёрн и др.
(обратно)113
Клодетт Кольбер (1903–1996), Мадлен Кэрролл (1906–1987), Айрин Данн (1898–1990) – звезды Голливуда 1930-1940-х гг.
(обратно)114
Прекрасно! Божественно! (фр.)
(обратно)115
Люминография – это фотосъемка светящихся и движущихся объектов, производимая на максимальной выдержке так, чтобы добиться эффекта рисунка светом.
(обратно)116
Соляризация – это эффект присутствия на фотоснимке одновременно позитивного и негативного изображения, создающий ощущение серебристого мерцания.
(обратно)117
Ричард (Дик) Аведон (1923–2004) – знаменитый американский фотограф, сотрудничал с журналом Vogue, Harper's Bazaar, The New Yorker, а также много снимал участников антивоенного движения.
(обратно)118
Энтони Армстронг-Джонс, первый лорд Сноудон (р. 1930) – муж младшей сестры Елизаветы II, английский театральный и модный фотограф, мастер портрета; среди его моделей были Л. Оливье, Д. Р. Р. Толкиен и Елизавета II.
(обратно)119
Ларри Флинт (р. 1942) – основатель и владелец порнографической империи, включающей мужской журнал Hustler.
(обратно)120
Баранья нога с фасолью флажоле – особенно нежным и мягким видом мелкой фасоли (фр.).
(обратно)121
Канаста – карточная игра.
(обратно)122
Зизи Жанмер (наст, имя Рене Марсель, род. 1924) – французская балерина, выступала также как драматическая актриса и певица (в т. ч. на Бродвее).
(обратно)123
Ролан Пети (1924–2011) – знаменитый французский хореограф и танцор, супруг 3. Жанмер.
(обратно)124
Неточность мемуариста – “Волчица” Джексона Поллока написана маслом и гуашью.
(обратно)125
Жорж Брак (1882–1963) – художник, сценограф, работал совместно с П. Пикассо.
(обратно)126
Альберто Джакометти (1901–1966) – художник-экзистенциалист, скульптор, автор знаменитых работ “Паук”, “Шагающий человек”, “Указующий человек”.
(обратно)127
Раймон Дюшам-Вийон (1876–1918) – французский художник и скульптор-модернист.
(обратно)128
Жозеф Фернан Анри Леже (1881–1955) – французский художник-кубист, декоратор (роспись стен, витражи, декорации к балету и ми. др.), иллюстратор. По эскизам Ф. Леже выполнены витражи в Доме кино в Москве (1968).
(обратно)129
Получать подарки (фр.).
(обратно)130
Юл Бринер (1920–1985) – американский актер театра и кино русского происхождения, обладатель премий “Оскар” и “Тони”.
(обратно)131
Чарльз Сэмьюэл Аддамс (1912–1988) – американский художник-карикатурист, создатель персонажей “Семейки Аддамс”.
(обратно)132
Жак Фат (1912–1954) – выдающийся французский модельер, автор образа “шикарная молодая парижанка”. В доме моды Ж. Фата начинал свою карьеру Ю. де Живанши.
(обратно)133
Пьер Бальмен (1914–1982) – французский кутюрье, известный своими платьями в стиле new look, создавал сценические костюмы для Марлен Дитрих и Кэтрин Хэпберн.
(обратно)134
Жан Дессе (1904–1970) – модельер, создатель знаменитых вечерних платьев. Среди его клиентов была Грейс Келли, королевы Греции и Испании.
(обратно)135
Кристобаль Баленсиага (1895–1972) – именитый испанский кутюрье.
Среди его нововведений: квадратные плечи в женской модной одежде, платье-мешок и модели с открытой шеей и плечами.
(обратно)136
Давид Чавчавадзе (1924–2014) – публицист, агент ЦРУ (отдел СССР). Сын князя Павла Чавчавадзе и Нины Георгиевны Романовой, княжны императорской крови.
(обратно)137
Оскар де ла Рента (1932–2014) – американский модельер, одевавший всех первых леди США, начиная с Ж. Кеннеди; считается, что он ввел в обиход понятие “жертва моды”.
(обратно)138
Васильчикова Татьяна Илларионовна (в замуж. Меттерних-Виннебург, 1915–2006) – дочь члена IV Государственной думы князя И. С. Васильчикова и княжны Л. Л. Вяземской, жена П. Меттерниха, мемуарист, автор книги воспоминаний “Женщина с пятью паспортами”.
(обратно)139
Джозеф Рэймонд Маккарти (1908–1957) – сенатор-республиканец крайне правых взглядов, возглавлявший антикоммунистическое движение, в ходе которого проводились гонения на сторонников коммунизма – увольнения, обвинения в государственной измене, запрет на получение загранпаспорта и т. д.
(обратно)140
От Lothario (англ.) – донжуан, волокита.
(обратно)141
Цит. по: Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.Х. Вилюкаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моек. Ун-та, 1984.
(обратно)142
Зд. небрежность, непринужденность (итал.).
(обратно)143
Примерно соответствует российскому 50-му.
(обратно)144
Примерно соответствует российскому 44-му.
(обратно)145
В английском городе Эксетер с 1922 г. находится известный университет,
который сейчас входит в группу лучших университетов Великобритании.
(обратно)146
Джебран Халиль Джебран (1883–1931) – выдающийся арабский писатель, художник и философ. Эмигрировал в США из Ливана, обучался в Европе. Девочки могли читать трагическую повесть о любви “Сломанные крылья” или самое известное произведение Д.Х. Джебрана “Пророк” – книгу поэтических эссе, написанных от лица главного героя, проведшего всю жизнь в изгнании и возвращающегося домой.
(обратно)147
Хунвейбины – в 1966–1967 гг. члены отрядов революционной молодежи Китая (школьников и студентов), защищавшие режим Мао и способствовавшие “культурной революции”, отличались пренебрежением к традиционной китайской культуре, жестокостью к людям, произволом и безнаказанностью.
(обратно)148
Глория Гиннесс (1912–1980) – американская светская львица, прославившаяся своим стилем в одежде. С 1963 по 1971 г. пишущий редактор в журнале Harper's Bazaar, а также модель, снимавшаяся для Vogue, Harper's Bazaar и Woman's Wear Daily. Ходили слухи об ее участии в шпионаже в пользу Германии, поскольку Г. Гиннесс была знакома и общалась с Герингом и Гитлером.
(обратно)149
Алексис Розенберг (1922–2004) – третий барон де Реде, коллекционер французской мебели XVIII в. и произведений искусства.
(обратно)150
В 1950-1960-е гг. идеальными параметрами женской фигуры считались не привычные 90 × 60 × 90, а 81 × 63,5 × 86.
(обратно)151
Эльза Максвелл (1883–1963) – американская колумнистка, светская львица, известная своими вечеринками для сливок американского общества.
(обратно)152
Джон Кейдж (1886–1964) – выдающийся американский композитор и философ, пионер электронной музыки, автор знаменитой композиции “4'33"”, во время исполнения которой все инструменты молчат.
(обратно)153
Роберт Раушенберг (1925–2008) – художник, работавший в жанре экспрессионизма и концептуального искусства.
(обратно)154
Фьючерс – это контракт, по которому одна из сторон обязуется совершить покупку, а другая сторона – продать товар по указанной цене в течение фиксированного срока в будущем.
(обратно)155
“fucking goons for тот ” (англ.).
(обратно)156
Операция “Нептун” – высадка войск США, Великобритании, Канады и их союзников на нормандское побережье 6 июня 1944 года, ставшая переломным моментом Второй мировой войны.
(обратно)157
Шапки из шкуры енота носили коренные народы Америки, а также солдаты, служившие в XVIII–XIX вв., во время военных стычек на Диком Западе.
(обратно)158
Джон Фостер Даллес (1888–1959) – политик-республиканец, в описываемый период был государственным секретарем США при президенте Д. Эйзенхауэре.
(обратно)159
Юджин Маккарти (1916–2005) в описанный период был сенатором США и активно критиковал войну во Вьетнаме.
(обратно)160
Ханна Арендт (1906–1975) – американский философ немецкого происхождения, основоположница теории тоталитаризма.
(обратно)161
Владимир Самойлович Горовиц (1903–1989) – русско-американский пианист-виртуоз, один из величайших музыкантов мира наряду с Ф. Листом и С. Рахманиновым.
(обратно)162
Хаим Соломонович Сутин (1893–1943) – выдающийся французский художник парижской школы родом из Белоруссии.
(обратно)163
Барнетт Ньюман (1905–1970) – абстрактный экспрессионист. Вместе с Робертом Мазервеллом (1915–1991), Уильямом де Кунингом (1904–1997), Джексоном Поллоком, Марком Ротко и несколькими другими художники основали так называемую нью-йоркскую школу (термин введен Р. Мазервеллом), исповедавшую живопись действия и принцип автоматизма: нанося краску на холст машинально, художник высвобождал идеи, хранящиеся глубоко в его подсознании.
(обратно)164
Ад Рейнхардт (1913–1967) – выдающийся американский художник-авангардист, полностью исключал рисунок и всё субъективное, чтобы зритель воспринимал только цвет как таковой.
(обратно)165
Мерс Каннингем (1919–2009) – американский хореограф, работавший в жанре современного танца.
(обратно)166
Тондо – картина круглой формы
(обратно)167
Анна Мэри Мозес по прозвищу Бабушка Мозес (1860–1961) – одна из основных представительниц американского примитивизма.
(обратно)168
Рой В. Говард (1883–1964) – американский газетный магнат, возглавлял компанию Scripps, с 1921 г. переименованную в Scripps Howard.
(обратно)169
Джордж Браммел (“Бо” от фр. – Красавчик) – английский денди, законодатель мод конца XVIII – нач. XIX в.
(обратно)170
Хелен Франкенталер (1928–2011) – художник-абстракционист, супруга Р. Мазервелла.
(обратно)171
Фрэнк Стелла (род. 1936) – художник и скульптор, постабстракционист. Известен своими концентрическими квадратами и рельефными работами, в которых комбинировал написанное на холсте с предметами различной текстуры.
(обратно)172
Элсуорт Келли (род. 1923) – художник и скульптор, представитель живописи минимализма и цветового поля. Его стиль отличается тонкой и точной геометрической прорисовкой деталей.
(обратно)173
Пенелопа Три (род. 1949) – легендарная фотомодель 1960-х гг.
(обратно)174
Возможно, речь идет о знаменитой киноактрисе Аве Гарднер.
(обратно)175
Чарльз Ревсон (1906–1975) – предприниматель, создатель косметической империи Revlon.
(обратно)176
Евгения Шеппард (1900–1984) – американский критик моды и колумнист, сотрудничала с New York Post, New York Herald Tribune.
(обратно)177
Фред Астер (наст, имя Фредерик Аустерлиц, 1899–1987) – легендарный американский актер, танцор, хореограф и певец, звезда Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино. За свою почти восьмидесятилетнюю карьеру он был удостоен премии “Оскар”, трех “Золотых глобусов” и “Эмми”.
(обратно)178
Кэри Грант (наст, имя Арчибальд Александр Лич, 1904–1986) – англо-американский актер, обладатель почетного “Оскара”; свои самые известные роли сыграл в бурлескных комедиях, а также в фильмах А. Хичкока.
(обратно)179
Олег Кассини (наст, имя Олег Александрович Лоевский, 1913–2006) – ведущий дизайнер киностудий Paramount и loth Century Fox.
(обратно)180
Речь идет о герое популярных в начале XX в. приключенческих романов баронессы Эммы Орци – сэре Перси Блэйкни, который под псевдонимом Алый Первоцвет ведет подпольную борьбу с Французской революцией (стих, в пер. А. Кругова).
(обратно)181
Дюбонне – аперитив на основе вина.
(обратно)182
Клафути – французский десерт, фрукты, залитые сладким и жидким яичным тестом.
(обратно)183
Диана фон Фюрстенберг (род. 1946) – французско-американский модельер, изобрела платье с запахом.
(обратно)184
В знаменитой песне военных лет “See what the hoys in the hack room will have” (сл. Ф. Лессера, муз. Ф. Холландра, 1939 г.) говорится об ученых и сотрудниках секретных лабораторий, работавших для обороны.
(обратно)185
Уильям Ральф “Билл” Бласс (1922–2002) – титулованный американский модельер по прозвищу “кутюрье-бабочка”, революционер в области спортивной одежды.
(обратно)186
Рой Халстон Фроуик (1932–1990) – американский дизайнер, чьи минималистские модели из кашемира были популярны в 1970-е гг. Создатель шляпки для Жаклин Кеннеди, в которой та присутствовала на инаугурации своего мужа.
(обратно)187
Plessix Gray F. du. Lovers and Tyrants. N. Y.: Simon and Shuster, 1976.
(обратно)188
Овалтин – безалкогольный коктейль, по вкусу напоминающий какао. Продавался в виде порошка, который надо было разводить молоком.
(обратно)189
Не желаю более служить (итал.).
(обратно)190
Игра слов – в оригинале эта фраза выглядит так: “Pve heard of the White Russians, Red Russians, hut never a Yellow Russian”. Слово “yellow”, помимо первого значения – “желтый”, может также быть переведено как “трусливый” и “бульварный” (по отношению к прессе).
(обратно)191
Клемент Гринберг (1909–1994) – американский художественный критик, автор идеи “плоскостности картины”.
(обратно)192
Игра слов, основанная на сходстве фамилии Wintour со словом winter.
(обратно)193
Марк ди Суверо (род. 1933) – известный американский скульптор-монументалист, работающий с промышленными материалами, автор крупных композиций, в которых стальные балки уравновешены различными пиломатериалами, кабелями, шинами и пр. Работы скульптора представлены в музеях Нью-Йорка (МоМА), Лондона (Институт Искусства Куртолд), Берлина (Коллекция Дэмлера Крайслера), в Национальной галерее Австралии и др.
(обратно)194
Хилтон Крамер (1928–2012) – художественный критик и эссеист, сотрудник The New York Times (1965–1982) и др. известных периодических журналов, в т. ч. по искусству (Art and Antiques Magazine).
(обратно)195
Джон Расселл (1919–2008) – английский и американский художественный критик, писал для Sunday Times (1950), был принят X. Крамером в 1974 г. в штат The New York Times, в 1982–1990 гг. ведущий художественный критик журнала.
(обратно)196
Принцессы (итал.).
(обратно)197
Английский язык ее очень утомляет (фр.).
(обратно)198
Кнели – шарики из мелко порубленной рыбы или мяса, взбитых со сливками или яйцом.
(обратно)199
Калиссоны – провансальские сладости, напоминающие марципан, из миндаля и засахаренных фруктов.
(обратно)200
Ты себя на посмешище выставишь! (фр.)
(обратно)201
Вероятно, имеется в виду Генри Киссинджер с супругой.
(обратно)202
Вероятно, речь идет об Ахмете Эртегане (Эртегюне) с супругой. А. Эртеган (1923–2006) – основатель компании Atlantic Records (1947), известной записями ультрамодного джаза, соула, ритм-энд-блюза в исполнении открытых компанией и впоследствии прославившихся музыкантов: Рэя Чарльза, Джона Колтрейна, Ареты Франклин, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Эрика Клэптона и др.
(обратно)203
Кеннет Джей Лейн (род. 1930) – выдающийся дизайнер “костюмной” бижутерии, среди его клиенток в разные времена были: Жаклин Кеннеди, Одри Хепбёрн, принцесса Диана, Мадонна, Николь Кидман и др.
(обратно)204
“Майншафт” – БДСМ-клуб для гомосексуалистов в Нью-Йорке, работал в 1970-1980-х годах.
(обратно)205
“Милдред Пирс” – фильм-нуар (реж. Майкл Кертис, 1945 г.), за исполнение главной роли в котором Джоан Кроуфорд (1904–1977) удостоилась “Оскара”.
(обратно)206
Диатриба – речь, содержащая жестокую и резкую критику (греч.).
(обратно)207
Не глупи, старик, я знал любовь всей твоей жизни (фр.).
(обратно)



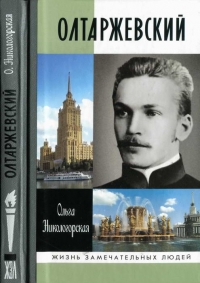
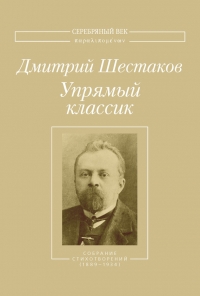
Комментарии к книге «Они. Воспоминания о родителях», Франсин дю Плесси Грей
Всего 0 комментариев