Ален Вирконделе Легендарная любовь. 10 самых эпатажных пар XX века. Хроника роковой страсти
© Plon, 2013
© Перевод и издание на русском языке, «Центрполиграф», 2017
Предисловие
У Альбера Камю, в сборнике «Изгнание и царство», есть новелла «Иона, или Художник за работой» – история художника, который считает, что жена и дети доводят его до духовной нищеты и бесплодия. Стараясь убежать от них и получить возможность работать, он уединяется на чердаке. Но однажды утром в это убежище врывается с антресолей поток яркого света. Залитый этим светом, он слышит долетающие снизу звуки домашней жизни и шаги своей жены. Сегодня эти звуки громче, чем обычно, и поднимаются к нему наверх, как песнопение или священный дар. «Иона, – пишет Камю, – слушал прекрасный шум, который создают люди». Обессилев от усталости и волнения, он падает. Пока художника лечат, его друг находит его последнюю по времени картину. В результате попытки уединиться Иона написал на чистом холсте всего одно слово, и нельзя было понять, то ли это «solitaire» – одинокий, то ли «solidaire» – солидарный. Так новелла становится чем-то вроде притчи на тему о том, можно ли творить, отгородившись от других людей. Действительно ли одиночество необходимо для плодотворного творчества, как уверял Рембо? А может быть, желание быть не таким, как другие, – приманка, которая заводит в пустыню?
Но тогда что можно сказать о творчестве Дали без Галы? О Ренуаре без Алины Шариго? О Рубенсе без Елены Фурман? О Мане без Викторины Мёран? О Бальзаке без госпожи Ганской? О Рафаэле без Форнарины? О Мюссе без Жорж Санд? О Фриде Кало без Диего Риверы? О Шатобриане без мадам де Сталь? И о множестве других великих людей?
Вся история искусства и литературы учит нас тому, как много может заключать в себе Другой. Кем бы ни был Другой Человек – музой, советчицей, вдохновительницей, ангелом-хранителем, двойником, сестрой, супругой, матерью, зеркалом, мадонной-заступницей, хозяином жизни или эффективным управляющим созданными произведениями, – Другая или Другой всегда присутствует во внутренней жизни творца. Веками пара рассказывала историю создания шедевров, повествуя о страхе, которым сопровождается их зачатие, и об их счастье и славе, без которых они бы не существовали.
Что бы ни говорил художник-романтик, который любит свое гордое одиночество, Другой питает и оплодотворяет творца. Другой Человек – источник и свет, но может быть и темной ночью, из которой тем не менее рождается произведение искусства. Кем бы ни был Другой или Другая – «радостной силой», о которой говорил Камю (тут можно вспомнить Дину Верни, воплощение свежести, осветившую собой творчество Майоля, или Кики Монпарнасскую с ее дерзкими пышными формами, которая стала светом для творчества Мана Рэя), или нервалевским «черным солнцем», набрасывающим на холст или страницу свой просторный черный плащ, Другой или Другая помогает произведению произойти. Искусство – это появление творений. Для того чтобы иметь доступ к этому процессу, Другой может стать медиумом и помогать видениям выйти из зеркала. Такая пара – порог или трамплин, который ведет к самому главному и позволяет вернуть плоть идеалам.
Огюст Роден (1840–1917) и Камилла Клодель (1864–1943) Великан и его жертва
В центре одной из самых знаменитых работ Камиллы – скульптуры «Эпоха зрелости» (другое название «Зрелый возраст»), которую она создала примерно в 1902 году, стоит умоляющая женщина. Никто не сомневается, что в образе этой побежденной женщины, высокой и худой, которая требует, кричит и зовет на помощь, Камилла воссоздала себя. Поль Клодель тут не ошибся. «Обнаженная девушка – это моя сестра! – написал он. – Умоляющая, униженная, на коленях и голая! Все кончено! Вот что она нам оставила навсегда, чтобы мы смотрели на это…»[1] Вероятно, она же стоит на коленях лицом к камину в скульптуре «Уют», другое название которой – «Глубокие размышления», она же изящная сирена, играющая на флейте. Но все ее скульптуры как будто колеблются вокруг своей оси или качаются из стороны в сторону. Они словно напоминают, что судьба их создательницы была несчастной, а ее положение в обществе – недозволенным. Не оказалась ли странным пророчеством готовая поглотить ее огромная волна, которую она так отважно изваяла из оникса?[2] Не была ли Камилла уже тогда, в 1903 году, одной из своих трех купальщиц, поджидающих волну, которая вот-вот обрушится на них? Не означал ли морской вал волну безумия, которая унесла Камиллу через десять лет после создания этой скульптуры? Заметил ли сразу Огюст Роден, когда в 1882 году давал юной Камилле Клодель и ее подругам уроки ваяния, что она обладает большим и самобытным талантом? К этому времени она уже год обучалась в академии Коларосси на улице Гранд-Шомьер, совсем рядом со своим домом на улице Нотр-Дам-де-Шан. В двенадцать лет Камилла уже поставила подпись на своих первых скульптурах – бюстах Наполеона и Бисмарка. Она очень рано обратила на себя внимание преподавателей ловкостью и быстротой рук и верностью глаза. В 1882 году ей было восемнадцать лет и она обладала странной красотой – была похожа на фарфоровую куклу: черты лица как у хорошенького, но обиженного на кого-то ребенка. На фотопортрете, который сделал некий Сезар, Камилла выглядит печальной и загадочной, взгляд немного отрешенный. Она навсегда сохранит эту грусть на лице и этот отрешенный вид человека, чувствующего зов тайн своей души – тайн, которые нельзя ни описать словами, ни разгадать. Встреча с Роденом, который был старше ее на двадцать четыре года и уже широко известен, вызвала у Камиллы необычное чувство: гордость оттого, что ее наставляет великий скульптор, смешалась со страхом и восхищением. Учитель видом и осанкой похож на сказочного великана, и это делает его авторитет непререкаемым. Он полон природной силы и передает эту силу мрамору, глине, бронзе. Через два года, в 1884 году, Камилла становится его моделью и практиканткой в его мастерской. Роден, создававший в это время «Вечную весну», наделил чертами Камиллы «Ту, которая была прекрасной Ольмьер». В это время талант Камиллы проявляется и в живописи: проводя каникулы в Вогезах, она сделала там несколько очень сильных рисунков углем. При этом Камилла не забывала работать и как ваятель. Созданные в это время скульптуры «Гиганты» и «Старая Елена» она представила в 1885 году на выставке Общества французских художников. Тогда же она позировала своему учителю для «Авроры». Эта едва расцветшая девушка со странной хрупкой грацией всегда гордо замкнута в добровольном молчании и словно изнемогает под тяжестью какого-то груза. Камилла знает, как она выглядит: в письме к «месье Родену» она пишет: «Вы правы, когда думаете, что мне здесь не очень весело. Мне кажется, что я очень далеко от вас и что я для вас совершенно чужая»[3]. Однако Роден не сопротивляется чарам своего «подмастерья». В 1886 году он пишет Камилле любовные письма, и его слова не оставляют сомнений в силе этих чар. Он называет ее «моя свирепая подруга», а дальше уточняет: «За одно мгновение я почувствовал твою грозную власть. […] вся моя душа принадлежит тебе. […] Я больше не могу. Я не в состоянии прожить день, не видя тебя, иначе наступает мучительное безумие. Это конец, я больше не работаю, злое божество, и все же я тебя яростно люблю»[4]. Роден страстно влюблен, он в плену у Камиллы. Не захочет ли он однажды поменяться с ней ролями – вернуть себе душевную свободу и снова обрести способность ваять, ничем не сдерживаясь? Камилла его околдовывает: так он называет их зарождающиеся отношения. Родену сорок шесть лет. Уже давно он не чувствовал волшебства новой любви: не один десяток лет он вязнет в домашней любви с Розой Бёре, которую не может покинуть – несомненно, потому, что их связь удобна и лишена соперничества. Это буржуазная, даже мелкобуржуазная любовь. И внезапно Камилла уносит его в другой мир – в свою юность, в свою врожденную необузданность. В Камилле он видит равную себе. Его сжигает страсть, но на дне души все время таится подозрение: а вдруг Камилла станет ему соперницей? Ведь уже по ее первым работам можно предвидеть, что она создаст великие произведения. Например, мощь, которую излучают «Гиганты» – эти воплощения силы и детской грации Поля Клоделя, изображенного в виде древнеримского юноши, уже предсказывают ей судьбу гения. Или, может быть, Родена сдерживает страх перед тем, что он предчувствует в глубине души, – перед неизбежным безумием Камиллы, перед заметной с первого взгляда хрупкостью ее психики? Он догадывается, что она уже безумна, но пока это творческое безумие, посылаемое людям богами. Она похожа на чародейку, которая сама не знает, на что способна. Она может и его свести с ума. Роден чувствует, как это безумие охватывает его. Он страдает от мучительных головных болей. Камилла остается его «любимой», «несмотря ни на что, несмотря на безумие, приход которого я чувствую и которое станет делом ваших рук, если это продолжится»[5], – пишет он. Поэтому их отношения очень быстро перерастают в безумную любовь, слабую тень настоящего безумия, которое уведет Камиллу в длинные коридоры психиатрических больниц, в забвение себя самой. Уведет в смерть и в общую могилу, где ее похоронят, потому что родные не пожелают забрать тело. В этот год Роден измерил и осознал силу связавшей их страсти. Его это чувство разрушает и, может быть, делает бесплодным, но у Камиллы становится в высшей мере степени созидательным и побуждает к творчеству. Роден знает, чем рискует. «Не вовлекай в отвратительную медленную болезнь мой ум, мою горячую и такую чистую любовь к тебе; пожалей меня наконец, моя дорогая, и ты сама получишь за это награду».
В их любви будет что-то болезненное. Роден боится утратить душевное равновесие и способность творить, а душа Камиллы словно наполняется светом от такого неожиданного признания ее самой и ее работ. Она с яростным упорством работает над своими скульптурами, полирует работы учителя, дает ему советы и вдохновляет его. Она натурщица, но также вдохновительница, подающая идеи, – в каком-то смысле фея. А великан, как видно на некоторых фотографиях, носит густую пушистую бороду, которая доходит ему до середины груди. Эта борода, за которой не разглядеть лица, не позволяет определить, сколько ему лет, однако во взгляде видна глубокая мысль. Этот взгляд что-то внимательно изучает и полон тревоги. Камилла беспокоит и ставит в тупик Родена. Она ему нужна, она его вдохновляет, оживляет его талант и ум, вливает в него энергию, которая помогает ему подняться. Он переписывается с Камиллой, не принимая никаких мер предосторожности, и посылает ей письма, в которых явно чувствуется эротика, помня при этом, что Камилла очень одухотворенная женщина. «Это тебе я обязан всем небесным, что было у меня в жизни», – признается он Камилле. Она – его «божественная любовь», его «неистовая страсть», она дарит ему восторг и «опьяняет» его, она – огонь, ожививший его «тусклое существование», она – «говорящий цветок». Он наслаждается в ее объятиях так, что Камилла не гордится этим и не приобретает власти над ним. Ей кажется почти естественным, что двое, которых объединяет общее искусство и одинаковый дар, полюбили друг друга. Над ней уже веет дух «Атласного башмачка» («Атласный башмачок» – драма Поля Клоделя, в которой герой и героиня преобразуют свою взаимную любовь в духовную близость. – Пер.). Она принимает от него почести и клятвы верности. «Моя самая хорошая, – пишет он ей, – я преклоняю оба колена перед твоим прекрасным телом и обнимаю его»[6]. В это время, в 1886 году, она позировала фотографу Этьену Каржа в красивом полосатом платье и в изящной шляпке-«амазонке» с большим пером. Камилла изображена вполоборота, с чинно сложенными перед собой руками в перчатках. Она смотрит точно в объектив. В ее позе есть легкий оттенок протеста, но при этом так много сдержанности, почти желания быть незаметной, что взгляд зрителя не задерживается на ее фигуре. Камилла Клодель кажется такой далекой, что похожа на бесплотный призрак. Роден, который очень рано заметил ее и взял в свою мастерскую как практикантку в числе нескольких молодых художников, решил оставить у себя только ее. Более того, в своем письме от 12 октября 1886 года он пишет странные слова, которые звучат как обещание жениться на Камилле: «Ее одну я стану защищать всеми средствами, которые будут в моем распоряжении».
Он отказывает другим ученикам, объявляет, что введет ее в мир искусства, планирует долгую, на шесть месяцев, поездку по Италии и говорит о «начале неразрывной связи, после которой мадемуазель Клодель станет [его] женой», то есть открыто объявляет о своей любви. С этого времени Камилла считает себя невестой Родена. Все почести и обещания она принимает от него если не равнодушно, то, во всяком случае, как нечто само собой разумеющееся и не отказывается из-за них от собственной карьеры. Из писем Камиллы видно, что она очень озабочена этой карьерой: она управляет заказами, упорно требует денег от своих должников, обращается с просьбой к министру просвещения, чтобы получить мрамор для скульптурной группы, которую уже выполнила в гипсе и выставила в Салоне. Ее фотографии, сделанные с 1886 по 1889 год, – очень интересные портреты. На одном из них она изображена рядом со своей подругой – англичанкой Флоренс Джинс, с которой переписывалась. Здесь Камилла тоже держится так скромно, что ее не замечаешь. Ее руки почти неловко сложены на животе, лицо выражает огромную тоску. Затем – пробел. Следующий снимок сделан Сезаром в 1889 году. Здесь она одета во все черное, как молодая вдова. Черты лица отяжелели и смяты усталостью, взгляд не выдает чувств, губы плотно сжаты. Свежесть, которая была на первых портретах, исчезла. Уже исчезла и красота. Камилла знает о связи Родена с Розой Бёре. Впрочем, учитель и сам не скрывает эту связь, да и сама Роза не жалеет сил, чтобы победить Камиллу. Ученица принимает эту ситуацию со смирением побежденной. Великан Роден слишком силен для Камиллы, его огромная тень накрывает ее, и теперь ей достаются от него только крохи, которые она принимает как милость. В 1891 году она живет в замке Илетт, в Азе-ле-Ридо, и пишет оттуда Родену. Те строки, по которым понятно, что учитель и ученица – любовники, написаны сдержанно, их очень быстро сменяют рассуждения о природе, рассказы о повседневной жизни Камиллы и необычные просьбы, например, купить ей «купальный костюм, синий с белыми полосами, из двух частей – блузы и панталон (среднего размера) в магазине «Лувр», или в «Бон Марше» (из саржи), или в Туре»[7]. Однако она осмеливается написать: «Я ложусь спать голая, чтобы поверить, будто вы рядом; но когда просыпаюсь, все становится иначе». И добавляет к письму постскриптум: «Главное – больше не обманывайте меня». Может быть, у нее уже были первые приступы «меланхолии» и маний? Ее графомания, которая со временем усилится, письма, полные упреков и укоров, грубые и неадекватные обращения к адресату, которые иногда можно встретить в ее письмах, – все это позволяет предположить, что болезнь ждет своего часа и скоро появятся первые симптомы. Родену (хотя он любовник Камиллы с 1886 года, она почтительно называет его «месье Роден» и обращается к нему на «вы») она в 1893 году пересказывает «басни», которые сочиняют о ней. По поводу ее отдыха в Илетт она жалуется: «Кажется, говорят, что по ночам я вылетаю на красном зонтике из окна своей башни и поджигаю этим зонтиком лес»[8]. Насколько признан ее талант? Она участвует в выставках, и, конечно, ей дают заказы, но она не достигла той известности, которую ей обещал и предсказывал Роден. Похоже, она еще так мало известна, что коллекционер и любитель искусства Дюран-Рюэль не знает, что скульптор Клодель – женщина. В письме по поводу картины Гаррисона, которую Клодель желала продать, он обратился к Камилле: «Месье!» Поэтому она пишет Полю Клоделю длинное письмо, где в одной из фраз делает отступление, чтобы сообщить, что ее последние работы уже совершенно «не в стиле Родена». «Они одетые», – уточняет она. Главная забота Камиллы – отделиться от своего учителя, чтобы стало заметно все своеобразие ее таланта.
Камилла начинает осознавать, что Роден требует от нее подчинения. Она в лихорадочной спешке отправляет одно за другим письма официальным лицам, связанным с миром искусства (министру, коллекционерам, директорам Школы изящных искусств и т. д.). По этим письмам можно предположить, что Камилла уже изнемогает и очень озабочена тем, чтобы ее признали. На фотографиях этого времени уже едва заметен упадок ее физических сил. Страсть, воспламенившая Родена в 1886–1887 годах, теперь, кажется, угасла. Любит ли он еще Камиллу? В это время молодая женщина создает две выдающиеся скульптуры: «Маленькую хозяйку замка», которая детской грацией напоминает работы Грёза, и прежде всего «Зрелый возраст», где женщина умоляет о чем-то, протягивая обе руки. Этот образ выражает душевные страдания Камиллы и ее бессилие справиться с ними. Но кто действительно видит, что ее отчаяние и тоска так велики? Однако она продолжает работать в одиночестве. Сохранилось много писем, в которых Камилла усердно, решительно, иногда настойчиво требует у своих заказчиков куски мрамора. Роден еще не на вершине своей славы. В эти последние годы перед началом нового века у него много заказов, но это не подлинный успех. Может быть, он уже часто черпает вдохновение в творчестве Камиллы, чьей техникой и мощным воображением восхищается? Камилла убеждена, что это так. Она уверена, что Роден, как настоящий великан-людоед, высасывает из нее жизненные соки и питает ими свой собственный гений, более натуралистичный и грубый. Но Роден никогда не пытается (во всяком случае, явно) умалить огромный талант своей возлюбленной. Наоборот, в его неосторожных страстных письмах видно его восхищение тем, что она носит в своей душе. «Я показал ей, где найти золото, но золото, которое она находит, – ее собственное…» – пишет он. Золотом он называл цель творческого поиска. А может быть, Камилла смогла избавить Родена от его неврозов? Ведь Роден, несмотря на свою физическую силу, обладал болезненно чувствительной психикой и страдал от комплекса, источник которого находился в его детстве. Мать Родена страдала гаптофобией – редким видом невроза, когда человек боится прикасаться к другим людям и не переносит чужого прикосновения. Поэтому Роден в детстве не имел физического контакта с матерью. Это привело к страху перед реальностью; его «я» было разорвано из-за того, что не знало ласки, телесного контакта. Профессия скульптора стала для него чем-то вроде лечения у психоаналитика. Лепя скульптуры из глины, разглаживая швы, полируя мрамор, он словно перевоплощался. Затем к желанию прикасаться к людям добавилось эротическое желание и, наконец, почти мистическое желание окутать свои статуи, как он говорил, «духовным содержанием». Этот божественный замысел произвел впечатление на Камиллу, которая видела в своем учителе совершенного творца. Ее руки тоже участвовали своим живым прикосновением в этом сотворении нового мира. Но возможно, для нее в таком замысле было слишком много буйной силы и безграничной широты. Долго ли еще она сможет выдерживать ярость этого ветхозаветного бога, великого организатора мира, который ваяет свои создания? Может быть, однажды во время их связи она захотела отказаться от участия в этом проекте, который, несомненно, считала нарушением норм, почти богохульством? Более того, все, что происходило после этих лет до окончательного помещения Камиллы в психиатрическую больницу в 1913 году, оказалось стиранием себя, разрушением уважения к себе. Этой утрате самоуважения она противопоставляла гордость и неуклюжесть речи, которые не только не помогали ей, но отдаляли ее от собеседников и усиливали необузданность и резкость ее чувств. Судя по официальной переписке, у нее достаточно заказов и выставок. Но она считает, что Роден мешает ей стать известной и получить признание. То, что Дюран-Рюэль принял ее за мужчину, означает, что в работах Клодель не видна ее личность. Роден подавляет все своей творческой силой, мистикой и уверенностью в том, что прикоснулся к божественному. (Когда он, еще в юности, впервые попал в школу лепки при Императорской школе дизайна, он написал: «Я увидел глину. Мне показалось, что я поднимаюсь в небо… Я был в восторге».) Разумеется, своим нарциссизмом и эгоцентризмом он уничтожает свою молодую любовницу. Монументальность его искусства не мешает ему улавливать тончайшие оттенки в облике людей; в этом он похож на Микеланджело, с которым хочет, чтобы его сравнивали. «Я всегда старался передать чувства с помощью движения мускулов», – пишет он. Так он пытался сделать «говорящим» внешний облик людей. Он берет и пускает в дело все, что может пригодиться в его великом духовном поиске, и в первую очередь использует женственность Камиллы, которая дополняет его творчество утонченностью и изяществом. Она прекрасно изображает гибкость и искренность своих моделей. Роден менее чувствителен к этим свойствам, и Камилла дает ему то, чего ему не хватает. А еще она будит в нем любовные желания. Великану Родену мало одной Розы Бёре. У Розы некрасивое лицо, она не муза и не натурщица, но она мать их сына, и Роден никогда с ней не расстанется. Камилла верит в свою победу и думает, что Роден сможет уйти от Розы, но она плохо знает великана. Ему нужна стабильность, нужен хорошо налаженный буржуазный быт (примерно так же было у Сезанна с Гортензией Фике). И все же Роза опасается Камиллы. Молодость и красота соперницы, ее большие синие глаза, ее рано проявившийся гениальный дар – все это, разумеется, сильнейшие доводы за то, чтобы Роден оставил ее при себе. Но, на счастье Розы, Родену для работы нужен покой. Он не любит ни сложностей, ни любовных увлечений, которые в конце концов становятся для него обременительными. Поэтому он постепенно охладевает к Камилле. Правда, это происходит медленно, но расставание неизбежно. Примерно в начале 1895 года Роден еще влюблен в Камиллу. Письмо, написанное приблизительно в это время (дату невозможно прочесть), свидетельствует о том, как сильна его страсть. Он называет свою подругу «государыня», видеть ее для него «начало утешения», ее «душа прекрасна», и, по его словам, только она способна укрепить его слабое здоровье. Она – муза, освещающая его путь, муза спасающая, богиня-фея. Скульптор снова именует подругу «божественной» и, словно кавалер жеманной ученой дамы XVII века, называет ее «светилом, озаряющим его» и уверяет, что у нее есть «дар, чтобы властвовать над всем миром». В тот день Роден с почти мистическим пылом вручил себя Камилле. Мимоходом он напомнил подруге, что ее талант сияет над Парижем, написав ей: «О вас все время говорят». Камилла, чья эксцентричность и странные выходки начинают беспокоить окружающих, решает не поддаваться чарам Родена (в прямом смысле этого слова: она верит, что он пытается действовать на нее колдовством). Она отдаляется от него, отходит в сторону. А подозрительность и чувство преследования уже бесшумно, по капле вливаются в ее душу и отравляют ее. Роза Бёре в этом любовном треугольнике тоже несет свою часть вины: Камилла подозревает, что Роза действует против нее. И причина этого подозрения – не только ревность: она уверена, что Роза ее околдовала и наслала на нее проклятие. В июне 1895 года Роден умоляет Камиллу посетить его в мастерской вместе с господином Фенаем, промышленником и коллекционером, который уже купил несколько работ Родена и теперь интересуется Камиллой. Скульптор предлагает ей сопровождать этого мецената под предлогом, что тому было бы неприлично прийти в мастерскую одному. Роден горячо просит Камиллу радушно встретить Феная. «Еще одно, последнее усилие, – пишет он ей, – и ваше положение будет таким же прекрасным, как позже мое, но более счастливым, как вы заслуживаете»[9].
Но Камилла живет уже в другом мире – в мире исключенных и одиноких, преследуемых и изгнанных. Слова Родена об успехе, карьере или «положении» кажутся ей смешными и поверхностными. С ее точки зрения, все, что происходит в жизни, совершается «там», в иных мирах. А от реального мира она удаляется, говорит, что она «в могиле», умоляет своих клиентов-коллекционеров покупать ее работы, чтобы «их благосклонные руки… вытащили настоящих художников из савана». Мания преследования сопровождается твердой уверенностью, что она знает истинную суть искусства и чиста душой. То, что она считает себя «настоящим художником», уже означает недоверие к некоторым собратьям по искусству, и в первую очередь к Родену, к которому в ней постепенно развилась скрытая ненависть и против которого часто возникают необоснованные подозрения. Влияние Родена на Камиллу вскоре породит у нее сомнения в ее творчестве. Ей душно в рамках монументальной скульптуры, и, поскольку работы, которые ей заказывают, не такого крупного размера, чтобы выполнять их из больших мраморных глыб, как делает Роден, Камилла чаще всего довольствуется кусками оникса или создает бронзовые статуэтки малого размера, чем ослабляет яркость своего таланта. Роден пользуется этим и из-за разницы в размерах произведений сохраняет свое влияние на Камиллу. В 1896 году она, благодаря Родену, могла быть представлена президенту Франции, но отказалась под предлогом, что у нее нет достаточно красивого платья для такого случая и что она к тому же завалена работой (Камилла в это время заканчивала «Болтушек»). Целых десять лет она живет в тени Родена и с ощущением, что задыхается рядом с ним. Сокрушительная мужественность Родена, которая чувствуется в его власти над материалом и в его эротических рисунках, делает его хищником – во всяком случае, Камилла считает его таким. Она начинает избегать его и просит тех, с кем переписывается, в разговоре с Роденом найти случай сказать ему, чтобы он больше не вмешивался в ее дела. В Париже действительно упорно ходит слух, что Роден прикладывает руку к работам Камиллы. Та возмущается этими домыслами: она считает, что, напротив, сама вдохновляет его (но пока держит это свое мнение в тайне). «Если месье Роден действительно хочет мне добра, ему очень легко сделать мне добро, не заставляя людей верить, будто его советам и его вдохновению я обязана успехом моих работ, в которые я вкладываю столько тяжелого труда»[10]. Итак, первые обвинения относятся к этому времени – к 1896 году. Роден оказывает Камилле помощь в работе. Но, по ее мнению, он больше чем помогает, разглагольствует в мире искусства по поводу своего влияния на нее. Именно против этого морального и психического отчуждения Камилла вскоре восстанет, потому что оно имеет отношение к слабости ее психики и к ее сомнениям. Однако Роден остается для нее высшим авторитетом в вопросах искусства и скульптуры. Великан – не только людоед, он и судья. Камилле нужно знать его мнение, и она просит адресатов своих писем сообщить ей его точку зрения. Морису Фенаю она пишет: «Сходили вы посмотреть на свой бюст в галерее Бинга, улица Прованс, дом 22? Он производит великолепный эффект. Если бы вы смогли привести туда месье Родена и сказать мне, каково его мнение, я была бы очень счастлива»[11]. О том же она просит Октава Мирбо: не может ли он сообщить ей [оценку] месье Родена? «Вы доставите мне этим удовольствие», – пишет она. В 1897 году страсть угасает, и любовная связь Родена и Камиллы прекращается. Похоже, что Камилла все глубже погружается в меланхолию. У нее начинается мания преследования. Сначала болезнь проявляется в легкой форме, но это тот самый невроз, который через несколько лет полностью овладеет ее разумом. Письма, которыми Роден и Камилла обменялись в том году, покажутся пророческими тому, кто знает продолжение истории этих людей. Камилла заявляет, что ее преследуют, что она – жертва клеветы и заговоров.
«Впрочем, – пишет она Родену, – вы хорошо знаете, какую черную ненависть проявляют ко мне женщины, как только видят, что я появилась рядом, и как они загоняют меня этой ненавистью обратно в мою раковину…»[12] Дальше она добавляет: «Так что я очень рискую никогда не пожать плоды всех моих усилий и угаснуть в тени клеветы и злых подозрений»[13]. На эту возрастающую тревогу Роден отвечает сочувствием и состраданием. Нет ли у него других средств помочь? В этот момент Камиллу уже не связывает с Роденом плотская страсть, которая раньше влекла его к ней. Она еще не стала неудобной (такой сделается позже), но уже вызывает желание позаботиться о ней и даже трогает душу своими переживаниями. «Я вижу, – пишет он ей, – что вы столкнулись с жизненными трудностями и немного – с трудностями, созданными вашим воображением. Мне жаль видеть, что вы стали нервной и вступили на путь, который мне, увы, знаком». Не выбрал ли он стратегию обхода – признание? Роден обильно расточает похвалы ее искусству. Ее работы «восхитительны», она редкий «гений», у нее есть «способность к скульптуре». «Все вами восхищаются, и все вас знают», «ваша известность достигла вершины», – пишет он. Роден так восхищается Камиллой, что жалеет, что не попросил ее помощи в работе над своим «Бальзаком». Так великан дает советы и превращается в терапевта. «Ради бога, не запутайтесь в безвыходных и досадных неприятностях. Смягчайте все, что можете, и оставьте неудаче лишь то, что не сможете у нее отнять»[14]. Более того, Роден, воодушевившись, в своем восторге наделяет ее сверхъестественными способностями: она борется с «грозным ангелом», который постоянно охраняет «этот жалкий мир от таких гениев, как [она]». Получив это письмо, Камилла не могла не представить себя в воображаемом оккультном мире и, конечно, убедила себя, что она подобна Иакову, который боролся с ангелом, что она – равная мифическим или библейским персонажам героиня, которая зажигает в своем уме пламя, раздувает его и ограждает от реального мира.
Накануне начала нового века Камилла вступает на мрачный путь. Она больше не может терпеть: напряжение слишком велико для нее. И наконец полностью порывает с Роденом. Это для нее способ прекратить сопротивление и отдаться подстерегающему ее безумию. В конце концов оно стало казаться Камилле более спасительным, более утешительным, чем-то вроде убежища. Она поселяется в Париже – сначала на улице Тюренн, потом на набережной Бурбон. Но все изменилось. Камилла, которую исподтишка терзают неврозы и тревоги, начинает с недоверием и подозрительностью относиться к окружающему ее артистическому миру, и в ее сознании кристаллизуется ненависть к Родену. Она все более открыто обвиняет его в плагиате. Он якобы обкрадывает не только ее, но и других великих скульпторов. Например, в мае 1899 года она пишет, что «его гений войны полностью скопирован с гения Рюда (посмотрите на его Триумфальную арку на площади Этуаль)». С этих пор она защищает свои работы: «У моих работ всегда только один источник – я сама»[15], – утверждает Камилла и восстает против критиков, которые неуклюже и даже несправедливо заявляют о влиянии работ Родена на ее «Клото». Как все, кто болен манией преследования, она становится графоманкой, пишет всем, кого считает своими врагами, участниками большого заговора, который организовал ее учитель. В искусстве XX века нет ничего равного той яростной иррациональной борьбе, которую она вела с этих пор, – кроме, может быть, судьбы Серафины де Санлис, которая была современницей Камиллы и умерла на год раньше ее. У Серафины душевная болезнь – мания величия – была даже сильней, чем у Камиллы. Камилла в своей мании преследования объявляла себя гением, которого предали, но в первую очередь – величайшим гением, который неизмеримо выше Родена.
Желая получить подтверждение своей уверенности, она пишет письма, в которых не считается ни с общественными различиями, ни с правилами приличия и не стесняется обращаться к адресатам в тоне сожаления или упрека. Чем дальше, тем более раскованно Камилла себя ведет, и в письмах начинают звучать жалобы. Ее самомнение возрастает, и она «встает на дыбы» то как проклятый гений, то как несчастный одинокий человек. Она называет себя «чисто французской художницей, которую, однако, очень мало поощряют и которая после пятнадцати лет выставок в Салоне остается на том же месте, где была вначале, несмотря на лживые обещания некоторых людей»[16]. Разумеется, «некоторые люди» – это лишь один Огюст Роден, который постепенно станет мишенью для ее паранойи и предметом ее ненависти. Фотографии, на которых она работает над скульптурной группой «Персей и горгона», изображают Камиллу похожей на пифию, в длинном плаще из темного бархата, волосы подняты очень высоко и собраны в пучок; вид у нее скорее изможденный и дикий, чем вдохновенный. Однако перед ней стоит эта гипсовая группа, полная драматичного и плавного движения – свидетельство ее выдающегося таланта. Никакой одутловатости и тяжести нет, только характерное для творчества Камиллы умение вдохнуть жизнь в материал, ее врожденный дар пронизывать вещество энергией и сильными чувствами. С 1900 года Камилла все чаще выдвигает обвинения против Родена. Но они столь чрезмерны, что это уничтожает любые подозрения. Роден не отвечает на них, считая их всего лишь бредом сумасшедшей. На визитной карточке, адресованной Марселю Швобу (французский писатель-символист и переводчик, автор фантастической притчевой прозы. – Пер.), Камилла пишет о себе в третьем лице: «Она предпочитает, чтобы о ней как можно меньше говорили, и с удовольствием уступает место сударю Родену, поскольку не желает больше заниматься им (sic. – Авт.), так как он этого не стоит»[17]. Словечко «сударь» показывает, что уважение, которое она до сих пор проявляла к своему бывшему учителю, полностью исчезло.
Значит, Камилла освободилась из неволи великана? Больше не боится его? Но эта непринужденность, эта возможность показывать себя миру без страха перед ним – предвестники бреда. В это время адресаты ее писем начинают считать ее «мнительной» и странной. Она хочет перестать заниматься скульптурой и совершает акты самоуничтожения, которые усиливают ее депрессию (разбивает формы, в которых отливались ее работы). Больше ни один чиновник из министерств и ни один коллекционер не сомневается в упадке ее таланта. Стали говорить, что «причины ее несчастья – в характере жертвы»[18]. Однако Камилла продолжает работать. Группа «Персей и горгона» имеет сходство с собственной трагедией автора. У Персея почти то же лицо, что у младшего брата Камиллы, когда-то изображенного в виде древнеримского юноши. Гладкое лицо, горящее огнем воодушевления. Голова горгоны, которую Персей держит в левой руке, возможно, тоже похожа на Камиллу – те же тяжеловатые и одутловатые черты, то же выражение ужаса на лице. Несмотря на постоянно прогрессирующую душевную болезнь, Камилла по-прежнему способна исследовать тайны человеческой души, ее изгибы и складки. Ее карандашные рисунки потрясают правдивостью, которая придает созданным Камиллой портретам глубокую человечность (таковы, например, портреты графини де Мегре и ее отца Луи Проспера). Ее «Сирена» (созданная около 1900 года) отличается легкостью, а своей наивной и хрупкой грацией напоминает саму Камиллу. Эта сирена играет на свирели и безучастна к человеческим злоупотреблениям. Но может быть, она хочет заманить на свой берег Родена? Способен ли он еще уступить очарованию ее напева? Именно в это время тайного внутреннего беспокойства появляется «Вальс», в котором она проявила себя как великий мастер парных скульптур.
Танцующая пара изображена во время одного из любимых движений Камиллы – наклон и колебание. Круговому повороту платья, похожего и на лиану, и на корень, отвечают, как эхо, сплетенные руки танцоров. Этот гармоничный образ слившихся воедино влюбленных Камилла создала, когда в ее душе царил полный беспорядок, собственное сознание стало шатким. Пытаясь выполнить заказ на памятник Бланки, она предполагает придать этому революционеру странное сходство с ней самой. Она чувствует себя готовой изобразить его при условии, что заказчики предоставят ей 20 000 франков за статую из камня. Она «видит» Бланки в том невидимом мире, образы которого улавливает и достает из себя. Вот что Камилла пишет о нем: «Великая борьба, но в слишком густом тумане. Он сражается напрасно и изнемогает; время света еще не настало»[19]. Уже одни эти загадочные слова, в которых чередуются свет и тень, пророчески предсказывают ее судьбу. Но, разумеется, она считает, что этой судьбе мешают счастливо сложиться постоянные происки великана, ее «коварного врага»[20]. Журналисту и искусствоведу Гюставу Жеффруа, который давно следит за ее творчеством, она без колебаний сообщает о предполагаемых «преступлениях» Родена, несмотря на их близкую дружбу. В апреле 1905 года в сознании Камиллы происходят изменения, и оно начинает терять ясность. Некоторые из ее писем этого времени уже наполнены бессвязным бредом и вымыслами, в которых то и дело встречаются угрозы и обвинения в адрес Родена. Роден становится ее «заклятым врагом». Он высосал из нее жизненные соки, обескровил ее, сделал несчастной и покинутой. Он угрожает даже Полю Клоделю. «Я не удивилась бы, если ли бы один злобный зверь подослал к нему убийц», – пишет она в другом письме к Жеффруа. Камилла слепо и безжалостно ненавидит этого «зверя».
Великан становится мишенью для ее смертоносных инстинктов; он якобы сбросил маску и показал всю свою звериную натуру и всю свою бесчеловечность. Камилла считает его «чудовищем»[21], которое постоянно начеку. Из доброго наблюдателя он превратился для нее в сторожа, он постоянно за ней шпионит. «Для меня доказано, – заявляет она, – что я – язва и холера для тех щедрых и дружелюбных людей, которые занимаются вопросами искусства, и что от меня убежал бы прочь даже сам император Сахары, если бы увидел, как я иду к нему с моими слеп ками»[22]. Заметно, что стиль ее писем становится более неровным, синтаксис беспорядочным; она не ставит знаки препинания, чтобы дать свободу потоку своего бреда. В том же нелепом и неуместном стиле написано ее письмо Эжену Бло в апреле 1905 года. Кажется, что это юмор, на самом же деле в ее словах звучат бред и пафос. «Как вы можете спать беспробудным сном, когда множество женщин-скульпторов кричат: «На помощь! Спасите! Я тону!» Почему вопли всех этих шакалов не нарушают постоянно ваши сны?»[23] Начиная с этого времени, с 1905–1906 годов, речь Камиллы искажена потоком фантастических мыслей и ложных впечатлений. Камилла права в своем письме: она действительно тонет: безумие затопляет действительность в ее сознании. Этот отрыв от реальности становится все более явным и начинает серьезно беспокоить близких Камиллы и ее немногих друзей. Разумеется, Роза Бёре тоже стала одним из персонажей ее параноического бреда. Разве могло быть иначе? Ведь Роден с 1860 года не отказывался порвать с ней. Теперь по содержанию писем Камиллы можно видеть, как прогрессирует душевная болезнь, которая скоро полностью охватит ее и, разумеется, помешает работать.
Родена она почти все время называет прозвищем «месье»[24]. Невроз усиливается с каждым днем. Это заметно по письмам: Камилла посылает их в спешке, действуя грубо и неосмотрительно, они наполнены клеветой и вредоносными сплетнями. Роден по-прежнему – ее главная мишень. Он якобы главный из тех, кто толкают ее вниз, он медленно уничтожает ее, а Роза Бёре ему помогает. Успехи Родена опьяняют его. Он скоро станет главным скульптором начала века – гением и непререкаемым авторитетом. Камилла считает, что лишь она одна знает, скольким он ей обязан, и пьет горькую чашу предательства. Постепенно Роден становится для нее руководителем невидимой, а значит, несомненно дьявольской интриги. Его творческая сила, по мнению Камиллы, превратилась в злую силу, направленную против самого Бога. Камилла говорит, что он – «злая рука, которая работает скрытно» и, как Сатана, «использует такие тонкие, невидимые и обходные пути, что ничего нельзя доказать»[25]. То есть Камилла считает себя жертвой, которой манипулируют бывший любовник и его спутница жизни. В Париже начинают говорить, что она сходит с ума, что ее разум мутится; она узнает об этом, но воинственно и непокорно сопротивляется слухам. Ведет себя все более буйно: обвиняет Родена в том, что он украл у нее кусок мрамора, что он получил доступ в ее мастерскую и приходит туда в ее, Камиллы, отсутствие. Заказчики и коллекционеры, работающие с Камиллой, начинают считать ее «экстравагантной». Даже сам Роден волнуется из-за этого и говорит им, что Камилла теряет рассудок. Но она борется против всех препятствий. Коллекционерам, которые теперь стали осторожней при покупках, она заявляет, что слишком устала и отказывается работать. И снова пророческое предвидение: в том же 1905 году, когда становятся заметны признаки ее болезни, Камилла сравнивает себя с Ослиной Шкурой или «Золушкой, которая приговорена сторожить пепел в очаге и не надеется увидеть, как к ней подходит фея или прекрасный принц, который должен превратить [ее] одежду из шкуры или пепла в наряды цвета времени[26]. Эжену Бло Камилла пишет вызывающее тревогу письмо, в котором вспышкой прорывается бред: сирена якобы уплывает в изгнание, чтобы найти более милостивые к ней берега. «Я отправляюсь путешествовать по земному шару совершенно одна; буду искать более плодотворную обстановку далеко отсюда, в Испании, у одного из моих родственников, банкира в Мадриде, который предлагает мне убежище от превратностей артистической жизни»[27]. К спутанности сознания добавляется бред странствий. Она еще занимается скульптурой. Главная ее работа этого времени – «Раненая Необида», которая заслужила хорошие отзывы у критиков и была показана на выставках. «Необида» – Ниобида, дочь царицы Ниобы из греческого мифа, вместе со своими сестрами и братьями убита стрелами Артемиды и Аполлона, а их мать окаменела от горя. В темах всех произведений, которые в течение многих лет создавала Камилла, разумеется, нужно видеть автобиографические мотивы. Она – сирена, она хотела бы кружиться в вальсе, обвитая руками партнера; и она же – проклятая дочь Ниобы, принесенная в жертву богами. В своих письмах она грубо и кощунственно ругает Родена, которого постепенно признают великим французским мастером скульптуры, связывающего академическое и современное направления в ваянии. Камилла сравнивает его с «мерзкой канализационной крысой, которая преследует [ее] своей яростью». Внезапно она уединяется ото всех, прячется в своей мастерской, почти не выходит на улицу и, заперев дверь на замок, внимательно прислушивается даже к самым тихим шагам. Обращаясь к своим постоянным защитникам, она называет себя их «обезумевшей питомицей»[28]. Ей дают заказы почти из милости, такой нищей и жалкой она выглядит. Однако преследование оказывается направленным в обе стороны. Камилла думает, что Роден изводит ее, но и сама упорно его преследует. Она выдвигает против него все более тяжелые обвинения, распространяя их посредством своих писем и слухов, которые распускает в своей мастерской, среди практикантов и подмастерьев. Наконец она развязала узел своего невроза: «Он всеми возможными способами пытался завладеть несколькими моими идеями и эскизами, которые ему понравились, но встретил с моей стороны яростное сопротивление и тогда захотел насильно заставить меня с помощью нищеты, которой он умеет меня сокрушать, отдать ему то, что он желает иметь; это его обычный метод»[29]. Она не только обвиняет Родена в плагиате, но и называет его тираном, который доводит ее до нищеты и желает уничтожить. Ее адресат, помощник Государственного секретаря, притворяется, что не обратил внимания на эти слова, тем более что Роден после своего успеха на Всемирной выставке в Париже, для которой за свой счет построил павильон на площади Альма, чтобы выставить все свои работы, стал величайшим мастером скульптуры во Франции, и его величие неоспоримо. Успех пришел к Родену, и скульптор опьянел от него. Поэтому убийственные письма Камиллы беспокоят государственную власть и коллекционеров работ Родена. Поскольку слухи никогда не бывают совсем лишены оснований, люди иногда позволяют себе думать, что Камилла действительно дала начало некоторым сторонам творчества Родена, в том числе изменениям его стиля, который стал более раскованным, его умению улавливать движения человеческого тела и схватывать малейшие оттенки этих движений. Так же как Камилла, он очарован танцорами, движением, тайной творчества скульптора, который наделяет плотью и жизнью глину и мрамор. Камилла непрерывно насмехается над ним, оскорбляет, компрометирует его, и Роза Бёре, очень недовольная этим, убеждает скульптора подать жалобу, но он отказывается это сделать. «Этот негодяй, – пишет Камилла, – различными путями завладевает всеми моими скульптурами и дарит их своим приятелям-художникам, которые за это дают ему награды, устраивают овации и так далее»[30]. Нет никаких сомнений в том, что семья Камиллы тоже знает о ее психическом расстройстве. Ее отец (впрочем, он выступает скорее в роли миротворца) сильно обеспокоен усиливающимся безумием дочери. Он требует от Поля, чтобы тот заставил Камиллу прийти повидаться с семьей, и пишет: «Я спрашиваю себя, есть ли какое-нибудь средство если не вылечить, то успокоить эту буйнопомешанную»[31]. А Камилла продолжает выставлять напоказ свои навязчивые идеи и работает меньше, чем прежде, потому что полностью занята раскрытием мнимого «заговора Родена». Она снова и снова пишет о его якобы бесчестных поступках, каждый раз одними и теми же словами и в одинаковом синтаксическом порядке. Каждый раз она называет его «жалкий господин» и заявляет, что он «различными способами заимствует у [нее] и делится добычей со своими приятелями, модными художниками, которые за это обеспечивают ему награды, устраивают для него овации, банкеты и так далее»[32]. Из-за боязни оказаться рядом с Роденом она не выставляет свои работы ни за границей, ни в Париже и изолирует себя от людей. Ее красивое лицо изменяется, словно каменеет, черты становятся грубее, на нем уже появляются морщины. Камилла постоянно настороже, и эта нервозная бдительность медленно подавляет ее творческие способности. Она продолжает бессознательно травить Родена. Во время судебного процесса над Дрейфусом Камилла становится страстной противницей обвиняемого. Она верит в заговор «гугенотов» и в заговор масонов, которых преследует своей ненавистью. Ее ругательства становятся более грубыми. Роден для нее теперь «мерзавец» и «разбойник»; отравитель, который пускает в ход «порошочки», чтобы избавиться от своих врагов; мошенник, который готов разворовать чужое наследство и ждет только ее смерти, чтобы ограбить ее мастерскую; религиозный сектант, который развращает французскую молодежь; «безбожник», манипулирующий людьми, и так далее. Своему кузену Анри Тьерри она открывает тайну: протестанты хотят ее отравить. Если она вдруг умрет, пусть он публично обвинит их в этом! Но бред становится еще сильней. Постепенно плотина рушится, и безумие затопляет Камиллу. Когда ее кузина Анриетта Тьерри сообщает ей о смерти своего мужа Анри, которому Камилла еще недавно писала письма, та изливает перед Анриеттой свою боль. И признается, что теперь, находясь в гневе или узнав плохую новость, она сжигает свои эскизы и разбивает молотком гипсовые слепки. Уничтожение собственного труда и потеря уважения к нему становятся толчком для самоуничтожения. В это время, в конце 1912 года, положение Камиллы становится невыносимым. Она живет в нищете, паранойя сводит ее с ума, она больше не работает и уничтожает свои работы. Она заперлась у себя, потому что убеждена, что Роден «и его банда приходят к [ней], чтобы ее обокрасть»[33], и превратила свою мастерскую в настоящую крепость. «Цепочки, бойницы, волчьи капканы перед всеми дверями свидетельствуют о том, как мало доверия внушают [ей] люди»[34]. Эта добровольная изоляция выводит из терпения родителей Камиллы, и они начинают говорить, что поместят ее в больницу. Камилла узнает об их намерении и с негодованием сообщает о нем Генриетте; она думает, что Роден настроил мать против нее. Семейный конфликт и спор с бывшим возлюбленным превращаются в войну за веру. «Точно так же протестанты и евреи губят христиан, восстанавливая их друг против друга»[35]. Именно в эти дни отчаяния и заблуждений мутящегося разума Камилла узнает о смерти отца.
Известие опоздало на несколько дней, потому что Камиллу не хотели допустить на его похороны. Она очень страдает из-за того, что не была на них, и еще больше страдает оттого, что отец не понимал ее при жизни. Но и в этом она обвиняет «их», объединяя в этом неопределенном местоимении всех своих врагов во главе с «негодяем» Роденом. Это «они» будто бы сделали так, что отец считал ее «отвратительной, неблагодарной и злой». На самом же деле он был ее единственным союзником в семье.
После этого события ускоряются. Отец умер 2 марта 1913 года, а 13 марта Камиллу помещают в психиатрическую больницу в Виль-Эвраре по произвольному желанию ее брата, очаровательного «маленького Поля». Роден, узнав об этом, чувствует облегчение. То, что Камилла оказалась в лечебнице для душевнобольных, доказывает его честность. Отвратительный след, оставленный слухами, которые распускала Камилла, стерся: они оказались вымыслами сумасшедшей. Камилла не имела удовольствия узнать, что Роден расстался с Розой Бёре, устав от узости и ограниченности ее ума, от недоверчивости и рабской верности. Ее бюст, созданный Роденом, позволяет нам увидеть, какой она была – не красивой и не безобразной, а незаметной, без индивидуальных особенностей.
Камилла и в лечебнице продолжает верить, что бывший любовник преследует ее. Она пишет письма, но по просьбе семьи их перехватывают и подшивают в историю болезни. Эти письма свидетельствуют о ее желании узнать, не заходил ли Роден в ее прежнее жилище, не разграбил ли ее мастерскую. Она просит своих друзей побывать в мастерской и выяснить, в каком та состоянии. Она по-прежнему думает, что это Роден так отомстил ей за ее любовь и за ее гениальный творческий дар. По ее мнению, Роден считал, что она гораздо талантливей его самого. Заточению в лечебницу она совершенно не сопротивляется; напротив, соглашается с ним, потому что устала воевать. Она больше не намерена работать. В ней словно сломалась какая-то пружина, и с этих пор Камилла отдает себя на волю сил, которые незаметно бушевали в ней уже много лет. Однако она чувствует себя одинокой и просит другого своего кузена, Шарля Тьерри, прислать ей портрет ее тети, чтобы не чувствовать себя совершенно одной и иногда беседовать с ней. Ее лицо быстро стареет. Камилла уже не блестящая молодая женщина, которая занимала заметное место в артистической среде. С этих пор она живет ровной, однообразной жизнью, в которой нет деления на праздники и будни, воскресенья и прочие дни недели, на времена года. Все одинаково и однообразно. Каждый год в августе Поль Клодель приезжает к ней. Он видит свою сестру рассеянной, послушной и безразличной ко всему. Сварливости, которая была характерна для нее в предыдущие годы, больше нет: у Камиллы нет сил для сопротивления. Размеренность и упорядоченность жизни в больнице раздавили Камиллу, к тому же она отлично знает, что угрожает в больнице тем, кто пробует буянить. Однако она осознает всю глубину своего падения. «Стоило ли столько работать и иметь талант, чтобы получить такую награду», – говорит она своему кузену Шарлю. Ее оскорбляет и заставляет страдать только несправедливость ее нынешнего положения. «Я всегда не имела ни гроша, всю жизнь меня мучили всеми возможными способами. Я была лишена всего, что делает жизнь счастливой, и еще – такой конец»[36]. Временами у нее бывают периоды просветления. «Сколько времени я еще пробуду здесь?» – сразу же спрашивает она свою мать на Пасху 1913 года. Но представление о времени слабеет: Камилла без смущения путешествует через века. Рассказывая о своем «похищении», она говорит главному врачу больницы, что оно произошло «три тысячи лет назад или до Потопа»! В это время, как и предсказывала Камилла, путь для Родена полностью свободен. Он поселяется в особняке (отеле) Бирона. Но скульптор не забывает свою бывшую модель. Может быть, он испытывает чувство вины? Может быть, считает себя жалким трусом оттого, что ничем не помешал ее заточению в больницу?
Во всяком случае, он без ведома Камиллы посылает ей деньги через Морхардта. А тот просит у него разрешения посвятить один из залов своего особняка работам Камиллы. Роден соглашается, но Камилла не узнает об этом, потому что с тех пор, как ее поместили в больницу, она отрезана от внешнего мира. В соответствии с вызывающей удивление рекомендацией, которую ее мать дала дирекции больницы, письма Камиллы никогда не отсылают адресатам, а те письма, которые приходят ей, систематически перехватывают, за исключением таких мучительных для нее писем от брата и матери. Поэтому при чтении ее больничных писем в душе возникает странное чувство, щемящее и тяжелое. Мольбы Камиллы, ее наивные рассказы, беспокойство о здоровье членов семьи, даже ее крики остаются мертвыми буквами и попадают в ее толстую историю болезни. Итак, Камилла остается одна, полностью отрезанная от мира. Проходят дни, месяцы, годы, но никто не приходит ее повидать. Ее долгие мольбы остаются без ответа, от этого ее ум увядает и замыкается в себе. Чувство преследования только усиливается. Она по-прежнему пишет о «макиавеллиевских интригах» Родена[37] и сравнивает свое помещение в лечебницу с незаконным заточением в тюрьму. А затем идет в ход весь набор сумеречных образов: она «пригвождена» к этому дому, на нее «надели колпачок, как на свечу, чтобы погасить», она «призрак», она «погребена», она терпит «мученичество». Камилла просит мать забрать ее к себе, в семейное поместье, и обещает, что постарается не обращать на себя внимания, будет смирной, не станет устраивать скандалов и закончит свою жизнь одиноко и скромно. Но мать остается неумолимой и формально требует, чтобы к Камилле «не допускали никаких посетителей и не сообщали новости о ней». В результате Камилла погребена заживо; это отвратительно. К тому же война прекратила все, даже слабые попытки что-нибудь изменить. Ее давние друзья негодуют, но лечебница – закрытое учреждение с нерушимыми правилами, за стены которого не проникает никаких сведений о том, что происходит внутри. Камилла в своих письмах, обнаруженных после ее смерти, описывает обстановку, в которой она там жила. Картина просто апокалиптическая: крики, драки, ругань – в общем, настоящий хаос. Ее ум еще настолько ясен, что она спрашивает себя: что она делает здесь, она же искала в первую очередь мира и покоя для своего бедного ума. Никто не приходит ей на помощь. Может быть, иногда директор больницы помогает Камилле из сострадания, но он должен выполнять требования семьи, которая аккуратно платит деньги на содержание больной. Иногда Камилле становится грустно, она вспоминает детство и «большой стол в Шакризе». «Это не возвратится никогда»[38], – пишет она своему кузену Шарлю Тьерри. В этом Камилла права: точка невозврата пройдена. В той отвратительной изоляции, к которой ее приговорила собственная семья, есть жестокость и садизм, их ничто не может объяснить. Она, несомненно, была нелюбимым или нежеланным ребенком. Отношения Камиллы, старшей дочери в семье, с ее родней были основаны главным образом на зависти. Самая талантливая из всего семейства, она, должно быть, вызывала у родных безмерную злобу или сильнейшее разочарование. Должно быть, о каждой ее работе много сплетничали в семье, а тайные, тщательно скрытые отношения Камиллы с Роденом довершили дело. В 1927 году, то есть через четырнадцать лет после помещения Камиллы в лечебницу, мать посылает ей длинное письмо. Оно наполнено только упреками и ненавистью. Ничто не улажено и не утихло. Мать заставляет говорить мертвых и вызывает в качестве свидетеля на этом процессе своего мужа, отца Камиллы. «Он тоже немало страдал, когда узнал правду о твоих отношениях с Роденом и той постыдной комедии, которую ты играла перед нами. А я-то была так простодушна, что пригласила этого «великого человека» в Вильнёв с мадам Роден, его сожительницей! А ты жеманничала, а сама жила с ним как содержанка»[39]. Здесь сказано всё. Главное, в чем мадам Клодель упрекает дочь, – что та нарушила буржуазные обычаи и скомпрометировала свою семью. Ни капли сострадания, ни капли материнской любви нет в этом письме, от которого холодеет кровь. А Камилла, которая не слышит эту ненависть, в это же время продолжает умолять свою мать, описывает очень тяжелые условия жизни в лечебнице зимой 1927 года, ужасный холод, который свирепствовал в помещениях и от которого, по словам Камиллы, у нее «застывали кончики пальцев». Она пытается найти поддержку у Поля и спрашивает его: «Какие у него намерения относительно [ее]? Собирается ли он оставить [ее] умирать в сумасшедших домах?»[40] Камилла всеми возможными способами пытается выбраться из этого кошмара. Она обращается к администрации, к врачу, лечившему ее когда-то в Париже, к близким родственникам, к давним друзьям… Но все напрасно. Чем больше времени проходит, тем сильней становится ее отчаяние. В первое время после ее помещения в лечебницу оно не чувствуется, но потом внезапно выплескивается с огромной силой. Камилла негодует, гневно возмущается. В 1915 году она пишет Полю: «Откуда такая жестокость?»[41] По ее письмам видно, какой тяжелый груз чувств и впечатлений лежит у нее на душе. Это длинная однообразная повесть об изгнании, оторванности от мира, тоске, утратах, погребении. Но никто не обращает внимания на ее отчаяние. Иногда к Камилле возвращаются ее прежние ирония и юмор. Анриетте де Вертю она говорит: «Приезжайте сюда всей семьей. Сейчас прекрасная осень, это будет отличная прогулка!»[42] Из лечебницы в Виль-Эвраре Камиллу вследствие войны ненадолго отправляют в Энгьен, а затем перевозят в Мондеверг в Воклюзе. Там она проживет с сентября 1914 по октябрь 1943 года в полнейшем одиночестве, только два или три раза ее навестят брат или давняя подруга по мастерской, Джесси Липскомб. Это будет жалкое прозябание, и за все это время она ни разу не займется скульптурой. «Я больше не человек», – признается она матери в 1927 году. Надежда снова увидеть родных полностью исчезла. Вильям Элборн, муж ее подруги Джесси, сфотографировал Камиллу, когда супруги побывали у нее в 1929 году. На этом снимке пристально смотрит в объектив старая женщина, спокойная и невероятно грустная. Камилле в это время шестьдесят пять лет. Психическая болезнь и одиночество, жестокость, жертвой которой она останется до конца жизни, и мучительное чувство, что она находится в изгнании, уже убили ее. Узнав в 1917 году сначала о смерти Родена, а затем о смерти Розы Бёре, она не почувствовала облегчения: все выветрилось из ее души, все разрушено. О Родене она упоминает лишь при случае, в связи с чем-либо другим. Осталось лишь мучительное чувство покинутости и несправедливости. На оборотной стороне одной из фотографий она написала своей подруге Джесси патетические слова: «На память из изгнания». Однако среди беспросветного однообразия ее жизни иногда вспыхивают молнии. В 1929 году скончалась ее мать. Еще одна связь оборвалась. Камилла никогда не разрывала эту связь, она все время старалась, как маленькая девочка, завоевать любовь той, кто так мало ее любила, растрогать мать воспоминаниями, которые та, наоборот, хотела бы забыть навсегда. И вот теперь перед ней с огромной силой встают воспоминания о времени, когда она была «скульпторшей» (так она говорила). Разумеется, она вспоминает и о мнимых бесчинствах Родена. «Прошло семнадцать лет с тех пор, как Роден и торговцы произведениями искусства отправили меня отбывать наказание»[43], – пишет она Полю. Камилла снова выдвигает против Родена очень дерзкие обвинения. «В сущности, все это родилось в дьявольском мозгу Родена, – пишет она в заключение. – У него на уме была лишь одна мысль, что после его смерти я быстро вырасту как художница и стану выше его…» Значит, она продолжает верить в махинации Родена, считает его злым гением, негодяем, который разрушил ее жизнь, преградил ей путь.
А помогала Родену «его шлюха»: так она заявляет Полю в письме. После встречи с сестрой в 1930 году Поль записывает в своем дневнике: «Камилла в Мондеверге, старая, старая». Камилле в это время около семидесяти лет. Она действительно уже старая женщина, слабая и сгорбленная, которая умеет лишь держать руки сложенными на животе. Ей все запрещают в наказание за вину, которой она не знает. Она говорит, что «больна чумой», но «невиновна». Ни одно ее слово не трогает Поля Клоделя. Она все время умоляет его помочь ей вернуться в Вильнев, в его дом и парк. «Не покидай меня», – говорит ему Камилла. Но на самом деле она полностью покинута. Но, несмотря ни на что, думает о своих родных с самоотречением, которое потрясает читателя ее писем. Она пишет Полю, чтобы узнать новости о племянниках и племянницах. Она, кажется, полностью простила свою «дорогую маму» и вспоминает, какой та была в своем саду. Последние письма Камиллы более спокойны, иногда они даже кажутся свободными от бреда. В лечебнице добиваются, чтобы она занялась скульптурой, но Камилла воспринимает эти старания как приказ и отказывается ему подчиниться. Правда, запись, сделанная одной из медсестер в истории болезни, позволяет предположить, что она все же попыталась создать скульптуру – изображение крестьянина в поле. Но никаких следов этой скульптуры не обнаружено.
Камилла переживает Вторую мировую войну. Условия содержания пациентов в лечебнице, несомненно, становятся более суровыми и жестокими. Медики часто разворовывают еду, предназначенную для больных, и многие пациенты умирают от голода. Отсутствие отопления и халатное отношение медиков к своим обязанностям, вызванное военными тревогами, заставляют каждого думать в первую очередь о личном интересе. В итоге больные предоставлены самим себе, в них едва поддерживают жизнь. И 19 октября 1943 года, после короткой агонии, Камилла Клодель наконец умирает. Ее тело хоронят 21 или 23 октября (точная дата неизвестна) на кладбище Монфаве, на участке, предназначенном для душевнобольных из Мондеверга. Полю Клоделю сообщают, что на ее могиле «стоит крест с цифрами 1943 – № 392. Поскольку мадемуазель Клодель на момент своей смерти не имела никаких личных вещей и никаких бумаг, ценных хотя бы как воспоминание, ее имя не обнаружено в административном досье». Дальше было еще хуже. Прошло уже много времени после смерти Камиллы, когда семья Клодель пожелала похоронить ее «в могиле, более достойной великой художницы, которой она была». Но из Бюро по делам кладбищ пришел ответ: «Я с сожалением сообщаю вам, что этот участок потребовался для служебных целей. Могила не сохранилась».
Значит, история Камиллы и ее знаменитого любовника действительно история проклятия. Мать в конечном счете была права, когда говорила, что Бог справедливо и по заслугам карает дочь за ее дела. Людоед бросился на Камиллу и крепко сжал в когтях, чтобы она ни живая, ни мертвая не могла претендовать на признание своего таланта. Мадам Клодель и остальные члены ее семьи совершили что-то вроде современного преступления во имя чести. Камилла своими причудами и эксцентричностью позорила семью, и за это по справедливости ее требовалось покарать. Камиллу действительно преследовали, но не Роден, как она всегда думала, а родные, не выносившие ее жизнь, ее творчество, ее талант. Самодовольный Поль Клодель торжествовал в Париже и на французской сцене, приобрел роскошный замок Бранг и принял католическую веру при мерцании бликов в витражах собора Нотр-Дам. Но переход в католицизм не уменьшил его «свирепость» по отношению к сестре. Он не ввел ее в свой замок и в свою семью, а бросил умирать на каторге в Мондеверге, где специалисты по тюремному режиму французских психиатрических больниц проявляли к больным изобретательную и зверскую жестокость. Сама Камилла в одном из писем к брату взбунтовалась против того Бога, в которого он так внезапно поверил и который терпел ее мучения. «Поговорим о твоем Боге, который позволяет гноить невиновную женщину в сумасшедшем доме!»[44] – пишет она. Даже Роден после ее смерти прошел через чистилище. Кубизм и примитивизм заслоняли его творчество, которое художники эпохи модерн считали слишком «академичным» и «литературным». Только после Второй мировой войны была признана величайшая важность творчества Родена как связующего звена между классической и современной скульптурой. О творчестве Камиллы молчали еще дольше, хотя появлялись выставки и каталоги ее работ: ее брат, став «великим писателем», участвовал в их организации и подготовке и представлял их. Таким образом, работы Камиллы были окружены молчанием, а ее боль поглотили высокие стены психиатрических лечебниц. Теперь известно, что обе войны были предлогом для того, чтобы держать больных голодными, почти без медицинской помощи и без посещений. Известно и о том, что инструкции администраторов побуждали персонал усердно уничтожать пациентов в целях евгеники. Особенно это проявлялось во время Второй мировой войны, по примеру Германии, где душевнобольных, согласно приказу Гитлера, убивали газом и сжигали. Похоже, что все это не беспокоило Поля Клоделя, который лишь изредка притворялся, будто интересуется судьбой сестры. Поскольку Камилла не получила ни одного из адресованных ей писем, она не прочла того письма, которое ей послал в 1932 году ее давний друг, галерист Эжен Бло, когда-то так активно продвигавший ее творчество. Ничего не зная о том, что она отрезана от внешнего мира, Бло написал ей меланхоличное письмо, наполненное воспоминаниями о времени, когда Камиллой восхищались и курили ей фимиам. Среди этих воспоминаний есть рассказ о том, как однажды Роден, находясь у него в гостях, заплакал перед одной из работ Камиллы.
«Да, заплакал, – писал Бло. – Как ребенок. Прошло пятнадцать лет, как он умер. По-настоящему он всегда любил только вас, Камилла, сегодня я могу это сказать. Все остальное – эти жалкие похождения, эта светская жизнь, смешная потому, что в глубине души он оставался человеком из народа, – только выходы для избытка его натуры. […] Время все расставит по местам». Может быть, эти слова могли бы стать самой правдивой речью над гробом Камиллы. «Время все расставит по местам». В 1982 году актриса Анна Дельбе написала о Камилле книгу «Женщина»[45]. Изданная на французском языке, эта книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Люди узнали об огромном таланте Камиллы Клодель, о ее злоключениях и мученичестве. А также о позорной подлости семьи Клодель и о жалком эгоизме великого поэта Клоделя. Время одним рывком наверстало все, что было упущено раньше. Камилла наконец признана одним из величайших гениев западной скульптуры, и ее работы покупаются на аукционах за астрономические суммы. Она полностью реабилитирована последующими поколениями семьи Клодель и стала символом задушенного искусства – творчества женщины, которую нравы и обычаи эпохи, по словам самой Камиллы, обрекали на «рабство». Не важно, что Роза Бёре и сегодня покоится рядом с Роденом на кладбище Медона и на их могиле стоит знаменитая статуя «Мыслитель», в создание которой Камилла внесла большой вклад. Так даже лучше, потому что от «Мыслителя» исходит могучая сила, а ею смогла наделить его Камилла, глубокая человечность и богатство внутреннего мира, которые были ее отличительным знаком. Она невидимо присутствует рядом с Роденом в скульптуре, в конечном счете ставшей их общим творением и вдохновляющим началом, для которой могла стать только их страсть.
Эдвард Мунк (1863–1944) и Тулла Ларсен (1869–1942) Сатурнианец и Медуза
Мунку было тридцать пять лет, когда он впервые встретился с Туллой Ларсен. Но уже давно, с 1885 года, о нем спорили. Иногда его отвергали, но в итоге признавали, что он бесспорно талантлив; однако его картины очень плохо продаются. А ведь с первых лет его учебы в Королевской школе искусств и ремесел в Осло преподаватели считали, что у Мунка блестящий талант. Больше всех в него верил художник-натуралист Кристиан Крог, который наблюдал за творчеством юного Мунка и давал ему советы.
Мунк по натуре меланхолик, и эта меланхолия ощутимо влияет на его вдохновение. Им управляет печальная планета Сатурн. Он всегда погружен в глубочайшую грусть и тяжело страдает от какого-то изначального горя, которое не может стереть с души. Это горе постоянно возникает в его пронзительных и зловещих произведениях. В 1885 году Мунк, перед этим короткое время живший в Париже, начинает свой настоящий творческий путь крупным произведением – картиной «Больной ребенок» (иначе «Больная девочка». – Пер.), в которой без пафоса рассказывает о смерти своей сестры Софи, которая, так же как его мать, была больна туберкулезом. Смерть и болезнь не щадили его семью. Сначала, когда ему было всего пять лет, умерла мать, затем Софи, вслед за ней – младшая сестра, страдающая депрессией, а потом, вскоре после своей свадьбы, умер брат. Получается, что вся жизнь художника была отмечена горем, горе преследовало его и определяло тональность и мотивы его творчества. Даже пейзаж не свободен от них. Мрачные краски, отражающие его траурную тоску; печать скорби и опустошения на людях и предметах; привычка прислушиваться к своему внутреннему миру – все это он постоянно вносил в свои произведения. На картине «Ингер на пляже» (1889) изображен берег моря возле маленького курортного городка Осгордстранд, и этот пейзаж Мунк наполнил меланхолией и глубокой грустью. Ускользающие линии, которые потом стали основой его эстетики, каким-то образом соответствуют постоянной опасности впасть в депрессию. В мире Мунка нет ничего стабильного и спокойного, все терпит катастрофу или крушение. Главное впечатление от его живописи – чувство скольжения: скользит земля, соскальзывают из одного состояния в другое ум и психика.
В 1889 году, после выставки своих работ в Христиании, он получает стипендию для учебы в Париже. Но сразу после приезда во Францию узнает о смерти отца, и эта утрата усилила чувство одиночества и невыразимого страдания. В 1890 году он пишет знаменитую картину «Ночь в Сен-Клу»: только синие тона, и в этой синеве угадывается силуэт мужчины у окна. В этой картине чувствуется какое-то постоянное беспокойство, печальная чернота словно делает пейзаж плотней, и эта ночь без звезд становится похожа на темную дыру головокружительной глубины. Но в то время главным для Мунка было его непобедимое желание полностью отдать себя живописи: она была единственным выходом для его отчаяния и единственным способом жить дальше. Его утомляет веселое и шумное общество его друзей – норвежцев, живущих в Париже. Поэтому он предпочитает жить подальше от них, за пределами французской столицы. «Их шумная манера радоваться жизни действует мне на нервы… – записывает он в своем дневнике. – Мне неприятен даже самый слабый шум». Тоска по счастливой семье, уже давно пустившая корни в его душе, не дает ей возможности расцвести и найти хотя бы временный покой.
На всех известных фотографиях Мунка заметна эта его тревога. Изможденное худое лицо с глубокими впадинами глазниц, неподвижный взгляд, всегда отсутствующий вид. Он уверен, что всегда будет одинок. Известно, что он редко встречается с женщинами. Женщину считает тайной причиной своего изначального несчастья: она, по мнению Мунка, заставляет его тратить слишком много сексуальной энергии и мешает направить эту силу в искусство. То есть Мунк считал живопись единственным выходом для своей сексуальности – бесплодной, дикой и тревожной. Разве можно вкладывать себя и в одно, и в другое сразу? И он считает любовное приключение величайшей опасностью, потому что женщина гасит и отнимает вдохновение. Его творчество – не только труд, это еще побег и головокружение. Уже в своих первых полотнах Мунк разрабатывает темы болезни, исчезновения, стирания – в общем, тему смерти. В двадцать семь лет он становится другом норвежского писателя Ханса Егера, который в своем романе «Богема Христиании» изображает его кем-то вроде флоберовского персонажа – художником, отображающим в картинах тоску современной жизни, отсутствие в ней сочности и плотности и мучительную тревогу, которую она несет с собой. Писать для этого художника – значит находить доступ к своему второму зрению. Этим зрением он видит силы, непрерывно размывающие мир, и их движение заставляет его верить в невозможный покой. Его душа плывет по течению в широком потоке несчастного существования, и ей не за что зацепиться, негде пристать к берегу. Как эта текучая река жизни (Мунк часто изображает ее гладкими, ускользающими полосами красок) равнодушна к злоключениям людей! Он хочет написать то, что чувствует человек, тонущий в ней, и его манера писать, его стиль всегда связаны с этим ощущением пустоты и движения по воде. В этом скрытом «неоромантическом» состоянии Мунк старается написать интуитивное чувство «своей собственной жизни». Любой разновидности реализма или натурализма он предпочитает выражение неуловимых мимолетных впечатлений своей чувствительной души. Он делает то же, что делали во французской поэзии Одилон Редон и Стефан Малларме: изображает оборотную сторону вещей, скрытые в них бездны и тьму. Но в Норвегии стал распространяться слух, что Мунк, возможно, сошел с ума. А если так, зачем тратить деньги на стипендию для «эксцентричного человека, который пытается убедить нас, что природа и люди не такие, какими мы привыкли их видеть»? – заявляют члены комитета, уполномоченного распределять стипендии среди молодых художников. Во время своей поездки во Францию Мунк доезжает до Ниццы. Этот город его очаровывает: радостный дух этого города, климат Ниццы, ее ярко окрашенные виллы и прежде всего Средиземное море для Мунка – экзотика, которая его восхищает и почти заставляет забыть о хронической меланхолии. «Ницца, – пишет он, – город счастья, здоровья и красоты». В статье, которую Мунк пишет для норвежской прессы, он коротко рассказывает, что такое искусство живописи, бичуя при этом тех, кто совершенно не ценит его творчество: «Они не понимают… что дерево может быть красным или синим, что лицо может быть синим или зеленым; они думают, что это фальшь. С детских лет они убеждены, что листья и трава зеленые, а кожа розового цвета. Они не способны понять, что это серьезно; они думают, что это обман или блеф – или же сумасшествие, да, это мнение преобладает. Что эти картины написаны искренне, в муках, что они стоили нам наших сил, нашей энергии – это они не в состоянии понять»[46]. Тем не менее Мунк продолжает упорно трудиться, разрабатывая свой подход к пониманию сокровенных человеческих чувств. Он пытается уловить эти чувства изнутри, как провидец. И его ни на миг не покидает желание написать несколько работ, рассказывающих одну историю, что-то вроде повести – ряд картин, которые, перекликаясь по смыслу, рассказали бы о состояниях его души, о душевных шатаниях и несчастьях. Вот что он пишет в своей записной книжке в 1892 году: «Сейчас я делаю наброски для серии картин, в которую войдет большинство моих полотен, напр. «Мужчина и женщина на пляже», «Красный воздух», картина с лебедем. Они были достаточно непонятными. Я думаю: когда они будут вместе, их легче поймут. Речь будет идти о любви и смерти»[47]. Значит, он снова и снова неутомимо разрабатывает те неотступные мотивы, из-за которых рискует потерять критиков и публику. И среди них появляется мотив отчаяния, непостижимого ожидания, которое Мунк пытается выявить и прояснить. Из чего оно состоит? К какой «недоступной звезде», как говорил Малларме, оно направлено? Мунк пишет персонажей без явных характеристик. Такой «непроявленный» человек часто опирается локтем о парапет, а пейзаж вокруг него распадается на слои и вытягивается по прихоти климата на фоне заката или тусклой зари.
В 1893 году он создает свою, несомненно, самую знаменитую работу – картину «Крик», которая стала творческим перевоплощением другой его работы, «Настроения на закате». На лице центрального персонажа смятение, он обхватил руками голову, словно слышит ужасный, невыносимый для него крик, и смотрит на зрителя. Черты лица лишены не только индивидуальных, но и половых признаков, и эта унификация усиливает обобщенное впечатление ужаса и ошеломления. Персонаж и зритель охвачены одним и тем же изумлением, одной и той же мукой. На заднем плане, несомненно, изображена Христиания – мирный город с парусниками и двумя персонажами, судя по внешности, буржуа, которые поспешно возвращаются домой. Небо рассечено кровавыми ранами, и кажется, что все движется, все изменяется под влиянием неистовой силы крика. Краски ощутимо передают мощь этого звука. Редко случалось, чтобы художник с такой безжалостной силой заставил зрителей услышать звук, никогда чувства не были такими взаимозаменяемыми и мощными.
Даже зритель пойман в сеть этой неустойчивости. Больше нет ничего прочного и ничто не находится на своем месте; все ускользает в щели между узкими цветными полосами, которыми Мунк расчерчивает холст, создавая ощущение невиданного хаоса и головокружения. Мунк желал сделать «Крик» частью серии из шести картин и поместить его на последнее место. Картины должны были описывать одну общую историю, а серия называлась бы «Любовь». Она начиналась бы картиной «Летняя ночь», на которой молодая женщина гуляла бы в сосновом лесу возле пляжа, а кончалась бы «Отчаянием» – так вначале назывался «Крик». В 1893 году сам Мунк и его талант так высоко ценятся в среде норвежских авангардистов, что одному молодому критику приходит на ум мысль написать книгу о нем и его творчестве. Этот автор уже ясно ощущает необычность и своеобразие его живописи: «Вся эта глубина и сумрак, все, для чего язык еще не нашел звуков, что выражается лишь как мрачное предчувствие неосознанного стремления, – все это он облекает в краски, и тогда оно проникает в сознание». Благодаря этому верному подходу Мунк становится одним из самых признанных художников модерна. Больше Мунка не интересуют ни импрессионизм, с которого он начинал, ни натурализм – стиль, в котором работают многие его друзья. Он хочет, чтобы его картины были «лоскутами души»[48]: так пишет Пшибышевский, создатель этой книги. А Мунк идет своим узким и до боли тяжелым путем, не обращая внимания ни на какие отзывы критиков, хорошие или плохие. На большом полотне, названном «Мадонна», он изображает женщину с обнаженной грудью и длинными волосами, которые падают ей на плечи. Она – та, кто рожает детей, и потому Мунк посчитал нужным изобразить в нижней части картины нечто похожее на эмбрион, а по периметру картины – ряд странных значков, похожих на сперматозоиды.
В это время Климт тоже создает картины с «литературными» образами женщин и персонажей, которые тревожат своей странностью. Но Климт дополнял их золотом и световыми эффектами, а Мунк даже не рассматривал возможность работать в таком декоративном стиле. Он писал мутный свет, извлекая его из самой глубины своей души, отражал ту душевную боль, которая жила в нем так давно. Эту окрашенную в бледные тона боль он отправлялся искать очень далеко, чтобы вынести на поверхность реального мира. Чем дальше, тем сильней одержимость одиночеством (из которого он, однако, хотел вырваться с помощью освободительницы-живописи) становится для него западней. Он дополняет свою большую композицию «Любовь» еще восемью картинами. Три из них отражают его тоску: длинные волосы женщин так тесно обвиваются вокруг лица мужчины, что почти душат его. В его дневнике представление о женщине-колдунье, насылающей порчу, выражено еще ясней. Он пишет, по-прежнему своим рубленым стилем: «Я чувствовал, окутывают ли меня еще невидимые нити ее волос, и так же было, когда она исчезла, отправившись к морю; я еще чувствовал боль в том месте, где мое сердце истекало кровью, потому что нити невозможно было вырвать»[49]. Однако он не презирает женщин. Он даже пытается их обольщать и иногда добивается успеха, но всегда хочет бежать от них, потому что никогда не уверен, сможет ли вернуть себе свободу. Часто он изображает себя на своих картинах. Его лицо легко узнать: тонкие черты, пронзительный взгляд, иногда висячие усы, довольно крупный нос, легкий оттенок презрения в контуре рта. Волосы причесаны плохо или наспех. Он был похож на одного из денди эпохи декаданса, постоянно страдающих от меланхолии, мрачных и безразличных ко всему, или на художников из венской, берлинской или парижской богемы. Его картины не оставляют людей безразличными. Наоборот, они возбуждают страсти – вызывают ненависть и омерзение в среде буржуазии и восхищение авангардистов.
Он, несомненно, самый даровитый и изобретательный из всех. Ибсен, великий норвежский драматург и писатель, поражен работами Мунка и говорит, что они вдохновили его самого на написание пьес. В 1895 году Мунк выставляет в Мюнхене картину «Три возраста женщины», которая в то время еще называлась «Тайна». Это свое произведение Мунк повторяет с упорством одержимого. Оно – своего рода триптих, где художник изображает трех женщин в трех возрастах. Он не забывает включить в картину северный пейзаж – пляж в форме петли, светлую ночь, лес и себя самого, не желающего смотреть на трех женщин, застывшего от горя из-за того, что не может ни приблизиться к женской тайне, ни ее понять. Постепенно Мунк поднимается по ступеням славы: он по-прежнему спорный автор, которого подозревают в сумасшествии, однако часть норвежской интеллигенции восторгается им и считает, что он и Ибсен – два величайших таланта в норвежском искусстве. Мунк не становится от этого тщеславным: он слишком занят своей работой – раскопками в душе и подсознании. Он отдает себя искусству, которое считает мистическим, и полностью привязан к тому, что скрывается «за фасадом разума», как говорил психиатр Марсель Режа, тоже восхищавшийся его творчеством. Повторяемость мотивов не означает, что у Мунка нет вдохновения; наоборот, это признак оживления его навязчивых идей. Он пытается добраться до сердцевины своей боли и своих вопросов. А там, в сердцевине, – муки перехода от жизни к смерти, ожидание смерти, ее внезапное появление, боль, которая живет в сердцах людей и выплескивается через край. Все эти боли и муки затопляют пейзаж, текут до берегов моря и вливаются в него. Вернувшись из Парижа, Мунк осенью 1895 года получает разрешение устроить в Христиании большую ретроспективную выставку своих работ. Свидетель этих событий, журналист Эрик Ли, описывает Мунка как необычного человека, замурованного в свое одиночество. «Он находится один на один со своим необыкновенным воображением, одинок как личность, одинок как мужчина. И все же он гораздо ближе к изначальному существу, чем большинство других артистов»[50]. Кажется, Ли прикоснулся в этих словах к самой сути личности Мунка. В творчестве художника тоже начинает отражаться изначальное одиночество. Его пляжи так же девственны, как пляжи Боттичелли; пространство он изображает одним потоком красок, от персонажей остались только силуэты, они только что вышли из своих оболочек или возвращаются в них. Стилизация возникает лишь для того, чтобы подчеркнуть то, что Ли назвал «языком сердца, который, словно пламя, освещает темноту мастерской»[51].
Встреча с Туллой
Итак, жизнь Мунка начинает приобретать форму и систематизироваться. Остается лишь внутренний хаос, в котором ему нужно разобраться – распутать узел своего творчества. Мунк часто переезжает из Норвегиии во Францию и обратно. Так продолжается до 1898 года – точнее, до 10 августа этого года, когда он встретил Туллу Ларсен. Тулле, дочери прославленного и состоятельного торговца винами из Христиании, Петера Андреаса Ларсена, тогда только что исполнилось двадцать девять лет. Она не была замужем и не отличалась особой красотой, ее можно было скорее назвать некрасивой – суровое лицо, длинная тонкая фигура, высокомерный вид. Но у нее густые волосы, рыжие и кудрявые, которые падают ей на плечи; кажется, что Мунк уже изображал ее в своих картинах. Он видит в этом сходстве доказательство верности своего ясновидения, Тулла для него – появившееся перед ним видение. Незадолго до этой встречи Мунк купил маленький дом в Осгордстранде. Впервые он обеспечил себе относительный уют и безопасность от нужды. Тулла – такая необычная девушка в стране, где еще очень сильны буржуазные устои: уже сравнительно немолодая и еще не замужем, с независимым образом мыслей и репутацией причудницы, богата и не обращает внимания на сплетни. Она устраивает вечеринки, на которых спиртное течет рекой, собирает у себя художников и свободомыслящих людей, держится как «холостячка». Их любовная связь начинается через несколько месяцев после первой встречи: по мнению биографов Мунка, это случилось в декабре 1898 года. Тулла выглядела свободной, но была ли она эмансипированной в сексуальном отношении? Похоже, что нет: если верить ее собственным словам, Мунк пробудил в ней большой сексуальный аппетит. «Ты, может быть, этому не веришь, но у меня есть инстинкты, – признается она Мунку. – Что я терплю с тех пор, как ты меня «разбудил»…»[52] Однако эта связь очень быстро терпит крах. Несмотря на поездки в Италию, Францию и Париж, их общий путь обрывается. Кто из двоих покинул другого? Похоже, Мунк Туллу. Видимо, художник стал чувствовать, что задыхается, опутанный роскошными волосами женщины, которая постепенно станет для него тираном. Всего несколько месяцев большого счастья, которое все же прерывалось спорами и минутами горького сожаления, а потом три года непрерывной борьбы, чтобы больше не видеть эту женщину, наконец с ней порвать – вот чем в конечном счете стала для Мунка эта всепоглощающая страсть. Рядом с Туллой Мунк верит в великую и единственную любовь. Но Тулла хочет быть в любви госпожой и собственницей, и ее властность вскоре укрепляет в нем прежнее отвращение к любви. Во Флоренции Мунк обращается с ней грубо и «зло» и отказывается ехать дальше. Разлука с Туллой становится для него мукой, настоящей пыткой. «Мне так тебя не хватает», – записывает он в дневнике. Но сразу же он превращается в обличителя и пишет о том, как много отнимает у него любовная страсть, сколько в ней грубого, как она разрушает его психическое здоровье, как много он потратил на нее энергии и, наконец, как страдает от нее его живопись, единственная, по мнению художника, жертва его «заблуждения».
Короткое счастье во Флоренции он, как ни странно, считает ошибкой. Для него эти счастливые минуты – печальные знаки его неспособности и бессилия ощутить сладость жизни. Он пытается объяснить свои чувства: это счастье «касалось его лишь как взгляд через приоткрытую дверь – через дверь, которая оставляла его в темной келье и отделяла от большой веселой гостиной, полной жизни и света»[53]. То есть, когда он на короткое время позволил себе любить, любовь раскрыла перед ним его недостатки, и теперь он уверен, что навсегда останется в своей «темной келье». По словам художника, это открытие сделало его «жалкой развалиной». Дар живописца, который он получил как испытание и роковую благодать, возвращает его в одиночество, к неизлечимым мукам. «Я должен работать, – говорит он Тулле. – Это занимает мой ум. Ты должна понять, что я не могу отказаться от этой судьбы». Слово сказано. Мунк осознает свое высокое предназначение – быть настоящим художником, таким же изобретательным и ярким, как Микеланджело и великие итальянские примитивисты, которыми он восхищался. И потому совесть не позволяет ему больше оставаться в рабстве у страсти и инстинктов. Нечто невероятно мистическое пронизывает его жизнь, и он отказывается противостоять этой силе. Он думает, что Тулла поймет этот аскетизм. Другие девушки, которых он знал, смирно соглашались уйти, когда Мунк давал им отставку: они, вероятно, понимали, что сами не будут счастливы рядом с ним. Но теперь он не учел, что Тулла по характеру завоевательница. На протяжении многих месяцев после того случая в Италии у нее на уме лишь одно – вернуть Мунка, загнать в угол, чтобы он ясно высказался, поставить его лицом к лицу с вопросами, которые его преследуют. Мунк уже сделал выбор между любовью и живописью, но у него не хватает сил взять разрыв на себя и сказать о своем решении Тулле. А Тулла требует, чтобы он принял ответственность на себя и взвалил себе на плечи бремя своих принципов. У Мунка идеализированное и пуританское представление о любви. Что это – наследие детства, которое было потревожено смертью матери и другими несчастьями семьи? Желание стабильной жизни, неподвластной случайностям любви и любовным конфликтам? Боязнь поражения? Стремление к высотам духовного совершенства, когда осуждается любое уклонение с этого пути в сферу чувственного? Тайный мысленный диалог с матерью? Мунку не удается установить мирные отношения с сексом: эта тема неотступно преследует его и часто появляется в творчестве, но в качестве злого колдовства, которое нужно разрушить. Фактически убежав от Туллы и оказавшись далеко от нее, Мунк вовсе не освободился от этой женщины. Она требует от него ответа, угрожает ему в письмах, а он трусливо отвечает: «Моя любимая – тысячу раз спасибо за твои письма – разумеется, я тебя люблю – именно это и есть сумасшествие». Но тут же добавляет: «Я создан чтобы писать картины и только для этого вот почему я считаю что должен выбрать между любовью и моей работой»[54]. Эта фраза написана именно так – без знаков препинания, словно Мунк пытался раз навсегда освободиться от Туллы и, опасаясь своего промедления и собственной трусости, осмелился наконец сказать ей, что он предпочел. Но Тулла не признает себя побежденной. Что, в конце концов, она ждет от Мунка, который дает ей так мало, плохо обращается с ней и покидает ее? Какое-то время она живет на окраине Парижа, где поселился и Мунк; но художник отказывается встретиться с ней и больше не приглашает ее к себе. Они обмениваются письмами, однако Мунк не уступает. Живопись настолько овладела им, что он полностью отказывается от парижской жизни, от вечеров с друзьями из маленького кружка норвежских артистов, от встреч с французскими художниками. В одном из писем к Тулле он пишет невозвратные слова: «Речь идет о том, чтобы знать, что лучше – бесконечное желание, уходящее во вселенную, или немедленное удовлетворение. Что нужно предпочесть: мечту о счастье или так называемое счастье?»[55] То есть он укрепляется в своем представлении о жизни, и оно становится все ближе к моральному и физическому аскетизму. В это время Мунк пишет больше, чем когда-либо. В картинах отражаются его внутренние конфликты: волосы женщин похожи на щупальца, лица у них как у колдуний. Красочная гамма и стиль его работ отмечены, словно шрамами, следами грубости и жестокости. Он все сильней чувствует себя связанным с Туллой, но не любовной связью, а невидимыми магическими чарами, ощущает себя ее пленником. Она и на самом деле не оставляет его в покое, несмотря на все его отказы. Она забрасывает его пылкими письмами, рассчитанными на то, чтобы вызвать у него угрызения совести. «Твоя очень грустная Тулла» – так называет она себя Мунку в одном из них.
Необходимость быть одиноким
Но эти письма не находят в душе Мунка никакого отклика. Иногда он испытывает к Тулле каплю сострадания из-за мук, которые она, видимо, терпит. А порой чувствует себя виноватым в том, что не может осуществить ее мечту о жизни вдвоем. Тулла же уверена, что Мунку для воплощения этой мечты нужно только уклониться от приказа, который он слышит в глубине души. Но художник не уступает. В его словах всегда слышны желание служить своему призванию и боязнь предать это призвание, отдавшись тому, что он называет «общей жизнью». В картине «Танец жизни», над которой он работает в это время, символически отразились эти главные темы его глубинных мыслей. Подобно Гогену с его большими «романтическими» фресками Мунк изображает три возраста жизни в виде трех женщин. Действие происходит на поле у берега моря, которое занимает задний план картины, создавая спокойный горизонтальный фон. В центре танцует пара – молодая женщина и обнимающий ее мужчина.
Рыжие волосы женщины, словно щупальца, тянутся к горлу мужчины, как будто для того, чтобы его задушить. Слева женщина в белом платье протягивает руку к цветку, который не может сорвать; справа старая женщина в черном бессильно скрестила руки перед собой: она не может принять жизнь. На небе – розовая луна (или, возможно, солнце). Ее свет стекает в море, которое его поглощает. На заднем пане танцуют другие пары. Движения, которые Мунк изображает на холсте, всегда связаны с головокружительным вращением его мыслей и чувств. Этот танец был бы похож на ту сцену возле кабачка на берегу Марны, которую изобразил на одной своей картине Ренуар, но в деревенской сценке Мунка есть свинцовая тяжесть, которой нет у художника с Монмартра. Ровные однотонные участки фона, которые он пишет вокруг своих персонажей, добавляют плотности изображенному мгновению. Цвета во многих случаях яркие, но, как ни странно, от них исходит экзистенциальная грусть, непреодолимая метафизическая печаль. Слева и справа изображена Тулла. Она – и девушка в белом, и старая женщина в траурном платье. На картине изображено ее поражение: она не смогла заменить ту, которая танцует с мужчиной – с Мунком; ту, кого художник в своем дневнике назвал счастливым воспоминанием о своей первой любви. «Танец жизни» выводит Туллу из себя. Она, гордая и высокомерная, не может отказаться от Мунка. Но чем больше она ему пишет, тем глубже хоронит их любовь. Она пробует все способы приблизиться к нему – соблазнение, угрозы и под конец жалобы: «Почему ты не хочешь понять – ты, который как раз должен осознавать это, – что я очень страдаю оттого, что люблю тебя так, как я это делаю?»[56] Но настойчивость Туллы приводит к обратному результату. Мунк чувствует себя осажденным, околдованным. Длинные кудри Туллы – это волосы Медузы и ее сестер-горгон, или женщин-вампиров.
Мунк ставит между Туллой и собой свой долг: он якобы должен покориться тирании живописи, его долг и почти жертва – подчиниться искусству. Тулла выпрашивает у художника, словно подаяние, короткую встречу и умоляет Мунка позвать ее к себе, обещает не делать ничего, что может его огорчить или помешать ему. Но Мунк все сильней озлобляется. Теперь все, что связано с сексуальностью, вызывает у него отвращение. Одно из его основных убеждений – что секс мешает мужчине наилучшим образом раскрыть его возможности. Он всегда так считал, и теперь эта уверенность сдерживает его. Он использует этот довод в переписке с Туллой: «Ты слишком цельная, чтобы удовлетвориться частичной любовью». Для него искусство – единственное отражение сексуальности. Оно – плод желания, свойственный ему одному признак сексуальных стремлений. Писать картины – значит сеять свое семя, и потому художник не может предаваться сексуальному разврату без опасения растратить свой талант. Значит, для него единственное место раскрытия сексуальности – холст. Именно на нем Мунк решает свои конфликты и успокаивает свои тревоги. Постепенно он начинает считать Туллу Евой-искусительницей и ненавидеть ее. Он пишет ей жестокие слова: «Я сказал бы, что твоя жажда неутолима… как будто я каждый раз должен отдавать тебе часть моих малых сил»[57]. И снова возникает слово «долг». Ситуация становится неразрешимой: Мунку не хватает мужества окончательно порвать с Туллой, а Тулла не оставляет его.
«Уладить это дело»
Мунк чувствует: чтобы выбраться из западни, в которую их загнала эта роковая связь, он обязан принять решение, каким бы неудобным оно ни было.
И он предлагает Тулле… выйти за него замуж. Однако это предложение руки и сердца сопровождается досадными для Туллы условиями, которые она все же вынуждена принять. Мунк предлагает ей стать его женой «во всяком случае, формально». Он пытается объяснить Тулле все возможные выгоды ее нового положения: «У тебя будет что-то вроде домашнего очага, и ты будешь носить мое имя – это не означает ничего другого – что касается остального, увидим потом»[58]. Влюбленной Тулле горько читать такое предложение, но она соглашается и отвечает: «Я считаю, ты знаешь, что лучше для нас обоих». Она уверена в своем решении, но Мунк все же прогоняет ее от себя: он хочет всегда быть один и посвятить себя живописи. Тулла возвращается в Берлин. Мунк тоже ездит по миру, планирует новую выставку и пользуется этим проектом как предлогом, чтобы отказаться и от свадьбы, и от заполнения личного дела для администрации. У него якобы не хватит сил на подготовку своей выставки, если он еще будет заниматься этой свадьбой! Находясь в таком непрочном и сложном положении, Тулла заболевает. Здоровье Мунка тоже ухудшается. У него начинается рецидив туберкулеза, и он хочет прежде всего удалиться от мира и отдохнуть. Он бережет свое здоровье, но при этом не отказывается от алкоголя. Он снова пишет Тулле и объявляет, что больше не хочет жениться. «Я отказываюсь участвовать в этой бешеной погоне за жизнью», – пишет он. Сказано сильно, и эти полные боли слова свидетельствуют о глубине его депрессии. Как можно связать ее, «женщину неосмотрительную – земную – типичную мать на земле» с ним, «последним обломком семьи, обреченной угаснуть»?[59] Мунк явным образом становится на сторону смерти. Его живопись может лишь быть передатчицей его мыслей.
Поэтому на офортах, гравюрах и картинах он постоянно изображает себя, задушенного женскими волосами или в виде жертвы, за которой гонятся уродливые женщины-вампиры с безумными глазами.
Теперь Мунк избегает встреч с Туллой. А она продолжает свою долгую жалобу в письмах, больше не стесняясь вызывать у него чувство вины и выставлять напоказ свои страдания. Она даже угрожает покончить с собой, если он не придет повидаться с ней в Берлине. «Я дошла до того, что желаю, чтобы моя жизнь как можно скорей окончилась», – говорит она Мунку. И он снова уступает. Он поручает Тулле заняться всеми свадебными делами, но, когда дело доходит до заполнения личного дела и других документов, уклоняется, перестает отвечать на письма, притворяется, будто не получил их, или уезжает. Наконец они встречаются снова, чтобы отправиться в путешествие, которое Мунк планировал уже давно. Они едут во Францию, на Лазурный Берег. Там Тулла останавливается в Каннах, а Мунк живет в Ницце. Между ними происходят сильнейшие ссоры. Тулла, у которой нервы напряжены до предела, настаивает на свадьбе. Мунк пьянствует и больше не контролирует себя. Позже он опишет в дневнике это время как один из самых мучительных периодов жизни и добавит, что для него жениться – значит «связать себя с адом на всю оставшуюся жизнь»[60], но что он жалеет о «плотских излишествах». В итоге – новый отъезд, точнее, побег: Мунк уезжает из Франции в Милан, не предупредив об этом Туллу. Но Тулла пишет Ингер Мунк, от нее узнает, где он, едет туда и снова встречается с ним. Так они проводят лето 1899 года – в погоне друг за другом, враждебных встречах и отчаянных побегах. Мунк всегда требует одного и того же. «Я хочу покоя», – настаивает он в одном из своих писем к Тулле. Затем их следы можно обнаружить на севере Италии – в Лугано, Мендризио, Аироло и Сен-Готарде. Они по-прежнему не понимают друг друга. Мунк больше не любит Туллу, но не находит в себе сил расстаться с ней. Хуже того: он подозревает, что его отсрочки и страдания идут на пользу его живописи и служат топливом для творчества. Возможно, Тулла и сопротивление Мунка ей – жертвенное бремя, которое он должен нести, чтобы творить. Именно в это время он завершает большую картину «Адам и Ева» – глубокое размышление о жизни и смерти, о грехе и благодати на основе мотива, хорошо известного в классической живописи. Картина имеет форму триптиха. Первую человеческую пару разделяет на ней сосновый лес. Прямые стволы сосен очень резко выделяются в бледном северном свете и напоминают острые лезвия. В верхней части картины изображен город с куполами. Этот мотив уже давно появляется в творчестве Мунка. Женщина, несомненно, Тулла с ее длинными рыжими, почти оранжевыми волосами. Но в отличие, например, от картин Боттичелли и Кранаха в этой сцене есть какая-то духота, что-то давящее. Зритель не чувствует никакой связи между первыми людьми: Мунк словно хотел показать невозможность их совместной жизни с Туллой. Адам и Ева не смотрят друг на друга, их глаза опущены; пространство холста кажется замкнутым, оно не расширяется в вечность. В это же время, в 1900 году, Мунк начинает писать распятие. Религиозные темы приобретают для него большую важность, может быть, потому, что они – его последнее прибежище, способ не поддаваться искушениям Туллы и уйти в область мистики. На кресте он изображает себя самого, его легко узнать, только, может быть, фигура более хрупкая, чем на самом деле. Во всяком случае, она лишена ярко выраженных половых признаков, которые есть у Адама и Евы. В многочисленной толпе у подножия креста можно увидеть его же, изображенного в профиль и полного тревоги и тоски, а также некоторых его друзей – Крога с бородой, Пшибышевского, двойника мужчины из «Ревности». В нижней части картины – фриз из непристойных сцен: это ад сексуальных отношений. В этой картине Мунк поднимается до высокой духовности. Как Матиас Грюневальд в своем грубом стилизованном натурализме, Мунк достигает здесь трагической экспрессии и утверждает, что он, художник, согласен принести жертву – распять себя на кресте абсолютной верности искусству.
Угрозы вампирши
Но Туллу ничто не останавливает. Она использует все средства, чтобы снова завоевать Мунка, и угнетает его душу письмами, не допускающими возражений, угрожающими или вызывающими тревогу. Эти перемены тона мешают художнику понять, в каком она состоянии. Тулла заявляет, что близка к самоубийству. От этого у Мунка усиливается чувство вины перед ней, но, несмотря на помехи, которые создает ему Тулла, он продолжает работать. В это время он пишет восхитительную картину «Девушки на мосту» – сценку, которую увидел в реальности и которой был очарован. Технические приемы и взгляд здесь все те же, характерные для Мунка, – очертания дороги изгибаются и ускользают, вода глубока как бездна, хотя вдоль берега стоят мирные домики, укрытые деревьями парка. Но все же это один из редких случаев, когда картина Мунка излучает нежность и легкую светлую красоту. Своей ласковой прелестью она очаровывает публику. Но очень скоро, в 1901–1902 годах, Мунк возвращается к обычным для него трагическим сюжетам, в которых главную роль играют тоска и смерть. События, положившие конец связи с Туллой, тоже дали пищу его неврозам и тревогам. Картина «Белая ночь», которую он написал в 1901 году, изображает то короткое время, когда норвежская природа замерла под снегом, постоянно ощущается далекая опасность, исходящая от моря, и дом, тесно сжатый оградой и огромными деревьями, словно находится под угрозой. Пейзаж, который мог бы стать сказочным, скован страхом и одиночеством. Мунк узнает новости о Тулле от своей семьи: она переписывается с его родными, чтобы не терять связи с ним. Мунк не питает иллюзий на этот счет: он знает, в чем причина ее интереса к его семье. Ее тень, ее отражение то и дело проникают к нему и не дают покоя. Но летом 1902 года ход событий ускоряется. От Сесилии Даль, подруги Туллы, приходит известие, что 22 августа Тулла пыталась покончить жизнь самоубийством. В тоске и отчаянии, не видя другого исхода для их отношений, она приняла два пузырька морфина. Мы никогда не узнаем, чего она добивалась на самом деле и что хотела сказать Мунку этой попыткой. Сесилия посоветовала ему приехать к Тулле как можно скорее и сообщила расписание корабля, перевозившего пассажиров через фьорд. Через два дня художник был у постели Туллы. В своем дневнике он от имени своего двойника Брандта описал ее так: «…Лежала на кровати – совсем белая – неподвижная – умершая от горя из-за него – он больше не мог ее утешить – оживить ее застывшее лицо – и тоска овладела его сердцем»[61]. Его приезд описывали по-разному. Некоторые рассказчики считали, что Тулла манипулировала Мунком, а ее изображения на его картинах создали ей скандальную репутацию. Может быть, самоубийство было только спектаклем? Может быть, она умело рассчитала дозу морфина так, чтобы не умереть, но произвести впечатление на Мунка? Эта гипотеза широко распространена среди биографов художника. Он вроде бы подошел к постели Туллы и, считая, что молодая женщина мертва, обезумел от мук совести, упал на мнимый труп и крепко обнял любимую. В этот момент Тулла открыла глаза и будто бы воскресла, отчего Мунк пришел в ужас. Разумеется, эта драматическая версия усиливает легенду о жгучей страсти, превращая Туллу в вампира, дьяволицу, демона в женском облике, а Мунка – в ее жертву. Впрочем, он и сам часто изображал себя жертвой на своих автопортретах. Но, по словам самого Мунка, их встреча была более спокойной, чем утверждали слухи. Он подошел к постели, чтобы успокоить и утешить Туллу. Все убеждало его, что она умирает из-за любви к нему. Он всю ночь провел без сна возле нее и уехал утром, когда Тулла уже возвращалась к жизни, ободренная клятвами, которые шептал ей Мунк. Он пообещал ей приехать на следующей неделе и вместе с ней возвратиться в Осгордстранд. Там, оставшись вдвоем в ласковой тишине поселка, который Мунк так часто изображал на картинах, они смогут подумать о своей предполагаемой свадьбе. Может быть, этим обещанием Мунк выигрывал время? Или он говорил искренне, растерявшись и не зная, как вести себя с Туллой, но теперь все же хотел быть вдали от нее, чтобы наконец обрести такой желанный «покой»? Он станет вести такую жизнь, какая подходит Тулле. Он заново обдумает ее просьбу следовать за ним. Тулла согласилась на эти условия, и они, как было решено, переехали в Осгордстранд. Там они спали в разных комнатах. Ночью Мунк пришел к Тулле и обнял ее. Они долго лежали неподвижно, как две статуи надгробного памятника. Может быть, они мысленно просили свое объятие соединить их снова, помочь им срастись в одно целое. Но в Тулле что-то надломилось. В ней больше не было надменности и необузданной силы, которые стали пугать Мунка. В то короткое время, которое Тулла провела в Осгордстранде, она была безразлична ко всему. В своем дневнике Мунк описывает их прогулки вдвоем. И в этом рассказе чувствуется сходство с прогулкой, которую он уже изобразил на холсте – на картине «Одинокие», в 1895 году. На ней двое, мужчина и женщина, показанные со спины, стоят на отмели рядом, но отдельно друг от друга и глядят на море. В сущности, им с Туллой больше нечего сказать друг другу – словно все закончилось. Прибрежный пейзаж равнодушен к их драме. «Со всех сторон луга и поля, похожие на волны – на горизонте маленькие холмы – среди плодовых деревьев стоят симпатичные дома, окрашенные в белый цвет – внутри двора ярко-красные служебные постройки – все тихо и спокойно – как в воскресенье», – простодушно записывает он. Ему нравится эта ласковая природа, которую он так часто изображал на холсте. Эти норвежские деревья напоминают тихий Понт-Авен, который любили писать Ван Гог и Гоген, но среди ласки и покоя, в самой их сердцевине – «мы двое рядом, немые». За молчанием, которым так часто полны картины Мунка, скрывается тайное горе, разрушающее изображенных им людей. Немота и непонимание равнозначны крикам и упрекам: Мунк размышляет о том, манипулирует ли им Тулла, а она не отвечает, укрывшись в своей тайне, как в убежище. Снова начинаются их странные переговоры за закрытыми дверями. Тулла больше, чем когда-либо, становится для Мунка дьяволицей, которую пронизывают волны вредоносной разрушительной энергии.
«Пуля, не попавшая в цель»
Как теперь жить? Как раз и навсегда спастись от приворотного зелья Туллы? И вот однажды после обеда, прошедшего в том давящем молчании, которого теперь старательно придерживалась Тулла, Мунк выпил много коньяка, поднялся в свою комнату, открыл ящик маленького бюро и вынул оттуда револьвер. Что он хотел сделать? Мунк пытался это объяснить, но сразу же пришел к выводу, что в нем тогда тайно, «неосознанно» вместо него самого действовал его двойник – второе «я». Он был не в состоянии проанализировать обстоятельства, при которых взял в руки оружие. Но главным было вот что: он видел в этом поступке порыв к жизни, а не к смерти, действие необходимое, чтобы выжить. Затем он спустился по лестнице в столовую. Атмосфера в доме была тяжелая. Тулла не позволяла ему заметить ничего из ее страданий и забот. Сердилась ли она молча в своем углу или с помощью молчания готовила сцену для нового ужасного спектакля? С этого момента возникает несколько версий дальнейших событий. Предполагают, что Тулла, «обезумевшая от отчаяния», увидела в руках у Мунка револьвер и бросилась на художника, чтобы вырвать у него оружие. Хотела ли она завладеть револьвером, чтобы убить себя или чтобы сначала убить Мунка, а потом застрелиться? Этого никто не узнает. Мунк удержал ее руку, но во время их борьбы револьвер случайно выстрелил, и пуля серьезно ранила художника. Он потерял сознание, а когда через несколько минут пришел в себя, первым, кого он увидел, была Тулла, вытиравшая кровь с пола. Тем, кто пришел ему помочь, Мунк сначала сказал, что хотел уберечь Туллу от убийства или самоубийства. Потом он сменил это объяснение на другое, более подходящее для мечтателя-провидца, во всяком случае более артистическое: им руководили инстинкт протеста и желание положить конец этой истории, хотя бы рискнув при этом жизнью. Мунк хотел сделать что-нибудь ужасное, чтобы прекратить преследование. В своем дневнике он задает вопрос: «Не поняла ли эта другая воля, что иного выхода нет, что если эта женщина будет такой же – как прежде – то это будет смерть – для меня – что я больше не смогу сопротивляться?»[62] Ему пришлось перенести операцию. «Пуля застряла в среднем пальце левой руки», значит, попала в жизненно важное для художника место: сможет ли Мунк снова писать картины? Он знал, что больше ничто не будет по-прежнему. Может быть, его поступок казался ему чем-то вроде воскресения? Может быть, он считал, что может спастись, пройдя близко от смерти? Теперь он знал, что Тулла больше не вернется. И действительно она была потрясена этим несчастным случаем и покинула городок. Но он очень часто видел ее и позже. Вскоре Тулла – вероятно, чтобы залечить рану, нанесенную ее самолюбию, – влюбилась в молодого художника Арне Кавли. Ему было двадцать четыре года, ей – на девять лет больше. Мунк увидел в этом вампирское желание набраться новых сил рядом с мужчиной, который намного моложе его.
Тулла больше ни разу не встретилась с Мунком, но продолжала неотступной тенью присутствовать в его жизни и творчестве. Она не совсем покинула Мунка: острая боль в руке вновь и вновь напоминала ему о мистическом присутствии Туллы рядом, о том, как она украдкой проникала в его сознание и его картины. Чтобы изгнать ее, Мунк написал много картин, изображающих ее всегда очень свирепой и жестокой. Рыжеволосая, с глазами навыкате, она смотрит на него взглядом Медузы, мешая жить и развиваться. Мунк часто думал, что «большая сцена» с самоубийством, стать свидетелем которой его вынудила Тулла, была результатом хитроумной интриги – что эта женщина уже давно разрабатывала свой коварный план и ей даже мог помочь в этом ее новый любовник. Постепенно Мунк стал верить, что околдован. У него началась паранойя в достаточно тяжелой форме. Мунку понадобились отдых, лекарства и советы психиатров: связь с Туллой расшатала психику и превратила его в «развалину». Фактически эта женщина всегда была близко к нему. Когда он написал «Смерть Марата», Шарлотта Корде получилась похожей на Туллу. Резкие и пестрые краски его жестокого экспрессионизма снова стали более насыщенными. Несмотря на то что мазки полны движения; несмотря на сумятицу и беспорядок, которые Мунк внес в сюжет, чтобы показать величину драмы, предшествовавшей то ли убийству, то ли самоубийству, на картине царит тишина, как будто даже холст ощущает всю боль этой сцены. Художник изображает себя мертвым и Туллу, бросающей вызов миру, который на нее смотрит; ее большие глаза с тяжелыми веками выдерживают взгляд зрителя.
Никогда краски в его картинах не текли так буйно; простыни (еще один навязчивый мотив у Мунка) и здесь похожи на взволнованное море, а линии фона напоминают водоросли; в этом бездонном океане вот-вот утонет убитый мужчина. С таким же настроением в это же время, в 1907 году, Мунк разделил на две части свою работу, написанную в 1905 году. «Автопортрет на зеленом фоне» и «Шаржевый портрет Туллы Ларсен» вначале были одной картиной – «Автопортретом с Туллой Ларсен»; теперь он разрезал ее пополам и превратил в диптих. Так художник почти магически и суеверно разделил свое и ее лица. Однако прядь пышных волос Туллы осталась на его автопортрете; она как будто продолжает тянуться к мужчине-жертве, как язык пламени, стараясь коснуться его торса. Мунк по-прежнему одержим «тайной двоих». В том же 1907 году он пишет «Амура и Психею», изобразив их в виде мужчины и женщины, которые смотрят друг на друга. Лица обоих напряжены, они стоят очень прямо и не могут приблизиться друг к другу и обняться, как пара на другой его работе – знаменитом «Поцелуе». «Поцелуй» был написан в 1895 году, и Мунк часто повторял его тему в этюдах и набросках, в офортах и серии литографий. Это картина в духе Климта – изображение пары, которую наконец соединила любовь; тела влюбленных сплелись так тесно, что их силуэты слились в один. А в «Амуре и Психее» любовники – чужие друг для друга, и зритель уже по одному пространству, которое разделяет их и освобождает друг от друга, чувствует все бессилие Мунка, скрытое за полным молчанием. Однако через пять лет после разрыва с Туллой Мунк попытался избавиться от душевной тяжести, которая все еще тормозила его творчество. Он написал большую картину «Купающиеся мужчины», где изобразил нескольких своих друзей, которых перед этим сфотографировал голыми, выходящими из воды. В этой работе, полной жизненных сил, он порывает со сценами смерти и красками гибели, характерными для него в годы выздоровления. В 1909 году он начинает работу над другой большой картиной в том же стиле, которую назвал «Солнце». Она предназначалась для «Аулы» – большого зала его университета, и в ней художник примирился с могучими космическими силами. Все полотно освещено концентрическими лучами солнца, свет которого дробится на части, занимает весь горизонт и освещает норвежский сельский пейзаж. Море тоже получает щедрые дары солнца. В картине отразилась радость ее создателя; Мунк из последних сил делает рывок, чтобы убежать от своего изначального отчаяния. В том же году он пишет еще одну картину – «Художник и его модель». Место действия – спальня, где можно разглядеть кровать с расстеленными простынями. На переднем плане – обнаженная женщина с длинными распущенными волосами; она молча смотрит на зрителя, и ее взгляд выражает свирепую силу. За ее спиной стоит художник. Он неподвижен, словно окаменел. Но его лицо ярко освещено, а ее лицо искажено демоническими тенями. Эта женщина не имеет ни точного, ни приблизительного сходства с Туллой. Она заперта в своей ночи, как в темнице; на этот раз женщина не увлечет мужчину в свой головокружительный вихрь и не опутает его своими волосами. Верил ли Мунк, что в этой работе победил своих внутренних чудовищ, стерев с души след той, которая его так мучила? Или он сам был в плену у своего магического мышления и хотел заклясть судьбу, связавшую его с неумолимой горгоной? Эта связь не рвалась, несмотря на расстояние, которым он сумел отделить себя от своей Медузы. Туллу нельзя было забыть так быстро. Он решительно и окончательно удалил ее из своей жизни, но по-прежнему был одержим ею, и это отразилось в созданных им тогда картинах. Мунк стал еще сильнее разрушать себя спиртным, и это кончилось тем, что его организм пострадал от пьянства. В своем дневнике он написал: «Я чувствую, [что алкоголь] пожирает меня изнутри – вплоть до моих самых тонких нервов – и в придачу к этому еще табак. […] Задеты самые деликатные нервы, я это чувствую – и поражен самый тонкий из них – я замечаю, что это нерв жизни»[63]. Тогда художник лег в психиатрическую клинику, где провел много месяцев. «Вокруг меня сомкнулся странный мир… – утверждает он. – Женщину я оставлю на небесах – как старые итальянские художники – У роз слишком колючие шипы»[64]. Прошло время, известность Мунка стала широкой и бесспорной, но он не обрел ни душевного равновесия, ни спокойствия. На своих автопортретах сороковых годов он выглядит исхудавшим и ослабшим. Надменность, которой он отличался во времена Туллы, исчезла. Он изображает себя стариком в скромной комнате – руки опущены, губы обвисли, взгляд дикий. Эти портреты больше всех остальных его картин говорят о приближении смерти, тайну которой он столько раз пытался разгадать. Теперь эта тайна является ему в облике его собственной мужской наготы: он рисует себя голым и лежащим. На «Автопортрете между часами и кроватью» он изображает себя словно заблудившимся между часами, которые невозмутимо отсчитывают время, и портретом обнаженной женщины во весь рост. Эти изображения символизируют то, чем был одержим Мунк, – время и женское тело, к которому он редко прикасался из боязни злых женских чар. Может быть, дело в том, что его мать умерла, когда он был еще очень мал? Лишившись ее, он, конечно, чувствовал себя покинутым и, возможно, потом не хотел снова пережить такую же душевную травму. Осталась лишь так и не разгаданная и по-настоящему не проанализированная легенда о Тулле: навязчивые идеи, которыми был одержим художник, в итоге заставили его поверить, что его любовница устроила против него заговор. Ее образ вовсе не стерся из его сознания, а стал символом уничтожения и смерти. У Мунка не осталось о ней ни одного счастливого воспоминания, а лишь память о трагическом случае, который навсегда сделался для него оковами.
Конечно, источником всех его психологических тормозов и мучительных тревог было пуританское лютеранское воспитание. В большинстве его работ женщина показана во множестве противоречивых ролей, которые не могут объединиться и наполнить художника позитивной энергией. А потому первородный грех присутствует на его полотнах в виде красных красок, символов пламени – «огня тлеющего» и «пожирающего», как упрямо говорил художник. Картина «Мужчина и женщина» написана в 1913–1915 годах, «Меланхолия» в 1891-м, «Вампир» в 1893-м, а время написания «Плачущей женщины» неизвестно. Но во всех них видно одинаковое отчаяние – то, которое звучит в молитвах. В любом периоде своего творчества Мунк рассказывал средствами живописи о непреодолимых трудностях, не позволяющих ему связать себя с женщиной. Одиночество, оплакивание, пейзаж, разделенный на части границами и окрашенный в выразительные тона; залитое красным светом лицо страдающей молодой женщины; расстояние между мужчиной и женщиной; даже волнистые вьющиеся волосы, которые подобны смерчу и опутывают мужчину, словно щупальца, – все это выражает боль от встречи и опасность, подстерегающую отдавшегося любви. Для Мунка женщина всегда остается хищницей, которая охотится на любую добычу, злодейкой-искусительницей из Книги Бытия. Но при этом ее нагота не всегда чувственная: эта нагота может быть жалкой; женщина в горе и отчаянии становится развалиной. Отношения с Туллой были переломом в жизни Мунка, одним из важнейших эпизодов его жизни – и одним из самых жестоких. Тулла была его моделью, хотя никогда не позировала для него явно, как делали некоторые ее ровесницы, вдохновлявшие других художников. Мунк писал ее по памяти, но его главным образом интересовали отголоски воспоминаний о Тулле, ее эхо в его душе, ее след в его жизни. Он рисовал ее постоянно, потому что, делая это, приглушал свою боль: если Тулла изображена на холсте, она не сможет ускользнуть от него и не продолжит его тревожить. Рамы картин ограждали ее, не давали ей звучать в его душе. Наверное, Мунк вел себя наивно: он ведь знал, что не Тулла была причиной его трудностей. Проблема коренилась в нем самом, его прошлом, детских верованиях, которые он никогда так и не смог преодолеть. Она давала новую жизнь его личным мифам, а он творил из этого свои легенды. Писал яркие образы своего бессознательного второго «я». Он любил невидимый пожар, который всегда тлел в нем и сжигал его на малом огне. Даже в старости, внешне наконец утихший и спокойный, в красивом доме, который купил себе в Экели, возле Осло, признанный и знаменитый, Мунк часто писал как в тяжелые для него годы: его картины и особенно гравюры опять приобретали прежнюю терпкую суровость. Немцы объявили его искусство дегенеративным и на этом основании отвергли и конфисковали его картины. Но Мунк продолжал писать. На последнем автопортрете он изобразил себя идущим по своему саду в Экели после того, как бойцы Сопротивления взорвали центральный мост в Осло. В тот день, 19 декабря 1943 года, старого художника охватил гнев, и он долго ходил по саду, хотя было холодно. Из-за этого Мунк заболел и 23 января умер от тяжелого бронхита. От картины почти ничего не осталось, но видно, что Мунк, как всегда, шел прямо к сути в обычном для него стиле. На холсте голые зимние деревья, опустевшие скамьи в саду, изгородь, которая отделяет сад от окружающих его полей, на горизонте то ли море, то ли небо с движущимися облаками. Его живописная манера, полная жизни и неистовая, проявилась в этой работе со всей очевидностью. Силуэт в центре написан большими волнистыми вертикальными линиями; он словно колеблется, и кажется, что мужчина в пальто дрожит от холода. Мунк никогда не переставал улавливать эти минуты одиночества и возмущения, этот холод в глубине себя самого и эту загадочную боль, тайну которой он так и не смог понять до конца, но которая так ярко проявилась в красках его работ. «Покоя!» – требовал он от Туллы, но не нашел умиротворения даже в своем уютном убежище. Его душа была охвачена огромным, непостижимым ужасом, который не смогла ослабить даже живопись. Он стал невольником тех чувств, в которых признался с трагической ясностью: «Я никогда не любил… Я знал страсть, которая сдвигает горы и преобразует человека. Страсть, которая вырывает у человека сердце и пьет его кровь…»
Тулла умерла в 1942 году, в возрасте шестидесяти трех лет. Значит, Мунк пережил ее на два года – два года войны. Перед самой смертью ему исполнилось восемьдесят лет.
Оскар Кокошка (1879–1964) и Альма Малер (1886–1980) Дикарь и невеста ветра
Эта история началась 18 мая 1911 года.
Пылкая Альма Малер только что лишилась мужа, великого композитора Густава Малера, к которому вся Вена питала беспредельную любовь и столь же огромное уважение. Теперь Альма вдова и гордо, всем напоказ носит траур, почти щеголяя своей скорбью. Она красива. Ей около тридцати двух лет, но она не утратила необузданный нрав, который всегда был ей свойствен. Эти черты характера уже несколько раз вредили ей в светском обществе Вены, но Альму совершенно не беспокоит, что болтают про нее в салонах. Она очень высокого мнения о себе, она знает цену себе и своему блестящему уму, знает и силу своего женского обаяния. На всех фотографиях, сделанных в то время, это высокомерная, почти надменная красавица. Черты лица говорят о сильном характере: квадратный контур, немного выступающие скулы, взгляд, устремленный прямо в объектив. Строго говоря, по меркам той эпохи Альма не изящна: нет ни скромности, ни сдержанности, ни покорности. Она известна главным образом своей вспыльчивостью, вспышками гнева, капризами, неуступчивостью и упрямством. Говорят, что у нее властный и немного мужской характер, однако она умеет пользоваться женскими чарами; и все же в ней больше от амазонки, чем от Офелии. Ее ум бросает вызов мужским умам; она любит сопротивляться. Если не знать о ее происхождении и прошлом, ее можно принять за куртизанку, даму полусвета, которая не страшится ничего. Но у Альмы есть слабости: тайные душевные раны не позволяют ей до конца играть роль победительницы и лишенной иллюзий соблазнительницы, в которой ее хотят видеть другие. Она еще и творческий человек. Альма – талантливый музыкант, но супружеская жизнь с Густавом Малером, целомудренным в любви, но ярким музыкантом, душила ее талант. Приговоренная к молчанию, она повиновалась мужу, но не была укрощена и, строго говоря, не была способна жертвовать собой. В душе Альма рычала от гнева. В этой женщине кипели неистовые страсти и желания, в ее характере было что-то мужское. В ее душе уже тлел тот огонь, который позже превратился в пламя.
Супруги казались неудачной парой. Густав полностью отдавал себя искусству и работе преподавателя. Черты лица у него были тонкие, почти женские; узкие очки в металлической оправе делали его пронзительный взгляд еще острей. На этом лице подростка были видны следы тайных страданий, которые он выразил в своих симфониях. Он был постоянно занят своим искусством и из-за этого часто держал на расстоянии собеседников и семью. Альме же, наоборот, были необходимы внешний блеск и признание. Культурная жизнь Вены была тогда очень оживленной, но все же не позволяла Альме ни выразить ее желания, ни проявить творческие способности. Она говорила, что ее держат в узде, потому что знала свою способность к необузданным страстям.
Девушка в цвету
О Малере она почти ничего не знала, кроме того, что он знаменит в Вене. Он с 1897 года был дирижером Хофопер – Придворной оперы. Разумеется, это была престижная должность, и Малер восхищал всех венцев тем, сколь энергично ее исполнял. Прославленный композитор был нервным мужчиной маленького роста. Худощавый и легко возбудимый, он напоминал беспокойное быстрое насекомое и отличался приступами ярости, неуместными вспышками гнева и нервными срывами. Говорили, что он болен. Вначале это был лишь слух, но он внезапно и ярко подтвердился во время представления «Волшебной флейты». Альма была на этом спектакле. Может быть, она уже остановила свой выбор на знаменитом музыканте? Было 24 февраля 1901 года. В тот день Малер очень страдал от того, что называл «мои подземные боли» (на самом деле это был сильный хронический геморрой). Альма записывает в своем дневнике, что лицо у знаменитого маэстро было демоническое – «щеки бледные, глаза как горящие угли»[65]. Виртуозная и радостная музыка Моцарта плохо сочеталась с лихорадкой, но Малер с удвоенной точностью управлял оркестром. И чувствительные мелодии партитуры зазвучали с живостью и весельем, которые могла внести в них лишь боль Малера. Спектакль имел огромный успех, и этот триумф потряс молодую женщину, искавшую необыкновенной любви. «Никто не может долго продержаться в таких условиях», – пишет она. Не это ли личное несчастье Малера тронуло ее душу? Может быть, она вдруг почувствовала себя достаточно сильной духом, чтобы помочь ему в его страданиях? На следующий день вся Вена узнала, что в конце спектакля у Малера было кровотечение. Его прооперировал хирург, присланный самим императором. Музыкант медленно поправлялся после этой, уже третьей, операции. Достаточно было встретить его в Вене один раз, чтобы узнать, насколько легко он раздражается, страдает от болезненной тоски, не капризен, но обидчив, чрезмерно внимателен ко всему, вечно насторожен, но при этом постоянно рассеян. Он удивляет людей своим блестящим умом и сердечностью. Но, как и у Альмы, у него есть внутренняя жизнь, даже несколько внутренних жизней. Это они отражаются на его всегда тревожном лице, которое обращено не к собеседникам, а к чему-то другому, неизвестному, что недоступно для их восприятия. Не были секретом его короткие любовные связи, в основном с певицами-сопрано, но эти увлечения не имели последствий, поскольку Малер предпочитал жить вместе со своей сестрой Юсти вдали от света. Еврей по происхождению, он перешел в католическую веру – несомненно, по расчету, зная, что иначе никогда не получит должность главы оркестра и хора Придворной оперы. Но пока он прославлен в Вене только благодаря этой должности. Еще никто не признает в нем величайшего композитора. То тут, то там играют его собственные произведения, но они не имеют большого успеха – чаще их встречают свистом и улюлюканьем. Однако Малер упорно продолжает сочинять. Он знает, что его музыка – связь между Бетховеном и рождающимся XX веком, что в ней будет все унаследованное от романтизма буйство чувств, но оно еще не вошло в его душу – опаздывает, задержавшись в неизвестных пока краях; что симфонии, неотступно звучащие в его уме, предсказывают несчастья, которые принесет новый век. Радостной и беспечной свободе, которая звучит в музыке Штраусов, он противопоставляет тяжесть будущих страданий. Мало кто в Вене хочет слушать его рассказ о темной ночи, но Альма предчувствует это неизвестное будущее. Однако она еще не видит в Малере гения. На нее сильно влияет ее преподаватель музыки Александр фон Землинский, который безумно в нее влюблен, и девушка говорит, что музыка Малера ей не по душе. В это время, в 1901 году, в душе у Альмы полный беспорядок и смятение. Капризная богатая наследница испытывает сильное эротическое влечение, но никогда не позволяет ему проявиться открыто: это запрещено обычаями общества, в котором она живет. Однако людям из ближайшего окружения Альмы известен ее непокорный нрав. Она – умелый и расчетливый стратег, но в то же время хочет отдаваться порывам своих чувств и не уступать, когда ей предлагают общепринятые планы на будущее. Упорное ухаживание Землинского льстит ей, у нее возникает искушение ответить «да». Но он – человек не ее круга; как заставить других принять такого мужа? Альма пускает в ход жестокость и нежность одновременно, мучает бедного Землинского, и он умоляет ее стать его женой. Иногда она оказывает ему милость – обнимает, но лишь слегка, или позволяет обнять себя, но ненадолго. Землинский понимает это как согласие и начинает умолять еще энергичнее. Но летом 1901 года Альма уезжает с родителями отдыхать на озеро Вольфгангзе, намекнув Землинскому, что ее семья и его пригласит присоединиться к ним. Но его не берут в поездку. Он долго ждет и пишет ей страстные письма: «Я знаю все! Знаю все твои мысли, твое безграничное тщеславие, знаю о твоих поисках удовольствия!..» Он бунтует, не желает терпеть ее капризы и задает ей вопрос, который, возможно, стал самым верным описанием характера Альмы: «Моя любимая, неужели ты можешь так много дать, что другие всегда обязаны просить у тебя милостыню?» И действительно, двойственность чувств, проявившаяся у Альмы-девушки, была характерна для нее всю жизнь. Эту игру она будет вести до самой смерти. В своих «Воспоминаниях», написанных в изгнании, в Нью-Йорке, где она и умерла, Альма расскажет о ней. Такая игра всегда возбуждала эту женщину, которая желала все время быть хозяйкой своей судьбы. Девушкой она наблюдает со стороны собственную любовь, описывая свои переживания в дневнике. О Землинском она пишет: «Если он не отдаст мне себя полностью, мои нервы будут очень страдать от этого, но, если отдаст себя полностью, будут неприятные последствия. Я безумно желаю его объятий, я никогда не забуду, как прикосновение его руки пробудило в глубине меня что-то вроде огненного потока! Меня затопило такое счастье! Значит, можно быть совершенно счастливой! Полное счастье существует! Я узнала это в объятиях моего любимого. Еще немного (?), и я была бы на седьмом небе. Снова все в нем священно для меня. Мне бы хотелось встать перед ним на колени и обнять его обнаженный живот, обнять все, все! Аминь!»[66] Изобилие восклицательных знаков в этих фразах, конечно, говорит о некоторой доле искусственного романтизма, Альма как будто слушает себя, когда пишет их. Но в конце сделано важное признание. Соединяя крайне дерзкую эротику с абсолютно недозволенным употреблением священных понятий (кощунственное «Аминь» в конце!), она ясно показывает, как сильны ее желания и какой она странный человек в Вене, где жизнь идет размеренно, взгляды консервативны, но позже появятся Венский сецессион и художники-бунтари. Альма, воспитанная в интуитивных понятиях того мира, в котором живет и который скоро рухнет, в конце концов присоединяется к венскому андеграунду. Это движение процветает, и венская буржуазия втихомолку признает его, желая искусством и громкими спорами о нем ослепить себя и забыть поражения либерализма, который до этого времени господствовал в политике страны. Вена похожа на Венецию последних дней республики. Австро-Венгерская империя находится под угрозой и агонизирует, уже ничто не может ее спасти, больше дух политики не возбуждает ее. Одно лишь искусство еще может дать жизни смысл и даже дать человеку жизнь. «Нужно проститься с миром, пока он не рухнул, – заявляет Гофмансталь. – Многие уже это знают, и невыразимое чувство делает многих поэтами». Альма, тогда еще носившая фамилию Молль, жила в пагубной атмосфере этого общества. Она была полна молодых сил и юного пыла своих двадцати лет и в то же время боялась, что не сможет осуществить свои неистовые желания. Главное, чего она хочет, – всегда быть зоркой. Нельзя допустить, чтобы Вена в своем падении (которое Альма предчувствует) увлекла ее за собой. Надо жить как можно ближе к великим творцам, которые помогут ей открыть иные миры.
В те дни Фрейд занимается отделкой своих теорий. В это же время, в этом же городе он знает могущество других миров и тайны внутреннего мира, предугадывает силу снов. Он все понимает о потоках желания. Альма интуитивно чувствует то же, что чувствовал он. Она не хочет ничего потерять из того, что несет с собой рождающийся мир. Но как при этом спастись от мира умирающего? Один из биографов Альмы, Алексис Тоту, подводит итог: Альма делит себя между «священной весной модерна и зимним академизмом умирающей империи, с которым весна борется»[67]. Таков «венский биотоп», мощное воздействие которого она ощущает. В то время, когда встретилась с Малером, эта девушка переживала трепетную подростковую жажду любовной страсти, ощущала в своей плоти ее противоречивые движения. Дневник сохранил свидетельства внутренних разногласий и противоречий, подавленных порывов гнева и нежных призывов любить идиллически, жить любовью вдали от всего, что угнетает. Но в то же время она дочь буржуазной умирающей Вены, воспитанница венской администрации, которой управляет мэр Карл Люгер, ярый антисемит; она дитя высшего аристократического общества, где ее принимают. Она красуется среди этих аристократов, но задыхается в их обществе и мечтает рискнуть собой в полном страстей мире Климта и сецессионистов. Альма видит, что они – будущее искусства. Ее дневник – рассказ о том, как девятнадцатилетняя девушка снова и снова откладывает решение, медлит с выбором, и в этих записях раскрываются экзальтированность и дикий нрав Альмы. Эти черты характера были уже заметны в 1898–1900 годах и ярко раскрылись в следующем году. Альма стоит на распутье. За ней уже ухаживают Климт, которому она откажет, и Мур. Она любит Землинского, не любя его, и уже выбрала Малера. Все поклонники слабее телом и ниже ростом, чем Альма, каждый раз она выставляет напоказ свою любовь и отказывает мужчине, как только он пробует зайти слишком далеко. Дневник, который она вела весной 1901 года, стал поучительным в этом смысле: это колодец, полный страстей.
Каждого нового искателя ее любви, который будет появляться перед ней, она станет встречать одним и тем же бурным всплеском чувственности. Чем старше становится Альма, тем более открыто она проявляет свою сильную волю и своенравие. Она по-своему романтична, но ей не свойственны ни покорность романтических героинь, ни их склонность отдаваться своим чувствам. Что-то сдерживает Альму, ей спокойно и уютно от уверенности, что она принадлежит к привилегированному классу. «Все выше! Быть кем-то! – пишет она 28 марта 1901 года, в четверг. – Иметь в себе чувство высоты. Быть на вершине – над стадом. Быть высокой, быть полной, быть беременной, иметь возможность опустошить себя. [Иметь возможность] послать все к черту»[68]. Ей кажется, что она задыхается, и это внутреннее удушье вызывает вспышки лирических чувств. Эти порывы почти обычны в ту эпоху, но у Альмы в них проявляются ее бушующие страсти. Слушая Вагнера, своего самого любимого композитора, она приписывает его влиянию порывы своей плоти и пылкость своих желаний: их будто бы порождает грубая сила, звучащая в его музыке. «Каждый раз, – пишет она, – мне хочется прыгать, бегать, делать резкие движения. Я едва заставляю себя усидеть на месте. Я схожу с ума от этой неутоленной страсти… Жить, всего лишь раз! Всего один раз!» Она утверждает, что любит Землинского, но на самом деле не знает, влюблена или нет. А потому то признается ему в любви, то отталкивает его, возвращая в ряды соплеменников-евреев, которых ненавидит до омерзения и презирает. Секретность дневника (который она, разумеется, не доверяет никому и, конечно, держит под замком) позволяет ей давать себе волю. И вот, увлекшись этой секретностью, она признается, что в ней есть что-то от вампира или дьяволицы-суккуба. Дневник – отдушина для ее чувств, и она изливает в нем свои жалобы, но также и неистовые эротические порывы. Она целует своего якобы любимого с такой силой, «что у нее болят зубы», но на следующий день пишет: «Брак – могила любви. У меня нет никакого желания выходить за него замуж»[69]. Эта девушка-вампир также признается: «Я жажду его. Я жажду его крови»[70]. Она признается в том, что по натуре – завоевательница и грубый человек, и пишет, что хотела бы быть «более уравновешенной, более спокойной». Но это ей не удается: она не может справиться со своим постоянным смятением. «Когда он рядом, меня охватывает такое буйство чувств, что я сама беспокоюсь из-за этого», – пишет она. Ее дневник становится настоящим рассказом о посвящении в любовь. Эта девушка, когда позирует, собирает волосы в очень гладкий пучок, у нее взгляд слегка обиженного ребенка. Но она больше похожа на женщин Климта – роковых великанш, величественных и строгих, но с тревогой в душе, чем на любимых героинь придворного художника Вильгельма Гаузе – очаровательных девушек, танцующих вальс в парке Пратер в объятиях юных кавалеров, одетых в форму императорской армии. Она полна жгучего, неукротимого желания жить; не уступить ему – значит погубить себя. Альма пускает в ход все слова, связанные с огнем: она угасает под пеплом, она горит, она искрится, ее пламя улетучивается вместе со словами, она сжигает себя.
«Бедный Зем» терпит все ее капризы; его постоянство почти смешно, и Альма это чувствует. Она унижает его, но не хочет, чтобы он ушел, потому что любит его музыку и доверяет только ему, причем это доверие взаимно. Она говорит, что любит его, но напоминает ему, что он еврей, и в насмешку над его маленьким ростом снисходительно замечает, что Зем ей по плечо. Люди из окружения Альмы изводят ее ядовитыми насмешками и упреками. Как она может любить этого маленького еврея? «Не портите свою расу»[71], – говорят ей. Ее дядя Гуго даже угрожает отправить ее в лечебницу психиатра фон Краффт-Эбинга, где «лечат ледяной водой»[72], если она «осмелится» это сделать.
Но как раз этого не следовало говорить: Альма хочет именно осмелиться на что-то, выйти за пределы своего общества, которое презирает так же сильно, как презирает Землинского за недостаток отваги в отношениях с ней. Те, кто ее критикуют, – всего лишь «племя крючконосых дебилов».
Именно тогда постоянно возбужденная, готовая к нервному срыву и даже к истерике Альма встречается с Малером. Нервность его музыки и обостренность чувств не успокаивают ее нервы и не утоляют глубокую тоску. Наоборот, Малер вскоре вводит ее в еще более беспокойный и сумрачный мир. Климт, Мур, Землинский, Малер… Весной 1912 года, когда Альма встретится с Оскаром Кокошкой, у нее уже будет достаточно независимости ума и силы духа, чтобы отдаться мужчине, который моложе ее и еще более неистов, чем она. Но пока дикарка Альма только ищет свой путь. Она хочет устроиться так, чтобы получить все и не потерять ничего, хочет бережно тратить свои дары и быть в кругу близких гениального человека, который поможет ей наконец духовно родиться. В конце 1901 года Альма борется со своими колебаниями и противоречиями. Александр Землинский уже не воспламеняет ее так сильно, как в предыдущие недели, и она думает расстаться с ним. Но сила любовных желаний, инстинкт заставляют ее отвергнуть эту возможность. Она сама сетует на свою «ужасно необузданную чувственность»[73] и мечтает вести скромную домашнюю жизнь, но сразу же отказывается от этой мечты, не желая того, что считает покорностью или рабством. Она начинает думать как убежденная феминистка (это удивительно для девушки ее возраста и ее эпохи), но лишь для того, чтобы легче отвергнуть феминизм и сохранить верность своим неутоленным желаниям. С сентября и до конца ноября 1901 года в ее дневнике больше, чем когда-либо, написано об отчаянии и смятении. Но читатель не должен полностью принимать всерьез это отчаяние. Альма прислушивается к себе с таким удовольствием, что за ее словами чувствуются самолюбование и властность. Однако она впервые начинает представлять себе могучую космическую силу, соединяющую существ мужского и женского пола, – после того как наблюдала за… спариванием мух. Альма начинает узнавать любовь, отношения между мужчиной и женщиной, короче говоря, отношения пары как тайну «потока, который переполняет одно существо и вливается в другое». И добавляет: «Я горю от нетерпения узнать это». Ту силу любовных потоков, которую предчувствует сейчас, она в полной мере узнает с Оскаром Кокошкой. Она даже сможет увидеть своими глазами поток, который потом ее унесет, – в мощных красках экспрессионистских картин ее любовника-художника виден тот водоворот, куда он скоро ее затянет. Значит, Алекс лишь предлог для открытия любви, для рождения любовной песни и неистовых желаний. В ту осень 1901 года Альма достигает высшей точки своей любовной истерии и сама удивляется ее силе. «Я хотела бы все ему отдать – все», – пишет она и яростно подчеркивает последнее слово. Отказываясь от своего интуитивного феминизма, она признается: «Ему я хочу повиноваться – все время, всегда. Я хочу быть покорна ему телом и душой. Я хочу, чтобы он взял меня. Он для меня – высшая святыня». Поток огненных слов течет все быстрей. «Я хочу быть ковром под его ногами», – признается Альма, а потом описывает, как подталкивает к развязке их флирт, кричит, что «изголодалась» по любви, рассказывает, как рассматривала красноречивые очертания его штанов, притворяясь, будто слушает песню «В саду моего отца» – ее собственное сочинение, которое он исполнял для нее.
Царствование Малера
Но вот что странно: в четверг 7 ноября 1901 года причудница Альма записывает в своем дневнике: «Познакомилась с Малером». Так он впервые появляется в ее дневнике и больше не покидает ни дневник, ни саму Альму. Похоже, что безумие, владевшее девушкой в предыдущие недели, внезапно стало утихать: в нем появляются перерывы. Алекс вновь будет возникать в ее дневнике, но любовь к нему понемногу слабеет, и будущим объектом изучения для опытной исследовательницы Альмы становится Малер. «Я должна сказать, что он мне весьма понравился», – пишет она и подчеркивает наречие. «Но, – продолжает Альма, – он ужасно нервный. Он крутился по всей комнате, как буйнопомешанный. Это какой-то шарик кислорода. Подойдя к нему, обжигаешься». Она сразу же ассоциирует Малера с огнем – и его музыку тоже. А поскольку она и себя считает подобной огню, ей внезапно кажется, что между ним и ею возможно все, раз они порождения одной и той же стихии. Она чувствует себя виноватой перед Алексом Землинским, но это не заставляет ее изменить мнение. «Я могу лишь чувствовать стыд, но во мне живет образ Малера», – признается она. Дальше она пишет: «Приходил Малер. Я думаю о нем, о нем одном». А Малер полностью во власти Альмы: энергия, которую излучает ее сильная душа, передается ему; ее пламя обжигает его. Он признается, что Альма находится с ним в интимной переписке. Она, конечно, разрушит ту жизнь маньяка и вечного холостяка, которую он себе создал. Его тревожит, что он на двадцать лет старше Альмы, но он уверен, что она оживит его вдохновение и отточит его ум. На этот раз семья Шиндлер вполне одобряет встречи Альмы с Малером: у композитора такое высокое положение в обществе, что можно даже подумать о свадьбе Альмы с ним. Мать Альмы надеется, что с Малером ее дочь войдет в окружение императорской семьи, к которой он близок. О его еврейском происхождении стараются не упоминать. Конечно, лучше бы он не был евреем, но переход в католическую веру наполовину устраняет этот недостаток. Честь семьи не пострадает. Все члены семьи стараются разрушить образ Землинского в сознании Альмы, словно решили дать ей наконец свободу. Они изобретательно высмеивают его посредственность в творчестве и безобразную внешность, его немужественное телосложение, его скромность, которая выглядит смешно в высшем венском обществе, ведь его основы – роскошь и показной блеск. Альма чувствует почти непреодолимое влечение к Малеру. «Я думаю о нем все больше», – пишет она и сразу же, словно контрапункт, добавляет фразу: «Алекс для меня как свинцовая тяжесть!»[74] Даже в эти месяцы, когда в душе у нее беспорядок, Альму не покидает желание «наполнить» свою жизнь. До самой смерти у нее сохранится это неутолимое, почти невротическое желание заполнить пустоты в своем существовании, жить полной жизнью. Она очень рано полностью осознала, что должна быть сама себе хозяйкой и жить, как велит ей ее судьба. Ее желание господствовать над другими говорит о кипучем и жгучем характере (слово «ожог» – самое частое в ее дневнике, оно повторяется как слова молитвы в религиозном обряде). Альма ни в чем не хочет себе отказывать. Она часто верит, что может дать уют и утешение мужчине, которого полюбит, но это желание защищать другого – иллюзия: в первую очередь она хочет удовлетворить себя. Защищать Алекса для нее прежде всего означает убедиться в собственной силе, в своем всемогуществе. Ее самолюбие так велико, что заметно даже на фотографиях, для которых она позирует с почти непристойным самолюбованием. Оно же без конца проявляется в ее дневнике: Альма делает вид, что любит Алекса, но сразу после этих слов о любви пишет, что вдруг почувствовала себя «такой пустой».
Значит, ей нужно наполнить себя, привести к завершению то, чего она до ужаса боится в себе: «желание без конца»[75], как она наконец откровенно пишет. В дневнике молодой женщины раскрывается то, что она называет «хаос в глубине меня». Теперь она выбирает между Алексом и Густавом Малером. Узнав о хронической болезни Малера, Альма думает лишь об одном – спасти его, защитить его. «Рядом со мной он не погибнет»[76], – заявляет она. Сила ее духа удивительна для молодой женщины ее эпохи и возраста. Потоки ее желаний изменяют свое течение в зависимости от того, какой был день, куда она выезжала, и ее основных впечатлений. Она отказывается от Алекса и полностью это осознает. Она анализирует свой отказ: «Эта любовь угасла так же внезапно, как возникла. Она была отвергнута. И охватила меня с таким новым жаром!»[77] – пишет Альма. Однако она отлично осознает природу этого волнения и не строит иллюзий по его поводу: это только любовный невроз. «Я психически больна, больна от психического напряжения последних недель»[78], -пишет она. Конечно, этот дневник надо читать как рассказ о взрослении молодой женщины, запутавшейся в противоречиях венского общества накануне упадка западного мира, накануне Великой войны. Она внутренне чувствует, что ее народ терпит крах, что наступает конец империи. То, что ее окружает, – волнения из-за искусства, выставленные напоказ роскошь и легкомыслие – лишь усиливает ее любовные переживания. Даже ее музыкальные сочинения отошли на задний план и заброшены в этой буре страстей. Постепенно в этом рассказе вырисовывается характер, который не изменится до конца ее жизни. Она сбивает с толку и очаровывает, она сильна и высокомерна и в то же время тщеславна и смешна.
В старости, в Нью-Йорке, где закончит свои дни, Альма будет жить лишь воспоминаниями о своих любовных увлечениях.
Ее песни не сделают ее знаменитой, и она откажется от них. Ее будут окружать посмертная маска Малера и большие полотна Оскара Кокошки, который, возможно, открыл ее ей самой. «Невеста ветра» – так он озаглавил одну из своих самых прославленных картин. Единственный из всех мужей и любовников Альмы он понял ее истинную натуру – «невеста ветра», свободная, дикая, чувственная и пылкая.
Но тогда, в 1901 году, когда ее жизнь вращается вокруг Малера, ей удается сдерживать себя и смотреть на себя со стороны. Она опасается сестры Малера Юстины, которую обычно называют Юсти: та шпионит за Альмой и, подсматривая за ней, проявляет чуть больше инициативы, чем допустимо. «А что, если она, – пишет Альма, – например, обнаружила [и сказала себе], что у меня нет ни сердца, ни любви – в чем я даже моему дневнику признаюсь лишь шепотом; что я не способна чувствовать даже самую слабую страсть, что все это – один расчет, холодный и осознанный расчет». «Быть свободной!» – говорит она себе, однако при этом хочет отдать себя другому. Но до какой степени и на какое время она отдаст себя? Быть свободной, разумеется, но при этом «быть воском, который тает в его руках»… «Все ему отдать», «быть им», «стать равной ему», «принять все, что со мной случится» – она не скупится на клятвы. Но эти клятвы Альма постоянно ставит под сомнение. Совместимы ли они с ее только что обретенной свободой? С ее уважением к себе? С ее желанием власти? И совместимы ли они со слабостями избранника? В самом деле, как быть, если Малер, к несчастью, бессилен как мужчина? Что сказать о любовной «аварии», «в тот момент, когда [она] чувствовала, что он возвращается», про которую Альма пишет в своем дневнике в первый день нового 1902 года. Что ей думать об этом? Но Альма не из тех женщин, которые сдаются. То, что у Малера трудности с эрекцией, не может стать полным препятствием для их любви. Альма чувствует себя всемогущей богиней-матерью. Даже речи не может быть о том, чтобы она лишь по этой причине отказалась от мужчины, если предполагает, что он гений! То, что ее любовник иногда бывает бессилен, становится для Альмы поводом бросить вызов судьбе и вступить с ней в борьбу, возможностью быть сильнее, чем рок. Ей кажется, что так она будет господствовать над обстоятельствами жизни, но в действительности в большинстве случаев становится игрушкой своих страстей. Решающий поворот, после которого она прочно укрепилась в мире Малера, произошел, по ее мнению, в пятницу, 20 декабря 1901 года. Утром этого дня Альма получила от Малера письмо на двадцати страницах. Композитор писал ей из Дрездена, возвращаясь со своего концерта в Берлине. Двадцать страниц в характерном для него стиле: он скрупулезно описывает мелкие подробности, о любви говорит холодно, очень расчетлив и сверх всякой меры любуется собой. Он желает все разъяснить главным образом потому, что Альма, как он полагает, опьяняется словами и все путает. Прежде всего, она путает свою музыку с его музыкой. Как можно сравнивать то, что сочиняет она, с его произведениями? Как можно даже ставить их рядом? «В этом отношении, моя Альма, нужно, чтобы все стало ясно между нами с этой минуты, еще даже до нашей новой встречи! Нужно начать говорить обо мне. Я нахожусь в странной ситуации – противопоставляю твоей музыке мою, которой ты еще не знаешь и не понимаешь. Я должен буду защищаться от тебя и представить ее в настоящем свете»[79]. Это объявление о необходимости принести жертву: Альма должна отказаться от своих сочинений, а если не пожелает этого сделать, их отношения сразу же прекратятся. Яснее Малер не мог бы этого сказать. На протяжении всего письма, которое было задумано как настоящий символ веры, он ставит условия для их помолвки, откровенно утверждает свое господство над Альмой и прежде всего проявляет невероятную самовлюбленность. «У тебя с этих пор лишь одно призвание – делать меня счастливым… Ты понимаешь меня, Альма?»[80] – пишет он. Инструкция выполнила свое назначение: это длинное письмо сильно изменило Альму.
Она стала ковать себе доспехи и учится этому на собственном опыте. После долгой беседы со своей матерью Альма принимает ультиматум, но уточняет в дневнике, что с этого времени «в [нее] навсегда вонзилась колючка»[81]. Неужели она настолько очарована гением Малера, что согласилась на такое предложение? Какие внутренние потребности заставляют ее сделать это? Кажется, будто в глубине души она сама знает, что ее пресловутая «личность», о которой Малер упоминает в письме лишь для того, чтобы усилить свои обвинения, должна пройти через унижение и что эта жертва в конечном счете станет платой за тот «подъем», о котором она писала в своем дневнике. Альма действительно ставит себе цель «подняться выше», но подняться не только в обществе. Главное для нее – стать выше духовно, потому что она уже на мгновение видела нечто огромное, чего, как она знает, ей не достичь в одиночку. Быть рядом с гениями тоже один из способов подняться на эти высоты. У нее уже был странный опыт подобных отношений с Густавом Климтом, и она знает: укрощенная, ее душа может достичь того, к чему отчаянно стремится, – неизвестных, более обширных миров. Поэтому она, хотя и чувствует себя униженной, говорит «да». Ее цель – стать женой Малера; их свадьба очень быстро становится для нее совершенно необходимой. Альма хочет быть «высшим и дорогим» благом жизни Малера, его «доблестным и верным товарищем», его «неприступной крепостью против внешних и внутренних врагов», его «покоем», его «раем, в котором» он будет непрерывно «закаляться, чтобы восстановить и вновь найти себя». Все это – его слова, и он завершает их фразой: «Все это заключается в одном слове – обширном, прекрасном, которое выше всех слов и фраз – «моя жена»!»[82] Альма отвечает «да» на эти неистовые излияния, «чрезмерность» которых признает и сам Малер. «Ты должна отдаться мне без всяких условий, ты должна до мельчайших подробностей подчинить свою будущую жизнь моим потребностям и ничего не желать, кроме моей любви!»[83] – требует он. И 9 марта 1902 года они наконец становятся мужем и женой. С этого времени жизнь Альмы в руках Малера. Она забеременела еще до свадьбы и ждет рождения ребенка; ее «высокомерие» и «гордость», которые Малер хорошо разглядел, пока не опасны для супругов. Кажется, Альма подчинилась требованиям мужа. Но ее жизнь рядом с мужем так сурова, что молодая жена начинает ощущать себя обманутой. Малер делает все по расписанию, словно автомат. Что бы ни случилось, он ест в установленное время; обязательно выходит на прогулку пешком вместе с Альмой, чай подается в 17 часов, потом – отъезд в Оперу и возвращение домой в положенное время; после этого Альма читает книгу, выбранную Малером. Живя в таком ритме, Альма начинает чувствовать, что ее страсть слабеет. Напряжение накапливается, но это происходит незаметно: Альма посылает мужу несколько сигналов, однако Малер не обращает на них внимания или делает вид, будто не заметил их. Летом 1902 года, всеми покинутая, отданная на произвол желаний своего мужа или его безразличия, лишенная мужем своего творчества (он тогда сочинял свою Пятую симфонию), она записывает в своем дневнике: «Я не знаю, что делать. Во мне происходит ужасный конфликт. Я в горе и сгораю от желания найти человека, который думал бы обо мне и помог бы мне найти себя. Я теперь всего лишь домохозяйка»[84]. Ее тайно зовет ее собственная покинутая музыка, и Альма знает, что предала ее. Но Малер неумолим: он совершенно не интересуется ее сочинениями. «Я сбилась с пути, который ведет к музыке, – пишет она. – Мои глаза забыли его. Меня грубо взяли за руку и увели в сторону от меня самой. И я горю от желания вернуться туда, где была. Потерять всех друзей для того, чтобы найти одного человека, который меня не знает!» Это серьезные упреки: столкнувшись с душевной слепотой мужа, Альма считает себя покинутой, жизнь до него кажется ей более счастливой и более динамичной.
Постепенно, несмотря на беременность и депрессию, к ней возвращаются прежняя диалектика, прежние антагонизмы и внутренние противоречия, прежний инстинкт самосохранения. Малер в какой-то степени замечает перемену и дает Альме знать об этом, но делает это неуклюже. Он посвящает Альме песню и прячет рукопись в партитуру «Зигфрида», которую Альма поставила на пианино. И вот к ее ногам падает листок. «Любишь ты для красоты», – сказано в этом коротком стихотворении. Но как молодая женщина может оценить подарок по достоинству, если ей запрещено самой писать такие песни? Она же сочиняла именно их. Альма спрашивает себя, сможет ли она выжить после этого случая. Не сбилась ли с пути? Как ей вернуться к прежней искрящейся энергии? Еврейское происхождение Малера ставит ее в неудобное положение. Она антисемитка не только по имени; она заявляет, что не любит евреев, отказывает им в некоторых качествах, особенно в умении творить. Но в то же время уверяет, что не может жить без них! Получается странное противоречие, которое Альма объясняет тем, что евреи в любом случае есть и будут ниже западных христиан. Значит, живя рядом с евреем, она утверждает свое превосходство и то, что называет своим «христианским блеском»! Но изменения в ее характере, новое разочарование, огромное чувство неполноты создают в ее душе первозданную пустоту, против которой она протестует. «Где моя цель, моя великолепная цель?!»[85] – восклицает она, и в этих словах слышен тот род боли, которого она еще не испытывала. В Вене, среди дерзких поступков модернистов и препятствий, которые создает им реакционное императорское общество, ее душа разрывается на части. Сны, которые она видит, были бы настоящим кладом для доктора Фрейда. Что можно сказать, например, о непобедимом змее, который тревожит ее по ночам?
Альма пишет, что он проникает в глубь ее «до самого дна». Как спастись от его омерзительной пасти, которая проглатывает «все [ее] органы и оставляет [ее] пустой внутри, словно остов разбившегося корабля»?[86] С каждым новым месяцем, с каждым новым временем года Альма все больше сопротивляется и бунтует. В своем дневнике она пишет чеканные фразы: «Я должна снова жить духовной жизнью, как раньше! Это должно измениться». Итак, в душе она приняла решение: супружеская жизнь все больше становится для нее невыносимой. Малер ее угнетает, доводит до тоски и тревоги, но этот тонкий психолог понял все тайные движения души своей жены. И летом 1904 года он становится более приятным и любезным. Теперь он сотрудничает с Альмой, делает вид, что стал сильнее интересоваться ею, но она вовсе не обманывается на его счет. «Возле него, – констатирует Альма, – я оставалась девушкой, несмотря на мои многочисленные болезненные беременности и моих детей. Он видел во мне прежде всего товарища, мать своих детей, хозяйку дома и лишь позднее понял, что потерял!»[87] – напишет она в своих мемуарах. Ее привлекает образ пьяного корабля – покинутого людьми корабля без швартовов. Она ассоциирует себя с ним. Он то плывет в открытом море, как корабль-призрак, то получает повреждения, то он «в порту, но дает течь»[88]. У нее все ярче проявляются основные признаки сильной депрессии. Она произносит решающие слова: «Я так угнетена, что задыхаюсь». Именно в этот переходный период своей жизни Альма начинает выпивать. Сначала она пьет мало, но, несомненно, чувствует склонность к алкоголю. В узком кругу венского общества начинает распространяться слух, что в конце некоторых обедов и приемов ее видели немного захмелевшей.
Но это еще не настолько серьезно, чтобы вызвать беспокойство у Малера. Он, в сущности, даже не замечает этого. Дневниковые записи Альмы уже не оставляют никакого сомнения в том, что узы брака ослабли: Альма без колебаний пишет о распавшихся связях, о знакомстве с посторонними мужчинами. Она медленно вспоминает повадки соблазнительницы, которые были у нее до свадьбы, когда у всех мужчин кружилась голова при встрече с ней. Она уже не исключает возможность изменить Малеру. В ее жизни появятся молодой композитор Пфицнер, столь же молодой русский пианист Осип Габрилович и, конечно, чуть позже возникнет жгучая страсть к архитектору Гропиусу, будущему знаменитому мастеру, предшественнику современного дизайна.
Итак, это время было далеко не счастливым для супругов Малер. В мае 1907 года Малер был вынужден уволиться со своей должности в Опере, а через месяц умерла от дифтерии их старшая дочь Пуци. Ее смерть стала огромной трагедией. Отчаяние Малера, возможно, было даже больше, чем горе Альмы. Во время рутинного медицинского осмотра врачи обнаруживают у Малера «двустороннее митральное сужение», из-за которого он теперь должен вести очень спокойную и размеренную жизнь. Поездки супругов во Францию и в Соединенные Штаты, куда Малер приглашен на несколько сезонов дирижировать в Метрополитен-опере, не умиротворили их. Альма продолжает переходить от одного увлечения к другому, Малер по-прежнему охвачен творческой лихорадкой и испытывает все то же смятение чувств. В письме к своему другу, музыковеду Адлеру, подводя итог этим месяцам жизни вне Вены, Альма пишет: «Я пережила такой ряд приступов боли…» Ее психическая неуравновешенность усиливается после ее возвращения в Вену. У нее бывают сильные боли в груди. Врачи не знают, в чем причина – в сердце или в нервах. Одна лишь Альма в глубине души знает правду. Она больна из-за «пустоты» (так она это называет), которая делает ее чужой для нее самой, лишает всех желаний, наполняет нетерпением. Врачи неуверенно и лениво склоняются к диагнозу «истерия» и посылают Альму лечиться на воды в Тобельбад.
Увлечения
В Тобельбаде она поддается искушению и изменяет мужу. Вальтер Гропиус, основатель школы Баухаус, который лечится там же, где Альма, безумно влюбляется в нее. Как может сопротивляться этому потоку жизни Альма, которая чувствует, что Малер забрал у нее всю энергию, превратил ее в ничто, сделал бесплодной? Альма, всегда склонная к лирическим чувствам, пишет: «В ту ночь две души нашли одна другую и два тела забылись». Альма возвращается в Вену потрясенная, полная одновременно смутной тревоги и столь же смутного ощущения счастья. Она ничего не говорит Малеру, однако Гропиус совершает ошибку – посылает ей откровенное письмо, но… адресует его Малеру. Между супругами происходит бурное объяснение. Загнанная в угол, Альма не отрицает случившегося. Наоборот, к ней возвращаются ее энергия, неистовость и высокомерие. Она признается мужу во всем, рассказывает о своей страсти, о ночах любви с другим, о песне соловья, которая будила их рано утром, о том, как они чувствовали себя сообщниками. Малер обезумел от боли. Может быть, он вдруг почувствовал что-то вроде сострадания к ней? Или даже пожалел, видя ее горе? Альма заявила, что не покинет его, но с этих пор главной в их паре становится она. Малер подчиняется авторитету жены. Он осознает свои недостатки и эгоизм. Однако жестокость объяснения с женой уменьшает его влечение к ней. У него снова бывают случаи импотенции. Он теряет голову, впадает в отчаяние, начинает преувеличенно демонстрировать свою любовь и верность, рискуя стать невыносимым для Альмы. Он пробует все, даже обрабатывает песни своей супруги, к которым раньше был равнодушен. «Они будут опубликованы», – обещает он Альме. С этих пор их общей жизнью командует Альма. Возможно, дело обстоит еще хуже и она манипулирует Малером. Она играет мужем, обращается с ним как с ребенком или как с выжившим из ума стариком, жестоко напоминает ему, что он старше ее на двадцать лет, не произносит длинных речей о том, что якобы порвала с Гропиусом. Малер консультируется с Фрейдом, который еще только начал работать как психоаналитик. По поводу сложностей с эрекцией, от которых страдает композитор, Фрейд консультирует его больше четырех часов, но потом сам признается Теодору Рейку: «Мне не удалось осветить фасад симптомов его навязчивого невроза. Это было все равно что рыть шахту через загадочное здание». Эта буря чувств бушевала много месяцев. Тень Гропиуса все время была рядом: Альма не отрицала свою страсть и писала любовнику, что теперь живет «лишь ради того времени, когда [будет] принадлежать [ему] полностью»[89]. Но тем не менее она не покидает Малера. Альма держит в руках великого гения, которым все восхищаются, она его жена. Кроме того, она ценит респектабельность, которую ей обеспечивает это положение. Она верит в свою силу целительницы и считает, что способна поддержать жизнь в том, что умирает. Альма убеждает себя, что может переливать свою энергию в тех, кого любит она, и в тех, кто ее любит, и что поэтому она – источник жизни для них. Однако Малеру осталось жить всего несколько месяцев. Его здоровье ухудшилось, хотя он еще не знает об этом. Дирижируя в Мюнхене своей Восьмой симфонией, он чувствует себя брошенным и обессилевшим и страдает от этого. Не умирает ли он от любви? Нет сомнения, что Альма нанесла ему смертельный удар. Больное сердце композитора слабеет с каждым днем. Он чувствует в груди сильные спазмы ангинозного типа, но не хочет сдаваться. В последний раз он едет в Соединенные Штаты. Альма сопровождает Малера. Проезжая через Париж, она назначает Гропиусу свидание в Восточном экспрессе. Они встречаются там, скрываясь, как заговорщики, и сгорая от страсти. «Когда я снова увижу тебя таким, каким тебя создало какое-то божество?» – спрашивает она его при расставании. В Нью-Йорке Малер очень предупредителен с ней, старается ей угодить. У Альмы снова возникает надежда. Она снова начинает сочинять музыку. Малер поздравляет жену с этим и даже ободряет ее, но эти приступы любви и внимания не обманывают Альму. Она знает, что их отношениями теперь управляет она, а Малер выпрашивает у нее милости. Композитор думает о своей скорой смерти и в отчаянии по-детски просит жену утешить и защитить его. Мать Альмы соединяет супругов. Эта женщина – верная сообщница своей дочери, поощряет ее связь с Гропиусом, но одновременно заботится о Малере. Мать и дочь по очереди дежурят у постели больного. Гропиуса нет рядом, и нервы Альмы возбуждены. «Я хочу тебя! Но ты хочешь ли меня?» – говорит она мужу. В Париже ему на короткое время становится лучше. Вновь возникает надежда, но возвращение в Вену оборачивается для больного бедой. Происходит рецидив болезни, у Малера начинается лихорадка, которая не прекращается до самой его смерти. И 18 мая 1911 года он умирает. Малера похоронили рядом с его дочерью Пуци. Погребальная церемония была великолепной. Альма была так измучена, что не смогла прийти на похороны.
И вот Альма стала вдовой Малера. Она рассчитывает красоваться в этой роли, хотя никогда по-настоящему не ценила музыку мужа. Она знает, что как вдова знамени того композитора теперь занимает высокое положение в Вене и имеет влияние, необходимое ей для тайного взлета, которому намерена себя посвятить. Гропиус сразу же возвращается, но его мрачная ревность раздражает Альму. Он хочет знать все об отношениях Альмы с Малером перед смертью композитора, и для него невыносимо, что она могла отдаваться больному мужу. Визит к его родителям окончательно разлучил Альму с ее предприимчивым и горячим любовником. Снова она сжигает то, чему поклонялась. Она снова чувствует себя всесильной и хочет сама управлять своей жизнью, быть кузнецом собственной судьбы, ни от кого не зависеть. Она очень быстро влюбляется, но так же быстро может разлюбить. Чем больше дней проходит, тем слабей становятся нити, которые так крепко связывали ее с Гропиусом. Альма хорошо знает, что такое дни разрыва. Это время, когда угасают прежние связи, но оно может стать временем скачка вверх, трамплином для возрождения.
Новая встреча
Как раз в эту зиму своих чувств, когда умерли обе ее любви, Альма встречает Оскара Кокошку. Ему двадцать четыре года, ей тридцать один. Она невероятно одинока и при этом в глубине души чувствует неутолимую жажду нравиться и любить. Оскар художник, уже известный своими необычными произведениями. В его живописи есть что-то дикое, краски буйствуют на его картинах. Он еще не тот великий признанный художник, которым станет позже (благодаря Альме?), но настолько сильная личность, что видно: его ждет блестящее будущее. Увидев Альму на обеде, который устроил ее отчим Карл Молль, Оскар влюбляется с первого взгляда. Он покорен и, как говорит, «очарован». Слово «очаровать» в этом случае надо понимать в первоначальном значении: Оскар хочет сказать, что Альма его околдовала.
У него странная внешность – высокий рост, достаточно грубые черты лица, большие глаза (из-за их слегка миндалевидной формы кажется, что он всегда настороже), большие кисти рук. Альма не привыкла к мужчинам такого типа. Малер и Гропиус были более изящными, не такого мощного телосложения – в общем, в них было меньше грубого мужского начала. Кроме того, Кокошка подчеркивает свою странность необычным способом обращать на себя внимание публики: он называет себя медиумом. Для него картина – видение художника, занятие живописью – истинный признак творческого начала. Он придает форму пейзажу, живым существам, миру. Он говорит, что его взгляд ясновидящего пронзает модель, проникает в самую ее глубину и, по его словам, выносит эту глубинную суть «на свет». То есть он хочет, чтобы его искусство было пророческим. В его манере писать есть жестокость: он свирепо рвет холст на части яркими красками, насилует его ударами кисти, словно наносит раны. Альма никогда не общалась с экспрессионистами: до этого времени публика не понимала их грубый стиль, такой далекий от вычурного изящества Климта с его золотыми обручами и перегородчатыми эмалями. Кокошка весь словно вытесан из одной глыбы. Альму немного пугает внушительный размер его фигуры, но она поддается очарованию этого великана с детским взглядом. Ее покоряет его первобытная невинность, которая так далека от витиеватых любезностей венского общества, от больших полотен Климта и от музыкальных тонкостей симфоний Малера. Кокошка уже приобрел неприятную репутацию: он известен скандалами в венской Школе прикладных искусств, где он всех приводит в ужас своими эксцентричными выходками, вспышками гнева и смелыми мнениями. Его картины, только что выставленные среди работ целого ряда уже признанных художников (Климта, Гогена, Вламинка, Боннара, Вюйара и даже Ван Гога), вызвали изумление и тревогу. Однако он также показал «Носителей мечты» и терракотовый бюст «Воин». По их поводу поднимается шум, эти работы называют скандалом и провокацией, но настоящих любителей искусства это не обманывает. Они называют Кокошку «главной сенсацией этой выставки». Оскар пытается повторить свой успех – ставит на сцене пьесу «Убийца – надежда женщин», которую сам же сочинил, и рисует для нее афишу.
Но в вечер представления зрители выходят из себя и громко выражают свое недовольство. И Кокошку сразу же начинают считать «дегенератом». Отношение к нему еще сильней ухудшается после того, как Франц-Фердинанд, наследник императорского престола, придя на одну из выставок, в которой участвовал Кокошка, указал тростью на одну из его картин и крикнул: «Свинство! Этот человек заслуживает только одного – чтобы ему сломали хребет!» Но в глубине души Оскару нравится эта репутация художника-бунтаря. Он обривает себе голову, в салонах и на Пратере утверждает свою непохожесть на других. По совету своего друга, коллекционера Адольфа Лооса, пытается писать портреты. Техника у него необычная: он рисует модель, пронзая ее своим вторым зрением медиума. Все находится там, в невидимом мире, думает Оскар. Он испытывает какую-то ядовитую злобу, когда обнаруживает жестокость и грубость в человеческих чувствах и стремлениях. Его картины словно вибрируют от противоположно направленных потоков энергии и от насыщенных красок, то ярких, то приглушенных. Ярко-зеленые, как у Веронезе, тона переходят в зеленовато-серые, желтые постепенно тускнеют, коричневые и черные отливают красным блеском, словно лаковые. Среди этих красок есть цвета жизни и есть угасшие цвета, несущие смерть. Посетители выставки потрясены; они кричат, что это кощунство, но Оскар настаивает на своем. Он упрям, но не совсем одинок: рядом с ним борются другие анархисты в искусстве – Эгон Шиле, Гофмансталь, Мюзиль, Шёнберг. Альма, тайная мятежница, чувствует неясное влечение к Кокошке. Она привыкла к тому, что за ней ухаживают, привыкла соглашаться на флирт, иногда даже заходила далеко в этих случаях; она всегда была готова к новизне, к приключениям. Прикасаясь к гениям, она восстанавливает свою природную силу, и эта сила наполняет их энергией, возвышает и облагораживает. В ней есть нечто такое, что пробуждает не только любовное желание, но и творческие способности. Ее любовники очень к ней привязаны и видят в ней богиню – торжествующую Минерву, которая открывает им путь, освобождает их, создает для них прочную основу. Она прекрасно знает все свои выигрышные стороны, все свои дары и расточает их щедро и без колебаний, если знает, на что способен тот, кто стал ее добычей.
Итак, Альма встречается с Оскаром при чрезвычайно благоприятных для него обстоятельствах: она одинока, между ней и Гропиусом постоянно происходят размолвки, и нет сомнения, что любовь этих двоих друг к другу начинает угасать. Альма хочет снова почувствовать себя всемогущей, как было всегда. Именно в это время она ощущает, что это чувство всемогущества усилилось в ее душе. Теперь она стала свободней, хотя и пользуется ореолом Малера, чтобы укрепить свой авторитет. Поэтому она соглашается быть представленной тому, о ком судачит вся Вена. Альма видела, как он выплюнул кровь в свой носовой платок, а потом села за пианино, чтобы исполнить ему одну из своих песен, и в этот момент он внезапно с неслыханной силой сжал ее в объятиях, бросился к ее ногам и стал целовать ей руки. Кокошка же пишет, что Альма, готовая отдаться ему, охваченная внезапным порывом чувств, запела «Смерть Изольды» и этим спровоцировала его. Кому из них верить? Этого никто никогда не узнает. Но нет сомнения, что в тот вечер она и он влюбились друг в друга с первого взгляда. Снова возникает та восхищенная любовь, которая овладевала другими любовниками Альмы, – любовные ласки изнурительны, избранник Альмы желает, чтобы потоки ее энергии прошли сквозь него, отдает себя под защиту этой прирожденной охранительницы, клянется полностью принадлежать только ей и даже готов на брак. Таков смысл письма, которое прислал ей Оскар на следующий день после первой встречи. «Вы будете присматривать за мной, пока я не стану действительно тем, кто не опустит вас, а поднимет», – пишет он. Эти слова не могли не покорить Альму. Она ведь искала в любви и в любовной связи духовного возвышения, которое сделало бы ее великой; и она была способна опускаться до своих любовников, чтобы получать от них творческую энергию, которую потом использовала, чтобы ослабить и духовно опустить их. Слова Оскара очень точно выражали двусмысленные, даже извращенные отношения, которые всегда устанавливались между Альмой и ее любовниками. Она есть и будет во всех смыслах якорем и ориентиром своей любви. Она прокладывает путь, и любовь обязательно должна идти этим путем. Очень скоро она безрассудно бросится в эту связь, но пока желает ее скрыть: Альма предпочитает по-прежнему иметь под рукой Гропиуса на случай, если Кокошка ее разочарует. В ней никогда не угасают инстинкт самосохранения и та, порой бессознательная, расчетливость стратега, которая позволяет ей обеспечивать свой тыл и в итоге делает ее хозяйкой положения. Возле Малера она засыхала без любви: он не наполнял ее энергией; наоборот, высасывал из нее всю энергию и переливал в творчество, а сам тратил все свое либидо на сочинение музыки, рискуя пожертвовать ради творчества отношениями с женой. С Гропиусом она ощущала в душе пустоту, в основном из-за его нерешительности, проволочек и противоречивости его чувств. После засухи и пустоты она готова согласиться на бурную любовную связь только ради телесных наслаждений. Пылкость Оскара, его ярко выраженная мужественность, молодость и восторженность в буквальном смысле заряжают ее новой энергией. Альма, которая чувствовала, как слабеют и угасают ее силы, вновь ощутила вкус к жизни. Но любит ли она Оскара так же страстно, как он ее? Несомненно, ее влечет к нему, но с Альмой всегда надо быть настороже. Она умеет пренебречь общественными условностями и брать на себя ответственность за это в Вене, где люди ее круга, конечно, не отказывают себе в удовольствии выходить за рамки общепринятого, но все же дорожат приличиями. Она не хочет терять выгоды своего положения вдовы знаменитого человека, а эти выгоды очевидны. Негласно она стала сторонницей феминизма, который уже начал набирать силу, она любит неповиновение и свободу, хорошо знакома с поэзией Гофмансталя, с ее параллельными дорогами и эзотерическими путями, с запретными страстями, которыми он наполняет свои рассказы и стихотворения.
Альма и Оскар встречаются то в его мастерской, то у нее. Она очень рано, еще до того, как он обезумел от любви к ней, распознала в нем гения. Бунтарский дух, который ощущался в его картинах, очаровал ее. Щемящую боль, которой сопровождается у него вдохновение; его грубые поступки, его сверкающие краски она считает любовными ранами и швами на месте таких ран, а такие следы любви восхищают Альму. Ей нравится живопись Оскара потому, что она, будучи истиной дочерью Вены, настроена против царящих в породившем ее обществе жеманства и любви к рококо и кичу. Она, конечно, знает все правила этого общества; она научилась притворяться, что восхищается ими, и готова выполнять их; но в глубине души очарована дикостью Кокошки – потому, что видит в нем силу чувств такую же, как ее собственная. Ее прославленное высокомерие сродни грубому высокомерию Оскара, который в очень культурной Вене считается «сорванцом». Рядом с ним она как будто снова рождается в XX веке – в эпохе всех тех рисков и опасностей, которые она давно предчувствовала и даже снимала с них покров тайны в своем девичьем дневнике.
Итак, в страсти, которая соединила этих двоих, очень сильна ее физическая сторона. Альма расставляет сети, отстраняет от Оскара всех, кто окружал его раньше, становится для него необходимой. В сущности, Оскар начинает полностью зависеть от нее – в физическом смысле и в финансовом тоже. Альма видит только преимущества этого положения: ей нравится, когда другие ей покорны, она любит чувствовать себя госпожой: это усиливает ее желание и улучшает положение в обществе. Оскар устраивает ей громкие скандалы, похожие на те нелепые сцены, в которых он проявлял свой холерический темперамент перед организаторами выставок, на которых был, по его мнению, представлен слишком мало и без достаточного уважения к себе. Альма полностью держит в руках «сошедшего с ума Гогена», как прозвали Кокошку. Но он не дает Альме покоя своей ревностью: он внимательно следит за каждым словом или жестом своей любовницы, ища в них признаки измены. Альма терпит это, хотя ей приходится укрощать эту страсть: пока поводья в ее руках, такая любовь ей подходит. «Ты должен решить, хочешь ли освободиться от меня или быть свободным во мне», – пишет она Оскару, когда он подозревает, что она отняла у него часть своей любви. Альма – светская женщина; с ее воспитанием и положением в обществе она, даже не осознавая этого, чувствует себя обязанной сохранять свое место в венском обществе, а потому ее оригинальность и причуды не должны выходить за определенные рамки. Она это знает, и в глубине души ее руководителем всегда остается дух ее класса и рода. Альма разглядела в Оскаре гения, восхищается его живописью, но она разглядела и его недостатки: неуважение к общепринятой морали, отказы подчиняться установленным нормам, когда он в своем протесте рискует их нарушить, но без скандала. Гнев Оскара и его любовные истерики – самое худшее, что может ей угрожать; чаще всего она покорно терпит их, но потом сразу же выпрямляется и собирается с силами. Безумие Оскара ее немного тревожит, но она не в силах сопротивляться обаянию этой страсти. Теперь он подписывает письма своим и ее именами сразу – Альма Оскар Кокошка. Ей безгранично льстит его страсть – то, чего совершенно не было в супружеской жизни с Малером. Она счастлива, принимая от него почести, но что-то в ней не может окончательно уступить Оскару. Кроме того, она боится, как бы Гропиус не узнал о ее новой любви, и просит Оскара быть сдержанней. Но он, напротив, переходит все границы. «Стань одним целым со мной навсегда, свяжи себя со мной нерасторжимо и навечно для бесконечной радости!»[90] – пишет он ей.
Альма и Оскар отправляются в Неаполь. Их путь из Вены на юг Италии становится путешествием влюбленных и приводит обоих в восторг. Но эта поездка становится посвящением не только в любовь: во время ее Оскар вручает себя своей «богине». С этого времени власть Альмы становится полной: Оскар льстит ей и почитает ее как богиню – ее, которую Малер презирал; она полна доверху – та, кто чувствовала себя «пустой», как «сухая ракушка»; она – мать и жена одновременно. Она больше не пытается лукавить или удерживать. Она плывет по течению своего счастья, которое с избытком утоляет все ее желания. Неужели наконец достигнута «вечная бесконечная радость», о которой писал ей Оскар? Но над этим идиллическим счастьем сгущаются новые тучи. Альма (впрочем, разве это не было модой в ту эпоху?) увлекается подругой, которая не скрывает своего пристрастия к лесбийской любви. Эта подруга, Лили Лейзер, красива, молода, сильно влюблена в Альму и хочет склонить ее к лесбийским наслаждениям.
Альма пока чувствует к ним отвращение: она слишком любит мужчин, чтобы уступить Лили, но считает ее невероятно очаровательной. Обе женщины вместе отправляются в поездку, и Лили становится доверенной подругой Альмы. В это время Альма беременеет, однако решает сделать аборт и ложится в клинику, не сообщив об этом Оскару. После этого она едет отдыхать на воды в Франценсбад, оставив Оскара в смятении и растерянности. Альму снова захлестывают прежние сомнения и колебания. Гропиус близко, и Лили тоже – два препятствия для Оскара. Эти кандидаты в любовники бродят рядом и следят за Альмой. Альма чувствует себя пленницей, а ведь она больше всего на свете любит свободу – тяжело добытую свободу.
И тут она узнает, что Оскар, в порыве безумия, попросту взял ее документы и опубликовал объявление об их свадьбе. Она понимает, что ей нужно сильнее контролировать своего любовника, который рискует опорочить ее в городе, повредить репутации вдовы Малера и ограничить ее свободу. А в этих вопросах Альма непоколебима. И она не отступает перед необходимостью покарать Оскара за его сумасбродства: объявляет ему, что теперь будет встречаться с ним лишь три раза в неделю, по расписанию. Оскар с болью в душе терпит наказание – и в это время узнает, что Гропиусу стало известно о его связи с Альмой. Гропиус узнал ее на одной из его картин. Альма молча принимает все упреки бывшего любовника, тот угрожает, что больше никогда не увидится с ней, а она даже не дает себе труда ответить. Альма считала, что держала Оскара в руках, но теперь оказалось, что на самом деле наоборот – Оскар владеет Альмой. С удивлением нужно сказать, что в это время страсть Оскара к Альме была всеобъемлющей и даже более того – губительной. Эта сила любви даже пугала Альму. Но любовь к наслаждениям и мужская отвага этой женщины помогают ей гнать от себя страх, и она уступает своему любовнику. Так было во время путешествия, которое она подарила Оскару, – тоже в Италии, в Доломитовых Альпах, где она отпускает на волю их любовь. В эти дни она решила больше не давать повода для ссор возлюбленному, который по натуре одновременно капризен и властен, слабоволен и пылок. Удивительно, что на расстоянии многих лет в мемуарах эти события выглядят совершенно по-другому. Оскар непрерывно признается Альме в страстной любви, и эта настойчивость кажется почти притеснением женщине, которая больше всего любит свою духовную независимость и свободу передвижения. Но в 1956 году, через сорок три года после этих событий, Кокошка, уже признанный во многих странах художник, в своих мемуарах, озаглавленных «Миражи прошлого»[91], рассказывает об этих днях очень холодно и отстраненно. Куда делась страсть, которой он пылал в двадцать пять лет? Теперь Альма только «дама», «светская женщина», «молодая вдова».
Когда он рассказывает о своем приезде в больницу, в его словах чувствуется горечь и вернувшийся гнев. «Она не могла произвести на свет ребенка, не вступив сначала со мной в законный брак. Но как она могла вступить в брак с человеком, который не создал себе в обществе ни положения, ни имени? Без доходов, без состояния, та, кто была моим счастьем, уже лежала под наркозом на операционном столе, а я еще испытывал смутный и напрасный страх, что в этом беспомощном состоянии она покажется желанной врачу, – вот как далеко заходило мое безумие! И в минуту величайшего тщеславия красавица-жертва велела завить свои длинные волосы перед тем, как ее унесли на носилках в операционную»[92]. Альма и Оскар любили по-разному. Альма была пылкой, но любила рассудочно. Она всегда думала. Она вслушивалась в движение своей энергии и часто покорялась ее приливам, но разум всегда оказывался сильней любовного безумия.
Альма всегда возвращалась на свое место, хотя и заявляла в порыве страсти, что «бессознательное – огонь мира». Она, конечно, любила касаться этого огня, но так, чтобы он ее не сжег. А Оскар бросал на кон в любовной игре совсем другие ставки. Во-первых, он был из другого мира. Как сказал в мемуарах, он не был ни состоятельным человеком, ни потомком знатной венской семьи. Он любил богему и охотно довольствовался артистическим миром. Как бурный Мане, он вложил все свои силы в живопись, рискуя проиграть. Поэтому шедевры, которые он вскоре создал благодаря страсти к Альме, стали для него наградой за страдания.
В сущности, именно его таланту завидует Альма, у которой есть все – деньги, имя, положение в обществе, ум… Снова дает о себе знать ее недостаток – желание сохранять свое место. Во время всех многочисленных путешествий, сомнений, припадков ревности и вспышек желания убежать она должна поддерживать свое положение в Вене и занимать ложу в Опере, иначе о ней начнут сплетничать, и сплетни будут распространяться очень быстро. Она всегда должна устраивать приемы в своем салоне, заниматься туалетами, присматривать за дочерью. В 1912 году на фестивале в Вене играли Девятую симфонию Малера – возможно, самую красивую и самую дорогую его сердцу. Альма, разумеется, должна была присутствовать на этом концерте, и она явилась туда, роскошная и блистательная, ей целовали руки, ее старались очаровать, и Альма позволяла это: светская жизнь всегда опьяняла ее. Кокошку она попросила быть в зале, но не рядом с ней и посоветовала, чтобы их взгляды время от времени скрещивались. Но у Оскара на этот счет было другое мнение. Ревнуя к умершему, он стал осыпать Альму упреками и чем дальше, тем настойчивей и требовательней становился. «Ты должна, – написал он Альме, – начать со мной совершенно новую жизнь – если хочешь, новое детство, – чтобы мы с тобой всегда были счастливы вместе…» Чем сильней разгорается их страсть, тем больше Оскар настаивает, чтобы Альма стала его женой. Альма сопротивляется изо всех сил и наконец находит чем парировать этот удар. Она заявляет Оскару: «Я выйду за тебя, когда ты создашь шедевр». Уловка, чтобы отложить решение? Или проявление настоящего таланта Альмы – способности вдохновлять гениальных мастеров, пробуждать, рождать их гений? Она интуитивно чувствует, что рядом с могучей творческой силой любовников, которых себе выбрала, может быть только тайной советчицей, Великой Матерью. Она не хочет ограничиваться ролью музы. Разумеется, она играет эту роль, которую чистосердечно предложил ей Оскар, но ей этого мало. Альма изобретает для себя другую роль: она будет сводящей с ума вдохновительницей, воплощенной богиней, уже не только желанной или воображаемой в грезах, а вручившей себя любимому. Она желает стать родительницей его будущего творчества, но при этом отказывается погружаться с Оскаром в это творчество настолько, чтобы сливаться с ним в одно целое. Иначе говоря, она будет вдохновительницей шедевров, но не станет для этого жертвовать собой. Когда Альма чувствует себя в опасности, расчетливая осторожность, скрытая в ее характере, всегда выходит на поверхность. Тогда к Альме очень быстро возвращаются ее классовая гордость и острая необходимость, как она говорит, «реализовать себя». И она старается набрать новые карты в великой игре любви и смерти. Она слишком часто отдавалась этой игре вся без остатка, как трагическая героиня, но, когда надо было принести наивысшую жертву, отступала перед жестокостью игры. С юных лет она твердо уверена, что обладает большей энергией, чем обычные люди, и что ее задача в жизни и в области духа – в первую очередь питать себя из своих энергетических источников, потому что лишь они помогут ей стать великой Альмой, которой она хочет быть. То есть она смотрит на свою жизнь как на путь к осуществлению себя. Ее любовники были не чем-то второстепенным на этом пути, а средствами достичь предельного познания себя. В этом смысле она не просто «великая возлюбленная» и тем более не «верховная куртизанка». Конечно, Альма может казаться такой, но она в первую очередь считала себя почти космической силой, обладательницей энергии, лучи которой сияют так ярко, что она может осветить тех, к кому приближается, оставаясь при этом уверенной, что весь окружающий свет исходит из ее собственного сердца.
Успение художника
Требование Альмы (создать шедевр – обязательное условие для их свадьбы) не осталось без ответа. Оскар, верный своей прямолинейной, сильной и пылкой натуре, принялся за работу и действительно создал картину, которую можно считать его величайшим шедевром, – «Невесту ветра». Могла ли Альма мечтать о более прекрасном титуле? Вдова Малера и «невеста ветра» – в обоих этих именах отражаются вагнеровские и даже ницшеанские образы, которые ее одушевляют и которыми она упивается в своем дневнике. Она любит лирические взлеты Гофмансталя, его мифологические грезы, его сказочный мир, пришедший непосредственно из великих германских сказаний. И вот она, Цирцея и буржуазная дама, принадлежащая и к богеме, и к официальному венскому обществу, видит себя священной «невестой ветра». Кокошка восстанавливает в ней то, что она всегда считала основой своей подлинной натуры: изображает ее космической и небесной, текучей и изменчивой, как ветер, подобной легкому ветерку и урагану одновременно.
Влюбленная пара напряженно трудится: Оскар полностью занят работой над картиной, а Альма проверяет чертежи и рисунки украшений дома, который заказала построить в Земмеринге. Кроме того, она совершает поездку в Париж и пишет оттуда Оскару письмо, такое же страстное, как его письма к ней. Но Оскар болезненно ревнив и хочет, чтобы она всегда была рядом с ним. Он упрекает Альму за ее шалости, за ее друзей, за ее знакомства и за ту житейскую ловкость, с которой она превращала себя в сияющий центр мира культуры и обольщения. «Мы из разных миров», – признается в итоге Оскар. Создавая свою картину – посвящение в мастера и волшебный ключ, открывающий дверь к полному соединению с любимой, художник попытался изобразить Альму в своем мире – в таком, как его видели экспрессионисты. Любовное ложе словно изрезано на части: оно состоит из зеленых полос, окруженных черными каймами. Это похоже на ком разорванных водорослей, которые волна вынесла на берег, а потом снова унесла в морскую пучину; Оскар называл это «хаосом». Сплетение узких полос, в глубине которого лежит влюбленная пара, – это гнездо, открытое для всех опасностей, основа постройки, которая беззащитна перед всеми рисками. На автопортрете художник изобразил себя суровым и полным отчаяния. Неужели в эти дни огромного напряжения творческих сил Оскар уже предвидел будущие испытания и невозможность совместной жизни с Альмой? Но природное простодушие «дикаря» еще побуждает его верить обещанию Альмы. Да, она выйдет за него, потому что, как он говорил, «у них одно и то же небо». Его мучения легко заметить: Оскар не скрывает их. На картине он обнимает Альму, а она уютно свернулась в его объятиях и отдыхает, утолив свою страсть, безразличная к царящему снаружи хаосу. И все же ложе влюбленных плывет в этом хаосе. Может быть, «невеста ветра» приносит несчастье? Может быть, она – посланница того яростного ветра, который скоро унесет в пропасть уходящий век и Австро-Венгерскую империю?
Картина полна резкого и бурного движения. Эротика в ней напряженная, трагическая и губительная. Похоже, что Кокошка больше не может владеть собой и тоже отдает себя во власть будущих испытаний Первой мировой войны и конца цивилизации. А если Альма – лишь носительница этих дьявольских сил? Художник перебирает в памяти и переносит на полотно древние сказания. Орфей и Эвридика, Тристан и Изольда у него проходят сквозь зеркала и сквозь смерть, летят над сточными канавами, грязными, как будущие траншеи. Его единственная надежда – та, кто, не зная о будущих несчастьях, спит в его объятиях и, может быть, имеет дар отвратить эти несчастья от них обоих. Оскар насилует холст, грубо бьет по нему кистью, чертит на нем линии так, словно режет полотно.
Альма в это время занята своим новым домом. Оплатила его постройку только она, но жить в нем собирается вместе с Оскаром. А Оскар участвует в украшении дома – пишет фрески над камином. Все они выполнены в его необузданном стиле – необарочном, но, в отличие от барокко конца XVI века, человеческие чувства у него не святы, а неистовы и жестоки. Он изображает вознесение Альмы в рай из пламени костра, а себя рисует в аду и помещает в западню, где его сторожат змеи. Конечно, это сюжет не простой и не безобидный: Оскар понял все о судьбе, которая связала его с Альмой. Ясновидец в своей живописи, он всей душой, до самого ее дна, чувствовал, чем неизбежно закончится их любовь. Но Альма снова беременна и еще верит в их совместное счастье. Ее будущее материнство пугает Оскара. Позже он напишет: «То, что каждый из нас искал в другом, привело к появлению нового существа, ребенка – чего-то, чужого для нас»[93].
В это время происходит случай, который мог бы показаться безобидным, но для Оскара стал настоящей драмой. Когда наносились последние штрихи в обустройстве дома, прибыла посылка. Альма открыла ее и вынула… посмертную маску Малера. И сразу же повесила ее на стену, а Оскар смотрел на это полными ужаса глазами, не в силах вынести такое оскорбление. Как уже было сказано, он давно ревновал к Малеру, часто мучил ее из-за этого по воображаемым поводам, требовал, чтобы она окончательно рассталась с мужем-композитором. И теперь он кричит ей тоном приказа, чтобы она сняла со стены эту гипсовую вещь. Альма категорически отказывается это сделать. Может быть, она использовала этот случай как предлог, чтобы снова начать ту работу по выходу из любви, в которой она такая специалистка?
Последовала громкая ссора. Оскар пригрозил, что уйдет, Альма не уступила, тон повышался, посыпались упреки. После этого влюбленным стало ясно, что они никогда не поженятся. «Итак, это тоже закончилось», – с сожалением пишет Альма в своем дневнике. Ее сопротивление Оскару завершается новым выкидышем. Искусственным или самопроизвольным? Неизвестно. Но в любом случае он стал одной из причин, которые отдалили любовников друг от друга. Альма очень страдала от этого проклятия, по ее словам, оно преследовало ее и мешало создать по-настоящему гармоничный союз двоих, в котором каждый был бы равноправен. Она уже без колебаний доверяет дневнику свои мрачные и откровенные мысли о будущем разрыве с Оскаром. «Он наполнил мою жизнь, он ее и разрушил», – пишет она. Позже Кокошка, уже освободившийся от чар Альмы, вспомнит в своих мемуарах именно об этой болезненной ссоре. «Когда ящик с просветами, в котором лежало нежеланное содержимое, в тот мартовский день разрушил мою любовь, я сжал кулаки и крикнул мертвецу в лицо, то есть в его желтоватую, цвета воска маску с закрытыми глазами: «Нет, я не хочу, ты не можешь быть между нами!» К этой личной боли добавились политические события: в Сараеве были убиты эрцгерцог Франц-Фердинанд и его супруга. Пока еще никто (кроме, может быть, венских художников) не осознавал размера этой драмы и ее последствий. Но Оскар больше не мог терпеть ад, в который превратилась его совместная жизнь с Альмой, и решил записаться в армию: может быть, на фронте ему будет легче, чем в Земмеринге, в их доме. Лето 1914 года прошло для обоих в неуверенности, будет ли война и уцелеет ли их любовь. Но в глубине души Альма уже знала, что теперь все кончено.
Новый отказ
Теперь оставалось лишь перевязать зияющую рану, которая осталась на месте их страсти, и снова встать на ноги. Альма и Оскар встречаются во время его редких отпусков. Но все уже не так: нет ни прежнего очарования, ни восторгов физической любви. Альма не скрывает своих намерений. Она пишет: так она делает после разрыва с каждым возлюбленным – доверяет бумаге звучащие в душе крики боли и признается, что у нее внутри пустота. «Нам надо покончить с этим», – почти холодно пишет она. А дальше заявляет, что больше не хочет быть «рабыней ни одного мужчины», и добавляет, что «ее целью будет только ее собственное благополучие и реализация себя самой»[94]. Оскар догадывается, каким роковым образом завершится это переходное время, и старается снова завоевать Альму. Интуитивно он чувствует, что она уже его покинула, что она больше не с ним. Он узнает, что она снова устраивает приемы. Ходят слухи, что Альма – веселая и искрящаяся жизнью хозяйка, у которой собирается все венское общество. Она снова видится с Климтом, к ней возвращаются прежние радость жизни, беспечность и высокомерие. Она даже позволяет соблазнить себя тем, кто никогда не переставали ее любить и ждали своего часа: Ханс Пфицнер, который вернулся в Вену, чтобы подготовить свою новую оперу, пытает удачу. Он обнимает Альму, но она выскальзывает из его рук, однако пробует на нем свое очарование, позволяя ему сомневаться в ее отказе. Даже Климт делает новую попытку и ностальгически вспоминает, что не скрывал своих чувств от Альмы в прежние годы, во время их флирта. Альма не препятствует и этому поклоннику ухаживать за ней. Эта веселая вдова готова на все, чтобы вернуть себе утраченную энергию, чтобы «реализовать себя», как она заявляет не допускающим возражений тоном. Оскар все же проводит предновогодние праздники вместе с ней, но он уже не питает никаких иллюзий и точно знает, что их любовные узы ослабли.
Если верить свидетельству Оскара, Альма еще играет в эту игру: по его словам, она никогда не была такой красивой, как в ночь 31 декабря 1914 года, и никогда не приводила его в свою постель с таким изяществом.
Оскару, который служил в кавалерии, были нужны мундир и лошадь. Не желая просить помощи у Альмы, он продал «Невесту ветра» коллекционеру из Гамбурга. Альма непрерывно побуждала его ехать на фронт, а когда это произошло, простилась с ним без большого волнения. Разочарование было обоюдным. Та, кого Оскар позже назовет «светская дама, молодая вдова в фиолетовом платье из венецианского плиссированного шелка, таком тонком, что его можно было бы продеть в обручальное кольцо»[95], постепенно исчезала из его сознания, словно призрак. Было ли ему от этого горько? Подчеркнутое равнодушие Альмы, ее жестокость и эгоизм немного охладили чувство художника. «Священное чувство присутствия рядом с божеством», так он пишет в своих мемуарах, улетучилось, оставив после себя лишь угасающее воспоминание, которое он пытался оживить. Он доверяет своей матери ожерелье из красных бусин, подаренное ему Альмой. Об этом украшении он вспомнит в 1956 году, сочиняя новеллу «Джессика», но почти полностью сотрет из рассказа имя Альмы. «Ожерелье, которое мне подарила одна дама»[96], – напишет он.
Эта дама не теряла время зря и крепко стояла на ногах. Она решила «покорить» Гропиуса, вернуть его себе. Хотя Гропиус тоже на фронте, она трудится, чтобы снова добиться его, готовится, как она пишет в дневнике, «быть, на его взгляд, свободной». Она едет в Берлин, надеясь встретить там Гропиуса. В поездке ее по-прежнему сопровождает Лили Лейзер: эта верная и скандальная подруга не оставила надежды познакомить Альму с самыми сладостными лесбийскими ласками.
Альма действительно встречается с Гропиусом, но его ревность слишком сильна, и новая страсть не может родиться: их разделяет тень Кокошки. Альма приходит в ярость оттого, что не может завладеть Гропиусом так быстро, как хочет. И тогда начинает действовать ее всемогущая энергия. Она хочет иметь его, держать в своих руках, очертить вокруг избранника магический круг. И вот всегда романтичная Альма говорит Гропиусу «до свидания» на платформе берлинского вокзала, с которого он уезжает на короткое время в Ганновер к своей матери. Она обнимает и целует его, входит в вагон, чтобы поцеловать в последний раз, но тут поезд отправляется, и она в объятиях Гропиуса! Вот случай, о котором она мечтала, чтобы возобновить их отношения! Вернувшись в Берлин, она заходит к Шенбергу, дает ему деньги, гуляет по городу в обществе Лили Лейзер и ждет Гропиуса, который все более настойчиво просит ее стать его женой. В конце зимы Альма возвращается в Вену и снова начинает сочинять музыку, но у нее ничего не получается. Как будто Малер уничтожил ее дар, разрушил ее вдохновение. Альма считает, что ей больше нечего сказать, что музыка ее покинула. Все ее время занято двумя любовниками: они оба на фронте, и обоим она пишет длинные, чаще всего неоднозначные письма. В таких обстоятельствах она едет лечиться во Франценсбад, а потом, летом 1914 года, уступает Гропиусу и 18 августа в Берлине выходит за него замуж. Она не сообщает о своей свадьбе Кокошке, и художник, ни о чем не подозревая, продолжает взывать к ней, признаваясь в любви. «Я люблю тебя, и ты моя», – пишет он.
Альма в это время снова беременна и верит, что обрела мир и покой. Ее огненная душа стала спокойней, и она думает лишь о том, как сделать Гропиуса счастливым. Она покоряется ему ради его счастья, как раньше Малеру. Странная она женщина – то властная, то покорная, но всегда раба любви.
Оскар на фронте получает две тяжелые раны и едва не умирает. В госпитале он со своей обычной силой сопротивляется боли и трудностям. Он зовет Альму, но она не отвечает. Думая, что он скоро умрет, она приходит в его мастерскую, чтобы забрать оттуда письма и… рисунки. Она не испытывает сострадания к своему бывшему любовнику и упрямо отказывается прийти к нему в госпиталь. Оскар узнает, что она вышла замуж, и впадает в отчаяние. Но она не изменяет свое решение. Именно в это время и происходит тот случай с ожерельем из стеклянных бусин, о котором художник через много лет расскажет в «Джессике». Перед отъездом на фронт Оскар зашел к своей матери. С тех пор как был ранен осколком снаряда в голову, он потерял чувство равновесия и потому нечаянно толкнул горшок с цветами, в котором мать прятала пресловутое ожерелье. Оно оказывается у него перед глазами среди рассыпанной земли и осколков горшка. Оскар сразу же увидел в этом завершение их с Альмой любви. Ожерелье, лежащее на полу, стало символом конца их страсти. Снова раненный на фронте у реки Изонцо, он возвращается в Вену, но не приходит к Альме, опасаясь, что она грубо откажется от встречи с ним. Он растерян и ничего не пишет. Его признали непригодным к военной службе, и теперь он еще меньше интересует Альму, которая любит лишь победителей и чувствует отвращение к побежденным. Несмотря на советы друзей, она отказывается встретиться с ним. «Оскар стал для меня тенью, стал чужим, – пишет она. – Он больше совершенно не интересует меня!» Эта изумительная способность Альмы вычеркивать из своей жизни тех, кого она страстно любила, омрачает ее образ. Она выглядит холодной, высокомерной, равнодушной к чужому несчастью владычицей, у ног которой умирают ее поклонники.
«Рыться в пепле угасшего горя…» (Оскар Кокошка)
Итак, вместе с 1916 годом закончилась их любовь, такая же бурная и беспокойная, как живопись Оскара. Больше они не видятся, не стремятся ни избегать друг друга, ни встретиться друг с другом. Игра любви и случая отжила свое. Альма уже идет другим путем, внимательно следит за другими ставками, а Оскар должен перестроить себя. Но любовь, которая всегда была такой искренней и бескорыстной («Не посылай мне денег», – умолял он Альму), не совсем умерла в нем. Альма сопротивляется стиранию и забвению. Через много лет она оценит его постоянство и будет почти счастлива получать от него короткие известия – почтовые открытки или загадочные телеграммы. Он снова почувствовал вкус к живописи и достигает в ней все больших успехов. Альма издалека следит за его работой. Она довольна его движением вперед и его известностью и в глубине души считает, что внесла большой вклад в его славу. У Альмы всегда было прочное впечатление, что слава ее любовников – ее заслуга. Разве не за это чувство в первую очередь упрекал ее Землинский: «Неужели ты можешь дать так много, что другие всегда обязаны просить об этом, как нищие?» Оскар никогда не перестанет от случая к случаю напоминать ей о себе, зная, что между ними все кончено, но они неразрывно связаны, и пригласит ее на премьеру своей пьесы «Орфей и Эвридика» во Франкфурте. Она не приедет, но сама тема пьесы близка к истории их отношений: она всегда будет для него Эвридикой, к которой он станет приходить даже в подземный мир, чтобы вернуть ее к свету дня. Оскар считает, что «невеста ветра» не сможет ускользнуть от него, что он своего добьется – не одним путем, так другим. Они случайно оказываются рядом в разных местах то в Вене, то в Берлине, а еще – в Венеции, где он назначил ей встречу в кафе «Флориан», но в последний момент решил не приходить. Узнал ли он когда-нибудь, была ли там Альма? Неизвестно. Но память о ней не могла стереться.
Безумие Фетишиста
В 1917 году он наконец поселился в Дрездене, потому что не мог представить себе, как мог бы сталкиваться с Альмой в Вене: он знал, что глубоко страдал бы от этих встреч. И здесь ему пришла в голову безумная мысль. Ее побудительные причины и загадки был бы рад проанализировать доктор Фрейд, который за время, прошедшее с его первых опытов психоанализа в Вене, стал известен во всей Европе как терапевт.
Оскар сделал заказ театральной костюмерше и мастерице по изготовлению марионеток, которая была известна точностью и изяществом своих работ. Он попросил ее сделать для него куклу в рост человека, изображающую Альму. И сообщил исполнительнице все необходимые для этого подробности, нарисовал силуэт Альмы, указал точные размеры ее тела, цвет волос и т. д. Гермина Моос – так звали мастерицу – приняла вызов. За время работы, которая продолжалась шесть месяцев, Гермина влюбилась в Оскара. И между тремя главными персонажами этой истории возник лукавый диалог. Чем ближе становился день, когда ему вручат куклу, тем ярче разгорались чувства художника-фетишиста. Гермина смущается и волнуется, вкладывая собственные чувства в свое произведение, и в результате этого странного договора Альма медленно рождается из ткани, конского волоса, шерсти и человеческих волос, предоставленных Оскаром. Гермина во всем повинуется Мастеру, она очарована непристойностью этого заказа и нарушением приличий, которое он подразумевает. Оскар не скупится на советы и осыпает Гермину угрожающими письмами. Его требования постоянно возрастают. «Я убежден, – пишет он, – что Вы сумеете так наполнить этот фетиш жизнью, что мне больше не будет нужно каждый день заставлять себя воссоздавать этот образ в мечтах из моих надежд и воспоминаний». Оскар больше не в состоянии терпеть отсутствие Альмы, он переживает разрыв с ней как траур, тем более что Альма, выйдя замуж за Гропиуса, стала недоступна для Оскара. Значит, он переживает то, что Фрейд называет «травматическим трауром». Картины Оскара становятся все более «израненными», убийственное, смертоносное буйство на них – все экспрессивней. Альма сделалась для него, как он говорит, призраком-тираном. Значит, фетиш играет роль транспортного средства: кукла переправит Оскара на другой берег, где закончится его траур, где он вернется к жизни. Кукла-фетиш становится ладьей перевозчика. Это, как говорят психоаналитики (Луи Морен), «фигура на краю», которая мешает безумию развиваться и стать необратимым. Оскар требовал, чтобы призрак был «полным жизни». Был ли его фетишизм порнографическим или по меньшей мере эротическим? Иначе говоря, собирался ли Оскар имитировать телесную любовь со своей куклой? Стала ли искусственная Альма сексуальным объектом? Оскар называет ее «фетиш», делая из нее орудие мистического излечения, профилактическое средство, которое должно помочь ему преодолеть боль, стать повязкой на рану, защитить его в невидимом мире. Психоаналитики хорошо изучили этот перенос, который случается достаточно часто; это временное переходное состояние, которое бывает недолгим и не достигает патологического размера. Альма не стирается из его памяти, не становится, как он говорит, пеплом его угасшего костра. Изготовить такую куклу – значит сделать Альму призраком, благодетельной тенью, «эманацией», то есть необыкновенным сверхчеловеческим существом, которое и после смерти остается рядом. Итак, Альма постепенно воскресает. Да, она отказалась стать женой Оскара (хотя он создал шедевр) и вышла за другого (двойное предательство), но все же станет его женой, такой, которую он будет называть своей «женой-ангелом». У него появились честолюбивые мечты и широкие планы, которые он хочет осуществить вместе с куклой. Оскар намерен написать их общий портрет, где будет держать ее за левую руку, и уверен, что энергия куклы перейдет в эту картину. Он будет возить ее на прогулку в фиакре рядом с собой, одевать в самые красивые наряды, будет класть ее в свою постель, одетую в прекрасное белье, купленное по баснословной цене. Альма отвергла его, и теперь она для него мертва. Но все же ее нужно оживить. Чтобы Альма вновь появилась на его картине и влила в него ту высшую энергию, которой владеет, она должна воскреснуть. И Оскар разыгрывает с ней новую историю любви. Он приходит в мастерскую послушной Гермины. Вот отрывок из его письма к Гермине от 20 ноября 1918 года: «С первой минуты я был поражен ее внешностью призрака, полного жизни, и я знаю, что вы, с вашим большим даром отождествления, сумеете сделать все так, как я желаю. У ладоней и ступней должны быть четче обозначены суставы. Вы должны следить за тем, чтобы ладони и ступни оставались привлекательными даже голые и не казались безжизненной массой, а чтобы в них чувствовалась энергия. Что касается размера, он должен быть примерно таким, чтобы на ногу можно было надеть элегантную дамскую туфлю, потому что я уже купил в Вене очень много женского белья и женской одежды для этой цели…»
Он дает мастерице ценнейшие указания относительно формы грудей, грудной клетки, глаз, век, рта, черепа. «Что касается головы, – пишет он в другом месте, – выражение лица очень точно соответствует оригиналу, разве что его нужно еще усилить. Но уберите все следы выполненной работы. Будет ли рот открываться? И будут ли внутри зубы и язык? Если да, я был бы счастлив!.. Что касается глаз, главное – избегайте стилизации».
Указания и вопросы льются потоком. Оскар, в разгаре своей бредовой фантазии, осмеливается на все. «Не наносите вышивку на места, покрытые волосками, а вплетите в ткань настоящие волосы. Иначе эта модель будет выглядеть изделием ремесленника, а не живым существом, если я захочу написать с нее обнаженную фигуру. И наконец, кожа. Пусть она будет на ощупь как шкурка персика, и не позволяйте себе делать швы там, где, по вашему мнению, это причинит мне боль и напомнит, что фетиш – жалкий тряпичный пупс. Делайте их лишь там, куда я не буду смотреть и где шов не нарушит естественного контура и движения линий и частей тела…» Фетишист Оскар не забывает ни об одной детали: «Что касается век, зрачков, глазных яблок, углов глаз и толщины всего этого – как можно точней воспроизведите свои собственные. Роговицу можно покрыть лаком для ногтей. Было бы хорошо, если бы еще веки могли опускаться и закрывать глаза… Еще вам нужно с большой любовью отделать начало шеи… Пожалуйста, воспроизведите груди более подробно. Мне бы хотелось, чтобы соски не выступали над их поверхностью, а были неправильной формы и выделялись только некоторой шершавостью материала. […] Грудная клетка еще немного тощая и узкая, особенно в области ребер и желудка…» Его странные отношения с Герминой Моос частично основаны на том, что он взял ее в помощницы для своего творческого труда. Много раз он пишет ей, чтобы она, изготавливая интимные части тела куклы, взяла за образец свои собственные. Так происходит перенос Гермины на Альму, и эта работа попутно пробуждает эротические чувства в портнихе. Гермина наполняет куклу Альму своим желанием, воплощает в ней собственные мечты, создает ее по своему подобию. Гермина вложила в эту работу столько души, что сама влюбилась в Кокошку. Позже она предложит свои услуги для создания двух других кукол. Одна из них будет изображать самого Оскара, а вторая – его служанку, которая, желая остаться верной отсутствующей госпоже, стала служить только кукле Альме и даже надевала для этого, по приказу Оскара, фартук горничной.
Отчаяние Оскара могло тронуть любую душу, но Альма не знала о нем, потому что она не желала ничего помнить об их любовной связи. Такой создала ее природа: Альма всегда жила будущим и не заботилась о прошлом, не испытывая ни сожалений о нем, ни угрызений совести. Оскар, наоборот, признавался в письме к Гермине: «Поскольку меня часто мучит отчаяние, я еще раз прошу вас изобрести и оживить призрачную спутницу, которую вы готовите для меня, проявляя тончайшее чутье. Нужно, чтобы в итоге, когда вы закончите тело, на нем не осталось ни малейшего участка без особенности, без следа утонченной попытки оживить бездушную материю. Благодаря какой-нибудь монограмме, символическому знаку, который вы вложите глубоко внутрь этой кучи тряпок, я в минуты отчаяния буду вспоминать все изящные и нежные свойства, которыми жизнь так расточительно одарила женское тело – в те минуты, когда отчаяние станет сильней меня…» Значит, кукла-призрак все же была еще и настоящим эротическим объектом, пассивным и наконец-то послушным сексуальным орудием, которое Оскар приобрел за деньги, чтобы отплатить за обиды той, кто чаще всего господствовала над ним. Но в то же время кукла, похожая на его вдохновительницу, – необходимая художнику муза, всегда согласная с ним молчаливая советчица; она позволит ему справиться с горем, не даст рухнуть в пропасть безумия или погрузиться в меланхолию, которая помешала бы ему совершенствоваться в его труде художника. Более того, тряпичное подобие бывшей возлюбленной становится последним убежищем для воспоминаний о ней и позволяет Оскару бессознательно построить в своей душе гробницу для их любви.
Когда куклу привезли в дом Кокошки, это ошеломило его слуг. Лакей художника потерял сознание, а служанка Рейзл была очень обеспокоена и даже встревожена тем, что Оскар попросил ее помочь кукле одеться и с этого дня быть ее горничной. Оскар предусмотрел все – тонкое белье, платья из шелковых тканей – и распустил длинные волосы куклы по ее плечам, как любила делать Альма, завлекая его в свою постель. Кокошка – к большому огорчению своего лакея, который испугался и попросил расчет, решив, что хозяин сошел с ума, – стал вести себя с куклой так, словно это была его настоящая жена. Она спала рядом с ним, завтракала вместе с ним, участвовала в вечеринках, которые он устраивал, ездила с ним по Дрездену в фиакре всем напоказ. В кругах, где бывал Оскар, начали волноваться из-за его психического состояния. Кукла, которую он называл «молчаливая жена», по названию портрета, на котором изобразил себя вместе с ней, сделалась для Оскара навязчивой идеей. Она стала для него ядом и каждодневной необходимостью, стимулом, чтобы писать, потоком эротической энергии, которая, возможно, вернет способность двигаться тому, что застыло как в столбняке из-за разрыва с возлюбленной. Истории неизвестно, имитировал ли он секс со своей куклой. Оскар в своей биографии достаточно скромен, большую часть ее он написал очень витиеватым стилем и был склонен к образам и метафорам. Но поскольку он лично проследил за тем, чтобы лобок его куклы был очень похож на настоящий, то, вероятно, в одинокие ночи, пьяный, он предавался таким утехам. Все его окружение подыгрывало ему в этой игре, потому что Оскар в это время работал постоянно и напряженно. Он писал картины с не имеющей себе равных, неистовой силой. И считал свое искусство погружением в бессознательное и в глубины бытия, как всего на несколько лет раньше решили молодые художники – дебютанты и анархисты из Дрезденской группы, основатели экспрессионизма. Он также пишет поэмы, которые подписывает псевдонимом, составленным из имен его и Альмы, – Аллос Макар (анаграмма из «Альма + Оскар») или только Аллос – соединением первых слогов этих имен. Но необычное приключение художника не может закончиться на этом: становится заметно, что Оскар может сойти с ума и даже попасть в психиатрическую лечебницу. Тряпичная муза пробыла рядом с Оскаром много месяцев до того дня, когда он решил устроить роскошный праздник для всех своих друзей. На этом празднике и произошла роковая и первобытная, как сказал бы Фрейд, сцена. Она была так же неистова и жестока, как велика ставка в этой игре. В тот вечер Альма должна была умереть, стать одним из «миражей прошлого»: так в конце 1950-х годов он назовет свою книгу. Друзья, у которых всегда вызывала любопытство его способность возбуждаться и совершать необычные поступки, собрались и стали, заранее наслаждаясь, ждать скандала. Оскар любил выпить, и спиртное лилось рекой. Разумеется, кукла Альма была на празднике. Художник нарядил ее в лучшее платье, причесал ей волосы и велел послушной служанке Рейзл накрасить Альме лицо. По мере того как гости пьянели, Оскар предлагал тряпичную куклу любому, кто ее хотел. И гости ласкали Альму, смешную куклу, обнимали ее под насмешливые или двусмысленные шутки. Оскар знал, что это конец, последняя сцена его любви с настоящей Альмой. Ему нужно было пройти через это. Эта вечеринка была похожа на гротескный праздник вроде тех, которые изображал на своих картинах Джеймс Энсор. В круг сотрапезников невидимкой прокралась смерть. Эта ужасная ночь была полна тем «странным беспокойством», о котором писал Фрейд. Была ли это оргия? Оскар, рассказывая об этом празднике, не слишком распространяется на этот счет. «Муза-охранительница», как он ее называл, теперь отдана на растерзание всем его гостям. Похоже, что другая сторона Альмы – ее соблазнительность и опасность, ее извращенность, ее истеричность – была публично наказана по великой традиции художников-экспрессионистов. Ведь это было время группы «Мост», основанной в 1905 году в Дрездене, и журнала «Буря» – время хаоса и бури. Нет никаких сомнений в том, чем должна была закончиться вечеринка, и завершающая сцена, несомненно, была придумана заранее. Оскар созвал своих друзей на символическое убийство. «Я хотел положить конец существованию моей спутницы, – без колебаний писал он потом. – Я нанял оркестр в Опере, и музыканты, в церемониальной одежде, играли во дворе, стоя в бассейне барочного фонтана; рвы, полные воды, освежали этот огненный вечер. Мы все много выпили. Были зажжены факелы… Во время этой оргии кукла лишилась головы и была облита красным вином. Мы все были пьяны». Значит, «убийство» действительно было ритуальным. Чтобы вернуть себе творческую энергию, Кокошка должен был его совершить. Это было возвращение в реальность; он отбрасывал призрак и возвращал себе свободу. Уничтожение куклы было первобытным магическим обрядом. Обезглавливание играло в этом ритуале особую роль. Отрубая голову вдохновительнице, он лишал ее способности передавать энергию, лишал ее духовной силы. Превращенная в туловище без головы (сделать это – величайшее преступление!), она становится бесформенной тряпкой. Однако вино, заменившее в этом обряде кровь, сделало эту сцену символической до конца. Куклу бросили в фонтан. Ее обнаружил почтальон, который приносил по утрам почту. Приняв куклу за труп, он в ужасе пошел в полицию. Через много лет, в 1986 году, Кокошка по-своему рассказывал об этом так: «На следующее утро, очень рано, когда разгульный праздник был уже почти забыт, в дверь позвонила полиция. Полицейские хотели кое-что выяснить: им сказали, что в саду лежит труп… Я спросил: какой труп? Мы спустились в сад, где лежала кукла с оторванной головой, залитая вином, словно кровью. Полицейские не смогли удержаться от смеха, но все же записали мое имя, потому что я нарушил общественный порядок». Кукла была выброшена в мусорный ящик – в общую могилу кошмаров и плохих воспоминаний. «Служба очистки в то серое утро увезла прочь мечту о возвращении Эвридики», – лирически завершает Оскар свой рассказ, и это звучит как речь на похоронах. Однако античный миф об Орфее и Эвридике упорно продолжает жить в его сознании. Оскар сделал этот миф своим и мечтает бросить тот же вызов, который бросил Орфей. Исчез ли образ Альмы из его души? Вовсе нет. Оскар приобретает все большую известность как художник. Его карьера складывается великолепно. Он занимает кафедру в дрезденской Школе искусств и много путешествует. Немного пожив в Вене, он в 1934 году переезжает в Прагу, где живет до 1938 года – года своей женитьбы на Ольге Палковской. В том же 1938 году супруги переехали в Лондон, а в 1953 году окончательно поселились в швейцарском городе Вильнев, на берегу озера Леман.
Что до Альмы, ее жизнь не была ни спокойной, ни мирной. Она имела других возлюбленных и мужей, но, в сущности, не любила их ни за них самих, ни за их великие таланты. Ни Малер, ни Гропиус, ни поэт Верфель не нашли у нее милости. Блуждание по миру чувств сделало ее равнодушной к другим и к себе. Позже у нее уже не было так много энергии, как в юности; не было даже столько энергии, сколько она имела в начале зрелости. Ей душно жить, и она восстает против «рабства под властью мужчины». В своем дневнике она пишет: «Уже десять лет я выбита из колеи, я играю роль». Нашла ли она наконец свой настоящий путь? Она по-прежнему зажигает огонь в сердцах; целая толпа поклонников лежит у ее ног и склоняется перед ней, как язычник перед идолом, несмотря на ее почтенный возраст. Она даже сдалась на пылкие ухаживания молодого (ему было тридцать восемь лет) священника Йоханнеса Холленштейнера, который был на очень хорошем счету у Римской курии. Верфель набросал ее портрет в нескольких словах: «Она – одна из очень малого числа живущих сейчас волшебниц». Но он тут же добавил: «Она живет в кругу светлой магии, но в этой магии есть разрушительная воля, желание властвовать…»[97] Однако Кокошка то и дело возникал в ее жизни. Куда бы Альма ни поехала, она слышала о нем. Он часто сообщал ей новости о себе в нескольких словах, назначил ей встречу в Венеции, в кафе «Флориан», но в итоге не пришел туда: как говорили, побоялся увидеть, что ее очарование угасло. В 1919 году, когда между ним и Альмой уже все было кончено, он попросил ее найти достаточно талантливого поэта, чтобы тот перевел его пьесу «Орфей и Эвридика»: в конце концов, разве это не продолжение их истории? Она говорила, что три года, прожитые рядом с ним, «были настоящим любовным сражением», и заявляла: «Прежде я никогда не знала ни такого ада, ни такого рая». Не выйдет ли она наконец из подземного мира, куда Орфей пришел ее искать? Но Альма ему не отвечает.
Однако он пишет Альме одно из самых прекрасных своих писем к ней, словно для того, чтобы на все времена подвести итог их общей судьбе. Оскар, поэт и переводчик, красотой этого текста позволил себе показать «перед лицом всего мира то, что мы сделали вместе и что мы сделали друг для друга, и передать потомству наше живое послание любви. Со времен Средневековья не было ничего подобного ей, потому что никогда ни одна любящая пара не дышала такой страстью друг к другу». Он заканчивает это письмо в шутливом тоне: «Вспомни, что эта пьеса – наш единственный ребенок. Позаботься о себе и постарайся отметить день рождения без похмелья». Пережив тяжелые годы, Альма навсегда покинула Европу и переселилась в Соединенные Штаты. Все, что она любила и что было ей дорого, больше не существовало; даже «ее» Вена была разрушена бомбардировками. На фотографиях этого времени видно, что черты ее лица отяжелели и на нем отражаются подавленность и упадок сил; по нему можно догадаться, что эта женщина потерпела поражение. Ее пристрастие к выпивке усилилось, и говорили, что она выпивала бутылку бенедиктина в день. Альма поселилась в Нью-Йорке, где называла себя вдовой Малера, хотя в то время была уже и вдовой Франца Верфеля. Малер считался явно и несомненно современным композитором, и она рассчитывала, что его имя вернет ей часть прежнего блеска. Ее квартира была маленьким музеем. Она жила воспоминаниями о тех, кого так бурно любила. На стене всегда висела посмертная маска Малера – та самая, которая вызвала столько криков у Кокошки. Рядом были рукописи малеровских партитур, которые Альма любила показывать гостям с немного показной гордостью, – и, разумеется, ее портрет, написанный Кокошкой. Злые языки утверждали, что все эти памятные вещи хозяйка квартиры держит при себе в качестве фетишей, которые должны спасать ее от тоски и тревоги. Старая волшебница знала, что все эти произведения, такие личные, истоки творчества ее возлюбленных, вливали в нее энергию, которая поддерживала в ней жизнь. Кокошка так никогда и не забыл ее и хотел на закате жизни увидеться с ней, проезжая через Нью-Йорк, но она отклонила его приглашение. Кто может по-настоящему понять, что творилось в уме у этой старой дамы, немного алкоголички, одевавшейся слишком вычурно, усыпанной драгоценностями, посещавшей вернисажи, которая в Нью-Йорке по-прежнему вращалась в светском обществе и даже бывала у авангардистов? Однако Оскар не отчаивался. Он не хотел полностью порывать с Альмой, потому что знал: три года, которые он прожил рядом с ней, стали новой легендой о Тристане и Изольде. Он всегда писал ей об этом в коротких неожиданных посланиях. «Мы навечно соединены в моей «Невесте ветра» – такую телеграмму он отправил Альме. Так он по-своему напомнил ей, что создал тот шедевр, который она потребовала от него. Он выполнил ее желание, когда в любовном неистовстве нашпиговал полотно бесчисленным множеством узких полос разного цвета и превратил их в ложе, на котором Альма уносила его к неведомым берегам.
В вечернюю пору своей жизни Альма оценила то необыкновенное влияние, которое Оскар оказал на нее. Пребывая в веселом настроении, она призналась, что по-настоящему никогда не любила ни музыку Малера, ни поэзию Верфеля, ни гениальный дар Гропиуса, и завершила это воспоминание о своих историях любви словами: «Но Кокошка – да, Кокошка – всегда производил на меня впечатление». Альма умерла в 1964 году, далеко от роскоши и барочных раздоров своей Вены, без мужа или возлюбленного. В конце жизни она была одна, хотя рядом с ней находилась ее дочь Анна. Оскар пережил ее на шестнадцать лет. Он так и не смог стереть ее из памяти. В своей книге «Миражи прошлого» он уже говорил о ней лишь намеками. Альма стала для него «дамой», и он, как Бодлер о кудрях своей любовницы, вспоминал лишь о ее несравненных волосах, похожих на кудри «кающихся Магдалин венецианских мастеров»[98].
Значит, Альма, с ее кипучим вулканическим темпераментом, была возведена в ранг кающейся святой. Однако слова Оскара не совсем безобидны: моделями венецианским мастерам служили куртизанки или уличные проститутки. Как Мария Магдалина, Альма грешила, но в сердцах своих возлюбленных она оставила неисцелимую боль. В сердце Кокошки эта боль возникала снова и снова и стала жалобой, которую он мог излить лишь в своих картинах.
Пабло Пикассо (1881–1973) и Дора Маар (1907–1997) Минотавр и «плачущая женщина»
Эта страсть продолжалась десять лет – с 1935 года до конца Второй мировой войны. Десять лет тяжелого труда и творчества, на протяжении которых сложился миф о Минотавре и «плачущей женщине». Но не исказил ли в конце концов этот миф реальность? Чем на самом деле были эти десять лет, когда две личности, состоящие из равных долей солнца и тьмы, то ссорились и оскорбляли друг друга, то мирились? Был ли Пикассо свирепым чудовищем из античного сказания, которое насиловало красавицу Дору Маар, во что заставляют верить его многочисленные картины, дикие и жестокие? И была ли Дора Маар искупительной жертвой его насилия? Она ведь задолго до их роковой встречи фотографировала странные сцены, главными темами которых были жестокость и «непривычное» – темы, столь дорогие для сюрреалистов. Ее делали своей тайной советчицей и музой Бретон и Батай; более того – она была их «недоступной звездой».
Пикассо начеку
Хищный взгляд Пикассо рано разглядел дикую внутреннюю силу Доры Маар. Ее независимый ум, свободный взгляд, дерзость в искусстве и мрачная трагическая красота определили его решение. В 1935 году Пикассо, переживавший тогда трудное время, понял, что с Дорой Маар он узнает не только физическое наслаждение, которого всегда искал, но и возможность диалога двух художников. Он ликовал: его жизненная сила и творческая мощь нашли в Доре Маар то, что могло напитать и оплодотворить его труд.
Странная Дора Маар
В это время Дора Маар была тайной, которую трудно разгадать, – впрочем, она всегда заявляла, что носит в себе такую тайну. За ее фотографиями, которые озадачивают зрителя, и сюрреалистическими постановками поклонники не могли разглядеть ни ее личность, ни индивидуальность. Ее нездешние образы, явившиеся из неизвестных восхитительных стран, только увеличивали таинственность. Кто Дора Маар на самом деле? Многие обожгли себе крылья в ее огне, решая эту загадку, и Пикассо тоже попытался ее решить. До «случайной», но «роковой» встречи с ним Дора была связана с движением сюрреалистов отношениями реальными и мистическими одновременно. Они начались в 1933 году, когда она стала возлюбленной Жоржа Батая, а может быть, и раньше. Дора не входила в саму группу, основанную Андре Бретоном, но пребывала на периферии этой группы и по-своему следовала тем принципам, которыми позже стали руководствоваться Бретон и его друзья: внезапно возникающие видения, путешествия по иному миру, сбор образов, возникающих на самой границе бессознательного и реального, столкновение мечты и действительности. Весь этот набор художественных приемов уже предугадывал и начинал применять Артюр Рембо, главным образом в «Озарениях» (Рембо первым произнес слово «сюрреализм»). В 1933 году Доре Маар было двадцать шесть лет. На фотографиях, сделанных в это время, она всегда выглядит суровой и серьезной. Она кажется равнодушной к объективу фотоаппарата, словно чужда внешнему миру. Ее глаза пристально смотрят куда-то очень далеко, рот упрямо стиснут. Что это – поза? Или она – одна из тех людей, которые решительно заперли себя на замок, чьи чувства нельзя прочесть во взгляде и кто полностью сосредоточен на своем пылающем внутреннем мире? В 1933–1935 годах Дора активно участвовала в революционных акциях поэтов и интеллектуалов, которые, следуя принципу непокорности, сформулированному Артюром Рембо и Лотреамоном, пытались заново изобрести мир, заново очаровать его и, прежде всего, постичь его глубинный смысл. Эту борьбу воплощали в себе два властителя их дум – Бретон и Батай. Любовная связь с Батаем не мешала Доре, не связывая себя обязательствами, следовать основным принципам Андре Бретона. К тому же ее лучшей и очень близкой подругой была «роковая красавица» Жаклин Ламба, которая позже стала женой Бретона, и благодаря дружбе с ней Дора могла следить за эволюцией и этого движения, и школы сюрреализма. Однако независимый характер Доры не позволил ей стать «сюрреалисткой» в строгом смысле тех догм, которые провозгласил верховный жрец этого движения. Она, разумеется, не могла подчиниться диктату Бретона, тирана для своих учеников. И все же Дора живет, видит и говорит как сюрреалисты. Все ее существо погружено в это путешествие внутрь себя. Позже она превратит его в католическое мистическое путешествие и в результате окажется одна, запертая на замок. В 1934 году Дора подписала манифест Комитета бдительности интеллектуалов-антифашистов. Страстная «варварская» натура сделала ее одним из самых заметных и пылких борцов против фашистских лиг, которые свирепствовали в то время. Антипарламентские манифестации 6 февраля 1934 года послужили толчком для появления «Призыва к борьбе», который подписали, кроме Доры Маар, Поль Синьяк, Андре Мальро, Поль Элюар, Роже Блен, Фернан Леже и еще многие. В артистических и политических событиях видно влияние и активное участие Доры Маар в интеллектуальной жизни страны. Например, по поводу выставки сюрреалистов в Праге Андре Бретон и Жаклин Ламба прислали Доре открытку, которую подписали все участники выставки. Текст открытки – похвала Доре, и она показывает, как важна была ее роль в их движении: «Из Праги сюрреалисты посылают вам этот знак уважения, восхищения и любви»[99].
Дора Маар, изучив самые передовые в то время техники фотографии под руководством таких пионеров этого искусства, как Ман Рэй, Брассаи и ее меценат и друг, любитель кино Пьер Кефер, поселилась в своей мастерской, в VIII округе Парижа, по адресу улица Асторг, дом 29. Случайным оказался этот адрес или выбор снова был подсказан судьбой? Мастерская Пикассо располагалась поблизости, на улице Ля-Боэти, дом 23. Дора Маар приходила туда выполнять самую дерзкую и наиболее сюрреалистическую часть своей работы. Как Де Кирико или Эрнст, которые позже будут изобретать новые миры и новых существ, Дора в это время выполняла на пленке снимки, полные загадочной и тревожной красоты. Снимая серии сюрреалистических фотографий, она, как режиссер, с помощью статуэток или необычных предметов создавала в кадре фантастические сцены, вызывавшие беспокойство. В них царило то, что Фрейд назвал «das Unheimlich», то есть «непривычное», однако существующее за занавесом. Дора разрывала этот занавес и показывала другую, обратную сторону мира, активную и вибрирующую, которая вызвала ужас и тревогу.
То, что Дора Маар решила показать, – это действительно прилипший к видимому миру другой, неизвестный и стойкий мир, который непрерывно влияет на наше поведение и на наши жизни. Итак, ее искусство стремится быть революционным и подрывным, и это ее личный способ сказать, что внешность – иллюзия. И она проскальзывает в щели, подсматривает сквозь них обрывки пейзажей, куски историй и приносит обратно следы того, что увидела. Поэтому некоторые ее фотографии сами по себе картины – например, ладонь, которая, словно рак-отшельник, вылезает из раковины и прячет пальцы в песке, или этюд, который она выполнила с помощью солей серебра в 1935 году. Он назван «Без заглавия», но входит в цикл образов-сновидений: изображен вестибюль мрачного замка, в виде аркады, и в его глубине стоит аллегорический манекен – что-то вроде символа Родины. На переднем плане фигура молодого мужчины, который несет на плече перевернутое тело другого мужчины, чей открытый рот, распахнутый, словно бездна, занимает центр снимка. Тому, кто смотрит на эту фотографию, становится очень неуютно и тревожно. Загадочная немая сцена на снимке словно взята из кошмара или другой реальности, смысл которой еще не выяснен.
Разумеется, такие снимки могли только усилить восхищение Бретона; а он уже был внимателен к Доре Маар оттого, что отчаянно влюбился в ее лучшую подругу (об этом он позже напишет книгу «Безумная любовь»). В это время он усиленно разрабатывает мотив встречи – той встречи, которая поможет родиться движению сюрреалистов и о которой Лотреамон скажет: «прекрасна, как случайная встреча швейной машинки и зонта на столе для вскрытия трупов». А также встречи влюбленных – непроницаемой тайны, которая соединяет двух существ, не призванных знать друг друга. Знала ли Дора Маар, вкладывая так много души в свою страсть к фотографии, что скоро встретит Пикассо, уже известного с времен Первой мировой войны художника, и поведет с ним «творческий диалог»? Хотя идеологически движение сюрреалистов не объединилось с кубизмом, между ними есть тесные связи: например, деструктуризация реальности – главная догма обоих движений, и «революционная культура», которая связывает их и частью которой всегда был Пикассо. Сильнейшие потрясения и перевороты, особенно в умах, к которым привела бойня 1914–1918 годов, марксистские революции, усиление фашизма и нацизма, болезни испанского общества, за развитием которых Пикассо пристально следит, «болезнь цивилизации», охватившая Европу, и сильное желание, чтобы мир был другим, ускорили эту встречу. Определенную роль в этой встрече сыграл и взгляд Пикассо на женщину, совершенно иной, чем у Бретона. Для поэта женщина, а вернее, ее тайная суть познается во время «конвульсий» посвящения, но несет в себе священные земные силы, такие мощные, что их невозможно экономить. А для Пикассо женщина божество, но это богиня, которую надо укротить, захватить в плен и удержать в своих сетях. Она побуждает мужчину охотиться за ней для того, чтобы освободить его врожденную интуицию, чтобы он, который считает, что не может быть беременным, познал мужскую, духовную беременность. Женщина становится возвышенным идеалом, но при этом также добычей. Такая двойственность чувств и инстинктов была очень близка творчеству Пикассо, который хотел быть великим реорганизатором сотворенного Богом мира.
Ночное прошлое Доры Маар
Невозможно понять необычные и такие трагические отношения, связавшие Пикассо и Дору Маар, не вспомнив про истоки ее сумрачной натуры. Во встрече этих двоих нет ничего безобидного, и в этой суровой и жестокой истории ничего нельзя понять, если недооценить тяжесть грузов, лежавших на душе Доры, и силу скопившегося в этой душе заряда подавленных чувств.
Начать надо с детства. Дора родилась от отца-хорвата, блестящего архитектора, и матери-француженки, Луизы Жюли Вуазен, набожной католички с негибкой психикой, и провела юность в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Значит, у нее тогда была очень необычная жизнь. Город изгнания, населенный иммигрантами, проститутками и главарями преступного мира, город художников и разочарованных миллиардеров, город контрастов – вот на какой хаотичный мир она взглянула, впервые открыв глаза. Эти глаза словно фотографировали пеструю, причиняющую боль и горе, всевластную жизнь – жизнь и смерть, горе и радость, красоту и уродство. Оборотная сторона жизни и эти места оказались первым, что увидела девочка, настоящее имя которой было Теодора. Она запоминала эти картины, словно создавая свой личный фотоальбом. Известны всего одна или две фотографии Доры во время ее жизни в Буэнос-Айресе, нет сомнения, что она сохранила в сознании всю тайную историю своей жизни и создала из нее вымысел, приехав в Париж. Отец был личность яркая, но неудачник, мать очень строга в области морали. Такое сочетание привело к тому, что их дочь никогда не чувствовала себя уютно в жизни. Она всегда была настороже, о чем свидетельствуют и ее поступки, и манера держаться. Можно было бы сказать, что она вела себя как королева, но внешняя строгость не могла скрыть беспокойство и страдание, царившие в душе. Пикассо, должно быть, заметил ее скрытую хрупкость и пожелал укрыть своей звериной силой. Если она покинула Буэнос-Айрес и отца в 1920 году, в тринадцать лет, то рано узнала печаль изгнанника, вырванного из своего мира. Ее упорное молчание, глаза, смотрящие в одну точку, строгость в одежде и словах… все говорит о душевной ране и о скрытой склонности к насилию, которую она позже станет облагораживать творчеством. Покидая родной город, покрытый одиночеством, как липкой смолой, танцующий под томные ритмы танго, пропитанный смертельным насилием и смертоносной опасностью, она увезла с собой все эти впечатления; они стали ее сокровищами и бременем. Пока она еще подросток, еще затянута в строгие одежды и находится под присмотром матери. Одноклассникам она кажется ничем не примечательной, замкнувшейся в своем равнодушии девочкой, которая никогда не улыбается. В эти годы ее уже называют Дора. Кто отрезал от ее имени первые слоги «Тео», разорвав этим ее связь с Богом? Итак, Дора теперь одна. Под этим новым именем она словно голая: она вольна при думать себе другую фамилию, может изобретать себя заново. Став девушкой, она не утратила природную тяжеловесность, мощную стать, из-за которой выглядела властной, а иногда даже мужеподобной. Пикассо не упустил из виду эту особенность Доры: на портретах, которые он написал с нее, она часто показана мощной, даже толстой, с четко очерченной нижней челюстью и тяжелыми веками, крупным носом – в общем, ее черты создают впечатление силы.
Посвящение
Может быть, именно в память своего отца Дора захотела учиться в мастерской Андре Лота – мастера, чье мнение тогда было неоспоримым. Там она познакомилась с Анри Картье-Брессоном, у которого стала работать позже. В мастерской Лота всегда было очень много посетителей, и Дора собрала вокруг себя маленький кружок артистов с Монпарнаса и из Сен-Жермен-де-Пре. Это, разумеется, не могло нравиться ее матери. Но Доре импонировала свобода нравов, царившая тогда в этом кругу, странные встречи, которые мать считала опасными, споры о будущем кубизма. Ей нравилось учиться фотографии – искусству, которое приходило на смену живописи. Ее черные волосы и глубокие глаза, окаймленные темными кругами, делали ее «экзотичной». Макс Жакоб прозвал ее «прекрасная этрусская дама». О своей не слишком милосердной сопернице Франсуазе Жило, которая похитит у нее Пикассо, Дора сказала: «Она несет себя как Святое причастие!» В этом колком замечании за сарказмом видна истинная натура Доры – гордость и высокомерие женщины, уверенной, что ее сияние не может потускнеть. Именно в это время Дора пожелала завоевать право на свою подлинную индивидуальность – ту, которая всегда существовала в ее душе, как вода в роднике, но которой общественные условности и строгость матери не позволяли пробиться наружу. Она решает придумать себе новую, не отцовскую фамилию к укороченному имени. Это фамилия, которую она выберет сама и перед которой с этих пор должна будет держать ответ. Разумеется, это было предательством по отношению к отцу, но и пришествие в мир настоящей Доры. Фамилия Маркович превратилась в Maar. Из имени взяты последние слоги, из фамилии первый. Так родилась художница Дора Маар.
Ее высвобождение из семейного кокона, уже начатое изгнанием из Аргентины, ускорил своим давлением Монпарнас, где она стала завсегдатаем. Дора часто бывает на людях, видит много новых лиц. Похоже, у нее было несколько любовников, и одним из них стал молодой кинематографист Луи Шаванс. Но Дора еще не постигла себя. По-настоящему она станет собой в 1934 году, когда откроет фотостудию вместе с Пьером Кефером. Те, кто знал тогда Дору, описывали ее как «мужчину», и сам Пикассо повторит эту характеристику (причем не случайно). Вначале она пыталась фотографировать моду, затем пробовала делать фотографии с оттенком эротики, для чего прошла курс обучения в мастерской Гарри-Осипа Меерсона. Но в том, как она трактует темы своих снимков, уже проявляется ее оригинальный талант. Дора в каком-то смысле искажает то, что видит: она вносит в него нечто постороннее, «непривычное», как говорил Фрейд, вносящее беспорядок и тревожащее совесть зрителя. Выбранный мотив разрушается, выворачивается наизнанку и позволяет увидеть другие пейзажи, тени и следы, неожиданные формы, неизвестные миры. Например, на одной фотографии, имевшей большой успех в Соединенных Штатах, слегка эротический образ словно находится в опасности. Он как будто заражен вирусом, который разрушает его и уносит в иной, сюрреалистический мир. «Это был научный заговор против модели»[100], – заявил один из поклонников Доры, Жак Генн. Поездки, которые она совершила с 1932 по 1936 год, пробудили в ней желание фотографировать, по примеру Картье-Брессона, мгновения жизни, разнообразные бытовые случаи, фиксировать быстрые смены состояний натуры прямо на месте, выхватывая их взглядом. Она делает такие снимки в Испании. Там Дора бродит по Барселоне и, фотографируя башни собора Гауди, подчеркивает кривизну их линий и их подвижность, превратив монументальное здание в нечто совершенно непрочное и лирическое – так Ван Гог в конце жизни придавал звездам облик кружащихся световых шаров. Дора делает фотографии таким образом, словно пишет картины. Позже она займется и живописью, но сначала пытается добраться до глубинной истины и таким образом достичь первой истины с помощью фотоаппарата. В эти годы она встретилась с Брассаи, который обогатил ее эстетику. От фотографий моделей она перешла к городским пейзажам и странным сценкам, похожим на картины Де Кирико или Бальтюса.
Персонажи, застывшие в момент движения; дети, похожие на марионеток или кукол; уличные торговки; гротескные, но человечные персонажи с ярмарок… В первую очередь Дору интуитивно интересует обратная сторона того, что она фотографирует. У ее взгляда есть необыкновенное свойство: он способен разгадывать, как шифр, внутреннюю сущность вещей. Каждый ее снимок как бы выталкивает из предмета наружу его здешнюю, земную суть, не уродует его, но обнажает. Нет сомнения, что именно в этот период жизни, непосредственно перед встречей с Пикассо, она достигла вершины в этом тайном знании. Итак, фотографии Доры вовсе не двойники реальности, а скорее рентгеновские снимки реальной жизни. Но тем не менее и в духовной, и в личной жизни дела Доры идут не блестяще. Связь с Луи Шавансом оказалась неудачей из-за того, что Дора не в состоянии поддерживать с мужчиной простые и спокойные отношения; эта неспособность сохранится у Доры навсегда. Откуда этот недостаток? В ней самой его причина или в ее мужчинах? Может быть, чтобы найти ответ, нужно вернуться в детство – к изгнанию, недоверию к себе, к тому невнятному общему впечатлению, из-за которого Дора совершенно не ценит себя, окружает глухой стеной, замыкается в себе, чувствует чуждой окружающему миру. Встреча с Жоржем Батаем, любовницей которого она стала, еще сильнее подчеркнула ее отличие от других и сгустила мрак ее души. Сексуальная жизнь Батая была сложной. У него были садистские наклонности; во всяком случае, он выразил их в своих романах – и особенно в «Небесной сини». Он явно имел склонность к копрофагии и грубым непристойным шуткам. Основным принципом его мира было осквернять тело для того, чтобы, как он утверждал, получить доступ к духу. Эта отрицательная, черная святость проявлялась у него в прозе и стихах, в сюжетах и рисунках, в его оргиях и изящных развлечениях, в «квартетах», от которых не смогла уклониться ни одна его партнерша. Дора не могла не знать обо всем этом. Была ли она участницей или зрительницей этих ритуальных обрядов? Никто не может точно ответить на этот вопрос. Но в любом случае Дора оказалась в хвосте этой черной кометы; эти отклонения от нормы и эти ритуалы бросили на нее мрачный отблеск. В конце 1934 года она рассталась с Батаем. Или это Батай предпочел других женщин и расстался с ней? Дора тогда только-только перешагнула новый порог, имевший все же отношение к искусству фотографии. Встречи с писателем-эротоманом снова заставили ее припасть к объективу. Дора была фотографом и ясновидящей. Она отдавалась на волю неистовой и жестокой оборотной стороны вещей и людей. Давняя привычка, усиленная опытом, который она приобрела рядом с Батаем, помогала ей терпеть муки при обнажении, проскальзывать внутрь рубцов и шрамов чужой плоти, таким образом попадая на другие территории. От этого опыта до святости всего один шаг. Его сделает другая подруга Батая, Симона Вейль, но Дора пройдет его позже, после разрыва с Пикассо. Все, что чувствовала тогда Дора, есть в мистической святости Терезы из Авилы – страдание и боль, любовь к ночи, страсть, выходящая за общепринятые границы, эротическое предание себя Богу, желание жертвовать собой и беспредельная огненная пылкость.
Встреча в темноте
В 1935 году настало время выхода на арену – время встречи. Дора известный фотограф, ее снимки выдают людям тайны параллельных миров, указывают на щели, через которые оттуда проскальзывают в наш мир тревожные образы, или на глубокие трещины, они ведут в ненадежные, постоянно меняющиеся места. Теперь ее студия расположена по тому адресу, который благодаря ей станет легендарным, – на улице Асторг, в доме 29. В ее фотографиях все более заметны тревога, тоска и страх. Если она гуляет по Парижу, то лишь для того, чтобы подсмотреть иррациональные сценки и отыскать места с сюрреалистической атмосферой. Она редко испытывает изумление или восхищение, чаще задыхается от тоски и ужаса. Когда Бретон ходил по столице в поисках Нади, это было что-то вроде сказочного спектакля. Его прогулки были чем-то неожиданным для зрителей и, конечно, вызывали у них беспокойство, но не заставляли ни страдать, ни чувствовать себя неуютно. А все снимки Доры близки к миру Кафки или Мунка. Она ничего не боится, осмеливается на все, смешивает все царства природы – животное, растительное, минеральное – и добавляет в это смешение людей. Ее маленькие постановки, коллажи, декорации из театра теней, созданные в разных масштабах, как у Мана Рэя, вызывают беспокойство и тревогу. Она не боится ничего, но пугает других своей неистовой жестокой силой и тайной. Но она и сама остается в области страха: она боится чувствовать себя покинутой, изгнанной и бедной, а такой она ощущала себя всегда. Чтобы справиться с этим страхом, Дора научилась быть гордой, приобрела осанку королевы и сходство с мужчиной. Но эти черты, видимые другим, на самом деле только внешность. Она известна в первую очередь своим бесстыдным высокомерием и отсутствием улыбки. Это поведение амазонки с непроницаемым лицом танцовщицы из Буэнос-Айреса, которая скрывает свои страдания за подчеркнутым молчанием и растворяется среди завитков сигаретного дыма в глубине темного танцевального зала, где диванчики окрашены в цвет крови. Так Дора готовилась к своей античной драме и к романтической любви. До первой встречи с Пикассо она уже жила в легенде, которую придумала о себе. Это произошло в октябре 1935 года на террасе кафе «Дё Маго». Тема встречи глубоко вписана в воображение Доры: это тема в высшей степени сюрреалистичная и романтическая, она присутствует в литературе с самого начала ее существования – от Кретьена де Труа до мадам де Лафайет, от Бальзака до Флобера, от Стендаля до Бретона. Рассказ о «Безумной любви»; определение красоты, которое дал Марсель Дюшан; извращенные театральные сцены Батая и, в первую очередь, ее собственная сильная любовь ко всему странному и невероятному заставили Дору специально подготовить свою встречу с Пикассо, как когда-то она и ее подруга Жаклин Ламба сделали перед встречей с Бретоном, вызвав у него влечение к той, которая появилась перед ним, и к ее «скандальной» красоте, особенно яркой среди окружающей ее посредственности.
«Великая сцена»
Стратегия Доры основывалась на литературности и напоре с оттенком разврата, которому она, несомненно, научилась рядом с Батаем. Она хотела, чтобы ее встреча с Пикассо была достойна самых прекрасных сцен литературы. Для осуществления этого желания понадобились неформальные встречи. Две первые описаны биографами и свидетелями. Брассаи в своих «Беседах с Пикассо» рассказывает: «Он уже заметил на днях за соседним столиком серьезное, напряженное лицо этой девушки с ясными глазами и внимательным взглядом, пристальность которого иногда вызывала тревогу. Она бывала в кругу сюрреалистов с 1934 года. Когда Пикассо снова увидел ее в том же кафе в обществе Поля Элюара, с которым был знаком, поэт представил ему эту девушку. Так Дора Маар вошла в его жизнь…» Другая свидетельница, Антонина Валлантен, тоже рассказывает, что Пикассо был очарован входившей в «Дё Маго» молодой женщиной, черные перчатки которой были украшены цветами. Он сказал ей что-то по-испански, и Дора, узнав Пикассо, ответила ему улыбкой. «Ее неожиданный лучезарный смех, серьезное лицо с правильными чертами и напряженным выражением, отрешенное и внимательное одновременно», – пишет она дальше. Расспрашивал ли Пикассо о Доре друзей и, в частности, Мана Рэя, который тогда фотографировал Дору? Если верить одному из биографов Пикассо, похоже, что на художника действительно произвела впечатление экзотическая внешность Доры, в которой Ман Рэй уловил сходство с иконой: большие глаза пристально смотрят на какой-то иной мир, и непроницаемое выражение (которое Дора специально придавала лицу перед объективом). Разумеется, после долгой жизни рядом с наивной и неумной Мари-Терезой Пикассо должен был увидеть в Доре женщину своего уровня, гениальную и обладающую почти священной внутренней мощью. Пикассо был очень любопытен по натуре, жаждал все узнать, и потому появление Доры произвело на него сильное впечатление. Однако он не стремился сообщить Доре об этом. Он знал, что найдет ее: кружок артистов Монпарнаса и Сен-Жермен-де-Пре был малочисленным. И тогда она будет принадлежать ему. Действительно, день новой встречи настал очень скоро. Ее Дора подготовила как спектакль. Театральная, величественная и серьезная, она вошла в «Дё Маго». Она знала, что сейчас поставлена на кон ее жизнь. Элюар, сидевший рядом с Пикассо, шепнул ему на ухо имя Доры. Она садится напротив художника и медленно выполняет жесты судьбоносного ритуала. Это были жесты корриды. Франсуаза Жило, сменившая Дору в любви Пикассо на ее несчастье, рассказывает об этом моменте так: «На ней были черные перчатки, вышитые мелкими розовыми цветками. Она сняла эти перчатки, взяла длинный острый нож и стала вонзать его в стол между своими раздвинутыми пальцами. Иногда она промахивалась на долю миллиметра, и ее рука покрылась кровью. Пикассо был в восторге…»[101] Он спросил у Доры, не может ли он взять себе ее перчатки, а потом хранил их в маленькой витрине, как трофей или реликвию. Дора поняла, что ее обряд жертвоприношения совершен. Игра сыграна. Она предложила ему свою окровавленную руку. Дора была настолько мужчиной в душе, что, как мужчина, попросила руки своего избранника. Она была амазонкой и мистическим агнцем, высокомерной гордячкой и мазохисткой, провокаторшей и мученицей. В общем, она была святой. Пикассо, в основе сексуальности которого всегда было желание господствовать, соотношение сил, жестокость к женщинам, любил, чтобы женщины охотились за ним, и при этом искал возле них покоя. Поэтому его непреодолимо влекла к себе дерзкая отвага Доры. К тому же она бывала в среде сюрреалистов, и это позволяло Пикассо думать, что их души звучат в одной и той же тональности, особенно в те минуты, когда он автоматически (или почти автоматически) сочинял стихи. Однако в его стихотворениях есть обрывки фраз, которые позволяют предположить у художника ту склонность к садизму, которую он скоро не сможет сдерживать. «Улыбающийся страх; нож, который скачет от удовольствия и оставляет даже сегодняшний день плыть как тому угодно; и не важно как, точно в нужную минуту над колодцем кричит розовый цвет, который рука бросает ему, как маленькое подаяние». Художник-каталонец находит в Доре то, что может утолить его жажду насилия и обладания. Пикассо – пикадор, коррида вдохновляет художника, и скоро он с воодушевлением будет изображать ее в своих картинах.
Он и на арене любви ведет себя как пикадор, а Дора Маар сама уже назначила себя в жертву. Можно начинать последнюю часть боя. Однако Пикассо и Дора стали любовниками позже, и подтолкнули их к этому друзья, предложившие Доре приехать вместе с ними в гости к Пикассо в замок Буажелу. Дора стала готовиться к новой встрече. Она должна быть сильной и изумительной, чтобы Пикассо на этот раз действительно пал к ее ногам. Войдя в замок, она сразу же сфотографировала здание и его хозяина на крыльце, в окружении друзей. Пикассо глядит в объектив, но смотрит только на нее, его глаза до краев полны ее образом. В тот день Дора по-настоящему вошла в его жизнь. На фотографиях Пикассо, которые она сделала в эту первую зиму их любовной связи, художник (что для него необычно) аккуратно одет, имеет очень ухоженный вид, держит в пальцах сигарету. Он позирует охотно и даже немного любуется собой; на нем галстук и светлые брюки, которые поддерживает пояс; рукава рубашки немного подняты вверх, прядь волос очень хорошо расчесана, косой пробор очень четкий. Пикассо словно только что вышел из танцевального зала в Буэнос-Айресе или Барселоне. Загадочный вид художника и его непроницаемый взгляд вызывают беспокойство у зрителя. Пикассо на этих снимках выглядит строгим опекуном; он почти кому-то угрожает. Другие свои снимки Дора переработала. На одном из них лицо Пикассо окружено кольцом из выгравированных штрихов. То ли эти штрихи изображают следы яростно царапавших портрет когтей, то ли это ореол, окружающий замкнутое, не выдающее мыслей лицо – дарохранительницу, запертую на замок. Другую фотографию Пикассо, выполненную Маном Рэем, Дора тоже переделала – вписала ее в созвездие из настоящих звезд и разноцветных пятен, словно превратив художника в сияющую звезду посреди космического пространства. Пикассо сразу становится для нее богом, которому она отдает себя в жертву, и всемогущим творцом, вместе с которым она создаст легендарную созидательную пару. В том же 1936 году, 25 августа, когда связь Доры и Пикассо уже началась, но они еще не объявили о ней открыто (а возможно, даже не успели соединиться в постели), Пикассо появился в Сен-Тропе на завтраке у поэтессы Лизы Деарм, где были Элюар и его муза Нюш, Ман Рэй и его любовница, женщина-фотограф Ли Миллер, а также Дора. Совершенно ясно, что его встречу с Дорой организовали Нюш и ее друзья. Влюбленные долго гуляли по пляжу, беседовали по-испански и соблазняли друг друга. Дора твердо решила поймать Пикассо в свои сети. И началась мифологическая история Доры-Цирцеи и Пикассо, бога Приапа или бога Минотавра. В тот день они стали любовниками.
Ярость Минотавра
Снимки, портреты и рисунки Пикассо и Доры Маар, которые пересекаются между собой и дополняют друг друга, по-своему рассказывают о том, что было дальше. В них отразились тирания Пикассо и провокационная свирепость Доры, загадка ее личности, признание Пикассо в том, что у него звериная натура, и, наконец, как следствие этого, – катастрофа. Именно в это время Пикассо создал свою знаменитую композицию «Дора и Минотавр». Она написана тушью и раскрашена цветными карандашами почти в духе Караваджо. Изображенную на ней сцену можно назвать «примитивной» во фрейдистском значении этого слова. Минотавр с невероятной грубостью овладевает Дорой. Сцена мощная, но допускает различные толкования относительно согласия Доры. Насилие это или добровольная покорность? В любом случае пристальным взглядом, которым Дора смотрит на зверя, она показывает свою решимость и даже снисходительность. Окружающий эту пару пейзаж – кустарник и осенняя листва, красная и коричневая, – усиливает исходящее от рисунка ощущение первобытного мифа. Это чувство умножено царапинами, которые Пикассо сделал на бумаге. Кстати, тот же прием Дора часто использовала в своих снимках и раньше, и позже этого времени. Мифологический мотив этого рисунка уже несколько месяцев не давал покоя художнику. Пикассо нарисовал карандашами, гуашью и тушью множество фигур Минотавра, чаще всего раненного или убитого. Похоже, что «Дора и Минотавр», рисунок, созданный в сентябре 1936 года, вернул ему силу и энергию. Мифологический зверь, шкуру которого надел на себя Пикассо, рядом с Дорой нашел чем питать свою разрушительную силу. Теперь у него есть жертва. Поведение Доры в первые месяцы связи усилило желание Пикассо. Мари-Тереза, которую он не совсем покинул и которая тогда только что родила ему дочь Майю, обожала и почитала его. Он считал, что у нее совершенно нет ума, но ему было достаточно ее свежести и рабской заботливости. Дора – другое дело. Она необыкновенно умна, она творческий человек, у нее пылкий нрав, и она (во всяком случае, внешне) отказывается быть послушной или рабски покорной. Все эти черты ее характера возбуждают Пикассо. Он обнаруживает, что у Доры мужской характер. Скрытые, но реально существовавшие гомосексуальные наклонности, которые он направил по иному пути – в фанатичную творческую самоотдачу и господство над друзьями-мужчинами, побудили его соединить жизнь с Дорой, но в то же время Дора в какой-то степени затеняет его. Можно ли жить с ней общей жизнью? Выход лишь один – стать господином Доры, разгромить ее в области эмоций и в профессии. И он будет методически делать это в течение десяти лет их связи. Первобытный мотив заявлен: аллегория с Минотавром, мифологическим зверем, который давит ее своим весом, ясна и понятна. Пикассо желает, чтобы их история была античной, трагической и роковой. Но он еще не знает, что Дора лишь внешне – гордая свирепая амазонка. В глубине души она знает, что их отношения будут садомазохистскими. Что это будет повторение ее прежних любовных увлечений, что возвращается затхлый воздух детства, церковное пение изгнанницы. Но она соглашается на это и представляет себе, до каких пределов может дойти ее послушание. На фотографиях, которые сделал в это время Пикассо, Дора изображена в патетических позах молитвы и почти самопожертвования: она в узком прямом свитере, руки сложены, но главное – выражение лица, полное смиренной мольбы и боли. Глаза очень влажные, и кажется, что они полны слез. Создается впечатление, будто Дора тонет, погибает. Именно так началась поистине шаманская обработка, которой подверг Дору Пикассо. Фотографируя, он овладевал Дорой, делая ее своей вещью. Среди трех ее портретов, выполненных осенью 1936 года, есть один, на котором Дора читает газету (или делает вид, что читает, потому что поза неестественная). Фотографируя Дору в этой позе, высокомерную и равнодушную к объективу, Пикассо делает ее женским архетипом, модель, похожая на икону и немного на испанку. Этот образ он повторит в живописи, на картине «Сидящая Дора Маар в профиль», написанной в ноябре 1936 года. На ней Дора изображена в черно-белых тонах, и на этом фоне выделяются только ее губы, похожие на окровавленные лезвия. Дора на картине уже старая и похожа на одну из испанок, сидящих перед дверью своего дома в какой-нибудь каталонской деревне. Она выглядит печальной и суровой – что-то среднее между видящей судьбу гадалкой на картах и страстной мятежницей. В 1936–1937 годах Пикассо не поступился ничем – не отказался ни от Мари-Терезы, к которой продолжал приходить, ни от своей свободы. Однако это были годы великого возвращения к живописи и время, когда его переполняла страсть к изобретательству, которая в итоге сделала самым большим сюрреалистом в его группе. Пикассо не переставал изобретать, создавать и замышлять новые технические приемы. Больше, чем когда-либо, он походил на мифологического людоеда. Художник вдохновлялся всем, что его окружало, и не только тем, что побуждало его к творчеству раньше. До этого он много раз заимствовал достижения других цивилизаций – например, обнаруживал в негритянском или доисторическом искусстве то, что интуитивно чувствовал сам. Но теперь, кроме них, Пикассо вдохновляют его близкие друзья, например Ман Рэй, и, разумеется, Дора. «Официальная» любовница Пикассо – состоявшаяся художница с очень высоким культурным уровнем. За время своей карьеры престижного фотографа она расширила область художественной фотографии, экспериментируя с не применявшимися раньше технологиями и соединяя фотографию с другими художественными техниками. Она применяет выскребывание и царапины, как делал Макс Эрнст, фиксирует под линзами чернила и гуашь, делает графические рисунки перочинными ножами, смоченными в краске, использует не по назначению стеклянные пластинки и технику гравюры и т. д. В конечном счете она подарит все эти методики Пикассо, а он доведет их до ослепительного совершенства. Однако Дора продолжает работать как фотограф, в то время как Пикассо расширяет набор приемов своего искусства, заимствуя у нее многие идеи и методы. Один из снимков Доры достоин фильма ужасов. Он называется «Портрет Убю», и основой для него стал эмбрион броненосца, который она сфотографировала в коллекции, посвященной естествознанию. Из сочетания различных форм возникло пугающее существо, чьи пальцы неповоротливы на вид, но, кажется, готовы схватить добычу. Этим снимком Дора хотела выразить весь ужас набиравших силу диктатур и тираний, угрозу которых видела вокруг себя. На другом снимке статуэтка, напоминающая античные, она станет моделью для Пикассо, «Статуэтка для дома 29 на улице Асторг», показана на фоне оранжереи версальского замка, перспективу которой она искажает. Обозначив в подписи под этим снимком адрес своей мастерской, Дора указала на себя: снимок стал ее удостоверением личности или визитной карточкой, местом превращений, всевозможных изменений, местом бесконечных коридоров и лабиринтов, местом странствий и еще раз местом всех изгнаний. Пикассо, который не хочет упустить ни одного нового и оригинального творческого явления, конечно, присваивает себе идеи Доры Маар. Откликом на ее «Убю» стала его «Купальщица в кабинке», состояние II, где модель становится чудовищем с гигантскими пальцами, которые, хотя и вытянуты, кажутся мягкими. А 1 августа 1936 года он написал композицию под названием «Дора Маар и античная статуэтка». Рядом с сидящим на каменной плите всемогущим богом в лавровом венке и со скипетром, справа от него, Пикассо, несомненно, изобразил себя. Дора, которую легко узнать по мощной челюсти, покрыла голову платком по-испански и озадаченно смотрит на него. Что это – клятва верности? Или она умоляет о чем-то? Или она ошеломлена? Верность, любовь, изумление – именно на таких основаниях Пикассо будет строить свою новую любовную связь. Бородатый бог в венке потом часто будет появляться снова, когда, рисуя головы бородатых мужчин, Пикассо обойдется без двусмысленности и станет, несомненно, изображать себя. А поза Доры на картине повторится на ее новых фотографиях, которые она сделает во время поездки в Мужен в 1937 году. На них Пикассо в купальном костюме сидит как бог с картины 1936 года, на каменной плите, с палкой в руке, и раздвинул ноги, с некоторой снисходительностью позволяя рассмотреть под тканью мощный мужской член и в особенности яйца Минотавра.
В логове Минотавра
Дора советует Пикассо поселиться на просторном чердаке на улице Гран-Огюстен. Это помещение ей хорошо знакомо: там проходят политические собрания, на которых она бывает с друзьями-антифашистами. Преимущество чердака – очень высокий потолок, это удобно, когда надо писать большую картину. Дом, в котором он находится, как и все дома на этой улице, был построен в VII веке и имеет очень красивые балки. Пикассо поселяется там, а Дора просит своего отца-архитектора подарить ей квартиру и поселяется в доме 6 на улице Савуа, совсем рядом с Пикассо. Здесь она будет жить до самой смерти. Любовники встречаются регулярно, но вместе не живут: Пикассо опасается, что вдвоем им будет тесно. Начинается война в Испании. Для Пикассо, который раньше, в отличие от многих своих друзей – поэтов и художников, никогда не включался в политическую борьбу, это становится требованием: выбери, на чьей ты стороне. Разумеется, он считает правым дело республиканцев и, как все его друзья, приходит в ужас от бойни в Гернике. Там 26 апреля 1937 года погибло около 1700 человек и 1000 человек было ранено. Масштабы этого события придают ему символическое значение: Герника становится городом-мучеником. Испания просит у Пикассо большую композицию для Международной выставки, происходившей в том же году. И Пикассо пишет свою «Гернику». Он размещает на чердаке большие холсты и создает огромный триптих, изображающий город-мученик Гернику. Но только ли ее он изображает? Этот вопрос стоит задать, потому что Пикассо, который всегда писал только себя, свои навязчивые идеи и насилие, зверство и тьму, вполне мог на этом большом эпическом полотне в стиле кубизма также изобразить историю своей жизни, по-своему раскрыть свои тайны. Эта работа, которую он писал в лихорадочной спешке, создана им вместе с Дорой Маар. В первый раз за всю свою творческую жизнь Пикассо позволяет кому-то участвовать в его работе, видеть, как он пишет, и, более того, фотографировать его во время написания картины. И в первый раз фотограф ежедневно создает репортаж о создании картины. Это общий труд, совместная работа, однако Дора – скромный ремесленник при Боге-творце. Фотография вдруг становится служанкой живописи. Именно в это время Дора окончательно перестает заниматься фотографией и начинает писать картины. Она бросает Пикассо сильнейший вызов, но тот даже не думает этот вызов принимать, настолько уверен, что сможет полностью подавить робкие попытки Доры творить самостоятельно. В «Гернике» Пикассо написал страдающую женщину, которая лежит на земле и стонет. Может быть, этот образ уже предвещает длинную серию портретов Доры, на которых она плачет, морщит лицо, страдает? Споры из-за Мари-Терезы, которая постоянно приходит к Пикассо с их дочерью, всегда завершаются вспышками гнева и даже дракой между женщинами. Пикассо присутствует при этих драках, но не вмешивается. В этом случае от него тоже требуют сделать выбор, а он ничего не хочет слушать.
Рождение мифа
Так рождается легенда о «плачущей женщине». Легенду создал Пикассо, много раз изобразив Дору плачущей. Он без всякого стеснения говорил ей, что не любит ее, что у нее мужская натура, что она «персонаж из книг Кафки». Дора плакала и топала ногами, но так увязла в этой любви, что не могла покинуть Пикассо. Он непрерывно писал ее красками и рисовал карандашом. В этом постоянном воспроизведении ее облика было что-то садистское, хотя он не признавал слова «садизм». Но разве можно не увидеть в этих портретах ту злость, с которой он их писал? Дора на них изуродована, распилена на части, разрублена как кусок мяса, изломана. Но, несмотря на пытки, которым Пикассо ее подвергает, на портретах всегда возникает настоящая Дора. Ее тайна почти не видна на этих портретах, но все же это Дора. Пикассо хочет сделать ее меньше и слабее, однако, когда это удается, выходит из себя от ее падения. И презирает Дору, и злится на нее за поражение, которое сам же ей нанес. Отдых в Мужене летом 1937 года ускоряет тот разрушительный процесс, который художник начал своим извращенным поведением. Для Доры это станет настоящим крестным путем. Пикассо не пощадит ее ни в чем. Он будет изменять ей, унижать ее, станет писать картины, на которых она будет представать перед их друзьями – Нюш, Бретоном, Жаклин Ламба, Элюаром – все более изуродованной, все более «плаксивой». Между любовниками складываются странные отношения – не высказанные словами, но очень сильные переживания, которые отражены на фотопортретах Доры. Глядя на них, хочется глубже проникнуть в то, что она уже позволяет видеть, – в ее неописуемое страдание, отсутствие счастья, трагическую серьезность. Хранительница музея Пикассо рассказала одной исследовательнице, написавшей биографию Доры Маар, что прочла в некоторых письмах Доры к ее наставнику слова: «Прости меня: я снова плакала, больше не буду». Однако такие просьбы лишь ухудшали ее отношения с Пикассо: он чувствовал себя гением и богом и презирал подобные признания. Он хотел, чтобы Дора была сильной, но при этом никогда не превосходила его и, главное, была у него под башмаком. В этом отношении лето 1937 года стало для нее временем всех возможных страданий. Дора фотографирует маленькую компанию друзей, отдыхающих вместе с ней и Пикассо. На этих снимках ее нет, но они громко свидетельствуют о ее присутствии. Как она могла одобрять извращенный садизм Пикассо по отношению к ней; «сцены втроем» с его участием, которые он ставит; мелкие злые выходки и притеснения, которые устраивает ей каждый день; все более уродливые портреты, которые он пишет с нее? Должно быть, у Батая Дора прошла школу таких преследований, когда страдающая сторона наполовину становится жертвой, а наполовину принимает их добровольно.
Нюш не упускает случай и откровенно старается обольстить Пикассо. Другая, неизвестная женщина тоже включается в эти эротические игры. Пикассо хочет, чтобы во время любовных забав его фотографировали. Возможно, он желает знать, получилось ли у него то, чего он добивался? Принудит ли он Дору фотографировать эти его развлечения? Она соглашается это делать, покоряется, но плачет тайком. Часто она отделяется от компании, уходит одна на пляж и лежит там под солнцем, пока не обгорает. Главное – не показать огорчения, не дрогнуть, всегда выглядеть довольной и быть любезной. Единственное ее оружие то, что для всех она еще официальная любовница Пикассо, которую он на вечерах и в поездках выставляет напоказ, как экзотического зверя на ярмарке. Выставляет потому, что она умнее многих, невероятно талантлива, что у нее тысяча и одна идея. Она фаворитка Пикассо, но долго ли ею пробудет? Если хорошо всмотреться, снимки, которые она и Ман Рэй делают в это время, похожи на фотографии встреч счастливых друзей на террасе под тростниковой крышей. На одном Дора Маар надевает на Пикассо венок из темного олеандра, а он, Минотавр, красуясь собой, самоуверенно обнимает их общую приятельницу, красивую метиску Ади. На другом снимке Пикассо рядом с Дорой. На нем белое трико, на ней красное платье с набивным узором. Какое серьезное и отрешенное выражение лица у Доры по сравнению с беззаботным весельем обнявшейся пары на заднем плане (это Нюш и Элюар)! На третьем снимке, где Дора экспериментирует, сочетая желатин и соединения серебра, она запечатлела Пикассо под тростниковой перголой. Его фигура расчерчена полосами, и кажется, что он находится за решеткой. Может быть, она хотела посадить его в темницу так же, как он пытался сделать ее своей рабой и запереть в клетку? Дора повторяет этот мотив на других фотографиях. Блеск тростниковых стеблей создает очень сильный графический эффект, снимок становится художественным произведением, невероятно модерновым, но за этим модернизмом стоит попытка поймать Пикассо, который ведет с ней игру «захвати другого в плен». Дора, как и он, верит в существование духовных сил, в волны доброй и злой энергии. Но Пикассо к тому же очень суеверен. Даже за целое царство он не согласится держать при себе вещь или животное (например, свою маленькую обезьянку), если ему покажется, что она или оно приносят ему несчастье. Он убежден, что с помощью фотографии можно околдовать или сглазить человека. И почти подозревает, что Дора околдовывает его. Поэтому он не любит снимки, на которых он посажен в тюрьму, хотя тюрьма – всего лишь световой эффект. Все друзья любовников знают, какую душевную драму переживают эти двое. Все они знают, как несчастна Дора, но не осуждают Пикассо за его садизм: как это сделать, не предав его, и как можно отречься от такого гения? Элюар дал в нескольких строках портрет Доры, какой она была в то время. «Лицо, полное жгучей яростной силы. Черные волосы, в которых золото течет на юг. Огромная неуступчивость бесполезна: это здоровье построило тюрьму»[102]. В нескольких словах сказано все: невозможная надежда, гордая, как фигура на носу корабля, Дора, яростная, но «бесполезная». И предсказана тюрьма, которой станет для нее духовное убежище, похожее на монашескую келью жилище в тени церкви Сен-Сюльпис. И может быть, другой тюрьмой стали стерильные коридоры психиатрической лечебницы.
Удар Пикадора
В то лето Пикассо писал один портрет за другим. И каждый раз показывал свою работу друзьям. День ото дня Дора на портретах была все более разрушенной, подправленной, переработанной, переделанной, уничтоженной. Нет ни одной картины, где она появилась бы в своей такой гордой красоте, в ореоле любви, которую она дарила Пикассо. Словно эта любовь не могла окружить ее таким сиянием, ради которого Пикассо никогда бы не стал переводить ее образ в другой художественный код. О том, как тяжело было рабство, которому покорялась Дора, – позировать каждый день – можно судить по снимку, сделанному ею в 1939 году в просторной мастерской-чердаке, на улице Гран-Огюстен. Она изобразила что-то вроде Голгофы из работ Пикассо – пирамиду из портретов, где она разорвана на клочки, расчленена, разобрана на части и наряжена в нелепые шляпки, над которыми имел привычку насмехаться Пикассо. Высмеивая и недооценивая себя, Дора упорно продолжала носить шляпки и выбирала все более причудливые. А ей явно не шли никакие шляпки: ее массивному лицу не было нужно это украшение.
Похожая на гору куча портретов означает Голгофу, на которой она распята, ее крестный путь. Однако два раза, в январе и марте 1937 года, Пикассо сделал наброски лица Доры, и изобразил ее весьма благожелательно. Это «Портрет спящей Доры Маар» и «Портрет задумчивой Доры Маар». Какие минуты милосердия позволил себе художник, чтобы достичь этого и воспроизвести юную красоту Доры, которую обычно дробил и искажал в своих картинах? Какую ностальгию по вечности, какой отголосок прежнего счастья почувствовал он тогда?
Как жили Пикассо и Дора в то время, часто ли встречались? Еще в начале их связи было решено, что совместная жизнь исключена; но их квартиры были по соседству, и это позволяло любовникам встречаться каждый день. Однако инициатором встреч был только Пикассо. Он телефонным звонком вызывал Дору к себе на завтрак, на обед и, при необходимости, в свою постель. Весной 1937 года он снова встретился со своим давним другом и помощником в делах Сабартесом, который смотрел на него как на живого бога. Сабартес возвращается в квартиру Пикассо, из которой художник его когда-то выгнал, и становится чем-то вроде верного слуги при своем друге. Только Сабартес имел право спать в комнате, соседствующей со спальней Пикассо. Поэтому, когда Дора и Мари-Тереза приходили к художнику, друг знал об этом. Пикассо и Сабартес цинично играли с Дорой. Она старалась не включиться в эту жестокую игру, но ее душевная боль усиливалась. Противостояние становится все непримиримее. Война была неизбежна, поэтому любовники уехали с Лазурного Берега и вернулись в Париж. Возвращение дало художнику новую пищу для его гнева против Доры и садистского отношения к ней. Он решил, что должен довести ее до изнеможения, рисуя снова и снова, лишить ее плоти и крови. Он заявляет, что Дора виновата во всем, даже в войне. Дора по-прежнему терпит такое отношение. По ее совету они переезжают в Руан, меньше пострадавший от войны. Мари-Тереза и Майя тоже приезжают туда, и ад начинается снова. Пикассо делит себя между своей белокурой любовницей и их дочерью, которую обожает, и черноволосой Дорой, которая обижена больше, чем когда-либо прежде. Чтобы утолить свою боль, она пишет картины, а Пикассо с состраданием говорит, что в любом случае ее работы никогда не смогут сравниться с его гениальным творчеством. Она и без него это знает, но живопись для нее единственная отдушина. Когда весь этот маленький кружок возвращается в Париж, Мари-Тереза (с Майей) поселяется в квартире на бульваре Генриха Четвертого, которую ей велел снять Пикассо. Это время оккупации, время талонов на продовольствие и нормированного угля, доносов и угроз для Парижа. Война сдерживает творческую энергию Пикассо. Он вымещает свое плохое настроение на Доре, но в то же время война вынуждает людей объединяться. Дора нужна художнику, и порой он на короткое время становится с ней любящим и нежным. Но на самом деле эти минуты любви – лишь уловки самовлюбленного и хитрого манипулятора Пикассо.
Трагедия ускоряется
Судьба ожесточилась против Доры. Однажды ночью, в 1942 году, ее мать умерла в тот момент, когда звонила ей. Дора внезапно перестала слышать ее голос в трубке, но не могла прийти к ней из-за комендантского часа. Утром она обнаружила свою мать мертвой с трубкой в руке. Пикассо в эти месяцы продолжал свою разрушительную работу. Дора стала для него козлом отпущения. Ее внешность на портретах искажается все сильней, даже приобретает звериные черты. Пикассо одержим Дорой и всматривается в нее с болезненным вниманием маньяка. Ее глаза на всех портретах смотрят в одну точку, словно у нее галлюцинация. Или словно Дору ошеломило то, что он с ней сделал. В «Отдыхающей женщине» (1940), в «Лежащей обнаженной» (1942), в «Головах женщины», нарисованных на газетной бумаге (1941 и 1943), в «Желтой и синей женщине, сидящей в синем кресле» (1940) он изображает Дору в наводящем ужас виде, словно убивает ее. Каждый день он пригвождает ее к холсту, словно энтомолог, который прикалывает насекомое к бумаге булавкой. Центр картины занимает изображение Доры, но такое, что ее невозможно узнать: рот изменен и похож то на рот обезьянки, которая была у Пикассо в Мужене, то на рыло свиньи, то на челюсти скелета. Чем дольше продолжается война, а с ней – неопределенность и ужасы, которые она принесла, тем безобразней становятся эти изображения, они делаются уродливыми, даже чудовищными. В это время происходит странное сближение образов: Пикассо придает лицу Доры сходство с черепом. И возрождает тему «суеты сует», которая так часто разрабатывалась в классической живописи. Этот мотив он воспроизводит на бумаге, на газетных листах, на холсте и наконец – в бронзе, уже в 1945 году. В этом же году он порвал с Дорой. Это постепенное движение к черепу очень хорошо видно, и величайшее тщеславие уже никого не удивляет. Именно Дору он изобразил на картине под названием «Череп» («Голова смерти»)! А 10 июня 1940 года, во время изгнания в Руане, он написал ужасную «Голову женщины». На этой картине у Доры не лицо, а морда отвратительного зверя, ее глаза асимметричны, но наблюдают за зрителем. Она вызывает ужас, но и сама, видимо, охвачена ужасом, даже обезумела от страха. На следующий день, 11 апреля, Пикассо снова берется за работу. Его новая «Голова женщины» – опять Дора, но на этот раз продырявленная, почти без мяса на костях. Челюсти этой головы похожи на лошадиные или обезьяньи, глаза смотрят в разные стороны. Это – полное смятение и ужас Доры, потеря себя самой, начало безумия.
Макс Жакоб после своего обращения к религии поселился в бенедиктинском аббатстве, которому пожертвовал свое имущество. Он, который когда-то гостил у всех входящих в литературную среду, теперь был одновременно в церкви и вне ее, жил как монахи, но не был монахом, посвятил свою жизнь молитве и размышлению. С того знаменательного дня, когда Иисус явился ему на стенах его квартиры, ему нужно было лишь одно – соединиться с Иисусом. Такое полное преображение Макса Жакоба встревожило Пикассо, который очень его любил. Художник побывал у него в Сен-Бенуа-сюр-Луар вместе с Дорой. Этого обращения друга к вере Пикассо не мог понять. А Дора была глубоко потрясена новой жизнью их друга. Может быть, она уже тогда думала о том, чтобы, как он, заживо похоронить себя в каком-нибудь монастыре? Ряд мстительных садистских картин, написанных с Доры, ослабил ее. Чем больше Пикассо пишет ее, тем больше угасает и сжимается ее лицо. Оно превращается в морду животного или в чудовищное лицо мутанта. Работа по стиранию личности почти закончена. Пикассо чувствует приближение этого конца. Минотавр съел свою добычу и думает о том, чтобы найти другую модель, другую искупительную жертву. Весной 1943 года в его жизни появляется Франсуаза Жило. Дора знает, что Франсуаза будет следующей, а она сама скоро должна будет уступить место сопернице. Пикассо был очарован Франсуазой, когда впервые увидел ее в обществе одной из ее подруг. Минотавр снова принимается за дело. Та, кого он со зверской силой покрывал как бык на картине 1936 года, теперь износилась, устала, созидательные соки вытекли из нее. Получилось то же, что у Эдгара Аллана По в его фантастическом рассказе «Овальный портрет». Там художник заставляет свою жену позировать ему до изнеможения, вытягивает из нее все жизненные силы и в конце сеанса позирования обнаруживает, что жена мертва. Ему остается лишь добавить немного глянца одному ее глазу, чтобы портрет выглядел живым. Сделав это, он дает жене новую жизнь на картине. С Дорой Маар произошло что-то похожее: теперь она лишь развалина. Она в отчаянии, потому что любит Пикассо той любовью, которая не знает осмотрительности и осторожности. Лишь обращение в католицизм избавит Дору от этой любви. Радикализм, который уже терзает душу этой женщины, постепенно сделает ее фанатичной фундаменталисткой и заставит отгородиться от мира, хотя это и будет беспокоить ее последних друзей. Но у Франсуазы Жило есть молодость, которая когда-то была у Доры и которой так любит лакомиться Пикассо. Это не пристрастие к маленьким девочкам, которым был известен Бальтюс. Пикассо любит не детей, а девушек в цвету. У Доры была привычка описывать свои впечатления в коротких стихотворениях в прозе. В одном из них она выразила то, что станет для нее главным на всю оставшуюся жизнь. «Я одна на краю земли. Над моей головой ночное небо, внизу тоже небо. А впереди – вечность, похожая на черный водопад». Этим сказано все. Пока рядом Пикассо, для нее еще может существовать небо в этом мире. Но черная пелена судьбы закрывает от нее все надежды.
Бегство Доры
Теперь медленно начинается духовная агония Доры в ее мистическом одиночестве. В начале 1944 года присутствие Франсуазы Жило в окружении Пикассо уже не оставляет места для сомнений в намерениях мастера. Какое-то время Доре кажется, что она сможет приспособиться к этому положению, но в глубине души она знает: игра окончена. Однако в это время кончается война, а в августе 1944 года Париж освобожден. Пикассо возрождается из пепла этой жестокой войны. В нем больше, чем когда-либо, сходства с Прометеем. Он больше, чем когда-либо, чувствует себя триумфатором. Он ускользнул от всех, он в конечном счете ни во что не ввязался – предоставил всего один залог своего патриотизма, «Гернику», но даже не пытался помочь Максу Жакобу, когда того отправили в концлагерь Дранси, несмотря на известность. Однако по настойчивой просьбе Поля Элюара Пикассо вступил в коммунистическую партию, где к нему относились как к иконе. После освобождения Франции от оккупантов у художника открылось второе дыхание. И появилась новая любовница. Его жестокость стала еще сильней. Дора оказалась на краю пропасти: 15 мая 1945 года у нее был приступ бреда. Пикассо поместил ее в лечебницу Святой Анны. Он был уверен, что Дора сумасшедшая, и заявлял, что всегда подозревал это. Молодой психиатр Жак Лакан, который тоже (и уже тогда) отличался огромным самолюбием и изрекал что-то туманное и поучительное по поводу паранойи и истерии у женщин, лечил ее электрошоком. Это лечение в те годы было очень модным. Его первой жертвой стал Антонен Арто (писатель, художник и кинорежиссер, новатор в искусстве. – Пер.). Лакан, вместе с незаменимым доктором Фердьером, применил к нему эту пытку. Арто просил этих жестоких врачей о пощаде, а ведь это он (величайшая ирония судьбы!) создал «театр жестокости» (театральная концепция Арто. – Пер.). Но его мольбы не подействовали. Его насильно заставили вытерпеть десятки сеансов электрошока, которые его погубили. Биограф Доры, Алисия Дюжон Ортис, не нашла никаких документов о пребывании Доры в клинике Святой Анны, никаких следов ее пребывания там, словно кто-то постарался стереть эти следы. Правда, Дора могла лечиться там под другим именем. Пикадор Пикассо продолжал свирепствовать. Отдав Дору в руки психиатров, он полностью снял с себя ответственность за нее, но сохранил свою власть над ней. Потерпите: коррида еще не закончилась. Ритуалы следуют один за другим в неизменном строгом порядке. Смертельное завершение начнется немного позже. Для Доры на трагическую сцену продолжает опускаться черная пелена. Спасение она ищет в духовности. Но если бы Дора жила полной и активной жизнью, она бы иначе сопротивлялась тому, что ее тело и лицо разделывают, как мясо. Она бы противостояла палачам, которые заставляли ее сидеть и принимать удары электрических молний в мозг. Что ж, она будет противостоять им по-другому: она уйдет от них по пути Бога, по ночному пути великих мистиков. Этим же путем пошла Фрида Кало, которую она очень любит, Фрида – добровольная пленница в когтях у своего мужа Диего Риверы. Лакан считает, что мистика для нее – единственный способ избежать полного безумия. По его мнению, Дора нашла уловку, которая позволила ей снова встать на ноги. Но был ли он прав? Психиатр считал духовный путь терапевтическим средством, способом вытеснить невроз и вернуть себе подобие душевного равновесия. Для Доры этот путь уже давно был чем-то совсем другим. Макс Жакоб открыл ей смысл этого пути. Она решила забыть себя, покончить с комедией, погрузиться в молчание и размышления, больше не иметь любовника. Разве возможен другой после Пикассо? Говорили, что тем, кто удивлялся ее уединению, она имела привычку отвечать: «После Пикассо есть только Бог». Жан Кокто написал о Максе Жакобе по поводу его ухода в монастырь: «Никто лучше [его] не сумел совершить это чудо: сделаться невидимым, обмануть творчество прозрачностью и оставить эпохе на растерзание соломенное чучело, которое она может сжечь, не трогая его самого». Значит, приступ бреда в середине мая 1945 года стал поворотом в судьбе Доры. С него началась ее новая жизнь, которая будет продолжаться до самой ее смерти в 1997 году. Пятьдесят два долгих года одиночества и тишины. В эти годы она тоже будет хотеть «сделаться невидимой», стать «прозрачной», оставить остов своего потерпевшего крушение корабля на берегу эпохи и позволить его сжечь так, чтобы не пострадала она сама, то есть самая праведная, самая истинная, самая невинная часть ее «я». Уже много месяцев ее жизнь была полна отзвуками жизни поэта, умершего во время депортации. Например, 19 марта 1944 года она играла у Лейрисов в пьесе Пикассо «Желание, пойманное за хвост», которую поставил Камю. Маленькая любительская труппа играла под портретом Макса Жакоба, и странным образом этот портрет нашли у Доры после ее смерти. А 21 марта она была в церкви Сен-Рош на службе в память этого поэта. Там были также Пикассо, [художник и театральный декоратор] Дерен, [поэт] Реверди, Элюар, [композитор и дирижер] Анри Соге, аббат Морель, [писатель и издатель] Жан Полан, [писатель и философ] Жан Гренье, Мориак, Коко Шанель, Мися Серт [знаменитая светская дама, вдохновительница многих художников, много лет была связана дружбой с Коко Шанель и Дягилевым], [писатель и кинокритик] Нино Франк (все примечания к этой фразе выполнены переводчиком. – Пер.). Но самое большое впечатление на Дору произвела та жизнь, которую покойный хотел вести в тени бенедиктинского аббатства. В ее сознании отпечатались почти с точностью фотоснимков образы этого места, где поэт обрел покой и наконец смог какое-то время восстанавливать свои силы. Дора, которую прозвали «плачущей женщиной» из-за картин Пикассо, где она изображена в слезах, могла понять слова, которые имел привычку говорить Макс Жакоб: «Я столько плакал для того, чтобы быть прощенным». Религиозное уединение станет местом прощения и для нее. Дора перестала заниматься фотографией, но продолжала писать картины. В живописи она постепенно отделялась от Пикассо, понемногу стирала с себя его влияние. Прошло то время, когда она в ответ на его агрессивные поступки сама рисовала свои портреты, преувеличенно уродливые и чудовищные, словно хотела сравниться с мэтром или, вернее, понравиться ему. Тогда она усиливала то, что наметил он. Теперь она пишет пейзажи и выставляет их в известных парижских галереях. И в этих пейзажах, кажется, снова появились пространство и воздух, они вдруг стали свободней. Часть черной пелены чужой власти соскользнула с них. Вероятно, во время связи с Пикассо ее живописные работы тоже испытывали влияние знаменитого мастера? Разве могло быть иначе? В пейзажах Люберона (горный массив на юге Франции. – Пер.), которые она написала в своем доме в городке Менерб, видны настоящая индивидуальность и подлинная искренность. Их словно уносит духовный ветер, летящий над долинами и горами. Этот дом Пикассо приобрел в обмен на одну из своих картин, натюрморт, и подарил Доре при расставании. Дора приняла прощальный подарок, но в душе чувствовала себя раздавленной. Она не могла ни принять, ни терпеть оскорбительную необходимость жить дальше и заставлять других верить, что она еще жива, что Пикассо не уничтожил ее. Это была гордость «королевы Тибета» (так она называла себя в бреду), дикая гордость варварской королевы.
С 1946 по 1958 год, когда окончательно удалилась от мира, она очень старалась оставаться гордой великолепной Дорой, которую прославляют все поэты. В те годы она часто появлялась в обществе, встречалась со светскими людьми, но в обществе уже не было той атмосферы, которая существовала перед войной. Ни хрупкая Лиза Деарм, в одинаковой степени изысканная и невыносимая, ни виконтесса Мари-Лаура де Ноай, игравшая в своем парижском салоне роль мадам де Рамбуйе, не могли дать ничего, что бы соперничало с прежним духом сюрреализма и фантастики. Они лишь повторяли прошлое, стертое войной. От былого осталась лишь пена. Постепенно возникают пустота, прозрачность, разрушаются мир и сама Дора. Ее дружба с эстетом-гомосексуалистом Джеймсом Лордом, который в нее влюбился, не изменила ее тайного решения. Он сопровождал Дору в поездках и на светских вечерах, вместе с ней бродил по Венеции, но в душе она уже решила, что ей делать. Она окончательно уйдет из этой комедии, которой так много принесла в жертву и жертвой которой стала сама. Дора Маар еще не в таком зрелом возрасте, чтобы удалиться от мира, но постепенно становится такой, какой была с конца 1950-х годов и до своей смерти в 1997 году: скупой, злой, одинокой и сварливой женщиной, которая неустанно сторожит сокровище, но, как ни странно, живет почти в нищете. Ее в насмешку стали называть Пикасетта. Это похоже на слово «пикасьет» (pique-assiette), что по-французски значит «нахлебник», а дословно «подбирающий с тарелок». Дора на званых вечерах собирала кушанья с хозяйских тарелок, чтобы не покупать себе еду. Но вот ирония: Пикасетта значит и «маленькая Пикассо».
Мистицизм и тайна Доры
В Менербе, куда уезжала на лето, Дора никогда не появлялась на людях. Ставни ее дома всегда были закрыты, и она увядала в одиночестве, несмотря на интерес, который к ней проявляли в этом городе и даже в галерее Паскаля Лене, выставлявшего ее работы. Она не говорила ни с кем, даже со своей горничной, лишь упорно смотрела из окна на сияющий в солнечных лучах дикий пейзаж Люберона. Путь в религию становится бесповоротным. Она носит образки, медитирует, уже встречается со служителями церкви. Что-то в ней зовет ее прийти к Богу. Ее сюрреалистический ум был восхищен поэтами барокко и великими мистиками. Дали скопировал рисунок (прославленного испанского святого, мистика и писателя, жившего в XVI веке. – Пер.) Хуана де ла Круса, и в той же перспективе – Христос увиден как бы с головокружительной высоты. Эротоман Элюар, слабый и сильный одновременно человек, был потрясен стихами Терезы Авильской (католическая святая, прославленная монахиня, автор мистических книг и стихов; реформировала орден кармелитов, была наставницей Хуана де ла Круса. – Пер.). И повторил парадоксальное мистическое изречение, которое стало ее принципом: «умереть, чтобы не умереть», одна из великих тем любви. Духовное горение и одиночество – так следовала этому принципу Тереза. Ему стала следовать и Дора. Она начала жить в полном уединении, и эта двойная смерть наконец стала для нее сладостной. Итак, каждое лето она запиралась в своем доме в горах Люберон и писала просторные пейзажи, которые не показывала никому, но которые, должно быть, видел ее деревенский знакомый Николя де Сталь. Эти пейзажи были полной противоположностью картинам Пикассо. Похоже, что Дора наконец нашла свой путь, освобождая природу на своих картинах, отдавая ее во власть силе ветра. Возвращаясь в Париж, она замуровывала себя в одиночестве, не отпирала дверь своей квартиры на улице Савуа никому (или почти никому). Сама она очень редко покидала эту квартиру и лишь для того, чтобы, пробираясь вдоль стен, сходить в церковь помолиться. Так следовало вести себя дарительнице, которая пожертвовала свое имущество монастырю и живет в нем. Но была ли Дора на самом деле такой полумонахиней? Сопровождалось ли дарение обрядом, подобным тому, через который прошел Жорис Карл Гюисманс и который он описал в своем знаменитом рассказе «Послушник»? Никто ничего не знает об этом. В таинственной квартире Доры были сложены в кучу все воспоминания о ее любви с Пикассо. Как и он, она сохранила всё – каждый штрих карандаша своего «учителя», пустяковые рисунки, быстро сделанные на бумажной скатерти в ресторане, торопливо набросанные записки – и, разумеется, картины, которые она вытребовала у него. Дора говорила, что вымогала их, «чтобы отомстить за себя»: она-то уж точно знала их подлинную цену и понимала, что они стоят целое состояние. Иногда хранители музея Пикассо приходили к ней, а она забавлялась их нетерпением и говорила им: подождите еще немного, потом получите всё. В итоге это «всё» стало таким же таинственным, как она сама. Чем именно она владела? Только распродажа в 1998 году позволила нам узнать ответ. Во время ее мистического «страстного пути» слава Пикассо гремела по всему миру. Он часто интересовался Дорой, но не потому, что беспокоился о ней, а лишь чтобы узнать, что с ней стало. Он был невероятно суеверен и опасался ее духовного насилия, то есть боялся, что Дора его околдует. Чтобы лишить Дору святости, он уже давно старался изгнать из своей жизни магическое влияние этой «колдуньи». На картине «Женщина в желтом пуловере» он написал ее затянутой в пуловер, больше похожий на кольчугу, в которую он хотел бы ее заточить. Ее руки всегда были очень ухоженными, пальцы казались длиннее от покрытых ярко-красным лаком ногтей, которые Пикассо изображал похожими на когти. Теперь кисти ее рук – страшные крючковатые обрубки. Значит, он продолжает превращать Дору в животное. Фотографии квартиры Доры, сделанные после ее смерти, позволяют увидеть замкнутость и уединение, в которых она любила жить. Но каждый угол, каждый предмет мебели – кладовая сюрпризов. Каждый из них доверху заполнен вещами, относящимися к ее страсти. Несмотря на большую высоту потолков, кажется, что груды вещей готовы раздавить зрителя. Кучи вещей и висящие холсты, которые ждут, пока хозяйка начнет писать на них картины. Инструменты художницы – пузырьки, палитры, кисти, коробки, бутылки, чернила, тюбики с краской. Одним словом – полный хаос, среди которого она, должно быть, с трудом могла ходить. По мере того как Дора стареет, ее ум теряет гибкость – возможно, под влиянием пресловутого статуса послушницы. Дисциплина бенедиктинцев ее привлекает, и она следует обрядам и обычаям религии. Прежнее бунтарство исчезло: Дора принимает все в церкви и в ее моральном учении. Если только это послушное исполнение требований великих мистиков само по себе не бунт. Исчезла без следа свобода нравов, характерная для нее во время близости с Батаем, а потом с Пикассо, когда Дора пыталась жить скорее как ясновидящая, чем как актриса. Теперь она, наоборот, стала очень строгой в области морали, некоторые свидетели даже называли ее «фундаменталисткой». На одном из столов в ее квартире обнаружили экземпляр «Майн кампф», и она подчеркивала свой крайний антисемитизм. Ее уход в мистику – не единственная ее тайна. Легенда продолжается. Вела ли она свою необычную жизнь сознательно, или в ее психике было небольшое отклонение? Если так, то прав был Пикассо, глубоко убежденный в том, что эта женщина сумасшедшая, что она всегда была ненормальной, что в ее рассудке еще с детства была трещина. Теперь она одевается так странно, что иногда ее можно принять за бездомную или за бедную женщину. Кстати, «бедной» ее называли еще во времена Пикассо: окружающие тогда говорили о ней с состраданием: «бедная Дора». Выходя на улицу, она надевает на себя столько одежд, что превращается в бесформенный и до смешного нелепый ком. Что случилось с пылкой Дорой Маар, которую фотографировал Ман Рэй? Та Дора была похожа на торжествующую богиню, и казалось, что ее не может изменить ничто, даже время. Как могла до такой степени разрушиться та могучая сила, которая ясно видна на каждой из переживших ее фотографий? Дора теперь – и это правда – только старая женщина, чей организм разрушен. Она сама удивляется своей старости и тому, что живет так долго. Она считает эти, такие долгие, годы чем-то вроде чистилища, еще одним искуплением своих грехов. Она должна так много пострадать для того, чтобы войти в свет «другого Учителя», как говорила Тереза Авильская; и тогда он больше не заставит ее страдать. Прежние друзья Доры немного раскаиваются в том, что уважают ее решение больше не видеться ни с кем. Но это решение для них удобно, потому что позволяет им по-прежнему, не смущаясь, бывать у Пикассо. Однако некоторые нарушали обет молчания и осмеливались узнавать, что у нее нового, а иногда даже видеться с ней. В число этих немногих входили Поль Элюар и поэт Андре дю Буше. Многие, видя явное стремление Доры уединиться, задавали себе вопрос: что будет с произведениями искусства, которые она хранит у себя? Никто не знает, какие намерения у нее были, когда она составляла свое завещание. Во всяком случае, Андре дю Буше должен был унаследовать сочинение Пьера Реверди с иллюстрациями Пикассо, большинство картин наследовал отец Доры, небольшая часть наследства отходила монахам. Но все, кого Дора упомянула в завещании, умерли раньше ее. Потом, когда она скончается в одиночестве в одной из парижских больниц и будет похоронена на кладбище города Кламар, около ее имущества начнут кружить нотариусы, адвокаты, коллекционеры и аукционные оценщики. К кому перейдет легендарная коллекция, которую Дора Маар хранила с такой бережностью с 1945 года? – станут шептаться в Париже. Но пока старая дама еще не сказала свое последнее слово.
И вот 16 июля 1997 года она, хотя ей уже было трудно ходить, рискнула выйти на парижские улицы в надежде добраться до собора Нотр-Дам. В пути ей стало плохо, она упала и умерла. Ее похороны были крайне простыми; говорили, что платье, в котором похоронили Дору, купила консьержка ее дома на улице Савуа. Дора Маар покидала этот мир в полнейшей тишине и в самой прискорбной нищете.
После Доры
Понадобилось целых две канцелярии, чтобы, по требованию нотариусов, начать поиски наследников; обе специализировались на исследованиях, связанных с наследованием имущества и поисками родственников. После множества неожиданных поворотов расследование привело их в Хорватию и в Турень – к родственникам со стороны отца и матери. Без труда удалось найти наследницу Доры в шестом колене, женщину восьмидесяти трех лет, жившую во Франции в департаменте Шаранта. Но было непросто найти наследника или наследницу по линии отца. Расследование указало на Загреб и Сербию; наконец, разыскали родственницу Доры в пятом колене. Этой женщине было… девяносто три года, и жила она в безвестной деревне в 150 километрах от Загреба. Так у каждой канцелярии появилась своя наследница, и эти две женщины поделили между собой неожиданно доставшееся им сокровище. Разумеется, до раздела получило свою часть государство (60 %); 3 % получили правопреемники Пикассо и 30 % генеалоги.
Главным событием 1998 года, несомненно, была продажа коллекции Доры. Продажу осуществляла фирма Piasa в Доме химии в Париже. Туда примчалось все парижское общество, съехались коллекционеры со всего мира, собрались обычные посетители аукционов, которые не могут ничего купить, но всегда сидят в зале, желая хотя бы вообразить себя покупателями. Разумеется, цены взлетели намного выше первоначальных оценок. Все шло нарасхват. В первую очередь покупатели боролись, конечно, за портреты и другие картины Пикассо. Но они не жалели денег и на мелкие вещицы, которые Пикассо придумывал и мастерил, чтобы доставить удовольствие Доре, – вырезки из бумаги, украшенные рисунками спичечные коробки, расписанные им гальки, которые сохраняют невероятное очарование. Например, камешек, украшенный нарисованным лицом, оцененный в 15 000 франков (2287 евро), был продан за… 800 000 франков (122 000 евро)! Птичка из дерева и гипса на железной нити была оценена в 70 000 франков (10 671 евро), а продали ее за 2,1 миллиона франков (320 143 евро), и т. д. Цена легендарных портретов достигла значительных величин: «Плачущая женщина» была продана за 37 миллионов франков, а «Дора Маар с зелеными ногтями» за 23 миллиона франков! Момент, когда чья-то коллекция разлетается по миру, всегда вызывает боль и радость одновременно: в появлении перед людьми новых или давно похороненных сокровищ есть что-то волшебное, и в то же время они пробуждают суетные и тщеславные мысли. Эти сокровища хранились как святыня, а теперь их рассеял (не зря по-французски такая распродажа называется dispersion – «рассеяние») резкий и злой ветер вожделения и обладания. Дора Маар хотела избежать всей этой суетности: она помнила лишь псалмы Екклезиаста, которые повторял царь Давид: «Все лишь суета и уносится ветром». Она сохранила в памяти текучесть и свободу того ветра, который залетал в долины Люберона и оставлял пестрые следы на горе Венту. Она не испытывала злых чувств к Пикассо: Дора всегда была здравомыслящей женщиной. Однако она не отказывала себе в удовольствии удивляться тому, что он прославился на весь мир, и была убеждена, что его славу создали галереи и продавцы картин. Она даже думала, что когда-нибудь эта слава рухнет. На самом деле она восхищалась сверхъестественной творческой силой, которая была у него всегда, считала его чудом, полным кипучей энергии. Но Дора, в особенности после своего обращения к религии (а интуитивно – и раньше, во время связи с ним), считала, что ему не хватает одной, недостижимой для него, стороны творчества – духовности. Его привлекали главным образом деньги и возможность показать себя. Его инстинкт хищника поднял его на вершину славы, любое его произведение продавалось за безумную цену. Это его забавляло, а иногда он даже презирал за это свою публику и свой век, потому что в глубине души знал: некоторые его работы – посредственные вещи. В годы связи с Дорой он написал много, но, за исключением нескольких шедевров, это были жалкие произведения. Портреты, написанные кое-как за несколько часов, по одному каждый день, служили его мании величия и его свирепой разрушительной силе. Дора была жертвой этой охоты, которой он предавался как полный и единственный господин. И его тогдашние произведения были ниже многих его более ранних работ – тех, которые по праву сделали его первым в ряду современных художников. Он сводил с Дорой личные счеты, а она покорно терпела это потому, что ей самой нужно было свести счеты – не обязательно с ним, но со своим прошлым и душевным недомоганием. Некоторые считали ее злой и жестокой. Но иначе судили о ней ее истинные друзья, например Андре дю Буше и Пьер Реверди, которым она, может быть, еще больше восхищалась оттого, что он тоже укрылся в бенедиктинском аббатстве – покинул все, что знал раньше, и остался один голый перед Богом. «Неистовая и чистая»[103], – говорил о ней дю Буше. Она не делала уступок ни своему веку, ни людям, ни миру. И как раз в этом была огромная разница между ней и Пикассо. Художник нес по жизни большую громоздкую ношу – свой гениальный дар, и еще, возможно, был занят созданием мифа о себе (в которое он внес свой вклад). Его привлекала всемирная слава. Его могучий дар никогда не давал ему покоя. Ошеломленный мощью собственной творческой силы и к тому же наделенный от природы огромной жаждой обладания, вампир и великан-людоед, он больше не мог жить на одной высоте с Дорой Маар – на высоте одиночества и отказа от себя. На таких высотах невозможны никакие стратегии построения карьеры, никакие хитрости. Может быть, это одна из причин, по которой его произведения, при всей огромной силе и гигантском масштабе его творчества, не могут сравниться с работами великих мастеров мировой живописи. Поэтому история Доры лишь косвенно отразилась в картинах, которые он написал в годы, когда так мало любил ее. Эти картины отражают лишь события и факты, а иногда еще и написаны на скорую руку, а потому не могли отразить основное. Дора пересекла путь Пикассо. До их встречи она долго бродила поблизости от него и сама устроила их встречу, словно по велению своей судьбы. Несомненно, распятие на этом кресте было ей необходимо, чтобы достичь иных небес – тех, которые никогда не смог узнать ее господин и повелитель Пикассо, небес Люберона и небес Бога.
В последние годы жизни, прекратив заниматься и фотографией, и даже живописью, Дора стала питать свою тоску и утолять страдания сочинением стихов – как великие испанские мистики, чьи сочинения она читала. В противоположность Пикассо, который всегда считал себя великим поэтом и писал стихи умело, но автоматически, в ее стихах было очень много чувства и меньше «беспричинности». Это были не слова, которые встречались одно с другим в нелепых сочетаниях и в конце концов, по аналогии, становились понятными. Это были мысли, поднятые с самого дна ее боли и слегка касавшиеся слов, как вершин горного хребта. Ей дали много характеристик и прозвищ, в том числе насмешливых; Дора знала об этом, но это ее не тревожило и не волновало. Все десять лет, которые она прожила с Пикассо, – самое ужасное десятилетие XX века, – стерлись из ее души и уступили место надежде на иное, сияющее величие. Ее жизнь стала (если использовать сравнение из ее профессии – фотографии) негативным снимком побочных действий войны. Косвенные влияния и злодеяния этой войны она ощутила на себе. В ее судьбе оставили след нацизм, концентрационные лагеря, гражданская война в Испании, садистские научные эксперименты безумных врачей Гитлера. Их отголосками стали садизм Пикассо и эксперименты доктора Жака Лакана над ее бедным мозгом, смерть в самых ужасных условиях ее самых дорогих друзей – Реверди и Макса Жакоба, зеленоватосиний мир Батая. Все это отразилось в ее жизни как в зеркале. Ее обращение к религии, которому еще не хватало сострадания и снисхождения к миру, отправило ее на поиски иного света. Если только оно не отдало ее снова в руки другого Господина, еще более ужасного в своей требовательности, чем Пикассо.
Амедео Модильяни (1884–1920) и Жанна Эбютерн (1898–1920) «Тяжелобольной великий человек с тяжелым проклятием» и его жертва
Трагическое призвание
Завтрак 31 декабря, в день святого Сильвестра. Вся артистическая и литературная богема Парижа собралась, чтобы отметить последний день уходящего 1916 года. Идет война, смертоносная и непредсказуемая. Как не увязнуть в мыслях о ней, если не сопротивляться им с помощью праздников, освещенных вспышками магния? Так говорил Аполлинер, который незадолго до этого вернулся с фронта раненный в голову. И в этот день в кафе «Ротонда» проходит праздник в стиле кубизма в честь публикации сборника «Убитый поэт». Аполлинер, разочарованный автор повести, по которой озаглавлен сборник, хотел, чтобы эта книга была «оглушительной и опасной, доведенной до высшей точки». А на втором этаже этого же дома Амедео Модильяни торопливо, как он привык, рисует одним движением лицо девушки, похожей на женщин с картин Боттичелли. Девушку зовут Жанна Эбютерн, она обладает грацией девочек-подростков; ей девятнадцать лет, у нее светлые с рыжеватым отливом волосы, которые она заплетает в косы и оборачивает вокруг головы. Жанна возникла в трагической жизни Амедео как небесное видение. Он поверил, что вместе с ней все у него получится и свершится.
Их связь, начавшаяся с этой встречи, была недолгой – всего два года. Но за это время все болезни, страдания, страсти и лихорадочные творческие порывы Модильяни привели к созданию шедевров и к смерти обоих влюбленных, которые обещали друг другу пожениться. О Моди (так его называли) написано много – разумеется, для того, чтобы связать его с легендой о проклятых артистах вроде Бодлера или Рембо. Ему приписывали много любовниц и горестную жизнь, которая усиливала миф. Эмигрант, больной туберкулезом, талантливый художник, сразу сумевший заинтересовать и своих преподавателей в итальянских и французских школах рисования, и артистический мир Парижа. Наркоман и алкоголик, лечивший такими способами свои недостатки и свое отчаяние, денди в богеме сначала Монмартра, а потом Монпарнаса. Тут собраны все характерные черты артиста начала XX века, чтобы получился эталон «художника с Монпарно». Сразу после его смерти им завладела легенда – все эти мифы о беспорядочной жизни богемных артистов, которые после смерти стали самыми великими художниками или поэтами своего века (тут вспоминаешь, конечно, о Ван Гоге, о Гогене, о Рембо). Но совпадает ли она с подлинной историей жизни Амедео Модильяни? Его дочь Жанна, которая скончалась в 1984 году, всю свою жизнь потратила на то, чтобы восстановить истинный облик отца. Хотя она старалась не поддаться искушению и не превратить его биографию в житие святого (как в свое время сделала с биографией своего брата Исабель, сестра Рембо), поневоле приходится признать, что Модильяни был не совсем тем, кого из него сделали. Это был художник, сначала изображавший абсолютную красоту, потом писавший универсальный идеал красоты и создавший целый ряд портретов. Он был совершенно не похож на прилипшую к нему маску носителя смерти, «восхитительного живописца горестей», как назвал его Гюстав Кокийо (писатель и коллекционер. – Пер.). Напротив, он хотел своими картинами и слишком мало известными скульптурами сказать «без слов «да» жизни». Может быть, самый верный ключ к творчеству Модильяни мы найдем в его беседе с художником Сутиным по поводу живописи одного из своих главных вдохновителей, Поля Сезанна. «У фигур Сезанна, – сказал он, – нет взгляда – так же как у самых красивых античных статуй. А у моих он есть. Они видят, даже если у них не нарисованы веки. Но, как и у Сезанна, они хотят выразить без слов «да» жизни и больше ничего»[104]. Да, Модильяни совершал поступки, говорившие о депрессии, устраивал дебоши. Да, у него бывали периоды алкоголизма и случались галлюцинации из-за неумеренного употребления наркотической конопли. Да, его неистово влекло к женскому телу, которое он изучал с первых дней своего ученичества. Да, он не чувствовал никакого желания создать себе положение в своей среде, был богемным во всех отношениях, любил гостить и у видных буржуа, и у нищих бедняков, у проституток и полуночников, умел держать себя в любом слое общества, не испытывая неловкости. Но главным в нем была неугасимая любовь к живописи – единственному средству воспеть жизнь, которая – он это знал – постепенно уходит от него. Модильяни не Мунк. Женщины на его картинах (кроме, может быть, ранних работ) не несут в себе смертоносной солоноватой горечи женских образов художника из Вены. Они не ужасны и не болезненны, не окрашены смертельной бледностью. Это не вампиры и не горгоны. Те, кого писал Модильяни, – бесстрастные красавицы, чья красота воплощает собой жизнь. Они овеяны мощным потоком энергии. Эти женщины не чувственны и не провоцируют мужчину, а скорее взывают к жизни, мгновение которой сохраняют своим внешним бесстрастием. Благодаря этому Модильяни стал, так же как Ван Гог, культовой фигурой европейской живописи. Прошло совсем мало времени после его смерти – и он обрел славу, которая не угасла и не потускнела. Ему приписали жизнь, которая была в конечном счете лишь внешней стороной его существования, – жизнь, которая стала вкладом в создание мифа о художниках времени до Первой мировой.
О людях, которые сами того не зная и часто за свой счет создавали современное искусство, отважно исследовали неизвестные территории и вступали на них, нарушая границы, во времена, когда общество еще не было готово их понять. Война, которая тлела уже с «безумных лет» (так называют 1919–1929 годы. – Пер.), еще не разрушила идеалов буржуазии; после великой бойни 1914–1918 годов никто не мог представить себе, что эти идеалы будут утрачены. Но Тулуз-Лотрек уже предсказывал эту катастрофу, изображая неистовое наслаждение жизнью и атмосферу пресыщения в танцевальных залах Монмартра. И то же предвещал Джеймс Энсор своими маскарадами, где постоянно бродит смерть. Все уже можно было предугадать – безумное веселье в кабачках, яростное желание жить, всевозможные виды разгула и излишеств; бомбы, летящие на Париж, нищету и голод, миллионы смертей, истребление молодежи, гибель убитых поэтов. Как говорил Жорис Карл Гюисманс, покой оставался лишь на время в соборах, которые уже не были убежищами после принятия губительных для свободы законов о светскости и выселения монахов и монахинь из монастырей. Итак, оставались лишь покой соборов и еще одно тихое убежище – абсолютная красота. В этом втором убежище и укрылся Модильяни посредством своих картин. В молодости он пережил свое врастание в мир живописи и укоренение в нем почти как мистический опыт.
Мучительное детство
Теперь необходимо сказать об «обращении» юного Амедео. Он родился в 1884 году в еврейской семье, буржуазной и культурной, но сильно пострадавшей от экономического кризиса. В этой семье Дедо, как называли сына, был в центре забот и внимания. Его мать в своем дневнике, который вела с 1886 года, оставила настоящую хронику своей семьи, главным образом ее материальных затруднений. В день рождения сына, 12 июля 1884 года, на имущество семьи Модильяни был наложен арест. Почти все, чем семья владела в Сардинии, – виноградники, леса, рудники и т. д. – было конфисковано. После этого семью спасала только мать, которая стала давать уроки и этим зарабатывать на жизнь. Семья жила скромно, но эта жизнь была наполнена благами культуры, чтением и добротой к детям. В пять лет Дедо заболел плевритом, и его мать Евгения написала в своем дневнике: «Я еще не оправилась от ужасного страха, который испытала из-за него. Характер этого ребенка еще не настолько сформировался, чтобы я могла высказать свое мнение. У него манеры балованного ребенка, который не лишен ума. Позже мы увидим, что скрывается внутри этой куколки». И она пророчески добавляет: «Может быть, артист?» В четырнадцать лет мальчик заразился тифом. Во время очень сильного приступа лихорадки он в бреду уверял, что слышит странные пророческие слова: какой-то голос приказывает ему стать живописцем и говорит о величии и предназначении искусства. Он выжил, хотя в то время от этой болезни часто умирали, и приписывал свое «чудесное» спасение этому пророчеству. С этого времени юный Амедео желает лишь одного – стать художником, наследником великой традиции эпохи Возрождения; сначала научиться живописи, а потом заниматься этим искусством. Его семья, тоже взволнованная совпадением пророчества и выздоровления, не противится решению сына. Подросток Амедео покидает коллеж и начинает учиться живописи в скромной Академии изящных искусств своего родного города Ливорно. Но тут его снова настигает болезнь – на этот раз туберкулез. Мать вынуждена увезти сына в места с более полезным для его здоровья климатом – на Капри, в Неаполь, а потом в Рим. Так Амедео познакомился с Римом – переменчивым и многоликим городом, колыбелью цивилизации. Именно там он в письме рассказал другу, которого звали Оскар Гилья, о своем энтузиазме, о своей могучей творческой энергии. В том, 1901 году Рим, который так богат наследием прошлых эпох, казался ему идеальным местом для изучения живописи и в первую очередь для того, чтобы вписать свое имя в ее историю. Он знакомится с женским телом в искусстве – от монументальных статуй до работ великих мастеров Возрождения, узнает те вневременные изящные черты, которыми обладает каждое лицо мадонны или богини. Так он жил в Риме, потом во Флоренции и, наконец, больше двух лет в Венеции вместе с Гильей, который тоже был художником. Самым плодотворным оказалось время, проведенное в Венеции. Молодой художник познакомился с этим городом, «приручил» его и быстро привык к его лабиринтам и его очарованию. В то время Венеция не была такой, какая она сегодня, – городом туризма и музыки. Тогда в ней бок о бок существовали грандиозная монументальная Венеция аристократов и высшего света и Venezia minore – «малая Венеция» тех венецианцев, которые еще не убежали из своего города на la terra ferma – «на сушу» из-за нищеты. Еще доживает свой век Венеция Гольдони с ее народными традициями, в число которых входила свобода нравов. (Расцвет этих традиций пришелся на XVIII век, на эпоху Казановы.) Модильяни в это время девятнадцать лет. Он узнает богемную жизнь, сексуальные удовольствия, пробует наркотики и алкоголь. Молодой художник делит свое время между интенсивной ночной жизнью и посещением великих венецианских художников. Он безоговорочно восхищается творчеством Карпаччо, которое изучает. Он обегает вернисажи, приходит на проходивший тогда биеннале, знакомится с искусством символистов, которое тогда очень высоко ценили в Венеции благодаря Фортуни. Он становится известен как мастер эскизов и линий, который с необыкновенной уверенностью рисует силуэты и женские тела. Он ходит на занятия в частной Школе обнаженной натуры, в Академии, из всех тем явно предпочитает женское тело. Искусство писать женские тела он изучает в музеях, в особенности по картинам Джорджоне, Веронезе и Тициана. Боттичелли его очаровал. Молодой ученик любит величайшую свободу этих мастеров. Они еще не были подвластны академической тирании, которая подчинила тело в живописи таким строгим нормам, что художники-модернисты перестали писать обнаженную натуру, считая ее чем-то реакционным и «тошнотворным», как сказал художник-футурист Умберто Боччони. Модильяни, напротив, видит в обнаженном женском теле изящество раскрывающегося цветка, ростки новой жизни, ее рождение. В это время он еще не тот Моди, которым станет в Париже. Художнику Арденго Соффичи, которому Модильяни показывал Венецию, он привиделся экзальтированным и пылким, страстно влюбленным в историю живописи, элегантным в богемной среде. Соффичи заметил также его гордый благородный взгляд и дрожащие руки, про которые Вламинк написал: «благородные, с нервными пальцами, умные руки», которые «умеют без колебания начертить рисунок одной линией».
Родиться для живописи
Все друзья Модильяни свидетельствуют о его высокой культуре. Ее он унаследовал от своих близких, и в первую очередь от деда с материнской стороны, Исаака Гарсина, очень эрудированного человека, горячо любившего философию и искусство. До самой смерти деда в 1894 году молодой художник был связан с ним очень нежной и тесной дружбой. Скульптура пленяла Модильяни так же сильно, как живопись. В поездке по крупнейшим итальянским городам (это называлось тогда «большой тур») он открывал Италию для себя с восторгом и ликованием, достойным того восторга, который, должно быть, охватывал молодых художников-романтиков. Он написал тогда несколько писем, которые дают большую информацию о его душевном состоянии. Любопытство и ослепительные новые впечатления ускоряют его выздоровление. Он объявляет своему другу Гилье, что «собирает материал» – составляет для себя личный альбом и думает, что друг его унаследует. Дело в том, что Модильяни метит высоко. Опираясь на опыт великих мастеров, восхищаясь ими, он рассчитывает выполнить свой труд – создать то, что уже предчувствует и что готово расцвести в его душе. Идя по пути мастеров из Сиены и итальянских примитивистов, а также по пути великих классиков, он надеется достичь, как он пишет, «организованности и развития всех впечатлений, всех семян идей, которые он собрал в этой мирной тишине, словно в мистическом саду». В другом своем письме он говорит еще ясней: «Я сам – игрушка очень сильных энергий, которые возникают и угасают. А я хотел бы, чтобы моя жизнь была как очень мощная река, которая радостно течет по земле. Ты – тот, кому я могу сказать все. Так вот, я теперь богат, плодороден, и мне нужно творить. Я возбужден, но это оргазм, который предшествует радости, а после радости будет головокружительная и непрерывная деятельность ума». Неаполь, Капри, но, наконец, также Рим, который находится «не вовне, а внутри его самого и похож на ужасную драгоценность, укрепленную на своих семи холмах, как на семи властных идеях. Рим – это оркестровка, которой он окружает себя… окружность, внутри которой он изолирует себя и помещает свою мысль». В римском пейзаже молодой художник разглядел то, чем он восхищен в Риме, – «его лихорадочные ласки, его трагические поля, его формы красоты и гармонии – все эти вещи принадлежат ему через его мысль и творчество». Модильяни уже соединяет вместе классический Рим, например тот, что был у Пуссена, успокоившийся и платонически ласковый, и тот Рим, который воспринимает своими обостренными чувствами. В этом же экзальтированном лирическом письме он уже формулирует основной принцип своего искусства – быть между нежностью и трагизмом. Он хочет взять за основу те истины, которым научил его Вечный город, и «построить его заново». «Я почти сказал бы «метафизическая архитектура», чтобы создать из него мою правду о жизни, красоте и искусстве»[105], – уточняет он.
После смерти Модильяни нам осталось от него очень мало документов, потому что он был глубоко убежден в самодостаточности своего творчества. Что, когда эта поднявшаяся изнутри его красота раскрылась и возникла на холсте, больше нет пользы в том, чтобы описывать эти же впечатления словами. Отдыхая в Доломитовых горах, он пользуется свободным временем, чтобы снова написать Гилье, и в этом письме углубляет свою концепцию искусства. «Зачем писать в то время, когда чувствуешь? – объясняет он другу. – Это необходимые эволюции, через которые нам нужно пройти, и в них важна лишь цель, к которой они ведут. Поверь мне, лишь произведение, вынашивание которого завершено, которое обрело тело и освободилось от опутывавших его частностей, которые оплодотворили его и произвели на свет, лишь такое произведение стоит того, чтобы выразить и перевести его языком стиля»[106]. Здесь очень четко видна метафизическая, духовная сторона искусства. Модильяни хочет писать не внешность, а глубину душ и темный сумрак, в котором все же возможен свет. Но, чтобы этого достичь, нужно идти очень далеко и спускаться очень глубоко. Меры предосторожности, которые он принимает, чтобы достичь света, говорят о его величайшей искренности и художественной чистоте: никаких хитростей, никаких уступок, никаких легких путей. Тут нужны терпение в пути, слепое послушание, мужество, чтобы ничего не торопить. Он назвал это «вынашиванием» и предавался этому труду не без волнения, считая, что его немногие наброски, записные книжки с рисунками и несколько картин, написанных в то время, – всего лишь попытки, хрупкие недолговечные дорожки, которые не имеют ничего общего с тем, что он предчувствует о себе и в себе.
Детство под ударами болезней, тонкая чувствительность, которая вызывала у него сны, похожие на галлюцинации, экзальтация в юности, уверенность в том, что у него есть призвание, которое он должен исполнить: так началась жизнь Модильяни. В этом начале есть все элементы, из которых создается миф: хрупкое тело, нервозность, обостренная чувствительность, мессианское призвание и интуитивное предчувствие своих будущих произведений. Как уже было сказано, Венеция, Рим и Флоренция потрясли его и стали необходимыми этапами на пути к живописи. К обретению отваги для живописи. К решению быть живописцем. Он чувствует, что в его душе, как росток в семени, возникает желание создать что-то такое же великое, как работы тех мастеров, чье творчество он изучал в городах, где жил. Такое, как создали мастера сиенской школы, которыми он восхищался. Такое, как мадонны Джованни Беллини, одновременно отрешенные и плотские, тела куртизанок Карпаччо, расслабленные и чувственные. Уже в 1903 году он думает о поездке в Париж, который тогда был столицей современного искусства, которое переместилось туда из Вены, его самым ярким очагом искусства, его бурлящим центром. Молодой художник поддерживает свои силы женскими ласками, наркотиками и в первую очередь алкоголем. В это время они возбуждают его, придают ему силы, наполняют неистовой дикой энергией. Он еще не осознает, к каким ужасным последствиям его приведут эти средства поддержки, и не предвидит, какие катастрофические разрушения произведут внутри его. Пока Модильяни остается в Венеции и продолжает свое посвящение в живопись. Он постепенно становится самобытным художником, не похожим на других, и все больше осознает, что лишь искусство способно дать ему возможность на мгновение ощутить красоту. Он дает Гилье удивительные уроки жизни, и они противоречат тому образу Модильяни, который сохранится в памяти потомков. «Посылаю тебе отсюда, – пишет он, – из моего сердца, такого сильного в эту минуту, дыхание жизни, потому что, поверь мне, ты создан для напряженного бытия и для радости». Очевидно, что эти слова он относит и к себе самому, а Оскара Гилью считает своим двойником, своим близнецом. Когда он пишет Гилье, он обращается к себе самому и мощно провозглашает свой символ веры: «Твой долг – никогда не истощать себя в самопожертвовании. Твой истинный долг – спасти свою мечту». «У красоты тоже есть права, которые причиняют боль, но создают самые прекрасные движения души». «Имей священный огонь (я говорю это тебе и себе»). «Утверждай себя и всегда превосходи себя». Все эти советы звучат трагически для того, кто знает, какая жизнь ожидает Модильяни в Париже. Однако они подтверждают, что он верил в свои мистические способности и в то, что его вдохновляет сверхъестественная сила. В это время он много читает сочинения иллюминатов, эзотерические тексты, а позже вспомнит несколько секретов, которые ему открыл дед, и вместе с поэтом Максом Жакобом станет разбираться в смысле древнееврейских текстов. Иррациональность, мистика, духовное пламя, сжигающее душу, – принципы, которые уже раздувают огонь творчества и которым Моди скоро станет следовать. Когда он уедет из Венеции завоевывать Париж, эти принципы будут его боевыми доспехами. Выходя из Венеции, как он говорил, «выросшим», он представлял себя Медузой «со множеством голубых змей и огромными глазами цвета морской воды, в которых душа теряется и возносится в бесконечность». Чего он ждет от Парижа? Как он представляет себе свою жизнь в этом городе? В каком расположении духа готовится встать лицом к лицу с этой столицей искусств, второй Веной, которая перетасовывает все карты, бросает художникам новые вызовы, разыгрывает новые ставки?
Париж
Модильяни приезжает в этот город совершенно невинным, но эта невинность не исключает несгибаемой воли, природной гордости и неистовой духовной экзальтации. В это время скульптура привлекает его больше, чем живопись. Он считает себя учеником Микеланджело. Но вот что удивительно: откуда эта решимость и уверенность, когда он еще почти ничего не создал? Он уверен, что Париж заставит проявиться его возможности. Дошедшие до нас фотографии Модильяни того времени показывают нам эту уверенность. Он откровенно позирует: стоит лицом к аппарату и смотрит прямо в объектив. На нем наряд богемного артиста, который он носит напоказ и с некоторым кокетством: маленький шейный платок, завязанный а-ля Гаврош, шляпа а-ля Брюэль, бархатный костюм деревенского покроя. Лицо очень молодое и в то же время выражает силу и мужество взрослого мужчины. Он излучает красоту, одновременно величественную и робкую, но с трудом скрывает под ней испуг и одиночество. Выбор учебного заведения определил его судьбу. Модильяни записался в Академию Коларосси – школу живописи, которая не ладит с официальными академиями оттого, что в ней преподают рисование не так формально. В ней он снова обретет свободу. В ней же он встретит Жанну Эбютерн, но это случится гораздо позже, за два года до смерти, когда медлительный успех все еще не придет к нему. А пока он снимает мастерскую на Монмартре, возле знаменитого общежития Бато-Лавуар, и встречается со всеми талантливыми и мятежными молодыми художниками Парижа – с Пикассо, Дереном – и с поэтами, в частности с певцом модернизма Гийомом Аполлинером и с Максом Жакобом; видится даже с бразильским живописцем и мастером фресок Диего Риверой. Эти годы были самыми плодотворными и самыми творческими для Модильяни. Это десятилетие, с 1907 по 1917 год, он пролетел как комета, становясь другом для всех, очаровывая Монмартр и Монпарнас своей культурностью, чувством дружбы, верностью и благородством души. Его «красота степенного ангела», как можно было бы о ней сказать, усиливала симпатию, которую он вызывал у всех. У него были тонкие черты лица; за годы богемной жизни они немного отяжелели, но взгляд навсегда остался прямым, искренним и гордым. На многочисленных фотографиях, которые и теперь хранятся у своих владельцев, он выглядит одновременно сильным и надменным, но при этом что-то в нем уже завершилось. В нем видны признаки разрушения и катастрофы и в то же время сила потоков созидательной энергии. И все эти противоречия лежат на поверхности, обнаженные, с них сняты все прикрасы и все маски (так же они обнажены в тех телах, которые он так любит писать). В эти годы Амедео утверждает свой талант. Его одаренность очевидна для его друзей-художников. Все восхищаются быстротой его руки и точностью рисунков. Но очень быстро в нем все смешивается – страх, что ему не хватит времени осуществить «мечту», о которой писал Гилье; анархическое утоление всех своих желаний, растрата жизненной энергии, которую прожорливо высасывали из него алкоголь и наркотики, презрение к буржуазному обществу и горечь оттого, что он этим обществом не признан. Тот Париж, который он любит, – Париж пригородов, кабачков, незаконно занимаемых мастерских, рабочих и бедняков, артистов и проституток – раскрывает ему свои объятия. Это бездонный колодец, и Амедео знает, что может в нем погибнуть. Но Модильяни продолжает бывать в этой среде, потому что она стала его семьей: в ней он нашел друзей, которые ему нужны. Разве Бодлер, чьи стихи он много читал, не высказал словами то, что Модильяни чувствует интуитивно? «Нырнуть в глубину бездны – ад это или небо, разве важно? В глубину неизвестности – чтобы найти новое!»[107] Это новое Амедео находит в Париже, пусть даже только в своей артистической среде: здесь рядом ходят Пикассо и Дерен, Анри Руссо и Брак, ван Донген и Вламинк, Матисс и Дюфи, а еще несчастные и прославленные поэты, к которым он чувствует огромную нежность, – Аполлинер и Макс Жакоб. С ними он разговаривает о поэзии, о философии, о живописи. Все высоко ценят его эрудицию и культуру. Он еще по-настоящему не творил, он может показать лишь несколько произведений, но все уже знают, что из него вырастет что-то значительное. Он еще не знает, к какому движению примкнет – к фовизму, абстракционизму или постимпрессионизму. А возможно, он уже осознает, что не будет принадлежать ни к одному из них, а захочет соединить модерн с творчеством своих любимых итальянцев, которых так долго и старательно изучал. Смерть Сезанна и после нее – ретроспективная выставка работ покойного в 1907 году стали настоящим поворотом в судьбе Амедео. Тот синтез, который он так надеялся осуществить, ему, вероятно, подсказал Сезанн.
Это были годы блуждания по разным местам. Модильяни жил иногда в гостиничных номерах, иногда в хижинах из дерева и железа. Порой обитал в самовольно заселенном доме, например в бедном квартале «Маки»; эти городские закоулки еще были очень похожи на описания старого Парижа, каким он был до перестройки под руководством Хаусмана (их изобразил Жорис Карл Гюисманс в своих реалистических романах). Жил он и в Бато-Лавуар, что значит «Корабль-прачечная» – ветхом доме, имевшем по какой-то странной причине форму корабля и состоявшем, как улей, из маленьких комнат-ячеек, в которых обитали художники и те, кто останавливался в Париже проездом. Еще были комнаты, сдававшиеся помесячно, мастерские, в которые Модильяни поспешно въезжал, а потом покидал их, были семейные пансионы, скромные помещения, предоставленные друзьями (в их числе знаменитый доктор Поль Александр, его благодетель). Модильяни, вокруг которого складывается легенда о гордом богемном артисте-алкоголике, ходит по Монмартру и Монпарнасу и в равной степени счастлив в обоих кварталах. Свою нищету он не считает падением, потому что по-прежнему верит в счастливую звезду. Злоупотребление коноплей вначале укрепляет его оборону, сохраняет его «я», делает более возвышенными планы и честолюбивые стремления. Пагубные последствия этого пристрастия проявились позже, в 1917–1918 годах. Вначале Амедео занимается скульптурой и вместе с несколькими друзьями по ночам ворует камни с площадок, где сносят дома, или шпалы со строящихся железнодорожных путей. Эти шпалы – длинные куски дубовых стволов, и такой материал заставлял молодого скульптора изображать лица так, как это делал Бранкузи (знаменитый французский скульптор-абстракционист румынского происхождения. – Пер.), который стал его другом и познакомил с примитивным искусством. Удлиненные, с миндалевидными глазами лица, непроницаемые, полностью обращенные внутрь себя. Он занимается также живописью и дарит в обмен на то, чтобы его несколько раз накормили, свои записные книжки, заполненные рисунками – силуэтами обнаженных женщин. Его здоровье не становится лучше, он часто выглядит бледным и истощенным, а успех все не приходит. Это было время сомнений и время отчаяния, которое он прогонял пьянством и гашишем. Сохранилось много его описаний, относящихся к тому времени: Вламинк, Кокто, Макс Жакоб, друзья-итальянцы вспоминали, как видели его силуэт, когда он бродил по Монмартру или сидел на уличной скамье, сгорбившись и держась за Утрилло, такого же пьяного, как он, бормоча какие-то неразборчивые фразы или кабацкие песни. Но под этим образом в молодом живописце жил тот Модильяни, который видел, в каком упадке находится, и продолжал поиски красоты и искусства – старался решить задачу, которую выбрал для себя еще в детстве. Женщинам не удавалось заглушить в его душе ни боль, ни ощущение несчастья. Они проходили одна за другой через его менявшиеся мастерские – молодые натурщицы, которых он нанимал на улице за несколько су и которые заканчивали сеанс позирования в его постели. Слова о натурщицах – не штамп, который могли бы использовать в своих романах Золя или братья Гонкур. Такова была действительность Монмартра, мятежного революционного поселения, помнившего об осадах, которые он выдержал в предыдущем веке, и видевшего, как посреди лабиринта его крутых улочек поднялась базилика Сакре-Кёр. Святое и отвратительное, красота на мольбертах в глубине мастерских и ужасающая нищета. Моди любит эти контрасты и эти отражения. Его не интересуют ни деньги, ни слава. Главное – писать картины. Писать, работая на износ до самой смерти.
Две из его любовниц забеременели от него. Модильяни ни в одном из этих случаев не признал себя отцом. Одна из женщин покинула Моди и уехала в Соединенные Штаты; никто никогда не узнает, что стало с ребенком, которого она носила в утробе. У другой беременность закончилась выкидышем, и она покинула художника. Но Модильяни больше не помнил ни о чем и ни о ком. Он, как сказал поэт, «вышел на злой ветер» (цитата из «Осенней песни» П. Верлена. – Пер.) – жил в сырых комнатах, ходил греться в маленькие кафе или в кабаре «Проворный кролик», где его часто видели пьяным или голодным, клянчившим что-нибудь поесть. Он был в хороших отношениях с Пикассо, который в то время имел влияние на всю маленькую общину артистов. Грубая сила и кастильский солнечный блеск сделали Пикассо главным в ряду тех художников-модернистов, в число которых Амедео не решался полностью войти, потому что по-прежнему был привязан к наследству старины. Разве можно вычеркнуть из живописи Боттичелли и эфемерную красоту его Венер или Веронезе, живописца перламутровой плоти? Пикассо признавал талант Модильяни, но не совсем хорошо его понимал и даже немного обижался на него за то, что тот не пошел вслед за ним по пути кубизма. Но Модильяни не волновала эта обида. Он прежде всего верил в то, что шептал ему внутренний голос. Он был страстно увлечен спиритизмом и ясновидением, и любовь к ним поддерживали гениальный бродяга Макс Жакоб гаданием на картах (у Жакоба был этот дар) и Утрилло своим веселым отчаянием. Модильяни предпочитает укрываться рядом с ними и распить вместе бутылочку. Разве он не говорил, что в первую очередь ищет не реальность, «но нереальное, Бессознательное, тайну Инстинктивного, тайну Расы»? Доктор Поль Александр селит Амедео у себя, когда тот об этом просит, и покупает у него несколько рисунков и даже несколько картин. Но этой защиты недостаточно, чтобы залечить душевные раны художника и остановить его падение. Амедео знает, что разрушает себя, но полон огромной гордости. «Мы, другие, имеем права, которых нет у нормальных людей, – писал он из Венеции Гилье, – потому что у нас другие потребности, которые ставят нас выше (нужно это говорить и в это верить) их морали». Этот радикализм обязывает его переносить лишения до конца, продолжать выполнение задачи, которую он поставил себе в начале пути. Так проходит его жизнь – временные связи, пьяные вечера, листки, заполненные набросками, бесконечные споры с друзьями то в одном, то в другом кабаре, долгие часы курения, прогулки по Парижу. Но в эти богемные годы Амедео не видит выхода из этого существования. В его жизнь вошло что-то роковое, над чем он уже не имеет власти и чем не может управлять. И оно ведет его к гибели. Он, гордый и аристократичный по натуре, не может представить себя никем, кроме живописца. Ничто другое не стоит того, чтобы Амедео принес ему в жертву живопись. Мечты пропитывают все существо художника и ослепляют его, но под воздействием какой-то странной причины (она настолько кажется священной, что ее почти можно назвать благодатью) его живопись наконец рождается на свет. Чем больше его ослабляет тьма, среди которой он живет в обществе, тем больше он принимает в себя «своей» живописи. Он чувствует, что она приходит к нему, входит в картину и находит свое место на холсте. Из его работ исчезает то, что еще могло быть заимствовано у Мунка, Бранкузи, Сезанна, Тулуз-Лотрека и даже у Пикассо. Появляется настоящая живопись Модильяни, дитя его боли, рожденное в результате того долгого «вынашивания», про которое он писал Гилье, что оно требует терпения. Он приезжает к своей матери в Ливорно и проводит там несколько недель, потом едет в Каррару за мрамором, после чего возвращается в Париж и к прежним привычкам. В сущности, он бежит от своей семьи; в ней ему душно, и он стремится назад, к свободной жизни богемного бродяги. Теперь он живет в квартире 14 дома-мастерской Сите Фальгьер и почти не покидает своего жилища. Подходит к концу 1909 год. Модильяни привозит из Ливорно картину «Виолончелист»; он считает, что в ней подошел к границе своей внутренней правды. Сюжет не важен, он изображает всю печаль людей и такое хрупкое единство слившихся друг с другом инструмента и музыканта. Но для Амедео в этом еще слишком много сочувствия, субъективности (в определенном смысле), психологизма. Он хочет приблизиться к истинной сути человечества, делая черты людей более объективными, более одинаковыми и освобождая свою палитру от слишком «реалистических» красок – чтобы достичь истины, которая находится вне телесной оболочки и освещена собственным внутренним светом. Именно по этому пути он идет и на движение по нему потратил уже много лет своей жизни, рискуя разрушить эту жизнь. Он знает: «оно» на подходе, «оно» скоро появится. Но сколько еще будет маленьких смертей? Сколько будет унижений и минут отчаяния?
Снова беспорядочная жизнь
Он возникает на 26-м Салоне Независимых, для которого предлагает шесть своих картин, в том числе «Виолончелиста» и «Нищего из Ливорно», написанного в темных тонах и украшенного радужным, словно перья павлина, отливом синих и темно-зеленых красок. В это время важнейшую роль для него сыграло открытие негритянского искусства. Благодаря энтузиазму Макса Жакоба, Дерена и Пикассо он увидел в экспрессии африканцев разновидность того синтеза, который искал сам. От Бранкузи – к африканскому искусству. И там и тут есть то, что выходит за пределы границ между цивилизациями и чего он тоже хочет достичь. В этот путь он желает взять с собой все свои артистические порывы и прибавить к ним совершенное искусство своих дорогих итальянцев. Именно на эту дорогу он всегда хотел выйти. Скульптура еще искушает Модильяни; он даже считает, что это искусство главней живописи, и думает, что именно через него сможет достичь своего идеала. «Очень рано утром Модильяни уже резал камень во дворе. В его мастерской выстраивались в ряд головы на длинных шеях; одни были едва начаты, другие полностью завершены. Он работал над ними в разные часы дня, при разном освещении, чтобы добиться нужной формы. К вечеру, когда рабочий день заканчивался, он поливал их, как садовник цветы, за которыми любовно ухаживает. Этот идеальный садовод своих скульптур медленно лил воду из многочисленных отверстий в насадке лейки, и струи текли по величавым и строгим примитивным фигурам, родившимся из-под его резца»[108]. Так рассказывал сосед Модильяни, художник и гравер Анри Раме, в своей книге воспоминаний «Тридцать лет на Монпарнасе». Но провал следует за провалом, неудача за неудачей. Модильяни показывает свои скульптуры на случайных выставках, но всегда безуспешно. Непризнанный, он живет бедно, но, по-видимому, не падает от этого духом.
У него бывают короткие любовные приключения, он любит ухаживать за своими натурщицами и пользуется уважением всех, кто создает живопись XX века, от Пикассо до Задкина. Однако он живет один, продолжает вести бродячую жизнь и находит утешение у Розалии, хозяйки гостиницы, где селился раньше. Она тоже итальянка и очень любит его. Он подарил ей несколько связок рисунков вместо платы за еду, но Розалия не знала, что с ними делать, и растапливала ими печь! Его здоровье ухудшается, и это беспокоит его друзей. Его нередко находят лежащим на скамье и мертвецки пьяным, но он продолжает работать все с тем же трагическим неистовством, до изнеможения.
В 1913 году он снова, в последний раз, приезжает в Ливорно. Но встреча получилась не совсем радостной. Друзья юности уже не узнают его. Амедео выглядит рассеянным, ведет себя провокационно, страдает оттого, что не понят. И возвращается в Париж. В конце концов, этот город – единственное место, где он может найти убежище. Здесь он если не счастлив, то хотя бы в состоянии жить. Однако работа над скульптурами быстро разрушает его здоровье: он страдает от припадков и от приступов кашля. Тогда он возвращается к живописи и рисованию. И постепенно рождается Модильяни – гениальный художник. Его ученичество было долгим и мучительным. Понадобились картины и рисунки, которые он бросал недоделанными, выкидывал, сжигал, понадобились неудачные наброски, чтобы возник его собственный стиль, вполне независимый, узнаваемый всеми. Но Модильяни по-прежнему много пьет. «Когда я думаю об этом, мне становится страшно»[109], – рассказывал Блез Сандрар (писатель, один из друзей Модильяни. – Пер.). Им начинают интересоваться дальновидные коллекционеры и владельцы галерей. Теперь ему платят 20 франков за картину. Амедео доволен этим и счастлив, что на время избавлен от материальных забот. Но продолжает лихорадочные поиски. Время словно торопится и ускоряет свой ход. Модильяни знакомится с Полем Гийомом, который становится продавцом его работ и их главным коллекционером, и влюбляется в эксцентричную поэтессу Беатрису Гастингс.
Между «Модильяни, чистокровным сыном богемы»[110] и столь же богемной Беатрисой начинается пылкий любовный роман. Гашиш и коньяк, абсент и пьяные пирушки – и одновременно неистовый творческий труд. Но Моди недолго терпит истеричную англичанку, которую легенда называет «сердцеедкой», к тому же неспособной даже одного дня прожить без наркотиков. А Беатриса, носившая имя предназначенной судьбой музы, охарактеризовала его коротко: «свинья и жемчужина», отлично выразив этим двойственность характера Модильяни. После объявления войны он начинает скатываться вниз и падает все глубже. Многие друзья бегут от него или бессильно смотрят на его гибель. Им кажется, что они снова видят перед собой падение Жервезы, о котором рассказал Золя. Он снова стал почти нищим и, пьяный, в бреду, ходит вдоль террас кафе. Его лицо, такое красивое, теперь огрубело и изменилось. Но он продолжает писать картины. И сообщает об этом матери в коротком письме, которое отправляет ей в Ливорно: «Написано много». Он пишет портреты Поля Гийома, Беатрисы Гастингс, Сутина, Кислинга, Диего Риверы, Макса Жакоба. Беатриса убедила его написать эти портреты и вообще вернуться к живописи. Постепенно формируется его неподражаемый стиль – сплав нежности и жестокости и немое одиночество, которое окружает и охватывает всех, кого он пишет. Кокто в то время очень верно объяснил: «Это не Модильяни искривил и удлинил лица, не он выявил их асимметрию, выколол глаза, вытянул шеи. Все это произошло в его сердце. Его судьба – беседа без слов, диалог между его линией и нашим существованием». С этого времени события ускоряются. Он пишет как привык, неистово и яростно, и по-прежнему ищет способ «встретиться с «полотнами», как он говорит в своем стихотворении – одном из тех, которые в те дни были опубликованы в журнале Поля Гийома «Парижское искусство». Стихи были короткие, написаны в манере Гийома Аполлинера. И разве не о своем духовном пути, печальном и великолепном одновременно, он писал: «С темного облачного венца / Падают капли и жемчужины / В непомерно жаркую ночь»? Всегда унылый свет отражает тоску, от которой можно умереть. И это чувства того, кто ничего не любит так, как жизнь, и не хочет ничего, кроме нее.
Беатриса в водовороте первых дней войны и потом, когда война затянулась, старалась забыться с новыми любовниками. Она покинула Модильяни, и он разыскивал ее следы в Париже, мертвецки пьяный. Но страдание не мешает ему продолжать работу. Война сделала дружеские связи прочней, чем когда-либо, и Модильяни живет общей жизнью с друзьями-артистами из кружка, в который входит со времени приезда в Париж. Импровизированные банкеты, веселые обеды, выставки в квартирах или частных помещениях продолжаются, несмотря на военные действия. После ухода Беатрисы ее место заняла Симона Тиру, но и эта связь тоже закончилась плохо, когда Симона забеременела. Модильяни отрицал, что они были любовниками, называл Симону сумасшедшей, которая отравляет ему жизнь. Наконец он встретился с Леопольдом Зборовским, молодым антикваром, который пытался стать торговцем произведениями искусства. Зборовский взял Модильяни под свою опеку. Их дружба продолжалась все последние годы жизни художника, все время крепла, и Леопольд, которого Модильяни дружески называл Збо, присматривал за ним, как любящий брат. Они были противоположны по характеру: насколько Амедео был нервным и, несмотря на частые приступы депрессии, раздражительным, настолько же Зборовский был тихим и сдержанным.
Путь к звезде
И вот наступил последний день 1916 года. В кафе «Ротонда» устроен «магниевый» обед: так назвал его Гийом Аполлинер, который присутствовал на нем. Там собрались все представители модерна, художники и писатели – от Пикассо до Кокто, от Сандрара до (прославленного поэта-символиста и драматурга. – Пер.) Поля Фора, от Вламинка до портного Пуаре. Амедео тоже поблизости: на втором этаже он торопливо рисует портрет молодой ученицы Академии Коларосси. В этой академии он обучался и сам; она знаменита курсами рисования обнаженной натуры. Эта благодатная минута стала чудесной и спасительной: девушка была застенчива и похожа на итальянскую мадонну. Так началась история полновластной и не признающей никаких условий любви, которая стала легендой.
Кто такая Жанна Эбютерн? Она прошла по жизни так тихо и незаметно, что в итоге ее не видно даже на портретах, которые писал и рисовал с нее Амедео. Он никогда не изображал ее обнаженной, словно хотел уберечь от любых вожделеющих взглядов и сохранить лишь ее лицо, похожее на лик архангела, и облик священного существа, которое на мгновение замерло неподвижно, которое часто заставляет вспомнить об улыбающемся ангеле из Реймса. Однако существуют свидетельства тех, кто пытался уяснить себе, что скрывалось за неземными взглядом и силуэтом, и есть фотографии, на которых она всегда стоит как-то странно – в глубине кадра, в позе обороны или испуга; очевидно, она боялась, что слишком много народу ворвется в их с Амедео бедную мастерскую. Ведь Жанна, дочь мелкобуржуазной и верующей католической семьи (отец – бухгалтер в сети магазинов «Бон Марше», мать – домохозяйка), стала отверженной в своей среде. Родители, чтобы доставить удовольствие застенчивой девушке, прилежной ученице, сделали ей подарок – оплатили курс рисования в Академии Коларосси. А дочь предала семью, не оправдала ее доверие: страстно влюбилась в Модильяни, ушла из дома, вызвав страшный гнев супругов Эбютерн и своего брата Андре, и поселилась в полуразрушенном доме, в мастерской своего любовника. Моди уже давно не обращает внимания на то, полезно или вредно для здоровья его жилище, и не заботится о его украшении. Прошло то время, когда в Сите Фальгьер или у Поля Александра он скрывал свою бедность, вешая на стену репродукции итальянских художников или расстилая шаль на столе. Теперь для него важно лишь писать, потому что подходит последний срок расплаты, к тому же он чувствует себя изможденным и так ослаб, что многие его не узнают. Амедео стал отрешенным, даже суровым. Жанна по натуре добра и, в первую очередь, она невинная юная девушка (на четырнадцать лет моложе Модильяни), поэтому она пытается ослабить гнев в его душе и сдержать творческую ярость. Несмотря на это, Амедео чувствует к ней необъяснимую страсть. Может быть, считает, что она его последний шанс, последняя встреча, которая способна помочь ему исполнить его труд. Если прав историк искусства Станислас Фюме, знавший Жанну с детства, ее главной отличительной чертой было хрупкое изящество, почти такое, как у героинь Жерара де Нерваля. Фюме сравнил ее с лебедем, скользящим по воде, имея в виду, что она проходила сквозь богемную среду, не сбиваясь с пути, спокойной походкой, хрупкая, с «крошечными ладонями», и ее силуэт был похож «на амфору» своим «изяществом» и «уравновешенностью»[111]. Ее силуэт героини прерафаэлитов (тогда она следила за своей фигурой) придавал ей сходство с Офелией Данте Габриеля Россетти: та же внешняя слабость, тот же неподвижный, как у иконы, взгляд, те же пышные волосы, но без чувственности, которую Россетти придал своей тайной советчице, Элизабет Сиддал[112]. Жанна Эбютерн всегда кажется испуганной, ее словно сковывают невидимые цепи. Она придает своим позам театральность, кутается в шали, никогда не улыбается. На фотографиях она всегда невероятно грустна и очень серьезна.
Она выглядит как человек, который несет в душе тяжесть отчаяния. Этот ее секрет Модильяни потом будет исследовать в каждом портрете, который напишет с нее: на большинстве этих портретов царят тайна и тишина. Разумеется, разрыв с родителями, ощущение, что ее преследуют, и одинокая трагическая жизнь Амедео сделали менее ярким ее блеск и менее мощным жизненный порыв. Влюбленные часто гуляют по бульвару Монпарнас, проводят долгие часы за столиками на террасах кафе; Амедео рисует наброски прохожих, зарисовывает лица женщин, сидящих, как и он, перед кафе. Жанна принимает все – скитания, непредсказуемость будущего, все более странное поведение Модильяни, у которого появляются признаки умственного расстройства, его алкоголизм, резкие перемены настроения и вспышки гнева, приступы депрессии. А он находит в ней покой, который придает ему уверенность. Теперь он пишет только обнаженную натуру и портреты. Зборовский знает, что его друг нашел свой путь, но успеха по-прежнему нет. Недоброжелательные критики создают ему образ художника, талант которого выродился из-за наркотиков и алкоголя. Некоторые люди даже считают его злым, но Амедео, которого все время ободряет Зборовский, упорно идет своим путем, не обращая внимания на злословие.
Новый 1917 год начинается под счастливой звездой. Модильяни влюблен в Жанну, в ее неброскую красоту, в ее слабость и почти болезненную бледность. Для него она муза, похожая на тех муз, которых прославляли в античную эпоху; в ней таится что-то невероятно близкое, существующее сейчас, и одновременно достаточно далекое, чтобы поверить, что она единственная, не такая, как все. Он пишет много портретов Жанны Эбютерн, но также портрет Ханки, жены Збо, которую он изображает похожей на сиенскую мадонну, и портрет ее подруги Лунии Чеховской, вместе с которой часто гулял и заходил в гости к Утрилло. Его совершенно необычная манера изображать лицо и тело становится более точной, но и теперь не приходится по вкусу публике, которая продолжает игнорировать его работы. Ее безразличие вызывает у художника ярость и душевную горечь. Он скрывает эти чувства, но иногда они прорываются в виде вспышек гнева и запоев. Несмотря на это, верный Збо поддерживает его. В это время, зимой и весной 1917 года, Модильяни по-прежнему близко дружит с художником Сутиным, который нравится ему своей деревенской простотой и силой. Сутина он тоже часто пишет, причем анфас, чтобы подчеркнуть его грубость и дикость. В это время Модильяни, несмотря на присутствие рядом Жанны, теряет надежду. Кажется, что он, хотя и с отчаянием, признал, что ему суждена доля проклятого художника. Всевозможные излишества и бесчинства неудержимо разрушают его жизнь. Моди слабеет. У него больше нет величайшей гордости и гениального цинизма, которые раньше помогали ему держаться. Что было бы с ним без заботливого внимания Збо? Но Збо и Ханка присматривают за ним и довольны появлением Жанны в его жизни. Она по-прежнему немного грустна и подчеркивает эту грусть. Родители и брат почти отреклись от нее, теперь у нее есть только Амедео, и Жанна полностью посвящает себя ему. А он продолжает свои духовные и реальные странствия. Он, как обычно, живет то в мастерской, то в комнате для прислуги, в зависимости от желания своих благодетелей, которые пытаются устроить ему стабильную жизнь, чтобы он мог писать картины. Збо снимает ему новую квартиру в доме 8 по улице Гранд-Шомьер. Это приятное помещение наверху каменного дома, стены студии составлены из больших застекленных рам и пропускают свет. Друзья обставляют квартиру мебелью; Луния и Ханка усердно стараются сделать его новое жилище уютным. Моди и Жанна поселяются в этой квартире.
Самая главная муза
Он опять с прежним неистовством пишет портреты. Жанна – его любимая модель. Он пишет ее портреты, поясные и обычные, но никогда не изображает ее обнаженной. Однако он пишет обнаженными других моделей и делает это на протяжении многих месяцев. Моди знает, что нашел узел своего творчества. Его лежащие обнаженные и обнаженные с ожерельем представляют собой, подобно великим обнаженным моделям Мане, Гойи и даже Веронезе и Тициана, эталон женщины, соответствующей его идеалу, но они и нечто большее – они соответствуют универсальному образцу. Моди совершенно не старается, чтобы они были чувственными, даже в тех случаях, когда половые органы модели не прикрыты и видны волосы на них, что в ту эпоху считалось скандалом. Эти тела полны священной тайны, которая их возвышает; они – вне эпохи, они – иконы, вечные Евы. Жанна изображена в рубашке, в большой шляпе. В своем воображении он всегда видит ее такой, как на этих картинах, – с утомленным лицом, со склоненной шеей, грациозную и изящную, как фея. Так он возвысил свою пышноволосую Жанну, увидев в ней мадонну, которая может его спасти. Но есть ли у нее силы для этого?
Весной Симона Тиру, бывшая любовница Модильяни (у Симоны начинается туберкулез, от которого она умрет через год), рожает ему сына, которому дает имя Жерар. Но Моди не хочет признавать этого ребенка своим и утверждает, будто бы ему сказали, что маленький Жерар не от него. Однако он приходит на праздник, устроенный в честь рождения этого мальчика в кафе «Клозери де Лила». Так идет его жизнь, беспорядочная и рискованная, несмотря на присутствие в ней Жанны. Зборовскому наконец удается организовать для него хорошую выставку в галерее Берты Вейль на улице Тетбу. Берта имеет хорошую репутацию, пользуется уважением и благодаря своему тонкому артистическому чутью известна как открывательница талантов. И в декабре 1917 года в этой галерее были выставлены работы Модильяни – обнаженная натура, портреты и рисунки. К несчастью, едва картины расставили по местам, выставка закончилась полным провалом. В витрине галереи была выставлена картина Модильяни – обнаженная натура, которая вызвала гнев и негодование у зрителей-буржуа. В зале появился комиссар полиции и приказал унести картину. Сколько Берта Вейль ни объясняла, что изображение обнаженных тел – один из главных канонов живописи, комиссар настаивал на своем: лобок покрыт волосами! Значит, вот что оскорбило публику – волосы. Выставку осудили, как непристойную и даже порнографическую. Но этот скандал пошел Модильяни на пользу: его поздравляли за дерзость. Однако отчаяние не покидало его душу.
В марте 1917 года Жанна забеременела. Для Моди, который только что отказался признать себя отцом Жерара, это была удивительная новость, которую он на этот раз не мог ни замолчать, ни отказаться принять. Жанна не из породы женщин-манипуляторов, и у него нет совершенно никаких оснований оспаривать, что он отец ребенка, которого она носит в утробе. Эту новость он принимает скептически, но он так влюблен в Жанну, что не хочет показать ей свое замешательство и растерянность. Главное, чего ему не хватает, – деньги; без них он не может достойно содержать семью. Кроме того, он дорожит своей богемной свободой, которую добыл себе сам и которой пользуется уже давно. Он привык к жизни в барах, к приступам желания быть одному, к пьянству, привык к нищете, которая следует за ним повсюду и к которой в конце концов приспособился. Он чувствует, что его точит болезнь, но не может объяснить какая. Туберкулез? Психическая неуравновешенность? А если это сумасшествие? Он вспоминает, что в его родной семье есть два человека со слабой психикой. А если это семейный недостаток, если ему придется нести груз такой наследственности? Однако он продолжает работать. На полотне возникают обнаженные модели и портреты, удивительно спокойные, безразличные к тревогам художника, тихие; но в этих картинах чувствуются ошеломляющие боль и одиночество. Война продолжается, никто не видит ей конца, каждый привыкает к ней, и нищета кажется незначительнее. Збо думает о поездке в другие края, на более приятные берега.
Другие берега
На Лазурном Берегу живут в это время более состоятельные люди, чем в Париже, и Збо считает, что там картины его подопечных имеют больше шансов быть проданными. Он увозит туда всех своих «чад и домочадцев», как называет их Блез Сандрар: Ханку, Амедео, Жанну и Сутина. Сначала в Ниццу, потом в Кань-сюр-Мер. Для Амедео и Жанны это продолжение их странствий. Но и в Париже, и на Берегу картины Моди плохо продаются. Постояльцы роскошных отелей, которые обходит Збо, не интересуются работами Амедео. Если они покупают картины, то предпочитают работы Фудзиты, который присоединился к ним. Война кажется бесконечной, и влюбленные остаются на побережье. Амедео почти все время пьян, проводит долгие часы за писанием картин и за выпивкой, ходит по кафе, устраивает скандалы то в одном месте, то в другом. Кончается тем, что они с Жанной начинают мало времени проводить вместе. Жанна отдыхает, готовится родить дочь, позирует для Амедео и иногда сама тоже снова начинает писать. У нее есть талант, но нет того неистовства, как у Модильяни, нет внутреннего огня, который сжигает его. На картинах и рисунках, изображающих ее в это время («Беременная Жанна Эбютерн», «Обнаженная Жанна Эбютерн анфас»), она всегда показана очень гибкой, в небрежной позе, которая придает ей рассеянный вид. На картине, написанной в 1918 году, она изображена в опаловых тонов блузе, опирающейся на край кресла или канапе. Она почти утомлена, в просторной одежде для беременных, лицо у нее узкое, глаза кажутся пустыми и словно обращены внутрь ее самой. Амедео пытается писать портреты детей, и ему удается уловить часть их загадочности и странности. Тут можно вспомнить его «Молодого крестьянина». Модильяни уловил его природную деревенскую силу, грубоватость и одновременно почти святую наивность. Фигуры моделей тяжеловесны, как у красивой аптекарши, написанной в это же время. Он освобождает своих персонажей от окружающей их трудовой среды. Несмотря на свою внешнюю неуклюжесть или грубость, они становятся невероятно изящными и нежными, как воздух. В эти же дни он пишет свои немногие пейзажи. В них чувствуется влияние Сезанна, но дальние от моря окрестности Ниццы изображены на них в стиле среднем между модерном и классицизмом. Однако природа – не любимая тема Модильяни. Больше, чем все его друзья-художники, он любит в своих моделях их человеческую природу и хочет изобразить их тела и души плотными. И вот 11 ноября 1918 года заключено перемирие. Прошло еще восемнадцать дней, и Жанна Эбютерн родила дочь. Родители дали девочке имя Жанна, хотя Амедео всегда называл ее Джованна, чтобы немного почувствовать себя на родине. Итак, закончилась война и закончился год. Возможно, Моди почувствовал, что препятствия наконец исчезли с его пути? «Начинается новая жизнь», – пишет он (по-латыни!) своему другу Збо. Но это больше похоже на черный юмор. Модильяни привык к своему несчастью, он уже не верит даже в успех. Его судьба несет его, как река, и он может лишь покоряться ей. Весной 1919 года он возвращается на Монпарнас, а Жанна и их дочь остаются в Кане. Амедео рад снова увидеть Париж. Он опять один и свободен и потому чувствует себя способным на все, он полон новой энергии. Узы, которые соединяют его с Жанной, очень прочны. Он никогда не любил ни одну женщину так, как любит ее. В этом чувстве были стыдливость и нежность, к которым он не приучал своих многочисленных любовниц. С ней он собирался создать супружеский союз, лишенный всякой грубости и жестокости – наоборот, спокойный и безмятежный, как та благодать, которая разлита в его картинах. Их связь не страстная и не дикая – во всяком случае, она не выглядит такой. Огонь любви горит тихо, прикрытый тем покоем, который художник собирается создать у своего семейного очага. Дело в том, что Жанна не скандалистка и не экспансивная женщина, какой могла бы стать в таких обстоятельствах, например, Кики Монпарнасская. Она не ходит, как Кики, по барам и кафешантанам. Она совсем не пьет. Модильяни любит ее за уравновешенность, которую она вносит в его жизнь, и за тот домашний покой, который он так долго отвергал. Но была ли Жанна полностью уравновешенной женщиной, которой судьба предназначала буржуазную жизнь? Вовсе нет. В ней всегда было что-то непрочное, шаткое. Ей было слишком тяжело подавлять свои чувства. Экспансивности Амедео она противопоставляла показную нежность и послушание, которые видны на дошедших до нас фотографиях. На его длинные монологи неизменно отвечала молчанием. Какая душевная трагедия скрывалась за застывшими позами и немотой? Может быть, она не знает, как ухаживать за маленькой Жанной? Может быть, ее тайна – неумелость и трудности молодой матери? Может быть, она слишком долго подавляла желание показать миру свое собственное дарование художницы и теперь теряет терпение? Маленькую Джованну поручают кормилице, уроженке Калабрии, которая нежно заботится о девочке. Жанна блуждает без цели по Лазурному Берегу. Создает несколько собственных произведений – картины и композиции из тканей, но все свое внимание уделяет Амедео. Она любит его настолько же страстно, насколько нежно, с глубокой болью, которую скрывает на дне своей души. В Париже Модильяни, разумеется, вернулся к прежним привычкам. Свобода возвращает его в годы разгула и пьянства. Зборовский обещал устроить ему выставку в Лондоне, и мысль о ней околдовывает художника и приводит в восторг. Амедео работает как каторжный, пишет с обычной для него быстротой картины, чаще всего изображающие Лунию. Эту вновь обретенную свободу разрушает телеграмма: Жанна просит денег, чтобы заплатить кормилице и вернуться в Париж. Она снова беременна, но Амедео, который забыл про осторожность и начал пить, возможно не понял, как много поставил на кон, в своей новой супружеской жизни. Он даже дает Жанне письменное обязательство, датированное 7 июля 1919 года, что женится на ней, как только «прибудут документы». Жанна больше, чем когда-либо, чувствует себя усталой. Она отправляет Джованну к новой кормилице в Шавиль и все время проводит лежа в постели. Она не может следить за Амедео, а он каждый вечер уходит из дома и напивается с Утрилло. Снова эти двое, художники-бродяги, ходят по улочкам Монмартра, беспечно поют на террасах кафе, бродят в скверах или валяются на скамейках.
Новые порывы и скорые неудачи
Экспозиция, которую в лихорадочной спешке устраивает Збо (в ней участвуют несколько художников), уже готова. Моди очень на нее надеется. И надежда оправдалась: выставка, которая прошла летом 1919 года, принесла ему успех. На ней побывали больше двадцати тысяч посетителей, отзывы критиков о нем очень благоприятны, и публика стала покупать его картины и рисунки. Эхо лондонского успеха долетело до Парижа, теперь и здесь иначе смотрят на его творчество. Кажется, Модильяни наконец «раскручен». Но к этой минуте он подошел обессиленным. Он начинает еще больше пить – может быть, потому, что предчувствует свою смерть. Джованна живет в деревне у кормилицы, а Жанна старается успокоить любимого, пытается его спасти, приводит домой, когда он больше не может идти, терпит его грубые выходки. Они оба пишут картины в своем маленьком жилище, которое служит им и домом, и мастерской. Модильяни в это время написал свои самые прекрасные портреты, например «Материнство», портреты Анны Бьярне и Торы. Но и Жанна наконец нашла свой подлинный стиль, и ее живопись приобрела силу, которой никогда не имела раньше. По автопортрету, который молодая художница написала в стиле ар-деко, видно, как велик был ее талант. Жанна стала мастером колорита и заставляет свое лицо выделяться из множества окружающих его тканей. Она искоса смотрит с портрета на того, кто глядит на нее. Но нос и правый глаз не видны, словно Жанна этим хотела изуродовать себя, заставить исчезнуть. Значит, через комнату пролетает порыв тех слитых воедино страстей, которые связывали Жанну и Амедео. Моди, полностью погруженный в свое творчество, не обращает внимания на работу Жанны. Не потому ли она стирает, словно резинкой, некоторые черты своего лица? Не хочет ли она показать, что ее не видят (или плохо видят)? А он – не видит ли он, что его конец близко? Он пишет все больше и больше – очень красивые портреты, в основном портреты Жанны, и главное – свой единственный автопортрет, который надо считать чем-то вроде его завещания. Модильяни изобразил себя пишущим картину. В правой руке у него палитра, другая рука едва намечена, из этого наброска выступает нечетко написанный инструмент художника – кисть, которая опирается на его левое плечо. Голова слегка наклонена, и только это говорит о его усталости и душевном одиночестве. Взгляд словно теряется вдали, но кажется, будто полузакрытые глаза что-то видят – иным зрением и в ином мире. Вся картина в целом полна ощущением ухода и расставания. То, на что смотрит Моди, он уже видит только духовным зрением. Его падение неудержимо продолжается. Его видят бродящим по Монпарнасу и по площади Денфер-Рошеро, в одиночестве, пьяного, и выглядит он злым и агрессивным. Он проводит холодные ночи в криках и бреду. Теперь он остается глухим ко всем заботам своих друзей, ко всем проявлениям доброжелательности. Жанна ждет его дома. Она больше не пытается привести его домой и успокоить. Беременность мешает ей действовать. Это полная катастрофа. В полумраке мастерской блестят и переливаются красными тонами картины Моди. Здесь часто бывает холодно: Жанна не может каждый день носить наверх уголь. Иногда это делает Моди, но большую часть времени он пишет – в полубессознательном состоянии и в ярости, не чувствуя происходящего вокруг. В середине января 1920 года его состояние ухудшается. Вызывают врача, который сразу же велит ему лечь в больницу. Амедео решается последовать рекомендации. Уходя из мастерской, он целует Жанну и обещает ей вернуться или снова встретиться с ней на небесах. В ночь с 23 на 24 января Жанна, придя в их квартиру, начала писать. И написала четыре акварели – что-то вроде последнего рассказа об их любви[113]. На первой изображен интерьер тихого дома, где все упорядочено: это дом Эбютернов в момент ее встречи с Амедео. Все кажется гармоничным. Но если приглядеться внимательнее, видно, что черные часы на камине отсчитывают неумолимое время, а черная чугунная доска камина отражается в графине, стоящем на столе: знак угрозы алкоголизма, нависшей над Модильяни.
Вторая акварель – воспоминание об их жизни в Ницце. От этого рисунка исходит нежность. На нем Жанна крепко и любовно держит Моди за руку; но на столе лежит черный нож – новый знак неизбежной и близкой смерти. На третьей акварели Жанна спит одна в их комнате. Человек, одетый в черное, – священник, дьявол или смерть – открывает дверь, над которой блестит окно, и в нем видны черные отражения. И в последней, самой пронзительной акварели Жанна лежит в собственной крови, навзничь в своей кровати, и держит в руке кинжал. Эти четыре рисунка, поразительно мощные и скорбные, стали коротким рассказом о душевном состоянии Жанны в ее последнюю ночь. Это был итог ее совместной жизни с Модильяни – нарисованный поспешно, но такой полный символического смысла. Еще до того, как Амедео умер, Жанна знала, что все кончено, и сделала выводы. Моди умер в 23 часа. Жанне сообщили об этом уже глубокой ночью. Она не захотела оставаться наедине с его телом. Для нее сняли комнату в гостинице, чтобы она смогла отдохнуть, потому что скоро должна была родить. На следующий день, не зная, куда идти, Жанна набралась решимости и вернулась к родителям, которые когда-то почти выгнали ее из дома. Она снова вселилась в комнату, где жила девушкой, и попыталась отдохнуть, а ее брат Андре в это время присматривал за ней. Но Жанна уже чувствовала себя мертвой. Что-то в ней исчезло, что-то ушло из нее вместе с Амедео и соединилось с ним. Она лишь пустая оболочка, хотя и носит в утробе их ребенка. Рано утром 25-го числа, увидев, что брат задремал, Жанна тихо встала, открыла окно, поднялась на маленький парапет и закрыла за собой снаружи обе оконные створки. Потом она взглянула в звездную ночь и бросилась вниз с пятого этажа. Упала навзничь. И лежала мертвая во дворе, пока ее не обнаружил рабочий дорожной службы. У ее родителей не хватило сил посмотреть на нее. Тогда ее привезли в мастерскую Моди, но там консьержка отказалась принять труп Жанны под предлогом, что умершая не была полноправной жилицей. Тело отвезли в комиссариат полиции, где оно оставалось несколько часов, а потом, после переговоров, наконец вернули в мастерскую. С этого времени Моди и Жанна были отданы на милость своих друзей. Друзья собрались и заплатили за похороны, за церковную службу, за цветы. На кладбище Пер-Лашез пришла тысяча людей – тысяча друзей, известных и безымянных, которые часто бывали в гостях у Модильяни или только видели его то тут, то там во время странствий или в барах. О теле Жанны позаботилась медсестра, услуги которой оплатили друзья молодой художницы. Затем Жанну похоронили далеко от Моди, потому что ее родители не пожелали, чтобы их дочь была похоронена вместе с ним. Через год Эбютерны согласились перезахоронить рядом с Модильяни Жанну и восьмимесячного младенца, которого она носила в утробе. На надгробиях вырезали надписи. «Смерть настигла его в тот момент, когда он достигал славы» – для Модильяни и «Подруга, преданная до наивысшего самопожертвования» – для Жанны. Джованну отдали сначала Зборовскому, потом одной из ее теток, жившей в Ливорно, и затем брату Модильяни, Джузеппе Эммануэле, который стал ее законным опекуном. Девочка стала наконец носить фамилию Модильяни. Повзрослев, Жанна Модильяни не переставала чтить память своих родителей и разрушать сложившиеся о них легенды, чтобы установить скрытую за вымыслами правду.
Ман Рэй (1890–1976) и Ли Миллер (1907–1977)
Кем же была на самом деле Ли Миллер, когда приехала в Париж, чтобы заняться фотографией? Тогда она была полна решимости встретиться с самым знаменитым фотографом той эпохи, молчаливым и невидимым Маном Рэем. Она несла в себе все свои двусмысленности и тайны, но и очаги боли, и все свое детство, полное предательств и грубого обращения. К моменту приезда в Париж она была самой красивой девушкой Соединенных Штатов, самой ценной моделью журнала «Вог» и обладала той холодной, почти высокомерной красотой, которая отдаляла ее от других или, во всяком случае, делала необычной, не похожей на остальных.
Детство: послушание и бунт
Что скрывает ее умение в любых обстоятельствах держаться на расстоянии от других? Глянцевая бумага роскошных журналов, в которых Ли выставляют напоказ, подчеркивает холодность этой манеры. В детстве, которое Ли провела в Покипси, штат Нью-Йорк, она усвоила строгость и вежливость его обитателей. Ее родители принадлежали к среднему слою буржуазии, и в этой среде Ли научилась соблюдать, по крайней мере внешне, правила жизни в культурном обществе, но в самой сердцевине ее души поселяется что-то неизвестное, жгучее и жестокое. Эта девочка независима и покорна одновременно. Ей льстят, и главный из льстецов – ее отец. По словам матери, ее дочь в детстве была похожа на мальчишку, любила играть с игрушечными машинами и поездами, мастерить самоделки, бегать и лазать по деревьям и всегда ходила растрепанной, хотя мать в отчаянной попытке укротить ее волосы скрепляла их бантами. Но она бывала не похожа на это описание, когда, печальная и угрюмая, словно отключалась от внешнего мира и сосредоточивалась в себе. Отец девочки, Теодор Миллер, был большим любителем фотографии и очень рано сделал дочь своей моделью. В младенчестве, в детстве, в отрочестве она была целью для отцовского глаза. Теодор коллекционировал фотографии своей дочки Элизабет, как энтомолог насекомых, заставлял ее принимать сладострастные позы, обнажал ее перед объективом, а потом вносил эти снимки в каталог, делал к ним примечания и добросовестно их классифицировал. Есть что-то тревожное в том, что мать девочки, Флоренс Макдональд, женщина строгого нрава и очень религиозная, никогда не была против этих двусмысленных сеансов. Элизабет с очень раннего возраста восхищалась всем в своем отце. От позирования перед ним у нее осталось лишь одно воспоминание: требование показать себя так, чтобы ее видели, предложить себя в тишине и гладкости, не слышать ничего, кроме щелчка аппарата, не видеть даже, как отец ходит вокруг нее, выбирая наилучший угол зрения. Терпела ли она эти позы как насилие или была к ним безразлична? Вся жизнь Ли Миллер будет отмечена печатью этих сеансов, когда она, жертва отцовской страсти, покорно слушалась большого глаза, который делил ее на части и разрубал на куски. Никакого видимого неудобства она от этого не испытывала. Наоборот, в детстве ее видели играющей в поле, чаще всего отчаянной и отважной девочкой, которая искала приключений и руководила товарищами, решительной и знавшей, чего хочет.
Девочке было восемь лет, когда родители доверили ее своим друзьям, супругам-шведам по фамилии Кайердт. Жена Кайердта, Астрид, полюбила маленькую гостью. Однажды Элизабет была оставлена под наблюдением друга семьи и подверглась насилию. Вызванные по тревоге родители определили размер ущерба, но не захотели знать ничего больше. В любом случае Элизабет после этого стала не такой, как раньше: она заболела хронической гонореей, от которой ее позже вылечили с огромным трудом, сделалась нервной и часто тосковала. Ее брат Джон рассказывал, что после того случая Элизабет стала «дикой»[114]. В пуританском «хорошем обществе» Покипси было совершенно невозможно сообщить об этом насилии и таким образом попасть в скандальную историю. Значит, вопрос был решен тайно и без шума. Элизабет потом всю жизнь носила в себе этот случай: ее сексуальная истерия, многочисленные приключения, безразличие (по крайней мере, внешнее) к чувствам – последствия той травмы. О травме свидетельствуют и ее фотографии, которые отец сделал позже. Позы девочки стали менее свободными, она стала сдержанной и грустной. К психологической травме присоединяется и ущерб, причиненный ее детскому телу. Она должна каждый день терпеть лечебные процедуры, от которых страдает, – промывания влагалища, причиняющие ей боль, и лечение сульфамидами, – и при этом чувствует себя опозоренной. Однако жизнь начинается заново, и ее началом становится неистовая сила мчащегося во весь опор локомотива. Будущая Ли писала в своих воспоминаниях о киносеансах, на которых побывала. Один из них оставил в ее душе нестираемый след: на экране поезд несся на зрителей, давя все на своем пути. Этот катившийся на нее поезд заставлял каменеть от ужаса, но в то же время ее восхищала его мощь, потому что он разрывал ее, потому что проходил по ее телу. Странная была эта Элизабет – маленькая рабыня своего отца, игрушка, которая не сердилась и не сопротивлялась, когда ее выставляли напоказ, а только дарила себя. С раннего детства в ней было развито это умение дарить себя и отказываться от себя. В 1915 году, когда ей было восемь лет, на одной из отцовских фотографий, которую отец назвал «Декабрьское утро», она стоит в снегу голая, но в мягких туфлях без каблуков. Что она думала, когда позировала в таком виде? На фотографии ее чувства не видны. Она следит за тем, чтобы не дрожать от холода, молчит, и ее взгляд ничего не выражает.
Обучение фотографии
Детство будущая Ли прожила рядом с искусством фотографии. Ее интересовали технические открытия отца; она следила за тем, как он разрабатывает свои изобретения; у нее вызывали любопытство его методы. Теодор очень рано стал посвящать ее в это искусство, а иногда позволял дочери выбрать «ее глазом», что снимать. Дух времени был на стороне фотографии. Она становится более демократичной – такой, что люди могут сохранять на снимках воспоминания о повседневной жизни своей семьи. Ты имеешь возможность фотографировать все, и все в пределах твоей досягаемости. В моду вошли фотоаппараты «Кодак», и это побуждает людей из среднего класса создавать семейные фотоальбомы. А Элизабет знает, что у нее есть именно то, что фотографы на своем жаргоне называют «глаз»: особое видение мира, способность уловить оригинальность места, предмета, ситуации. Она подсознательно знает, что может превратить фотографирование в искусство. Это видение удивляет и восхищает ее отца. Он обнаруживает, что, не обучая дочь специально, научил ее своему искусству. Не тогда ли, в подростковом возрасте, она решила «сменить позицию» – из объекта, пойманного объективом, стать той, которая ловит объект, изолирует его и возвращает ему целостность, его другую индивидуальность?
Став более угрюмой и своенравной, она дает полную волю своим желаниям и инстинктам. Она делает что хочет, не подчиняется правилам, установленным в ее школе, и даже любит их нарушать. Болезнь и вызванная болезнью нервозность делают ее повелительницей в семье. Родные подчиняются всем ее капризам, исполняют все желания, отец и брат ее обожают. Пользуясь этим, она охотно заявляет, что «не такая, как все», несет в себе мощные энергии и хочет заставить их действовать. У нее есть лишь одно желание – не подчиняться условностям, быть верной своей природе, идти, куда эта природа ее ведет. То есть жизнь в маленьком городке Покипси ей не нравится и до крайности раздражает. Элизабет нравится жизнь без препятствий, без светских и религиозных условностей. Она много читает – приключенческие романы и немного дерзкие для ее возраста рассказы о женской независимости и внебрачных любовных связях. Но ее настоящая любовь – кино, которое она предпочитает книгам. В этом новом искусстве Элизабет любит не интригу и не игру актеров. Ей нравятся случайные связи предметов, которые глаз камеры может уловить даже без ведома кинематографиста. Частицы неосознанной поэзии, пойманные образом, как сетью, неожиданные смещения образов – источники той поэзии, которую она сама хочет уловить с помощью фотографии. Позже она, как Дора Маар, будет способна улавливать эти видения, которые ускользают прочь от реального мира, но иногда сами тайком проникают в него, бесшумные и сверкающие. Так она кует свою судьбу фотографа – присоединяет к ней другие возможные профессии, готовит для нее неизданную переписку, украшает тайнами, которые нужно открыть. Вместе с Джоном она проскальзывает внутрь священной для них фотостудии Теодора. Там она, трепеща, наблюдает, как из черной воды возникает новорожденный снимок. Ей хочется самой создавать такие снимки. Каждый из них для нее – боль, которую надо утолить. Девушка-фотограф знает, что эта тайна скрыта внутри самой обычной действительности. В тишине и безвестности она движется в этом направлении. Она хочет не создать маленькую летопись реального мира, а выявить существующие в нем несообразности, несходства, отклонения. Она охотно берется за любое дело, у нее умелые руки и острый ум, поэтому она быстро усваивает технические приемы отца. Ее взгляд всегда начеку. Она тренирует свои глаза, приучая их замечать возникновение нового, неизвестного. Работа с объективом учит ее делить действительность на части, резать на куски мгновения и пейзажи, тела и лица. Аппаратом «Браунинг», подарком отца, дочь расчленяет реальность на фрагменты и коллекционирует чудесные и хрупкие мгновения. Ее детская психика приспосабливается и, как материал при литье, принимает форму реальности, которую должна улавливать. Поэтому Элизабет рано повзрослела и стала смотреть на мир отстраненно, словно издалека – так, чтобы улавливать его и одновременно господствовать над ним. Ее взгляд упражняется в этом, часто лишая реальность эмоций, но в первую очередь овладевая реальностью, подчиняя ее себе. Пережитая в детстве трагедия (изнасилование), ставшая ее последствием болезнь и отчуждение от собственного тела в результате позирования отцу сделали девушку циничной, в высшей степени уверенной в своей власти над людьми и предметами и лишенной сострадания. Привлекательность ее красоты и то, что она требует от близких внимания, усиливают эту внешнюю холодность. Аккуратное разрезание действительности на куски, к которому всегда приучал Элизабет отец, позволяло ей верить, что она в каком-то смысле имеет власть над реальным миром: она может не дать этому миру обмануть себя, хотя он уже ее обманул. Дабы этого не случилось снова, нужно сначала как следует узнать его, а потом снова взять в руки поводья власти. Вот почему она и осознанно, и даже бессознательно собирается из изучаемого объекта стать действующим субъектом. Уже в очень раннем возрасте она хочет из модели стать «богом из машины», из музы – открывателем иного мира. В том возрасте, когда была изнасилована, она позировала перед объективом своего отца в детском переднике, слишком большом для нее, и по-прежнему отдается отцовскому взгляду, предлагает себя. Девочка опирается локтем о ствол дерева (несомненно, сосны, которая лишилась ветвей). Она стоит посреди сада, но вокруг так пусто и голо, что этот пейзаж почти вызывает тревогу. Внешне эти снимки – свидетельства счастливого детства. Но они ничем не отличаются от других фотографий, которые Теодор сделал позже и где его дочь обнажена. Там она спокойно и равнодушно подставляет себя его взгляду, сложив руки за спиной и выставляя на всеобщее обозрение грудь и лобок, как рабыня, ставшая идолом.
Она еще научится театрализации тела, и причиной этого станет тайный, почти развращенный интерес к «подземным» движениям человеческой натуры. Толчком послужила игра Сары Бернар, которую Элизабет увидела в спектакле, торжественную и величественную в роли умоляющей Порции. Впечатление от этой сцены было таким сильным, что она стала одним из ключевых моментов в ее учебе. Великая актриса в своем американском турне играла не какую-то одну пьесу, а отрывки из своих лучших ролей – своего рода попурри из ее успехов. Жизнь на сцене была разрезана на выразительные куски, разделена на решающие мгновения, значение которых великая исполнительница подчеркивала преувеличенной игрой перед изумленными зрителями. Так муки Порции стали частью учебника жизни для их свидетельницы, маленькой Элизабет. Будущая Ли Миллер не ошиблась, когда намного позже, вспоминая эту минуту, описала свои чувства как «большой болезненный интерес»[115]. В эту пору жизни она обнаружила у себя большую любовь ко всему, что относится к области театра. В свои бунтарские и полные капризов подростковые годы Элизабет всегда чувствовала влечение ко всему, что в конечном счете искажает реальный мир – увлекает его в сторону иного мира, вводит в заблуждение или отвлекает от тусклой повседневности. Поэтому главными объектами ее наблюдения и поисков станут световые эффекты и фотомонтажи, которыми уже давно занимается ее отец, оптические иллюзии, ярмарочная магия и все возможности, которые предоставляет кино. Как велика мощь этого искусства, она знает по собственному опыту с коротким фильмом, где безумный локомотив буквально бросался в лицо полным ужаса зрителям (она тогда разорвала золотую тесьму на подлокотниках своего кресла в ложе!).
Уроки театрального искусства
Элизабет хочет учиться лишь тому, что действительно хочет знать. Ее учебу направляет случай, в занятиях нет системы. Ее исключают из многих школ, и всегда по одним и тем же причинам – яростная независимость, отказ от обмана, любовь к инстинктивному, презрение к условностям и стремление к странному и «непривычному». Она хочет обнаружить, что скрывается под масками, поймать реальность, когда та принимает иной облик, и увидеть, что эти другие облики – все же реальность. Поэтому она в основном интересуется вспомогательными дисциплинами (например, театральным искусством и рисованием), а основными предметами пренебрегает. У нее есть способности к физике и ко всему, что связано с экспериментами, но склонность к шуткам и провокациям, любовь ко всему необычному и к неожиданностям мешают ей учиться. Родной городок, который она насмешливо называет Пок, кажется ей таким далеким от ее желаний и грез! Но при этом она навсегда сохранит нежное воспоминание о городе, где прошла ее молодость, и позже будет приезжать туда как в паломничество.
Элизабет уже по-своему воплощает независимость и «безумие» в свое время, 1920-х годах, хотя еще не знает об этом. И эти годы уносят ее в те глубинные течения, которые она уже чувствует в себе. Она предчувствует порывы и внутренние энергетические потоки своей эпохи, символами которой стали знаменитые актрисы тех лет – звезды немого кино, от Луизы Брукс до Коллин Мур. Женщины собираются взять свою судьбу в собственные руки, избавиться от ига мужчин, выявить свою истинную природу. Элизабет урывками видит начало этого нового отважного предприятия и смутно хочет в нем участвовать. Она необыкновенно красива и редко улыбается, чтобы были лучше видны правильные черты ее лица, которые не должно изменить никакое чувство. Ее красота почти идеальна и загадочна, и скоро Ман Рэй посчитает своим долгом возвысить и освятить эту красоту. Но пока Элизабет пробует себя во многих искусствах – в театре, в танце, в поэзии, светотехнике. Ее интересует все, что выходит за границы реальности или приближается к этим границам. Учеба страдает от этого. Потом она проведет два года в квакерской школе, но и там не смогут победить ее непоседливость и беспокойный нрав. Она много читает и даже пишет маленькие тексты – новеллы и театральные пьесы – и все время ищет новые интересные сюжеты. Бешеный локомотив из фильма служит ей ориентиром. Она уподобляет себя этой силе, которая мчится вперед, сверкает, и ревет, и наконец взрывается. Ведь Элизабет больше всего любит то, что изумляет и производит эффект взрыва, любит сдвинутое с места и необычное, странное и отличающееся от остального. Ее восхищает новая Ева, которая рождается в эти годы, – свободная женщина. Элизабет тоже хочет быть флэппером – эмансипированной «холостячкой» с обложек модных журналов – девушкой в шляпке клош, с нарисованными красными губами, жемчужными бусами на шее и дерзким взглядом. Сама она совершенно в духе времени. Такая же, как Зельда, муза модного тогда писателя Фицджеральда, который охарактеризовал свою новую музу так: «быть молодой, быть очаровательной, быть объектом»[116]. Элизабет соответствует всем характеристикам Зельды, но ей этого уже мало. Свою молодость, красоту и опыт послушной музы она хочет использовать иначе. Ее желание – самой стать творцом, стать субъектом и удерживать мир в своем объективе, снова развертывать его в будущих работах, расширять за счет окружающих его параллельных миров, распределять по-новому. Она вынашивает в душе свой творческий проект. Он не будет похож на то, что делал ее отец. Она хочет оставить свидетельства обо всем мире целиком. Она твердо уверена в этом, но еще не знает, как добьется своего.
Однако Элизабет нисколько не сомневается, что новые технологии позволят ей это сделать. Она пока не вполне владеет ими, но, несмотря на свою внешнюю развязность и отсутствие дисциплины в учебе, верно идет именно по тому пути, который приведет ее к осуществлению тайных честолюбивых планов.
Переезд в Европу
Элизабет решила уехать во Францию по приглашению своего учителя французского языка и не давала покоя Теодору, пока он в очередной раз не уступил дочери. И вот в восемнадцать лет Элизабет поднялась на борт парохода «Миннегага». Приехав в Париж, она влюбилась в этот город с первого взгляда. «Я сказала себе: здесь я дома», – через сорок лет рассказывала она в интервью для одного журнала[117]. В Париже 1925 года есть все, что ищет Элизабет, и все это полно кипучей жизни и движения – мода, живопись, прикладные искусства, а главное – полная свобода, рождающая открытия, поэтические совпадения, удивительные видения. Девушка провела в Париже семь месяцев. Она отказалась ехать в Ниццу, как предполагалось, и поступила в школу сценических искусств, которой руководит венгр Медиаш. От Парижа у нее захватывает дух. Здесь она открыла для себя другой образ жизни, но в то же время поняла, как много ей нужно трудиться, чтобы удовлетворить душевные потребности и осуществить ту великую задачу, к которой она чувствует себя призванной. Элизабет стала очень прилежной ученицей, словно захотела ничего не упустить, все изучить, овладеть всеми техниками и стать настоящим профессионалом. Но болезнь преследует ее и принуждает к сексуальному воздержанию. У нее часто бывают очень болезненные приступы, от которых ей снова приходится лечиться агрессивными промываниями влагалища.
Мощная энергия, которую она чувствует в себе, не может перетечь в ее тело. А между тем красота Элизабет привлекает мужчин; это приводит к встречам, которые завершаются ничем, не давая удовлетворения. В это время она находится в центре творческого процесса и сама полна творческих сил, но вынуждена быть холодной и не может преодолеть эту холодность. Тело остается разделенным на части, разрезанным на куски, отделенным от ума и желаний. Она укрывается от мужских взглядов за своей несравненной загадочной красотой. Наконец Элизабет возвращается в Покипси. Смена обстановки и образа жизни не становится для нее новой травмой. Элизабет поступает в школу Вассар, где преподают драматические искусства. Здесь она учится очень прилежно и с увлечением: ей помогает парижский опыт, и она не упускает ни одной возможности его применить. Она умеет показать, что необходима, занимается творчеством и участвует в проектах спектаклей, то есть ведет очень активную культурную жизнь. Она часто ездит в Нью-Йорк, ходит по музеям и бывает на многих спектаклях, пополняя свой багаж знаний. Ради заработка она выступает в маленьких мюзик-холльных ревю и даже представляет в качестве манекенщицы женское белье. Странная девушка эта Элизабет: она позирует в строгих утренних платьях для матерей семейств из среднего класса и читает Ибсена и О’Нила, восхищаясь дерзостью их драм и жгучими сюжетами. Однако в это время у нее появляются признаки смятения, эмоциональной пустоты и в то же время нетерпеливого желания творить, стать тем мощным и властным, что она предчувствует в себе.
Но путеводная звезда направляет и оберегает Элизабет. Судьба необыкновенным и странным толчком поворачивает ее жизнь в нужную сторону. Благодаря счастливому случаю пылкая, но еще неизвестная Элизабет Миллер становится музой журнала «Вог», и один из самых престижных журналов ставит ее в ряд самых красивых женщин Соединенных Штатов! Ей оказалось достаточно на минуту ослабить внимание, переходя одну из нью-йоркских улиц. К девушке приближался автомобиль, один из прохожих взял ее за руку, удержал на тротуаре и этим спас ей жизнь. Спасителем оказался не кто иной, как Конде Наст, директор и основатель журнала «Вог». Его опытный глаз сразу увидел в ней женский типаж нового времени – ту, которая сможет идеально воплотить в себе уже не молоденькую девушку, девицу-флэппера начала 1920-х годов, а женщину, сильную и хрупкую одновременно, с лучезарной и утонченной от природы красотой. Это женщина-ребенок и женщина-богиня, величественно строгая и такая близкая, трогательная и неумолимая, горгона и сфинкс, девочка и роковая женщина, чувственная и холодная, спокойная, но с истерзанной душой. Наст угадывает все это в одно мгновение, под оглушительный уличный шум – и предлагает девушке стать моделью его журнала. Элизабет видит в этом непредвиденный случай продвинуться в осуществлении своих планов. Она не жаждет сделать карьеру именно как фотомодель, но знает эту профессию, играла роль манекенщицы с детства, не испытывает никаких особых чувств перед объективом, совершенно лишена ложной стыдливости, умеет отдаваться объективу так, словно занимается любовью. Ее тело отделено от души, от ее очень глубоко скрытой тайной чувствительности. Элизабет знает, что может отдать в работе все, что приобрела с тех пор, как отец нацелил на нее свой фотоаппарат. Но помимо этого она обдумывает другие планы. Контракт подписан, и ее новая карьера движется очень энергично. Элизабет появляется на обложке «Вог», которую ради этого заново рисует иллюстратор журнала Жорж Лепап. И 15 марта 1927 года люди видят ее в цвете на глянцевой бумаге. Ей всего двадцать лет. На заднем плане – Манхэттен, сверкающий всеми своими огнями мужской город с башнями из железа и стекла. А на его фоне – Элизабет в фиолетовой шляпке клош, к которой посередине приколота брошь-палочка, напоминающая небоскребы. Лебединая шея девушки обрамлена большим белым бархатным воротником, на шее бусы из натурального жемчуга, контур губ четко прорисован, они окрашены в красный цвет, большие миндалевидные глаза, из-под шляпки выбиваются несколько белокурых прядей. Она воплощает собой совершенную красоту, которую подчеркивает строгость наряда в модном тогда стиле ар-деко. После этого у Элизабет нет отбоя от предложений о работе. Она становится «идеальной манекенщицей середины 1920-х годов. Она была рослой, с величавой осанкой. Ее четкий профиль и прекрасные светлые волосы прекрасно сочетались с пресущим ей стилем, ясным и элегантным»[118].
Что скрывается за образом
Но эта внезапная слава таит в себе опасность. Несмотря на все похвалы в ее адрес, Элизабет ничего не забыла из своей опустошенной внутренней жизни. Гладкие очертания ее внешности, которые она выставляет напоказ, имеют очень мало общего с тем, что чувствует в глубине души, с ее недостатками и безднами. Можно ли предположить, что за этой внешней холодностью скрываются бездонные колодцы боли и душевного страдания? Когда главный фотограф «Вог» Арнольд Гент создавал в 1927 году ее портрет, она отказалась от своего холодного профиля и отстраненного вида, наоборот, подчеркнула плохо скрываемое чувство. Это почти романтический портрет юной девушки со взглядом полным ностальгической тоски. Девушка красива, но равнодушна к своей красоте. Ее душевная драма – не спектакль, разыгранный для этого снимка. Глубокая печаль наполняет фотографию богатым внутренним содержанием – можно сказать, духовностью, которая преображает Элизабет. Ведь эта юная знаменитость не только владеет искусством улавливать свет прожекторов, не только знает лучше того, кто ее фотографирует, в каком ракурсе выглядит лучше всего (она же была маленькой «электрической феей» в труппе театра «Провинстаун плейерс» на Вашингтон-сквер).
Иногда она уже не может скрыть грусть и свои тревоги. В первую очередь – сексуальность, которую постоянно вынуждена подавлять. Она, кого волнует столько желаний, женщина с мощной потенцией, вынуждена ограничиваться флиртом. Поэтому Элизабет увеличивает число мнимых любовных приключений, подает надежды своим вздыхателям, пробуждает бурные страсти – тем более что на предварительной стадии любви она заходит так далеко, что даже задает себе вопросы по поводу эрекций, которые вызывает у своих поклонников. Но все кажется ей напрасным и безвыходным. В это радостное время середины двадцатых годов она больше, чем кто-либо, чувствует, как нелеп этот мир. Ее отчаяние становится сильней; она заглушает его алкоголем, в определенной степени сексом и даже марихуаной. Это взрывная смесь, но ей такой коктейль подходит. Он позволяет выйти за пределы своих возможностей, заставляет «сходить с рельсов». Теодор доволен возвышением дочери. Он гордится ею, а та среда, в которую она получила доступ благодаря слепому случаю, своя для этого человека, всей душой преданного фотографии. Благодаря Элизабет он встретится с лучшими фотографами мира. Он продолжит фотографировать дочь обнаженной. На сохранившихся снимках этого периода она позирует с привычной непринужденностью, эротической двусмысленности на них не видно, и все же ее нагота придает этому зрелищу нечто тревожное. Эти в каком-то смысле кровосмесительные снимки, видимо, не вызывают возмущения в той среде, где вращается Элизабет. Не возмущается и она сама, если только не считать ледяное безразличие неодобрением отцовского поступка, способом показать ему свое несогласие. Ее лицо не обращено к объективу – к мощному аппарату отца. Она отворачивается от этого неистового фаллического объектива и подставляет ему свой лучезарный профиль как трагический дар. Тело, наоборот, освещено и показано спереди, так что видны груди и лобок. Но строгая поза словно разрезает силуэт на части. Угловатость бедер и созвучная ей угловатость плеч делают модель похожей на куклу, собранную из деталей. Нет ни округлости, ни чувственности; скорее это тело принесено в жертву. Сходство с жертвой усилено положением рук, которые кажутся связанными за спиной. Этот образ не так уж далек, например, от принесенного в жертву агнца у Сурбарана. Это священный образ жертвоприношения, образ той тайной боли, которая навсегда останется у Ли Миллер. Часть ее отсутствует: у нее отняли что-то важнейшее, основное, чем она никогда не сможет пользоваться. В своем личном дневнике она не очень сентиментальна, однако романтична. Но какой это романтизм? Во всяком случае, не слащавый нежный романтизм первого поколения. Скорее это черный романтизм, освобожденный от всех принуждений, которыми его сковывают жизнь и мораль, открытый могучему ветру подлинной свободы. Ее отчаяние вызвано личными препятствиями и тормозами и тем невозможным одиночеством, на которое ее обрекло изнасилование. Это несмываемое пятно загрязняет ее и не дает расцвести. Все происходит так, словно собственное тело ей больше не принадлежит. Оно отдано другим, отдано иным фаллосам (объективам фотоаппаратов), которые никогда не перестанут ее обстреливать, в каком-то смысле «насиловать». Но не все ли равно теперь, раз самая интимная часть ее «я» уже взломана, раз дверь в ней навсегда открыта. Поэтому Элизабет в минуты сомнений и величайшей опасности чувствует, что не принадлежит себе, что у нее отняли право быть хозяйкой себе самой. Отсюда это бесстрастное и, можно сказать, «нержавеющее» лицо, которое, может быть, не является ее собственным, но, почти ничего не выражая, проходит сквозь время. С вечной красотой на лице она движется через годы, через жизнь в потоке времени.
Элизабет красива, она хорошо зарабатывает, ее прославляют, ею восхищаются, за ней ухаживают мужчины. Но любима ли она? И прежде всего, способна ли сама любить? Контракт с «Вог» поднял ее на вершину мира моды вообще и парижской «высокой моды» в частности. Она позирует для великих фотографов, носит платья от самых престижных кутюрье. Ее внешняя скромность, почти провинциальная грация, ее сдержанность совершают чудо. Она создает великолепные снимки вместе с Эдвардом Стейхеном. На них она задрапирована в платья со сложной плиссировкой и показана в большинстве случаев в профиль, словно для того, чтобы удлинить такие тонкие черты ее лица; волосы аккуратно причесаны и уложены волнами. Но на каждом из этих снимков видна глубокая печаль, даже тоска. Стейхен и Гент научили ее многому из искусства фотографии. У Стейхена она переняла дерзкую отвагу, изобретательность и искусство мизансцены, а Гент внушал ей доверие, очищал ее от влияний моды и возвращал самой себе. Рядом с ними она сумела найти противовес реально угрожавшему ей нарциссизму. Вся целиком отданная мужским взглядам, Элизабет в конце концов перестала видеть и узнавать себя. На снимках была не она, а нечто, возникавшее без ее ведома и внешнее по отношению к ней. Это нечто сбивало ее с толку, она хотела знать, к чему отсылает тот образ гермафродита, сочетающего в себе два начала – мужское и женское, который она несла с собой с самого детства, когда любила мальчишеские игры и опасности. Эту двойственность Элизабет ощущала всегда, и ее поддерживал в сестре Джон, который мечтал стать летчиком, но при этом любил наряжаться женщиной. Элизабет носила самые женственные, самые сложные по фасону платья, а внутри ее жил мальчик – сильная и гордая душа. Именно из этой глубоко скрытой раздвоенности родился ее талант фотографа. Пока она еще слабо чувствовала этот свой дар, но он уже проявлялся благодаря двум новым друзьям-фотографам. У них она переняла самые сложные хитрости и приемы искусства фотографии. Об этом искусстве она уже много знает с детства, но в Нью-Йорке Элизабет находится в центре фотографического творчества и тоже хочет фотографировать. Это желание становится все более сильным и жгучим, словно она устала быть объектом. Главное для нее – занять место фотографа, в каком-то смысле стать мужчиной, потому что тогда эта профессия еще не попала в руки женщин и объектив был орудием сильных мужчин. Теперь она хотела стать таким мужчиной – фотографировать как мужчина, сама проникать внутрь другого человека. В это время она чувствует желание сменить имя, чтобы показать, что ее положение изменилось. И вспоминает о ласковом любовном прозвище, которым иногда называла ее мать, – Ли, уменьшительном от Элизабет. Так она становится Ли Миллер, нежной девочкой, возможно, в память о странных годах, прожитых в Покипси. Однако новая страсть, которую она хочет сочетать с ролью музы «Вог» (а ее положение в журнале какое-то время было под угрозой оттого, что она не отвечала на ухаживания Наста), устраняет не все двойственности ее натуры и личности. Сеансы позирования, к которым она привыкла с детства у отца и всегда успешные в ее нью-йоркские годы, не были лишены тяжести. Ли несет в себе груз тех символических изнасилований, которым ее столько раз подвергал отец. Терпя их, она знает, что согласна на такое обращение, и это усиливает ее боль, от которой она никогда не сможет избавиться. Нарциссизм, пуританизм, эксгибиционизм, сексуальная истерия и экзистенциальная тоска – вот с каким набором внутренних конфликтов постоянно борется Ли. Она лихорадочно ищет любви в те периоды, когда венерическая болезнь на время оставляет ее в покое. Но постоянно нависающая над ней угроза болезни заставляет молодую женщину соответствовать своему гладкому неизменному образу, который распространяет «Вог». Ли Миллер – сочетание Марлен Дитрих и Греты Гарбо, предшественница Джин Сиберг с ее загадочным лицом, мужским и женским одновременно, женщина 1920-х годов, которая предвосхищает 1960-е годы, – оказывается на перекрестке влияний и новых стилей, но не находит своего собственного места. Для своих Пигмалионов она готова на все, даже соглашается придумать рекламу для женских прокладок, на что тогда не соглашалась ни одна модель. Но она делает эту рекламу не потому, что феминистка, и не ради провокации. В этом решении не нужно видеть любовь к скандалам; это скорее желание раствориться в своем времени, следовать за его переменами. Однако, выполняя эту работу, она относится к ней равнодушно – в противоположность тем, кто продвигает изделие и, разумеется, ждет от рекламы больших коммерческих выгод. Ли выше их намерений, хотя успех этой новой кампании приносит ей славу одной из самых красивых женщин Америки. Она не добивается этого специально, однако при склонности к самолюбованию испытывает от этого некоторое удовольствие. Главное ее желание – творить, работать пальцами, которые, как она уже давно говорит, ни на что не годны, потому что бездействуют. Уже много лет она накапливает профессиональные знания. Она умеет фотографировать, но хочет уметь больше и не применять уже открытые технологии фотографирования, а изобретать новые по примеру своего горячо любимого отца, чтобы он гордился дочерью. И вот однажды ей рассказали о человеке по имени Ман Рэй, изобретательном и интересном фотографе, чьи работы уже появлялись в «Вог». Он известен в Париже, даже уже знаменит; она могла бы получить рекомендацию от материнской фирмы и отправиться в Париж, чтобы совершенствовать свое искусство. Наст обещает связать ее с «Вог-Франс», а также устроить контракт на один месяц во Флоренции, где она будет должна срисовать со старинных тканей узоры, которые можно было бы воспроизвести в Соединенных Штатах. Ли уверена, что обошла Нью-Йорк вдоль и поперек; она в каком-то смысле устала от своей славы; но прежде всего ей не терпится вернуться во Францию и, конечно, в Париж, о котором она сохранила незабываемые воспоминания с тех пор, когда жила там в первый раз. И вот 10 мая 1929 года она покидает Соединенные Штаты. В конце пути ее будет ждать загадочный Ман Рэй.
Любовь с первого взгляда на Монпарнасе
Во Флоренции, куда Ли заезжает, чтобы срисовать орнаменты эпохи Возрождения, она скучает и явно перестает испытывать удовольствие от рисования. Ее смутное желание стать художницей постепенно угасло; теперь для Ли очевидно, что ее призвание – фотография. Ей невыносимо с утра до вечера перерисовывать детали; она решает их сфотографировать, получает на это разрешение и таким образом выполняет контракт. Вернувшись в Париж, Ли рассчитывает остаться там на какое-то время. Предчувствует ли она, что здесь ее снова ждет судьба? Она уверена лишь в том, что ощутила свое призвание и пути назад нет. По ее словам, она хотела «войти в мир фотографии через заднюю дверь»[119]. Встретиться с Маном Рэем как раз и означало взять судьбу в собственные руки, обеспечить себе важнейшую встречу, получить ключи от входа в желанный мир. Еще до того, как увидеться со знаменитым фотографом, Ли интересовалась им; она знает его любимые темы и его способ восприятия реальности; ей нравится его рассудочный подход к фотографированию. Она пока не догадывается, какой последний выбор сделает после разрыва с Маном Рэем. Тогда она выберет самую жестокую и грубую реальность – станет военным репортером. Но пока она еще не репортер на войне. Пока она хочет раскрыть тайны реальности, застать ее врасплох в своих монологах и в минуты уединения и одиночества приручить долю секунды из невероятных минут.
Она желает не соединить их вместе, а, напротив, уловить в тот момент, когда они соединяются сами и этим обнаруживают свое существование, невидимое и загадочное. Сюрреалистическое существование. Ман Рэй почти на двадцать лет старше Ли. Он уже давно сделал карьеру. Этот маленький американский эмигрант покинул Нью-Йорк в 1920 году, уверенный, что, как он говорил, «стиль дада не может жить» в Америке, где слишком много пуританизма и условностей, которые ставят преграды нарушающему приличия дадаизму, блужданиям подсознания, недолговечным разрывам в реальности, которая быстро возвращается в обычное состояние. Все происходит во Франции – приключения, приносящие больше всего новизны, самые изобретательные и дерзкие предприятия. Поскольку Пикабиа, Миро, Арп, Пикассо, Массон, Супольт, Бретон, Элюар, Арагон заняли освободившиеся ниши в живописи, архитектуре, скульптуре и поэзии, он стал первопроходцем в искусстве фотографии и этим завоевал себе место среди знаменитых. Часто влюблявшийся и получавший отказы, любитель женщин, не становившийся их рабом и любивший свое искусство сильней, чем их, Ман Рэй прокладывал себе путь на Монпарнасе с небрежностью и профессионализмом, которые вскоре сделали американца одним из виднейших деятелей парижского «раскола в искусстве». Одной из его натурщиц и любовницей, которую он предпочитал другим, была экстравагантная Кики Монпарнасская. Ее поясницу он обессмертил на легендарном снимке. Она помогала ему оказывать влияние на столицу. Это была удивительная пара – сдержанный, очень замкнутый Ман Рэй и яркая Кики, самая заметная среди парижских модернистов. В это время Ман Рэй наконец прославился. Его искусство было признано за пределами Франции, и в Соединенных Штатах его тоже стали считать мастером фотографии. Но в глубине души Ман Рэй отвергал эту славу. Он гораздо больше предпочел бы быть художником и считаться первым среди живописцев модерна. Его друг Вильям Хейтер, имевший граверную мастерскую недалеко от студии Мана Рэя на Монпарнасе, в доме 31 по улице Кампань-Премьер, точно указал на больное место в душе самовлюбленного мастера, сказав о нем: «фотограф, который воображал себя художником»[120].
У Ли Миллер была на уме лишь одна мысль – встретиться с Маном Рэем. У нее есть рекомендательное письмо, но достаточно ли этого, чтобы войти в его мир? Ли знает, что Ман Рэй мрачный и недоверчивый человек, капризный и немного самовлюбленный. Он молчалив, не весельчак и не любитель кутежей, а, наоборот, очень скрытен. Не болтлив, работает до изнеможения, не разделяет с Ли ее любовь к провокации и бунту, если только эта любовь не зарыта очень глубоко в его душе и дело как раз в том, чтобы откопать ее.
Летом 1921 года Ман Рэй был безутешно влюблен в Кики Монпарнасскую и уязвлен тем, что она окончательно ушла от него к Анри Брока, директору журнала «Париж-Монпарнас». В тот июльский вечер знаменитый фотограф свободен и бродит по опустевшему Парижу. Ли, вернувшись из Италии, идет к нему в студию и – вот неприятная неожиданность! – узнает от консьержки, что Ман Рэй уехал отдыхать. Очень расстроенная этой новостью, она заходит выпить в бар «Пьяный корабль» на бульваре Распай и занимает место на втором этаже, рядом с железной лестницей. Хозяин бара, ошеломленный красотой Ли, сел за ее столик и завел с ней разговор. Она выпила перно и приготовилась спросить своего собеседника, нет ли рядом Мана Рэя, который, как она знала, был завсегдатаем этого заведения. И тут появился сам знаменитый фотограф. Позже она напишет в своих воспоминаниях: «Он, можно сказать, возносился над землей, то есть поднимался по винтовой лестнице. Он был похож на быка – великолепный торс, очень черные ресницы и черные волосы. Я смело сказала ему, что я его новая ученица. Он ответил, что не берет учеников и в любом случае уезжает из Парижа, чтобы отдохнуть. Я сказала, что знаю об этом и еду вместе с ним. Так я и сделала»[121]. Слишком красиво, чтобы быть правдой? Ли Миллер совершенно не имела привычки приукрашивать случаи, которые извлекала из своей памяти. Напротив, она любила ясный, точный стиль, бойкий и без литературных прикрас – тон репортера. Так что есть все основания верить, что встреча происходила именно так – в духе живости и раскованности, характерном для всегда решительной Ли Миллер – «бешеного локомотива». Ману Рэю при первом знакомстве она показалась видением. И действительно, она возникла перед ним как видение на втором этаже парижского бистро, в середине июля. Позже он рассказывал: «Ее очень светлые волосы [были] острижены так коротко, что она походила на юного загорелого пастушка с Аппиевой дороги»[122]. Эта встреча стала началом связи, продолжавшейся несколько лет и отголоски которой потом наполняли всю их жизнь. Творчество и память обоих были словно обожжены силой их страсти. Для Мана Рэя Ли Миллер была воплощением того, чего желал достичь Андре Бретон, – красоты конвульсивной и одновременно идеальной, красоты совершенной (у сюрреалистов конвульсивная, или судорожная, красота – красота, которая находится на границе между сном и явью. По словам Бретона, это красота, состоящая из отдельных рывков, не статическая и не динамическая, связанная с сексом и при этом запретная для секса. – Пер.). Она – воплощение Нади, которую так ждал Бретон (Надя – героиня одноименной книги Бретона, в которой он и сформулировал понятие «конвульсивная красота». – Пер.). Она – текучий, изменчивый силуэт волшебницы. Очень скоро наставник и ученица становятся любовниками. Это происходит так, словно они внезапно узнали и снова нашли друг друга после разлуки. Это была сильная страсть, которая сливала воедино любящего и предмет любви, но уже истощала себя, хотя они об этом не знали. Каждый из них видел в другом то, что могло дать новую пищу его собственному творчеству, каждый был для другого обещанием обновления и новых сил. Ли стала единственной моделью Мана Рэя, а он – новатором в фотографии, творцом великих тайн, которые она стремилась постичь.
Именно к этой цели стремилась влюбленная пара. Искусство фотографии стало для их любви соединительным элементом, причиной, по которой они были вместе, сохраняя свой странный союз, – королева красоты и коренастый мрачный фотограф, свет и тень. Ман Рэй убежден, что его особые технические приемы, часто найденные совершенно случайно, позволяют достичь тайн души и что за пределами его портретов и даже его фильмов есть нечто невидимое, которое движется и открывает путь к недоступному. Он думает не о религиозном потустороннем мире, а о духовном возвышении. Уверен, что через секс и через остроту взгляда, которой он настойчиво добивается, доберется до непредсказуемых тайн. А Ли хочет свести счеты с искусством фотографии. Она желает проникнуть в тайну черной комнаты, волшебного места ее детства, где снимок испытывал превращения и становился видимым. Черная бумага вдруг становилась чем-то, что можно понять, словно перед девочкой раскрывались космические тайны. Став любовницей Мана Рэя, человека, которого чтил весь мир, она обеспечивала и себе доступ к сверхреальности, которой так желала достичь. В то время она была уверена, что, проникнув в святилище, то есть в студию Мана Рэя, раскроет его секреты и (почему бы нет?) превзойдет его. Это было не тщеславие, не безграничное честолюбие, сменившее место и цель. Это была уверенность, что так она доберется до своего самого подлинного «я». Словно в детстве в тот самый день, когда, маленькая и голая, она стояла по щиколотку в снегу, пообещала себе, что поймает тайну своего «я», нащупает осязаемые, но не постижимые умом нити человеческой природы, разберется в требующей ответов абсурдности этого мира.
Рядом с учителем
С первой поездки в Биарриц, куда она в конце концов убедила Мана Рэя съездить, Ли почувствовала, насколько серьезна их связь. У нее не осталось сомнений, что это будет не кратковременное любовное приключение, а встреча-посвящение, в которой секс станет лишь частью обряда. Секс ее волнует, но еще большую страсть у нее вызывает возможность подглядеть обряды учителя, его маленькие уловки и подсказанные опытом технические приемы. Она хочет узнать, как «это» работает, ее интересует именно «это» – преображение знаний, которое позволяет раскрывать тайны, тот переходный момент, когда случившееся в реальности вдруг становится очевидным и ясным. Она испытывает к Ману Рэю сильные чувства, но любит его скорее как мастера в их общей профессии, чем как мужчину. Она восхищается его точностью, его заботой о деталях; любит его «магнетические» руки и тепло, исходящее от них; любит его способность преображать вещи и ставить их на службу своей фантазии. Очень скоро Ли начинает считать их связь путем в профессию, важнейшим ученичеством. Секс в их отношениях играет важную роль, которая кажется главной, но и он, и она так любят свое искусство, что сводят к минимуму значение интимной близости. Она служит лишь искусству и подчинена искусству. Влюблена ли по-настоящему Ли в Мана Рэя? В этом можно усомниться, если обратить внимание на то, как она рассказывала о нем позже. О нем Ли, кажется, говорит с полным равнодушием, но ее красноречие становится неистощимым, когда она рассказывает, с какой любовью Ман Рэй изготавливал свои снимки, которые были настоящими техническими достижениями и подвигами изобретательности. Ман Рэй с детства сохранил большую любовь к изготовлению самоделок. Тогда он любил складывать детали и перекладывать их по-новому, располагать их в определенном порядке, собирать из них что-нибудь, а потом разбирать, играть в механика, придумывать маленькие хитроумные механизмы. Теперь он изготавливает свои фотографии с вниманием, достойным священного обряда. Это трогает душу Ли. В такие минуты она вспоминает спокойные часы своего детства, когда мастерила украшения, вырезала картинки, собирала из кусочков пазлы. Ее чувство к Ману Рэю проявлялось очень сдержанно, а вот его чувство к ней было настоящим, и порой он торжественно выражал его. Его любовь к Ли видна в тогдашних работах. Ведь Ли, словно предлагая справедливый обмен, согласилась снова оказаться перед объективом фотографа. Она вспомнила свое умение позировать бесстрастно, быть равнодушной к происходящему и в то же время прекрасно принимать свет. Таким образом, примерно в 1930 году она проходит через много сеансов, во время которых он запечатлел ее как бы в вечности и невозмутимом бесстрастии. Нужно различать фотографии для моды, например ту, где Ли позирует в знаменитой шапочке дожа с надписью «Жан Пату» (название знаменитого модного дома, производящего также элитную косметику, и имя его основателя, прославленного модельера. – Пер.), и более личные снимки, где Ман Рэй дает полную волю своей фантазии. Но что бы он ни делал, Ли всегда выглядит величественной и строгой и этим часто напоминает женщин с великих итальянских картин эпохи Возрождения или, в крайнем случае, античные статуи. В очень эротичных снимках он изучает больше шею Ли, чем ее лицо. Ман Рэй верен своему методу зауживать кадр, а затем после съемки регулировать его размер и, сосредоточившись на шее, воспроизводит ее с такой точностью, которая заставляет вспомнить статуи Микеланджело, изображающие молодых людей. То же напряжение нервов и мускулов, и точно так же сексуальность модели ярко проявлена, а внешне она выглядит мужчиной и женщиной одновременно (это благоприятствует двусмысленным фантазиям Мана Рэя). Он виртуоз в повторном кадрировании, но сокращение первоначального пространства очень хорошо показывает, что именно он намерен выразить. Кстати, по поводу этой серии снимков, посвященных шее Ли, можно вспомнить рассказ самой Ли Миллер. В этом рассказе речь идет об их странном совместном ритуале. Однажды Ман Рэй даже после повторного кадрирования остался недоволен своим снимком и выбросил негатив в корзину для бумаг. Ли забрала негатив оттуда и решила переработать его по-своему. Она сделала с него новый снимок, который скадрировала заново и подписала своим именем. Ман Рэй, очень недовольный тем, что она прикоснулась к его фотографии, хотя бы и выброшенной им самим, выгнал Ли из своей студии. Через несколько часов она вернулась и увидела там тот же снимок (ее снимок?), приколотый кнопками к стене. На нем было изменение – всего одно, но значительное: Ман Рэй перерезал горло – ее горло – на снимке и обрызгал надрез красными чернилами. После этой переделки снимок стал произведением искусства, которое автор признал хорошим и отправил куда-то, но куда – неизвестно. Иногда он обрабатывал снимок так, чтобы сделать контуры расплывчатыми. Получалась дымка, которая придавала изображению художественность, освобождала изучаемый предмет и перемещала его в миры, очертания которых пока трудно разглядеть. Короткие волосы Ли, уложенные волнами с помощью зубчатых заколок, и упругость напряженной, но несоразмерно увеличенной шеи придают ее лицу тот легкий блеск, который может быть признаком головокружения. Точно так же пара Миллер-Рэй, работая под сильным взаимным влиянием, эротическим и творческим, сумела случайно создать революционные технические приемы. Так, например, была открыта знаменитая соляризация. Ее открыла Ли Миллер, а Ман Рэй сразу увидел, как много пользы это непредвиденное открытие может принести его искусству. Ли Миллер в своих мемуарах рассказывает об этом событии так: «Что-то влезло мне на ногу в темной фотолаборатории. Я громко закричала и включила свет. Я так никогда и не узнала, что это было – мышь или что-то другое. И тут я поняла, что пленка целиком оказалась на свету. В бачке для проявления лежали примерно двенадцать негативов – снимки обнаженной натуры, еще почти непроявленные. Ман Рэй схватил их, окунул в закрепитель и осмотрел. Он даже не дал себе труда выругать меня, так я была подавлена. Неэкспонированные участки негатива, а именно задний план, были засвечены этой внезапной вспышкой и прекрасно окружали контуры мертвенно-бледного обнаженного тела. Но фон и изображение не сочетались: оставалась линия, которую он назвал «соляризация»[123]. Ли Миллер всегда приписывала это открытие себе. Этим капризом она хотела показать, что Ман Рэй тиранит ее, желая остаться хозяином положения. А ведь во многих отношениях Ли стала учительницей своего учителя. В быстроте ума и интуиции она превосходила его. Ее глаз был натренирован с детства, и потому она точно попадала в цель. Ее царственный портрет, который Ман Рэй создал в 1930 году в знак благодарности за открытие, поражает правдивостью и одновременно состраданием. Эффекты соляризации выделяют ее профиль, подчеркивая человечность и душевное смятение. Кажется, что она нарисована рукой художника. Черты лица смягчены, поза выражает почти тревожное ожидание. Это один из самых красивых портретов Ли, и он очень далек от ее торжественных или холодных портретов, которые Ман Рэй создавал раньше. Далек и от интерпретаций Кокто, который нанял ее играть в «Крови поэта». Ман Рэй не совсем доволен тем, что она участвует в фильме Кокто. Он не любит всех своих соперников по кино: он сам снял с Кики много фильмов в духе сюрреализма. Однажды вечером в «Быке на крыше» Кокто подошел к столику, за которым сидели Ман Рэй и Ли Миллер, и заявил, что ему нужен кто-нибудь, кто завтра прошел бы пробу. Ли поднимается на сцену. Кокто совершенно не имел доступа в очень закрытый клуб сюрреалистов, и его ненавидел Бретон, несомненно по причинам, связанным с гомофобией.
И вот теперь Кокто задумал снять фильм, в котором будет описано медленное сотворение поэмы, как достаточно верно определила Ли Миллер. «Мы в минуту милосердия приняли участие в создании поэмы»[124], – сказала она. Ли – центральный персонаж фильма, статуя, внутрь которой поэт вливает кровь своих стихов через рот одного из созданий. Переданная этим путем творческая энергия пробуждает и оживляет статую, та увлекает поэта в мир приключений и становится его проводником по этому миру. Игра Ли Миллер была мощной и к тому же освещена сиянием ее красоты. Кокто восхищался этой красотой именно из-за того, что она казалась бесстрастной, в каком-то смысле лишенной эротики, знаковой для гомосексуальной эстетики. Однако у статуи нет рук, то есть тело Ли Миллер снова разрублено на куски. Это символ платонической красоты, чары которой потом будут видны во всех рисунках Кокто.
Однако сама Ли не остается беспомощной. Она учится у Мана Рэя и даже официально дебютирует в качестве фотографа. Ли снимает квартиру-студию на Монпарнасе по адресу улица Виктора Консидерана, дом 12, недалеко от квартиры Мана Рэя, и начинает делать снимки моды, используя связи, которые приобрела за годы, проведенные в этой среде. Ее автопортреты поражают правдивостью и силой подавленного чувства. Волосы у нее волнистые, но короткие. Всегда кажется, что они развеваются в движении и она уносится в бездонную пустоту. Светлые, почти бесцветные глаза смотрят в одну точку, но взгляд лишь кажется застывшим. Черты лица четко очерчены, его контур – идеальный овал, но от снимка исходит ощущение грусти и сочувствия чужому горю. Ее красота здесь гордая, но словно разбитая на осколки душевным несчастьем.
Ли берется за новую работу с той энергией, которую вкладывает во все, но эту энергию проявляет не явно, а скрыто. Ее трудовой пыл похож на костер, пылающий на дне покрытого льдом моря. Работая рядом с Маном Рэем, она действует иначе. Ли предлагает ему поручить ей несколько работ, чтобы он мог уделять больше времени живописи. Он охотно соглашается на это.
И, по ее собственным словам, Ман Рэй начинает оставлять ей те задачи, которые не хочет выполнять сам. Его снимки очень сложно, даже хитроумно обработаны. А его помощница Ли, несомненно, такая же рассудочная, как он сам, и старается сохранить все подробности той истории, которую хочет рассказать. Например, изучая моду, она собирает вместе сюжет, платье, манекенщицу, фон, световые эффекты, отклики и отголоски, умещает все это в одну фотографию, и в результате получается изображение, отчетливо выступающее из фона, четко структурированное, с контурами в духе стиля ар-деко. Фотографируя Мана Рэя, она зауживает кадр, чтобы в него попало только лицо ее учителя, хмурое и загадочное, его тяжелый взгляд, сомкнутые губы – никто не знает, какие тайны они хранят, от упрямого молчания в пространстве снимка словно не хватает воздуха. Зритель видит только, в каком направлении смотрит это лицо; портрет сбивает его с толку и настолько завладевает сознанием, что вызывает дурноту. Так работает Ли: в неизвестных направлениях, обращая внимание в первую очередь на взгляд, как, например, в соляризированном портрете 1930 года. Для него она сфотографировала неизвестную женщину – вполне возможно, себя; в очертаниях этой фигуры есть странность и призрачность, которые в какой-то степени делают ее нечеловеческой. Тело снова лишено плоти или освещено другим светом, напитано другим соком; ее ладони словно раздулись, их окружает странное сияние. В других снимках и фотомонтажах заметно присущее Ли сюрреалистическое видение мира. На одном из них она, по примеру Мана Рэя, уже освоившего этот сюжет, изображает отрубленную женскую голову под стеклянным колпаком. Это дань уважения маркизу де Саду. Ман Рэй, как и весь кружок сюрреалистов, практиковал настоящий культ «божественного маркиза». Женщина, которую он любил, всегда становилась жертвой насилия или подвергалась пыткам, пока не пресытится ими. Именно под таким углом зрения Ли делает новые фотографии на эту тему, привнося в нее ту тревожную странность, которая была дорога Фрейду. В ее рисунках есть родство с очищенным искусством Матисса. На них она всегда изображает себя униженной – женщина, пригвожденная к стене, и люди подходят, чтобы вонзить в эту стену ножи; экзотическая женщина с маленькими попугаями; голова женщины под колпаком. Это образы того, что она хочет изгнать из себя; они напоминают ей то время, когда она была покорной и послушной рабыней в «Вог». Кроме того, Ли фотографирует знаменитых людей, от Чарли Чаплина, на которого она надевает оленьи рога (на самом деле это люстра с несколькими рожками), до Галы и Дали, которых она «видит» внутренним зрением и чувства которых искренне разделяет. Они показаны просто и естественно; Гала в кои-то веки выглядит радостно и… улыбается, а Дали, с его хилым телом и наивным взглядом, смотрится трогательно. А еще она делает фотографии внешне обычных сцен повседневной жизни – птичьи клетки на столе; письменный стол с разбросанными на нем листами бумаги, которые словно распяты на отражении деревянной оконной рамы.
В это время, благодаря Ману Рэю, она входит в кружок сюрреалистов. Это было особое время, когда фотография становилась искусством, по своей природе пригодным для обнаружения реальности, открытой всем возможностям. Что можно сказать про выстроенные в ряд хвосты белых крыс, сидящих на железном брусе? О клетках, ветвистому узору которых вторят кованые завитки железного балкона? И в конце концов, где прячутся птицы в этом переплетении железных украшений? Что говорят друг другу два священника, примостившиеся на крепостной стене, лицом к лицу с беспредельным простором пейзажа? Какое место предназначено человеку в головокружительном аду из блоков и колес Эйфелевой башни, похожем на дьявольскую карусель. По примеру Макса Эрнста и Де Кирико местом действия для своих сюжетов Ли Миллер выбирает пустынное пространство, словно заставляет звучать в пустыне отголоски своей душевной трагедии, своего собственного уничтожения. В утверждении своей личности она идет еще дальше. Она даже нарушает закон – тайком уносит из больницы груди (обе), удаленные у больной раком женщины. Завладев ими, Ли положила их в тарелку, а ту поставила на салфетку. Завтрак готов, но объективация тела доведена до величайшей насмешки. Ли не отступает перед святотатством, и в ее фотографиях обнаженных моделей чувствуется больше смущения, неловкости и беспокойства, чем в подобных им снимках Мана Рэя. Ее женские тела, показанные со спины, совершенно не похожи на скрипку, которой Ман Рэй уподобил обнаженное тело Кики Монпарнасской. У Ли женские поясницы, спины и крестцы вытягиваются, словно головка пениса, а ягодицы, выставленные напоказ, напоминают мужские тестикулы. Ли Миллер медленно утверждается в качестве самостоятельного фотохудожника. Она в это время полностью считает себя членом кружка сюрреалистов и порой даже затмевает Мана Рэя своей неутомимостью в труде, своими изобретениями. Она видит перед собой реальность, полную несообразностей, нелепую или становящуюся такой, и разрезает эту реальность на куски, делая ее чудовищной. В ее работах, в углах зрения, которые она выбирает, в ее любви к теням видно, скольким она обязана Ману Рэю. Ей, как настоящей сюрреалистке, последовательнице Марселя Дюшана, нравится улавливать особенные, вырванные из контекста повседневности моменты, когда царит и господствует необычное. В некоторых своих фотографиях Ли не скрывала влияния, которое оказал на нее Ман Рэй, и считала их свидетельствами своего долга по отношению к нему или даже содружеством творцов. Ман Рэй передал ей многих своих клиентов и не слишком возмущался тем, что ученица освобождается от его власти: он, несомненно, считал себя великим мастером фотографии, а Ли все еще своей ученицей. Оценил ли он по достоинству, например, ее снимок «Женщина с ладонью на голове», созданный в 1931 году? Там показаны сзади голова и правая рука женщины, зарывшаяся в завитые волосы, и это похоже на ракурсы, которые уже использовал в своих работах Ман Рэй. В своей мастерской на Монпарнасе Ли Миллер занимается своей профессией. Она даже оборудовала там фотолабораторию, где снова видела то превращение, за которым наблюдала в далеком прошлом, в Покипси, когда гениальный Теодор впускал ее в волшебную комнату, где постепенно, словно видения, возникали негативы. В сущности, она никогда не покидала комнату своего отца, только в ней проявлялись другие образы мира и рассказывались другие истории. Теперь Ли стала хозяйкой своей судьбы – во всяком случае, она пока еще в это верит. Ман Рэй терпит рядом с ней больше, чем мучит ее и чем пренебрегает ею. Между ними часто происходят ссоры бытового характера, случаются размолвки на несколько дней, вспышки священного гнева Мана Рэя по поводу презрения к его авторитету и особенно по поводу неверности Ли. У нее есть любовники, которых она не скрывает от Мана Рэя. Но во всяком случае Ли не держит их при себе долго, а переходит от одного к другому, проявляя какое-то отчаянное донжуанство. Она лучше, чем кто-либо, знает, что время абсурдно и его ход зависит от случая. Она фотографирует его маневры – быков, которые непрестанно кружатся без цели, заставляя время двигаться, а у них на спинах сидят дети. Когда она фотографирует улицы, то выбирает для снимков пересечения тротуаров, галерей, мостиков, но без прохожих. На этих безлюдных перекрестках отраженный свет оптически увеличивает мертвое пространство, и улицы начинают вызывать у зрителя тревогу. Они становятся похожи на пустынные, лишенные человечности пейзажи Де Кирико. Ман Рэй, имевший репутацию мужчины, который «не держится» за своих любовниц, несомненно страдал оттого, что Ли свободна. В то время он писал ей длинные письма, в которых пытался заставить ее опомниться и прислушаться к доводам разума – конечно, его собственного разума. У него не было сомнений, что только он держит в руках ключ к ее счастью и безопасности. Но он глубоко ошибался: плохо знал Ли Миллер, которая так яростно рвалась к независимости, что была готова погубить себя и погубить все. Однако Ман Рэй верил в свое верховенство учителя. «Ты попала во власть другого, который сумел показать, что он хитрей и независимей тебя, – писал он ей. – Ты это знаешь с самого начала; я дал тебе все возможности, которые могли пойти тебе на пользу или быть тебе приятны, даже если это могло погубить тебя»[125].
Непокорная Ли
Она не обращает внимания ни на советы, ни на упреки Мана Рэя. Следует своему призванию с упрямством девушки, уверенной, что теперь владеет своей профессией и своей жизнью. «Сентиментальной я не бываю никогда», – говорила Ли когда-то; и действительно, она не хочет уступать ни просьбам, ни мольбам Мана Рэя. Ни при каких условиях она не захочет вернуться в прошлое. Когда ее нет рядом, он томится от скуки и измеряет силу своей любви к ней. Любви или жажды обладания? Он рисует маленькие наброски, на которых изображает Ли «кусками». Рисует части ее красоты – отделяет каждую из них от остальных и помещает на бумагу, словно драгоценную реликвию в раку. Постепенно Ли отдаляется от него, и поэтому он освобождает ее от плоти, превращает в святыню, словно в последний раз хочет остановить ее самостоятельное развитие. Последним любовником Ли стал невероятно богатый египтянин Азиз Элуи-Бей. Она влюбилась в него; но, кроме любви, ее привлекали роскошь, которую он ей предлагал, и экзотические обещания, которые делал. Для Мана Рэя эта связь означала окончательное поражение. Он понял, что Ли действительно уходит и больше он ее не увидит. В его уме пронеслись воспоминания о минутах небывалого согласия в телесной страсти и страсти к труду, которые они пережили вместе, когда у них были одна и та же лихорадка и одни и те же ожидания, одни и те же ослепления и открытия. И тогда Ли снова стала добычей объектива, целью его символического фаллоса. Ее рот, ее губы, ее глаза, все самые красивые и самые выделяющиеся на фоне снимков части тела уничтожает потерпевший поражение наставник.
Он терзает их – вырезает из снимков, растирает в порошок, режет на куски, рвет на части. Отныне Ли Миллер должна быть только этим пазлом из расчлененных частей тела, которые, каждая по-своему, станут произведениями искусства. Это единственное решение, которое он нашел, чтобы принизить Ли и ослабить свою боль. Ли остается непоколебимой. Она решает уехать из Парижа в Соединенные Штаты и рассчитывает продолжить там свою карьеру фотографа благодаря знакомствам, которые завязала при посредничестве Мана Рэя. В октябре 1932 года он пишет ей лаконичную записку, в которой дает понять, что его дверь все-таки открыта для нее, и предсказывает, что нити, связывающие их, невозможно разорвать. «Счета никогда не сходятся, человек никогда не платит достаточно. Я всегда остаюсь в запасе»[126]. Она не отвечает на эту отчаянную попытку Мана Рэя подать ей сигнал «вернись». В отличие от него она не дорожит сентиментальными привязанностями и любовными переживаниями, хотя Ман Рэй иногда так играл роль радикального сюрреалиста, что ему верили Бретон и его друзья. Он остался прежним маленьким эмигрантом; на его фотопортретах, которые создала сама Ли, у него добродушное и очень грустное лицо, а во взгляде безутешная печаль. Ли, в сущности, пришла из другого мира, из края, в котором был сильней дух первых поселенцев, где было меньше воспоминаний. В ней было гораздо меньше европейского, хотя она какое-то время и думала, что должна жить в Европе. Поэтому Ли решила уйти. В ней произошло нечто необратимое, что заставило ее вернуться домой. В конце концов оказалось, что ее дом – Соединенные Штаты, хотя она и утверждала, будто Париж стал для нее настоящей новой родиной. Вернувшись в Соединенные Штаты, она сразу же объявила, что намерена продолжать карьеру фотографа, потому что предпочитает «снимать фотографии, а не быть одной из них»[127]. Этот каламбур, сказанный журналисту, встречавшему ее, когда она приехала в Нью-Йорк в октябре 1932 года, стал знаменитым: в нем Ли утверждала свое решение и свой волюнтаризм.
Она опять установила контакт с журналом «Вог», который когда-то «раскрутил» ее как модель. В ту зиму 1932 года она снова позировала для него, в том числе на фотографии, где показана закулисная жизнь фотостудии. На этом снимке Ли стоит в центре интерьера, окруженная точечными светильниками и прожекторами, и позирует перед декорацией в новогреческом стиле, а помогающая ей портниха поправляет белое платье, узкое и прямое, которое плотно облегает идеальную фигуру модели. Лицо, как и прежде, повернутое в профиль, надменно и бесстрастно. Ли в сотрудничестве со своим младшим братом Эриком открывает новую студию по адресу Восточная 48-я улица, дом 8.
А Ман Рэй в Париже пережевывает свое отчаяние и горечь расставания. С сентября, после того как Ли официально порвала с ним, он начал «носить по ней траур» – мучительно горевать и одновременно уничтожать прошлое. Словно изгоняя Ли из своей души, как злого духа, покинутый учитель смастерил метроном и прикрепил к его маятнику фотографию глаза Ли. Может быть, он вспомнил тогда о раннем детстве? Об этих первых годах своей жизни он мало говорил и не любил, когда о них упоминали другие. Когда-то маленький Эммануэль, сын бедных изгнанников-евреев, любил мастерить в семейной портновской мастерской летающие или катящиеся игрушки, которые придумывал сам. И вот теперь, осенью 1932 года, когда он узнал, что Ли ускользнула от него, ему пришла на ум сюрреалистическая мысль – сделать метроном, навязчивый инструмент, маятником которого навсегда станет глаз Ли. Этот глаз, словно глаз Каина, будет вечно смотреть на него. Так Ли всегда будет рядом, властная, как повелительница, но разрезанная на куски, раз деленная на части, сжатая до одного глаза – женщина-циклоп. Он редко представлял ее себе во всей полноте женственности и видел чаще всего через глаз фотоаппарата. И теперь «новая Ли» – глаз на метрономе, вырезанный из ее лица, дает отпор тиранической власти этого лица над его душой. Кроме того, Ман Рэй придумывает для этого предмета объясняющую его легенду: «Если вы любили кого-то, но больше не имеете возможности видеть его, вырежьте глаз из фотографии этого человека, приклейте вырезку к маятнику метронома и установите метроном на любой темп по вашему желанию. Терпите, пока хватит сил, и при этом держите в руке молоток. Затем попытайтесь одним ударом молотка разбить все устройство». Эти советы он предназначает для себя самого: надо постараться забыть Ли и стереть стойкий след, который она оставила во всем, что он пережил за три года их страсти. Свою фантастическую выдумку – вырезать глаз и наделить его безумной самостоятельной жизнью – Ман Рэй еще раньше применил в другой вещи. Она была создана на основе стеклянного шара, наполненного клочками бумаги, которые, если шар перевернуть, изображают снегопад. Ман Рэй поместил в центр этого шара глаз Ли: пусть кажется, что она попала в метель. Он стремился удержать Ли Миллер – любимую женщину, неукротимую Еву, которую не имел возможности стеречь, как тюремщик. Он фотографировал женщину через черную сетку, например на снимке, озаглавленном «Сеточка», но, несмотря на это, Ли убежала. Он, всемогущий, потерпел поражение. Ман Рэй чувствовал себя совершенно «осиротевшим», как говорила Жаклин, любовница скульптора Майо, которая была другом знаменитому фотографу. Он чах и слабел так, что его близкие стали волноваться из-за этого. Но ничто не помогало: Ман Рэй был в отчаянии из-за разрыва с Ли. Он начал строго следовать диете для похудения и выбрал именно ту диету, которую Флоренс, мать Ли, нашла в журнале Health and Food («Здоровье и еда») и прислала ему. Диета была суровой, и Ман Рэй действительно за несколько недель очень сильно похудел. В ту ночь, когда Ли покинула Францию, он допоздна изливал душу Жаклин, а перед этим бродил по Монпарнасу и пил так, что, казалось, опустошил все бутылки во всех барах. Вернувшись на улицу Кампань-Премьер, он взялся за работу, которая всегда была его самой требовательной владычицей и самым надежным спасательным кругом. Он положил на стол три вещи – веревку, чтобы повеситься, револьвер и нож, и встал перед ними, приставив к виску дуло пистолета. Эта имитация самоубийства много говорит о величине его поражения и силе отчаяния.
В последующие недели и месяцы Ман Рэй узнавал новости о том, как Ли устраивается в Нью-Йорке. С досадой он обнаружил, что она создает себе репутацию и делает рекламу на его имени, называя себя и Эрика «представителями школы фотографии Мана Рэя». Это маленькое жульничество рассердило его, но что он мог поделать? Ман Рэй оставил все как есть и продолжил работать.
Около пяти лет он и Ли не виделись, но через год после отъезда Ли во время своего свадебного путешествия с богатым египтянином написала Ману Рэю короткую записку: «Приезжай в Египет: это говорит Азиз; но приезжай скорей… по-прежнему твоя Ли»[128]. Здесь все сказано ясно и без иносказаний. Ли, только что вышедшая замуж, еще любила Мана Рэя необъяснимой любовью и в своем позолоченном одиночестве чувствовала все богатство этой любви.
Последний след Ли
Ман Рэй никогда не смог забыть Ли. То, что было между ними, оказалось столь сильно, что воспоминания не изменились и не стерлись. Значит, теперь надо было обессмертить эту любовь: пусть весь мир видит, что она не может иссякнуть, пусть она будет навечно вписана в историю искусства, ведь Ман Рэй уверен, что он – часть этой истории. Он занялся фотографией потому, что этого захотели критики, клиенты, – в общем, потому, что так решила молва. Но в глубине души Ман Рэй был уверен, что он художник – такой же крупный художник, играющий такую же решающую роль, как Пикассо или Эрнст. Он пишет на большом холсте размером 2,5 метра на метр свой шедевр: «В час Обсерватории: влюбленные».
На этой картине великолепные губы Ли Миллер плавают в парижском небе. Эту работу он писал два года. Губы, застывшие в улыбке, похожей на ту, которая была у Ли во время позирования, с помощью какого-то поразительного оптического эффекта приобрели сходство с двумя обнявшимися телами. Так купола обсерватории, которая находится совсем рядом с его домом, становятся убежищем для любовников. Все – правда, все реально, нужно только это видеть. В этой потрясающей метафоре внезапно открылась вся суть сюрреализма и фантастики. Ман Рэй решил, что должен дать объяснение на этот счет, и написал к картине комментарий: «Твой рот становится двумя телами, которые разделяет длинная волнистая линия горизонта. Это как земля и небо, как ты и я».
Ли заставила его вернуться к тому, чего Ман Рэй желал больше всего, – к живописи. После этого он стал гнушаться фотографией и считал ее вульгарным способом зарабатывать деньги. Только живопись казалась ему искусством, способным достичь истинной сути и мира, и его любви. Кроме того, он думал, что через живопись снова соединится с Ли. А она продолжала свои давние и долгие взаимоотношения с фотографией. И однажды сделала неожиданный поворот в карьере – предложила свою кандидатуру на должность официального военного корреспондента американской армии. Она получила драгоценное разрешение на выезд и проехала по местам боев, фотографируя полевые госпитали и медсестер у изголовья раненых солдат. После освобождения Европы от гитлеровцев она побывала в концлагере Бухенвальд и опубликовала ужасный репортаж о лежавших кучами трупах евреев. «Поверьте в это», – написала она в патетической статье. Ее взгляд отыскивает необычные, но вполне реальные сцены, сюрреалистические, но происходящие в действительности, – труп охранника-эсэсовца, плавающий в канале; дочь лейпцигского бургомистра, которая покончила с собой и лежит мертвая навзничь на кожаной кушетке. Раньше саму Ли резали на куски, разделывали как тушу Ман Рэй, Теодор и все, кто фотографировал ее так много, что это уже становилось оскорблением и причиняло ей ущерб. Теперь она фотографирует исхудавшие тела преследуемых евреев и побежденных немцев, фотографирует весь тот абсурдный пазл, который представляет собой жизнь, мозаику из отколотых от времени мгновений и кусков хрупких тел, которые, перемешавшись в случайном порядке, оказываются все вместе в сбивающем с толку альбоме жизни.
В 1947 году она вышла замуж за лорда Пенроуза и в том же году родила ему сына Энтони. С 1949 года Ли жила в Суссексе, в усадьбе Фарли-Фарм в поселке Мадлз-Грин. Там она вела мирную и, наконец, спокойную сельскую жизнь, которую лишь иногда прерывали поездки в Соединенные Штаты и в старую Европу. Об этом свидетельствуют фотографии, которые она сделала в этот последний период своей жизни. Все происходит так, словно природа восстановила гармонию, о которой Ли так много мечтала. Супруга лорда фотографирует детей, в особенности своего сына с его котом, и друзей, когда те приезжают к ней. Даже Пикассо выглядит спокойным на ее снимке, где держит ее сына на коленях. На других снимках Макс Эрнст и его тайная советчица, художница Доротея Таннинг, обрабатывают сад в четыре руки, а Ричард и Терри Гамильтон шьют в гостиной. Все кажется спокойным. Ли любит готовить и печь сладости, составлять из цветов букеты и устанавливать диеты, непосредственно происходящие от тех, которые когда-то в Покипси любила ее мать. Она проводит часть времени в Лондоне, а часть на своей ферме, время от времени пьет лишнее, пишет статьи для «Вог», немного фотографирует. И следует за Роландом Пенроузом в его путешествиях, чаще всего подчиняясь его желанию. Ее видят в Европе почти везде, но всюду она несет в себе какую-то разновидность депрессивного состояния.
Память о Мане Рэе не полностью стерлась из ее души. Ли всегда считала его человеком, который приобщил ее к искусству фотографии и сплел вокруг нее все те сети, которые она потом выгодно использовала. На ферме рядом с ней стояли две ее фотографии – на одной она была изображена в своей славе манекенщицы, а вторая была выполнена Маном Рэем в его студии-мастерской на Монпарнасе. На ней Ли лежит в своей кровати с голой грудью, вся залитая светом.
Пронизанная светом – вот кем она была по своей сути. Та, кто улавливала его лучи, властная богиня красоты, обладавшая невиданной внутренней силой, непослушная раба собственной легенды, женщина, которая все-таки сделала своим рабом Мана Рэя, который был большой любовью ее жизни, что бы она ни говорила на этот счет. После ее отъезда он лихорадочно писал в книжке для зарисовок: «Элизабет, Элизабет, Элизабет, Элизабет, Ли…» – и смог остановиться лишь для того, чтобы добавить, что он «навсегда заперт… сильно покалечен» этой роковой встречей.
Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944) и Консуэло Сунсин (1901–1979) Бурый медведь и птичка с островов
Возможно ли событие, в большей степени организованное судьбой, чем эта встреча? Кто бы мог подумать, что Антуан де Сент-Экзюпери, в то время директор компании «Аэропост Аргентина» в Буэнос-Айресе, однажды столкнется на своем жизненном пути с Консуэло Сунсин, которая к тому времени уже несколько месяцев была вдовой великого писателя Гомеса Каррильо, по происхождению гватемальца, и влюбится в нее?
Может быть, образ жизни, обусловленный родом деятельности Антуана, который ждал будущего счастья и был открыт для всякого непредвиденного и фантастического события, помог ему влюбиться в Консуэло с первого взгляда? Или сыграли свою роль одиночество, досада оттого, что он вынужден жить в городе, который ненавидел, и постоянная неудовлетворенность, не покидавшая его с детства?
А может быть, желание, как он говорил, «пристроить себя» – найти себе жену и иметь, наконец, «маленьких Антуанов», как он выразился в одном из писем к своей матери, – короче говоря, подсознательное желание порвать с опасностью, прочно устроиться в супружеской жизни, внести немного гармонии и порядка в свое богемное, хаотичное и направляемое случаем существование. Способ быть любимым и спокойней сносить горечь человеческого существования, которую он испытал уже очень маленьким ребенком.
Ностальгия, прикованная к сердцу
Кем был Антуан де Сент-Экзюпери в 1929 году, приблизительно через тридцать лет после своего рождения? Тот, кто раньше гордо заявил матери: «Я тороплюсь снова стать чуть больше варваром, молодым завоевателем»[129], теперь вернулся к своей природной меланхолии. Он снова чувствовал ту легкую депрессию, которая побуждала его бросать ей вызов – громко и весело шутить и заставлять других верить в его огромную жизненную силу и дерзкий дух. Может быть, это началось после смерти его брата, при которой он присутствовал? Столкнувшись так рано со смертью, он, возможно, именно после этого был не в состоянии по-настоящему прочно чувствовать себя ни в жизни, ни даже на службе? А может быть, он, выросший без отца, из-за этого чувствовал себя «выброшенным» – это его собственное слово – в мир, в горы, которые выше его? Этим горам он бросал вызов, поднимаясь на них и рискуя при этом разбиться. Или, возможно, дело было в его глубокой любви к матери? Свою мать, Мари де Сент-Экзюпери, он любил не душой, а едва ли не нутром, это была святая любовь и религиозная преданность. Он был не в силах оторваться от матери и писал ей так, словно еще был мальчиком, волновавшимся оттого, что не слышит, как она поднимается по ступеням парадной лестницы. Так она шла к нему в их замке Сен-Морис-де-Реман, чтобы поправить ему постель и поцеловать его. Жизнь в Кап-Джуби дала Антуану незабываемый опыт. Там ему пришлось столкнуться с требованиями, которые предъявляют пустыня и одиночество. Там он научился общению с Вселенной, которой управляют духовные силы, и, возвращенный к своему призванию быть «монахом», был приобщен к ночи, тишине и звездам. («Это полное убожество: постель из доски и тонкого соломенного тюфяка, таз и кувшин с водой, – писал он. – Я забываю о безделушках: есть только пишущая машинка и бумаги «Аэропоста»!»[130]) После этой жизни он в марте 1929 года возвращается во Францию. Здесь ему не по себе: на новом месте он чувствует себя не таким, как другие, чужим, почти иностранцем. Тайна Кап-Джуби сделала его писателем: Антуан написал книгу «Южный почтовый», после чего Галлимар предложил ему контракт на сочинение семи романов.
Кажется, у него все получается. Но более глубинные, более отдаленные желания не дают ему покоя и мешают чувствовать себя цельным и радоваться этому, как радуются его друзья-летчики Гийоме и Мермоз, быть, как они, только пилотом, открытым огромному простору неба, доступ в которое тесно связано со смертью. Сент-Экзюпери прекрасно знает обо всех рисках, с которыми сопряжена его профессия, он тоже умеет наслаждаться этим соседством со смертью. Но перед ним возникают другие возможности. Его назначают в Аргентину открывать новые маршруты, увеличивать репутацию «Аэропоста», расширять воздушные пути, доставлять почту все дальше, оборудовать новые остановки – это должно бы привести в восторг тридцатилетнего молодого мужчину. И Сент-Экзю пери восторгается, но лишь внешне. «Увы, я уезжаю в Южную Америку», – пишет он с печалью. Буэнос-Айрес наводит на него тоску. Упрощенная топография этого города, где нет ни родового прошлого, ни рельефа, ни по-настоящему живописных мест, порождает у Антуана своеобразный пессимизм. Зато страна его очаровывает. Его восхищают пампасы, море, большие круги на самолете над горами. Он находит возможность наслаждаться всем этим: пользуясь разведывательными заданиями, удирает из города и открывает для себя новые пейзажи. Антуан очень хорошо зарабатывает, и его зарплата настолько велика, что значительную ее часть он отдает матери, которая по-прежнему терпит нужду. «Я думаю, что вы довольны, а мне немного грустно, – пишет он ей. – Мне кажется, что я от этого старею»[131]. Желая убить время, он часто бывает на званых вечерах и обедах, чтобы утомить себя. Ходит в танцевальные залы и к платным партнершам-танцовщицам из этих залов, причем очень щедро одаривает этих женщин. Он бывает в кабаре и в пивных. И впрягается в работу над новой книгой, которая будет называться «Ночной полет». С девятого этажа современного дома на улице Флорида, где он живет, Буэнос-Айрес кажется ему «пустыней». Окрестности города не приятней, чем сам город: «Здесь есть только квадратные поля без деревьев, и в центре каждого – барак и железная водяная мельница…»
Значит, в путь! – сказал он себе, как Рембо. Бежать туда, где больше простора, где больше энергии! Он говорил, что любит теряться в «безбрежной ночи», почти касаться вершин Анд, огибать зубцы горных пиков и поздно ночью снова опьяняться тем, что он один летит над «землей людей», стережет и защищает ее. Отсутствие матери и то, что она далеко от него, побуждают Антуана писать ей письма, которые переворачивают душу читателя. Он снова становится маленьким мальчиком, задирой и тираном, поэтом и изобретателем, которым восхищались другие дети в семье и мать. Несчастен он именно оттого, что не может быть рядом с родными. Для него самое важное – связи, соединяющие вещи одну с другой и людей друг с другом, для него важно, чтобы его жизнь сочеталась с их существованием. Его лишает сил и приводит в отчаяние предчувствие беспорядка, потери, покинутости, жизни в городах, похожих на Вавилон, предчувствие существования, в котором все растворимо, в котором он станет равнодушным и поверит в относительность всего сущего. Любовные неудачи, и в особенности разрыв помолвки с Луизой де Вильморен, не способствовали его успокоению. Он знает, что идеальная семья, идеальная женщина не существуют, но не может не чувствовать глубокой тоски по ним и, будучи опытным, страдает от своей опытности. Детство становится мифом, и к нему приходят воспоминания о детских годах: «Самая добрая, самая мирная, самая дружеская вещь, которую я когда-либо знал, – это маленькая печка в комнате наверху в Сен-Морисе. Никогда ничто не придавало мне такой уверенности в существовании», – пишет он матери в январе 1930 года. Но печаль заводит его в области не вполне изжитого эдипова комплекса: он пишет, что, наряду с Млечным Путем и авиацией, идею бесконечности выражает «вторая кровать вашей комнаты. Болеть – это была чудесная возможность… Это был беспредельный океан, на который грипп давал право». Так в буэнос-айресском одиночестве «без очарования, без надежд, без всего»[132] детство становится для него последним ориентиром, даже временем, когда он жил по-настоящему. «Я не совсем уверен, что жил с тех пор, как закончилось детство»[133], – заявляет он в минуту отчаяния. В его тогдашних письмах повторяются, как припев, слова, удивительные по своей трагической силе и трогательной незрелости. Ни одна женщина в мире не может сравниться с матерью, к которой человек возвращается в «тяжелые минуты»[134]. Антуан признает, что изгнание – место потерь и разрушения связей и ничто не может с ним сравниться в этом отношении. Все чувства призваны на помощь, чтобы смягчить суровость и сухость аргентинских пейзажей. Пустынным засушливым пампасам он противопоставляет липы Сен-Мориса. Весне, которую разрушила жара и которая не может пробиться сквозь «эти тысячи кубометров бетона»[135], как он сказал своей подруге Ринетте, он противопоставляет ласковую прохладу семейного замка, большие аллеи черных елей и благодетельные дожди над парком. Он часто пишет о своем неосуществленном желании жениться. Например, в письме, датированном 20 ноября 1929 года, он рискнул сказать матери об этом одной короткой фразой, вставленной между описанием Буэнос-Айреса и просьбой сообщить «новости обо всех»[136]. Слово «жениться» произнесено, но Сент-Экзюпери, кажется, уже разочарован и с глубоким пессимизмом относится к браку. Неудачная помолвка, легкомыслие Лулу, которое его поразило и возмутило, его почти библейское отношение к супружеству (он считает брак священным и нерушимым), боязнь связать себя с женщиной, словно он им не доверяет, а также строгое католическое воспитание, которое он получил, его почти патологический идеализм и сильный эдипов комплекс – все это мешает искать любовь.
А потому он истощает свои силы в скрытой ненависти к женщинам – тратит их на взаимозаменяемых партнерш, разных Сюзи и Дейзи, которых считает «залами ожидания». Банальность этого сравнения позволяет понять, каким непомерно огромным был его идеал женщины. Своему ночному кружению по кабаре он противопоставляет ласковый образ Назарета, «Святого семейства», о котором мечтает. Но эта платоническая мечта причиняет ему страдания. Чем больше Антуан истощает свои силы в упрощенном донжуанстве, тем сильней становится эта боль. Он объясняет Ринетте, что по-настоящему не хотел эту должность в Аргентине и что его единственное «утешение – пилотировать самолеты»[137]. «Пилотировать» для него значит также писать книги, связывать людей между собой и как можно ближе подойти к космическим тайнам. Очень скоро реальная жизнь уступила место жизни мистической – беспорядочному и запутанному поиску ответа на великие загадки мира. В июне 1930 года его друг Гийоме пропал в Андах, и это стало для Антуана большим испытанием. Он поднял в воздух свой самолет и летал над теми местностями, где, как предполагали, мог пролететь Гийоме. Но поиски были безуспешны. Более, чем когда-либо, самолет становится для Антуана источником ласки и успокоения. В своей книге «Земля людей», обращаясь к Гийоме, он пишет: «Мне казалось, что я уже не ищу тебя, а бодрствую у твоего мертвого тела». С мистическим отношением к самолету и к профессии писателя у Антуана соединяется мысль, что и самолет, и написанный текст – стражи вечности и проводники, ведущие в нее людей. Гийоме выжил в этой аварии. Его считали мертвым, а он вдруг воскрес, чудесным образом спасенный крестьянами-горцами. «То, что я сделал, клянусь, никогда не сделал бы ни один зверь», – сказал он, и эти слова стали знаменитыми. Антуан возвращается в Буэнос-Айрес, к своей работе. Лето проходит как на каникулах, безнадежно банальное и холостяцкое.
Он зарабатывает много денег и по-прежнему прожигает жизнь, то есть тратит эти деньги без остатка, дарит платья и другие подарки своим «малышкам» и «курочкам», как он их называет. Чаще всего это платные партнерши-танцовщицы из кабаре, девушки легкого нрава. Но его душу постоянно жжет вопрос: где его место? Может ли мать, которую он называл «резервуаром покоя», уступить место другой женщине, которая тоже сумеет наполнить его жизнь столь дорогим ему семейным уютом?
Консуэло – дивное видение
И все же эта женщина приходит к нему. Она тоже еще не знает, что их встреча будет судьбоносной. Она плывет к нему на пассажирском судне дальнего следования «Массилия». Опираясь локтем о перила корабельного мостика, смотрит на приближающиеся берега Аргентины. Она очень красива, но выражение ее лица таинственно и загадочно. В его чертах отпечаталась печаль. А душа этой женщины полна огромным желанием любить, жить, тратить свои творческие силы. Ее зовут Консуэло Сунсин Сандовал, с 1927 года она вдова Гомеса Каррильо, дипломата и писателя, автора многих десятков сочинений – эссе и романов, путевых заметок и личных дневников, биографий и репортажей. Он умер в объятиях Консуэло и завещал ей все свое имущество. Сейчас она едет в Аргентину как раз для того, чтобы получить это наследство, причем едет по приглашению президента Аргентины, который был близким другом ее покойного мужа. Это эмансипированная женщина, что редкость в светском обществе Сальвадора – ее родной страны. В ранней юности, еще не достигнув совершеннолетия, она убедила своих родителей – богатых землевладельцев, производителей кофе, – разрешить ей отправиться в Европу и Соединенные Штаты, чтобы изучить английский язык и увидеть мир. Живя в Сан-Франциско, она впервые вышла замуж, а через два года впервые надела траур. Потом она, танцуя знойное танго, встретилась с Рудольфом Валентино, а в Мехико была любовницей Хосе Васконселоса, писателя и министра образования! Соблазнительная и соблазняющая, она очаровывает окружающих своими сказочными историями, и экзотическими рассказами, и талантом рассказчицы, и своим акцентом. В 1925 году она приезжает в Париж: такая женщина не может объехать стороной столицу искусств и литературы. Ей двадцать четыре года, и она надеется стать владычицей искусств и литературы. Ариньегас, посол Колумбии в Париже, даже охарактеризовал ее так: «Весь мир Консуэло, как маленький сальвадорский вулкан, извергался огнем на крыши Парижа». Она иногда была похожа на волшебницу-чародейку говорливостью, бодростью, способностью радоваться жизни и даром рассказчицы. Париж в то время был центром современного искусства; на Монмартре и Монпарнасе непрерывно бурлили творческие силы. И ей нравилось это возбуждение, эта беспокойная жизнь. Известность Каррильо и множество друзей, которых он имел и в мире литературы, и в мире моды, открыли Консуэло доступ в эти круги. Перед самой смертью Каррильо купил журнал мод, и благодаря этому она стала появляться на светских вечерах и даже играла в манекенщицу. Но в глубине души Консуэло лелеяла другие честолюбивые мечты. Возможно, она мечтала стать королевой всего артистического Парижа, но ее главным и тайным желанием было самой стать художницей. И она знала, что рано или поздно попытается это сделать. Впрочем, разве она уже не совершила несколько робких попыток в этом роде? Она ведь набросала несколько рисунков в духе новых идей красочности и абстракционизма – ярко окрашенные геометрические композиции в духе Сони Делоне. Консуэло очень красива. Ее чуть-чуть печальное лицо с тонкими чертами часто бывает похоже на лицо Греты Гарбо; взгляд почти отсутствующий, словно она смотрит издалека. Но сущность Консуэло полностью олицетворяет ее голос, которым она иногда злоупотребляет, зная, что против него невозможно устоять. Она словно воркует, интонации ее речи драматичны, как у Сальвадора Дали. Появляясь на званых вечерах, она без смущения и колебаний сосредоточивает на себе все внимание и всю беседу, рассказывая невероятные истории о своей родной стране – совершенно мифические рассказы, которые она каждый раз приукрашивает, маленькие сказки и легенды волшебной страны. Консуэло знает, что своими рассказами очаровывает слушателей и становится волшебницей, сияющей феей этих вечеров. «Я была другого происхождения, из другого племени, говорила на другом языке, – рассказывала она. – По линии семьи Сунсин во мне была большая доля крови индейцев майя (что было модно в Париже)». Со времени своей встречи с Каррильо она приобрела вкус к парижской жизни, но не к собственно светской, а к жизни артистических кругов. Она бывает у Ван Донгена, Габриеле Д’Аннунцио, одевается у Пуаре, высоко ценит Метерлинка, обедает у «Максима»… И вот летом 1930 года Консуэло плывет через моря в Аргентину. На борту трансатлантического лайнера «Массилия» она очаровывает соседей по почетному капитанскому столу. В пути она знакомится с Бенжаменом Кремье, писателем и лектором, работавшим с издательским домом «Галлимар», и с Рикардо Виньесом, пианистом-виртуозом. Они становятся ее друзьями и поклонниками. Консуэло принимает от них дань уважения и очаровывает их своими рассказами, юмором и разговорчивостью. Ей выпадает счастливый жребий: очарованный ею Виньес находит неудивительным, что ее полная фамилия Сунсин Сандовал. Консуэло пересказала его слова так: «Сандовал означает океан, бурю, свободную жизнь и воспоминания о великих конкистадорах…» Кремье в одном из разговоров упоминает имя Сент-Экзюпери. Консуэло не читала его первую и пока единственную книгу «Южный почтовый», но Кремье очень надеется подарить ей экземпляр этой книги в Буэнос-Айресе в конце конференции, которую он собирается дать в культурно-просветительном обществе «Альянс Франсез». Экзюпери обязательно придет на нее, поскольку тоже пишет для издательства «Галлимар». Путешествие продолжается счастливо и весело. Два друга, бородатые и обходительные, как Ландрю (шутливое сравнение с Анри Ландрю, французским брачным аферистом и убийцей, действительно носившим черную бороду. Он с 1915 по 1918 год очаровывал одну за другой состоятельных вдов, потерявших мужей в Первую мировую войну, получал доступ к банковским счетам очередной якобы избранницы, а потом убивал ее и завладевал ее деньгами и ценными вещами. В 1919 году он был разоблачен, осужден и казнен через обезглавливание. – Пер.), окружали Консуэло всем возможным вниманием. Ее прибытие в Буэнос-Айрес прошло под щелчки фотоаппаратов, президент прислал одного из своих министров встретить ее и отвезти в резиденцию. Однако Консуэло не забыла ни место, ни время конференции Кремье. Там ее ждала судьба.
Любовь с первого взгляда
После конференции она не остается на коктейль, а просит в гардеробе подать ей ее вещи и покидает зал. Однако какой-то смелый мужчина догоняет ее и преграждает ей путь. Это Сент-Экзюпери. Во время конференции он заметил прекрасную иностранку и не мог не познакомиться с ней. Начался разговор, наполовину шутливый и наполовину галантный. Каждый из собеседников играл свою роль, но каждый уже узнал в другом себя. Любовь возникает с первого взгляда, как в сентиментальном романе. Консуэло хочет уйти, делает вид, что плохо чувствует себя из-за навязчивости незнакомого мужчины, но выслушивает его просьбу. Антуан приводит свои доводы и вдруг без всякой подготовки спрашивает, бывала ли она уже в самолете. Консуэло признается, что нет. «Значит, это станет вашим воздушным крещением», – без колебаний заявляет Антуан. И вот они, вместе с сопровождающими их Кремье и Виньесом, стоят на аэродроме компании «Аэропоста Аргентина». Сент-Экзюпери берет на время один из самолетов компании, все четверо садятся в него и отправляются на воздушную экскурсию над Буэнос-Айресом. Лучше всех об этих незабываемых минутах рассказала Консуэло в своих мемуарах:
«– Посмотрите вниз, это река Ла-Плата… Надеюсь, у вас нет морской болезни…
– Есть, но совсем небольшая.
– Тогда вот вам маленькая таблетка, высуньте язык…
Он протолкнул таблетку в мой рот, – рассказывает Консуэло, – и, нервно сжимая мои руки, сказал:
– Какие у вас маленькие ладони! Как у ребенка! Отдайте мне навсегда свои руки!
– Но я не хочу стать безрукой!
– Какая вы глупая! Я прошу вас выйти за меня замуж. Я люблю ваши руки и хочу сохранить их для себя одного.
– Но послушайте, вы знаете меня всего несколько часов!
– Вот увидите, вы выйдете за меня замуж!»[138]
Антуан прерывает этот вычурный галантный разговор, снова берется за рычаги своего самолета, и машина начинает описывать круги над Буэнос-Айресом. Кремье и Виньес словно вывернуты наизнанку. «Их рвет», – уточняет Консуэло с обычной для нее естественностью! Но она и Антуан уже чувствуют опьянение любовной встречи. Самолет делал круги в небе; внизу сиял огнями город, похожий на сказку. Это было похоже на яркие волшебные круги на картинах Сони Делоне. После приземления Сент-Экзюпери стал убеждать Консуэло поселиться у него. Он лег на диване в гостиной, а ей предоставил свою комнату. На следующий день они проснулись вместе.
Так началась долгая история любви этих двух сорванцов. Они вместе пройдут через разлуки и трудные встречи. И вместе переживут испытания – «тяжелые минуты», о которых часто упоминает Сент-Экзюпери: катастрофы его самолетов, конец прекрасной мечты в «Аэропосте», начало войны, эмиграцию в Соединенные Штаты и постоянную неудовлетворенность Антуана.
И снова почувствуют радость первых дней в минуты величайшего счастья в Альмерии, в Марокко и особенно на Лонг-Айленде, в доме, который сняла Консуэло и назвала «домом Маленького принца». Два сорванца, против своей воли унесенные бурей войны.
Беспорядочная страсть
Но Сент-Экзюпери по натуре не уравновешенный человек и не оптимист. Консуэло, менее закомплексованная, чем он, меньше отягощенная грузом традиций своей среды и семьи, очень скоро поняла, что ее «жених» не свободный человек, несмотря на свои тридцать лет и на должность директора в престижном агентстве. Он очень привязан к своей семье и особенно к матери и не может избавиться от груза традиций, внушенных ему семьей; не может он избавиться и от печали, которая сопровождает его с самого рождения. Он одержим идеей связи, которая, по его мнению, решает все проблемы существования, чувств, общества и политики. И чувствует себя жестоко «лишенным связей», неспособным включиться в гармоничный цикл жизни человеком, которого бросают из стороны в сторону события, внешние по отношению к его сознанию. Человеком, который отдан на волю движений мира, его беспорядков, разрывов, переворотов. В детстве он придумал для себя, брата и сестер игру в рыцаря Аклина. Когда дети видели, что начинается сильная гроза, они бежали под дождем от еловой аллеи в парке Сен-Мориса до прихожей замка, стараясь избежать первых крупных капель дождя. Тот, кто намокал меньше всех, становился святым рыцарем. Всю свою жизнь Антуан не переставал бросать вызов беспорядку мира и старался снова связать себя с духовной космической гармонией. Эта связь была для него единственной возможностью пересечь время. Его постоянная неудовлетворенность подсказала ему грустную музыку: он сочинил маленький ноктюрн, полный безутешной печали. Это же чувство неудовлетворенности в каком-то смысле научило его «выживать» в мире, где он не узнавал себя самого. Консуэло, несмотря на всю нежность и внимание Антуана по отношению к ней, обнаружила его недостатки. Она очень быстро поняла, в каком состоянии находится Антуан, к тому же другие взяли на себя обязанность сообщить ей про его состояние. Она была не очень хорошо принята в семье своего будущего мужа. Дважды вдова, эмансипированная, общительная, иностранка, коверкающая французский язык, экспансивная и задорная, она обладает всеми качествами, чтобы не понравиться аристократической, католической, с очень цивилизованными и провинциальными нравами семье Сент-Экзюпери. В сущности, она не знает их правил и обычаев. Позже, когда Антуан женится на ней вопреки мнению матери и сестер, старшая сестра, Симона, убежденная, что брак был неравным, дала резкую и окончательную характеристику жене брата: «Консуэло? Графиня из кино».
Так Консуэло навсегда приобрела репутацию женщины, виноватой в трудностях своего мужа, которого его родные считали героем и сверхталантливым человеком. Репутация женщины, которая в конце концов похитила любимого сына у его матери и не помогала родным успокоить чудо-ребенка. Значит, на смену дням беспечной радости и страстной любви пришла пора отрезвления и разочарований. Предчувствовала ли уже Консуэло, что ее жизнь с новым мужем будет сложной? Оскорбления быстро летят в нее одно за другим и не дают ей передышки. «Ночной полет» опубликован с предисловием Андре Жида, который недолюбливает Консуэло. Эта книга имеет успех и получает приз «Фемина», она приводит в восторг читателей и особенно читательниц, которые толпятся вокруг Антуана. И наконец, Антуан недавно стал любовником богатой Нелли де Вогюэ. Она мечтала быть единственной и почитаемой супругой, а будет вынуждена терпеть измены и равнодушие мужа и в то же время принимать сожаления и извинения Антуана. Так она постепенно открывает для себя его истинную натуру – обнаруживает, что он закомплексован, инфантилен, незрел, страдает депрессией. Вот обратная сторона Антуана. Но у него есть и другие, тоже подлинные качества – у него светлая, как солнце, душа, он идеалист, он забавен и всегда влюблен. Он любит Консуэло, называет ее «мое золотое перо», или «Пимпренель» – так называется красивый лесной цветок (его русское название – бедренец. – Пер.), или «моя маленькая дикая душа». Но Консуэло не из тех женщин, которые позволяют, чтобы им рассказывали сказки. До определенной степени она послушна, но потом начинает упрямиться и отказывается подчиниться, а к этому Антуан совершенно не привык в отношениях с женщинами. «Мое сердце начало рычать от ревности, – пишет она. – Моя испанская кровь забурлила. Когда он приходил домой, его носовые платки были в губной помаде. Я не хотела быть ревнивой, но мне становилось грустно»[139]. С этого времени у влюбленной пары начались настоящие трудности. Консуэло, чтобы прогнать от себя тоску и грусть, бывает в богемных и артистических кругах, к которым Антуан чувствует отвращение. А сам он находится во власти чар Нелли де Вогюэ или у нее под ярмом. Ему нравится аристократизм Нелли и то, что она знает тайные правила опасных связей. С Нелли он ведет интеллектуальные беседы, а у Консуэло слушает роскошные легенды ее родины, которые она развертывает перед ним, чтобы снова его завоевать. Независимый ум и характер Антуана заставляют его бежать от трудностей и шума, которые создает его жена. Он не хочет порывать с ней, считая, что их брак священен, но она смущает его и приводит в замешательство. Антуан не понимает тонкостей любовной психологии и потому не прилагает никаких усилий для того, чтобы исправить свои неловкости и ошибки, однако раскаивается в том, что их совершил. Так, постоянно качаясь то в одну, то в другую сторону, движется вперед семейная жизнь Антуана и Консуэло. Нелли де Вогюэ часто пытается их разлучить, но Сент-Экзюпери каждый раз сопротивляется ей. Когда Нелли спрашивает его, как он может выносить болтовню жены, он отвечает, что привык к неподражаемому щебетанию «птички с островов».
Понемногу он начинает замечать достоинства Консуэло – внимание к нему, терпение, с которым она встречала громоподобные вспышки его гнева, верность, несмотря на его «флирты», и в первую очередь – ее природную доброту, ее наивность «дикого» ребенка. Он несколько раз подряд вынуждал ее переезжать с места на место, иногда даже заранее не предупреждая о переезде, и так они переезжали из отелей в квартиры в зависимости от того, сколько имели денег. Чтобы обеспечить себя и ее, Антуан согласился писать репортажи для «Пари-Суар» и «Интрансижан». И адаптирует для кино «Южный почтовый», а в парижских кинотеатрах уже идет фильм «Ночной полет». Он побывал в Советском Союзе, в Марокко, а в 1936 году совершает свою главную поездку – в Испанию, на войну. Для него это то же, что литературное творчество, только иного свойства. Летать – значит соединяться с другими, связать себя со всем Великим миром и так же, как при написании книг, находиться ближе всего к тайнам. Он задумал бросить новый вызов, и Консуэло безуспешно отговаривает его: Антуан хочет побить рекорд перелета по маршруту Париж-Сайгон. Ничто и никто не может заставить его отказаться от этого проекта. Страстное желание совершить этот полет для него значит больше, чем Консуэло, и даже больше, чем мать, которая волнуется за него. Однако она волновалась не зря: через три дня после вылета самолет Антуана перестал выходить на связь. Консуэло впала в отчаяние, к большому несчастью своей свекрови, которая потребовала от нее быть сдержанней. Но Консуэло теперь, когда мужа не было рядом, почувствовала, как он для нее важен. Во время этого горестного ожидания она поняла, что Антуан – ее «судьба, [ее] вера, [ее] цель…». Наконец Антуан дает о себе знать. «Да, это я. Я жив», – говорит он жене по телефону.
Дни полного одиночества в Ливийской пустыне стали определяющими для его взгляда на мир и его творчества. Консуэло снова в милости. Уже в Каире, 3 января, он написал матери трогательные слова: «Ужасно оставить кого-то после себя – кого-то, кто нуждается в тебе, как Консуэло. Ты чувствуешь огромную необходимость вернуться, чтобы защитить, и срываешь себе ногти, царапая ими этот песок, который мешает тебе выполнить твой долг, и ты мог бы сдвинуть горы»[140]. Антуан всегда будет возвращаться к Консуэло в трудные часы, в «тяжелые минуты», словно он был не способен жить с ней в счастливое время. В Ливийской пустыне, во время эмиграции в 1940 году, в Америке, после отъезда из Соединенных Штатов на войну, то есть когда он не видел жену или мало ее видел, он больше всего ее любил, находил в ней все возможные достоинства. Ей адресованы самые прекрасные любовные письма, которые когда-либо были написаны, – детские и страстные, в которых любовь священна и идеальна, как в рыцарские времена.
Духовное одиночество
Варварская жестокость, свидетелем которой Антуан был в Испании, усилила его природный пессимизм, депрессию и циклотимию. Консуэло смирилась с этим и решила не покидать мужа, но при этом жить своей жизнью. И тогда стала развиваться духовность, которой Антуан был полон с детства. Он постепенно вернулся к христианству, от которого когда-то ушел; ясновидец от природы, он предвидит катастрофическое будущее, чувствует, что человек находится под угрозой, что человеком манипулируют. Во время Второй мировой войны эти предчувствия оформятся в повторяющиеся в его сочинениях образы Вавилона и термитника. Ценности, которые внушила сыну Мари де Сент-Экзюпери, так дороги ее сыну, что он не в силах видеть, как они растворяются в слепом и безымянном интернационализме. Добродетели детства становятся ему все дороже, а «бедная маленькая Консуэло» кажется безоружной и обреченной. Поэтому он не может и думать о том, чтобы покинуть ее. Но именно в это время желание быть независимым, потребность в автономии, в личностном бегстве отнимают Антуана у его обязанностей и у Консуэло.
Он решает отправиться в новый полет – побить рекорд перелета Нью-Йорк – Огненная Земля. Однако летчику Сент-Экзюпери не всегда везет, скорее он неудачлив: так говорят механики и его друзья-пилоты.
Консуэло хочет отговорить его от этого проекта, но снова вынуждена отступить; Антуан почти с радостью отправляется в путь. Но 14 февраля его самолет потерпел крушение над Гватемалой. В телеграмме, которую послали Консуэло, извещая ее об аварии, было сказано, что у ее мужа тридцать два перелома, из которых «одиннадцать смертельных». Она помчалась к нему и встретилась с ним в Панаме. Сент-Экзюпери изуродован и близок к смерти. Она поддерживает его в этом испытании, утешает, сочувствует его страданиям. А еще она много молится о нем, ходит по маленьким церквам, умоляя местных святых спасти ее супруга. Но противоречивые чувства к ней Антуана снова берут верх, и он с больничной постели приказывает Консуэло вернуться во Францию. Она подчиняется, но их отношения дали трещину. «Постепенно я научилась погружать свои чувства в забвение», – пишет Консуэло. Вернувшись во Францию, Сент-Экзюпери начинает готовить новую книгу, она будет называться «Земля людей». Отношения между супругами становятся все более неупорядоченными и бурными. Они переезжают на другое место. Здесь они живут под одной крышей, но совсем не видятся, выходят на люди поодиночке; каждый возвращается к своим друзьям и своей среде. Консуэло даже нашла себе работу на радиостанции, вещающей для испанских иммигрантов. Она приглашает туда известных людей, проезжающих через Париж, и теперь очень хочет стать независимой в финансовом отношении. Антуан проводит много времени с Нелли де Вогюэ, которая старается облегчить издание его новой книги и представляет своим влиятельным друзьям; однако он не забывает Консуэло. Его привязывает к ней какое-то иррациональное чувство, с которым он не пытается бороться. В 1939 году он приобретает по системе «наем-продажа» восхитительное имение в департаменте Сена-и-Марна, возле Комб-ла-Виль. Это загородный особнячок XVIII века, весь белый, и называется он Ля-Фёйере. Консуэло поселяется в нем и даже покупает автомобиль, чтобы ездить оттуда в Париж. Антуан порой навещает ее, и тогда Консуэло устраивает праздник. Она пускает в ход все свои кулинарные таланты, но в первую очередь проявляет способности декоратора, украшая цветами стол. В такие минуты Консуэло и Антуан счастливы, несмотря на то что нередко ссорятся. Но вот наступает 3 сентября 1939 года: объявлена война. Неудачи французской армии, промедления правительства и решимость немцев заставляют французов бежать в еще свободную часть Франции. Антуан внезапно, словно свалившись с неба, появляется в Ля-Фёйере и убеждает Консуэло бросить все и ехать в По. Через эту местность проезжают вражеские поезда с золотом, поэтому там должно быть не так опасно.
И Консуэло слушается мужа. Она оставляет одежду, мебель, вещи, картины и уезжает одна, с единственным чемоданом в руке. Антуан же прибывает в свою военную эскадрилью номер 2/33. Задание – разведывательные полеты над Аррасом – не только побуждает его написать самые прекрасные страницы «Военного летчика», но и, в первую очередь, возрождает в нем чувство хрупкости мира и сознание того, что он связывает людей между собой. Все, что разрывает связь между людьми, он считает препятствием для познания Бога и неисполнением своего человеческого долга. Письма, которые он посылал тогда своей семье, свидетельствуют об этом его горячем желании быть вместе с другими. Решающее слово в его жизненной философии – присоединиться, точней, присоединиться и соединить. «Я хотел бы, чтобы мы все собрались вокруг белого стола»[141]. Из своего изгнания он посылает Консуэло письма до востребования в По или через посредников. Он приезжает к ней, но встреча после разлуки, как обычно, переходит в спор. Антуан сначала целует ее, потом не замечает и наконец отправляет прочь. Снова отъезд, снова возвращение в По.
На этот раз они вдвоем едут в Лурд, чтобы искупаться в чудотворном бассейне. Они провели ночь любви в отеле «Амбассадор». Сент-Экзюпери полон сострадания к Консуэло, просит у нее прощения за те страдания, которые ей причинил, и за те, которые будет причинять «снова и снова».
Наконец он поселяет ее в Оппед-ле-Вье и поручает заботиться о ней группе молодых артистов из Марселя, которые поселились в этом городке, высоко в горах Люберон и твердо решили провести там всю войну, чтобы, как они говорили, оберегать цивилизацию.
Консуэло становится феей и духом-покровителем этого места. Она очаровывает марсельских артистов волшебными рассказами, живостью, своими оригинальными идеями и праздниками, которые устраивает. К ней присоединяются ее друзья-сюрреалисты, Дюшан, Макс Эрнст. В нее влюбляется красавец-архитектор Бернар Церфус, и Консуэло покоряется его очарованию, но продолжает неустанно ждать случайных новостей об Антуане. До нее доходят телеграммы, в которых он снова признается ей в любви и уверяет, что любит ее страстно. В это время Сент-Экзюпери уже находится в Соединенных Штатах. Он приехал в Голливуд по приглашению Жана Ренуара (кинорежиссер и актер, сын художника Огюста Ренуара. – Пер.) и чувствует то угрызения совести из-за того, что он не на фронте, то беспечную радость. Он встречается с Гретой Гарбо, Марлен Дитрих, Жаном Габеном, со всеми американскими звездами, которые чего-то стоят, и временами вспоминает о «бедной маленькой Консуэло», которую оставил (покинул) во Франции. А Консуэло ждет его и в Оппеде, в маленьком кружке «придворных», который она себе создала, тоже одурманивает себя, играя роль принцессы Долорес среди «новых трубадуров». Сент-Экзюпери всегда чувствует себя недостаточно любимым. Ему уже не хватает Нелли де Вогюэ, и он очаровывает молодую американскую журналистку Сильвию Гамильтон, которая будет следовать за ним до самой смерти. Возле Сильвии он набирается сил и снова молодеет.
Стараясь обезвредить ревность Консуэло, он пишет ей абсолютно искренние письма. Они не обманывают Консуэло, но она верит его приводящим в замешательство признаниям. Антуан уверяет, что ей незачем бояться ее «врагини»; что его единственная профессия – писать; что Консуэло навечно останется его супругой, которую соединил с ним священный обряд. И советует ей не слушать сплетни недоброжелателей… С этого времени он принимается за работу над рассказом о войне, который ему заказали американские издатели Рейнальд и Хичкок. В этот раз он пользуется диктофоном, что позволяет добиться менее отточенного, но более прямолинейного стиля, который больше соответствует содержанию рассказа. В конце октября он наконец посылает Консуэло телеграмму, в которой просит ее как можно скорей выехать в Соединенные Штаты. Знал ли он тогда, что скоро выехать из Европы станет невозможно из-за наступления немецких войск? Консуэло подчиняется. Церфус прощается с ней, его сердце разбито. И пишет ей, когда она уже готова к отъезду в Португалию, откуда улетит в Соединенные Штаты: «Он твоя мечта, и он летает. Иногда я желаю ему зла, но сразу же молюсь, чтобы он мечтал о тебе и вернулся к тебе, чтобы ты забыла свой страх потерять его…»
Последний акт
И вот 6 ноября 1941 года Консуэло наконец соединяется с ним. У Антуана прекрасное настроение. Он опять верит в великую любовь и в Консуэло – идеальную женщину, супругу-мечту, которая будет его беречь и охранять. Но он не учитывает, что жить согласно его мечте всегда очень трудно и что эта трудность останавливает его в тот самый момент, когда он может осуществить мечту. Антуан встречает Консуэло на вокзале, и она верит, что они снова будут вместе. Но эта иллюзия очень скоро рассеивается – как только Консуэло приезжает в квартиру Антуана. О том, чтобы она жила вместе с ним, не может быть и речи, поэтому он снимает для нее квартиру. Оскорбленная, уставшая от долгой дороги, выбитая из колеи поведением Антуана, Консуэло находит убежище в тишине и молитве.
Супруги избегают друг друга, потом сближаются, потом снова расходятся. Начинается весь адский круг измен и угрызений совести. Главный в этой паре Антуан: он принимает все решения. Это он решает вновь увидеться, не обедать вместе, не замечать друг друга, снова встретиться в пивной, подарить украшение, когда чувство вины слишком сильно, и так далее. В своих мемуарах Консуэло напишет: «Я чувствовала себя как королева, у которой не отнимают титул, но которую отодвигают в сторону…»[142] Летом 1942 года Антуан обессилел от интеллектуальных споров по поводу исхода войны и от разногласий с нью-йоркскими французами, у которых впал в немилость из-за своих политических взглядов (этой интригой против него руководили Андре Бретон и Жак Маритен [философ и богослов. – Пер.]). Поэтому Консуэло решила найти ему дом подальше от «мусорной ямы», как он называл Нью-Йорк. В шикарном квартале Лонг-Айленд она снимает большой белый особняк Бевин-Хаус. Супруги поселились там и твердо решили ни с кем не встречаться в течение сезона. Начинается новая жизнь – счастливая и радостная. Антуан, очень спокойный и снова влюбленный в свою жену, пишет по заказу своих американских издателей маленькую сказку. Это будет «Маленький принц», к которому он сам нарисует иллюстрации. Иногда – редко – в этом доме проводят день или два гости: Андре Моруа с женой, Бернар Ламот, которого Сент-Экзюпери сначала собирался попросить проиллюстрировать сказку, Дени де Ружмон, которому, правда, удавалось продержаться в гостях дольше, потому что он хорошо играл в шахматы, а Антуан любил эту игру. Но Антуана снова охватило желание бежать, выбраться из кокона счастья. Под предлогом улаживания некоторых административных формальностей он отправляется в Нью-Йорк, чтобы встретиться там с Сильвией Гамильтон. Ему не удается обмануть Консуэло, но она не желает ссориться с мужем. Она знает: его ничто не может изменить. Работа над сказкой идет хорошо. Антуан увлекся игрой и рисует своего маленького персонажа постоянно и лихорадочно. И многие черты внешности Маленького принца срисованы с Консуэло – шарф, который она носила в стиле гарсон, стрижка «львица», которую она делала в Париже, даже слегка удивленное выражение лица и вздернутый нос.
Для того, кто умеет читать между строк, в этой сказке рассказана вся история влюбленной пары. Роза – это Консуэло; она покинута на своей планете, но Маленький принц все-таки возвращается к ней, почувствовав отвращение к людям и к планете Земля. Антуан наделяет розу чертами характера, которые ему совершенно не нравятся в Консуэло (роза болтлива, кокетлива, расточительна), но его трогают ее хрупкость (она кашляет) и ее одиночество. Себя самого он изображает в облике главного персонажа и сам дает себе уроки поведения. «Ты становишься ответственным за свою розу…» – подсказывает ему лис. Вот именно – ответственным! Но хорошо ли он нес ответственность за «свою» Консуэло, которую заставляет вытерпеть тысячу и одно оскорбление? Несмотря на свои похождения и шалости на Манхэттене, Консуэло снова находит в Бевин-Хаус покой. Но ход событий ускоряется. В ноябре 1942 года Сент-Экзюпери решает, что обязан играть роль в политике. Что он должен не только быть писателем, которого любят французы, но и направлять французов, стать их совестью. В его душе медленно зреет желание служить Франции и на фронте, сражаясь с врагом, и одновременно в качестве духовного руководителя. Он уверен, что обладает внутренней силой, и хочет передать ее французам. Это желание быть полезным неотступно и с трагической силой преследует его два последних года его жизни. Консуэло понимает, какой крутой вираж начал в одиночку Антуан, и беспокоится о муже, но он стал неуправляемым и крайне упрямым. И она, после очень усердных стараний, отдает его в руки Бога.
Странно, но отголоски войны усилили страсть, соединявшую супругов. Может быть, Сент-Экзюпери чувствовал, что та цивилизация, которая ему так дорога, погибает, что мир его детства, мир, в общем и целом связанный с Сен-Морис-де-Реман, рушится? Как можно было спастись от этой муки? Как ее выдержать? Консуэло сияет над хороводом его будто бы «любимых» женщин, как неподвижная звезда. Она выдерживает все его измены, она всегда готова прийти к нему. Поэтому война усиливает чувство, влекущее его к жене, несмотря на все кратковременные и случайные любовные приключения, которые могли у него быть в это время. На его любовной карусели есть место и у Нелли де Вогюэ; карусель поворачивается, и она снова оказывается рядом с Антуаном. Нелли успокаивает его и производит на него впечатление своим богатством, сетью знакомств, умением держаться непринужденно и умственной свободой. Вот почему ему льстит, что Нелли его так любит. Нелли пользуется ослабившей его депрессией и начинает усиливать свое присутствие в его жизни. Но чем больше она навязывает ему свои власть и внимание, тем больше Консуэло кажется ему покинутой и безоружной «розой», которую он должен защищать. Разве в «Маленьком принце» он не написал о розе: «Она благоухала для меня и освещала меня. Я не должен был убегать! Я должен был бы почувствовать ее нежность за ее жалкими хитростями. Но я был слишком молод и не умел ее любить»[143]? Так разум и неразумные чувства спорят друг с другом, приводя его в замешательство. Мнимые друзья интригуют против Антуана, их козни лишают его сил и сбивают с толку. Для него это время полной растерянности и смятения. Ему кажется, что его покинули все – и писатели, и штаб, который пока отказывается исполнить его желание и принять писателя-летчика на военную службу. Начинается адская спираль депрессии и паранойи. Преследования, ощущение, что он отвергнут, недоверие к друзьям – все соединилось, чтобы отделить его от людей и привести в отчаяние. Его письма свидетельствуют об этой боли и о его «духовном одиночестве», как он это называл. Лето закончилось, и супруги возвращаются в Нью-Йорк. Антуан винит себя в том, что наслаждался уютной сельской жизнью в Нортпорте и писал сказку для детей, когда Франция оккупирована и похоже, что немцы выигрывают войну.
И в конце 1942 года он обратился ко всем французам с призывом, который был опубликован в «Нью-Йорк таймс». Это была просьба помириться друг с другом и взяться за оружие.
За одно лишь это нью-йоркские «бойцы сопротивления» начали изматывать его обвинениями и осуждать. Для них примирение между сторонниками Петена и повстанцами де Голля было невозможно. Из-за своего наивного поступка Сент-Экзюпери лишился доброго имени и потерял друзей; его вступление в армию стало выглядеть подозрительно и вызывало у всех французских левых презрение к нему. Но Сент-Экзюпери упорно настаивал на своем: нужно «собрать стадо», то есть собрать людей вместе, всех без исключения. Он с ужасом предвидел впереди чистки, поспешно вынесенные приговоры, народные и чрезвычайные суды, революционные времена с их нетерпимостью и линчеваниями.
Причиной его горя, о котором он писал, было именно это предвидение трагедии, от которого не имелось спасения. Медленно, но неуклонно он идет к своему добровольному мученичеству. Уже в счастливые дни работы в «Аэропосте» он считал, что быть летчиком – это способ защищать людей, что крылья его самолета похожи на крылья ангелов и укрывают людей своей нежностью. Теперь он считает, что должен рисковать собственной шкурой в боях. Для него это были и долг мужчины, и условие для того, чтобы стать святым. Он должен очистить свои душу и тело, смыть с них перенесенные оскорбления и снова стать чистым, как в детстве. В его письмах заметна странная перемена: то, что раньше было его личной жалобой, теперь приобретает более широкий смысл и начинает относиться к людям вообще. Его мысль приобретает философское и моральное направление и вращается вокруг причин размывания ценностей, слепой и варварской унификации мира, городов-Вавилонов, где люди говорят на тысяче и одном языке, но не могут общаться между собой ни на одном, вокруг утраты чистоты и невозможности примирения между людьми. Гигантским городам он противопоставляет покой деревень, работе на конвейере – точность ремесленников, стиранию различий между обычаями, полами, культурами – своеобразие духа каждого народа и каждой нации. В этих письмах есть все жестокое и сатирическое, что выразил Фриц Ланг в своем фильме «Метрополис». Только Консуэло понимает душевную боль Антуана и его одиночество, которое он теперь называет «духовным». Другие женщины – Нелли, Сильвия, Энн Линдберг – напрасно стараются выручить его, вернуть ему вкус к жизни: он теперь совершенно не верит в жизнь. Ускорение хода времени и знание, что он, в сущности, заперт в тупике, побуждают Сент-Экзюпери идеализировать его отношения с Консуэло. Знает ли он, что обречен погибнуть в этой наступающей катастрофе, в результате которой, с его точки зрения, мог возникнуть только ад, только мир, в котором ему невозможно жить? Консуэло больше не пытается отговорить его от вступления в армию. Но может быть, она втайне молится о том, чтобы американские власти не дали ему разрешения пилотировать самолеты.
Однако она знает, как хорошо Антуан умеет убеждать и как сильна его решимость. Поэтому только успокаивает его тоску и горе и утирает его слезы. Он благодарен ей за внимание, хотя по-прежнему постоянно бывает у Сильвии Гамильтон. Наконец он получает право отправиться на фронт. Американский штаб поручает ему шесть заданий по воздушной разведке – фотографирование местности с воздуха на невооруженном самолете. Консуэло в своих мемуарах подробно описывает его отъезд. Все пришлось организовывать своими силами. Антуан спешил уехать, старался приобрести себе военную форму и нашел ее только у торговца театральными костюмами на Манхэттене. Форма не совсем подходит ему по росту, но это не важно: у него такая гордая осанка в этой воинской одежде! Последние споры по поводу его статьи в «Нью-Йорк таймс» в конце концов разлучили его с той парижской интеллигенцией, которая продолжает позорить и оскорблять его. На эти нападки он отвечает с образцовым достоинством и даже в последний момент решает не посылать Андре Бретону ответное письмо, которое уже написал. Однако в этом письме Сент-Экзюпери выражает свой гнев против Бретона и презрение к нему и ко всем своим ложным друзьям, а их поведение называет похожим на предательство. День, когда все его близкие соберутся вместе, кажется ему далеким, а задача собрать их – неосуществимой; уже в июне 1940 года он жаловался на это матери[144]. «Военный летчик» и «Письмо заложнику» – его последние сражения ради этой цели. Остается «Маленький принц». Сент-Экзюпери не может предположить, что эта сказка будет иметь всемирный успех, и поручает ее своим издателям. И вот 1 апреля 1943 года он прощается с последними, кто остался ему верен, – Пьером Лазаревым (очень известный в то время журналист, впоследствии также издатель, сын эмигрантов из России. – Пер.) и Дени де Ружмоном. Затем он позирует для «Лайф» в военной форме. Но, кажется, ничто не может избавить его от тайной тоски и, возможно, от тяжелых предчувствий. А еще он, может быть, вспоминал о том, как когда-то давно советовался с ясновидящей и та предсказала ему, что он умрет во время полета.
В середине апреля, перед самым отъездом Антуан пишет своей жене последнее письмо, в котором дает объяснения по поводу всего – своего здоровья, аварий, в которые попадал, своей карьеры и причин, по которым «наперекор всему» уезжает на фронт. «Я ухожу на войну, – с отчаянной удалью пишет он. – Больше не могу терпеть, что я далеко от голодающих. Я вижу лишь одно средство быть в мире со своей совестью – как можно больше страдать»[145]. Связь, соединяющая супругов, не может устоять против его воли, против этой, духовной и экзистенциальной одновременно, потребности. Уехать, чтобы страдать. Уехать, чтобы быть единым со своими. Эти слова сказаны резко и жестоко, в почти мистическом тоне. Консуэло покоряется этому требованию. В последнюю минуту перед расставанием с женой он говорит с ней о плане, который они уже долго обсуждали вместе, – прожить старость счастливо и уединенно на какой-нибудь асьенде в Латинской Америке. Но оба знают, что это лишь поэтическая идеальная мечта.
Быть дома – вот, вероятно, главное желание, которое преследует Антуана в это время. Манхэттен для него – позолоченная тюрьма, в которой он задыхается. Ему душно в квартире Греты Гарбо среди мебели, обитой рыжеватым плюшем, среди больших зеркал, искусственно превращенных в матовые, рядом с темно-зеленым книжным шкафом, немного старомодным и покрытым чем-то вроде венецианской патины. Он задыхается, когда стоит перед окнами во всю стену, выходящими на Гудзон, и видит сквозь них, «как корабли скользят по воде как будто на уровне ковров…». Ему кажется, что здесь он лишь исполнял свои обязанности и теперь выполнил все контракты. Он подарил Сильвии Гамильтон рукопись «Маленького принца» и в придачу к рукописи свой старый «Цейс Икон», попрощался со всеми, кого любил, с Консуэло в последнюю очередь, потому что хотел, поцеловав ее на прощание, унести с собой на корабль этот поцелуй. Чтобы она была последней женщиной, которую он поцеловал, и прикосновение ее губ не могло стереться.
Он пытается быть веселым, шутит, обещает ей написать продолжение «Маленького принца», но это не обманывает их сердца. Нечто странное говорит Консуэло, будто она видит мужа в последний раз. Она серьезна, исчез насмешливый тон, постоянно звучавший в ее словах. Кажется, что маленький сальвадорский вулкан потух. Она перестала заниматься живописью. И прекратила свое непрерывное щебетание, которое так часто выводило из себя Антуана. «Ты чувствовал себя непонятым, и я не знала, как тебя развлечь, – пишет она ему. – Я предлагала тебе сходить в Центральный парк, посмотреть на львов, тигров и шимпанзе. Мне удавалось добиться от тебя улыбки, когда ты смотрел, как я кормила их с ладони арахисом. Все эти недели, с начала 1943 года, ты жил с туманом над собой, над твоей головой…»[146] Консуэло рассказывает, что в решающий момент прощания Сент-Экзюпери пытался утешить ее, пробовал шутить, говорил ей любезности, уверял, что вернется с седой бородой и, может быть, ковыляя.
Но она и тогда должна будет считать, что он красив, как дерево, которое накрыл снег.
По Гудзону постоянно ходят суда. Среди них, конечно, было и то, на котором отплыл Антуан. Он писал: «Я ждал. Я не слышал никакого шума, но каждую минуту чувствовал, как вы движетесь по воде, потому что вы были не в воде, а во мне, в самой глубине моих внутренностей»[147]. И вот 25 июня 1943 года его производят в майоры. Поселившись на базе в Тунисе, он начинает выполнять свои задания – разведывательные полеты над Средиземным морем. Он пользуется этим, чтобы пролететь над семейным замком своей сестры Габриель в Аге, пишет матери, которая, как он признает в этом письме, «права во всех жизненных делах». В это время он пишет очень много писем. В них отражается все то же отчаяние, все та же тоска по умирающей цивилизации. Письма, которые он посылает Консуэло, прибывают к ней с большим опозданием. Однако между супругами все же возникает любовная переписка, полная жалоб, в первую очередь на разлуку. Антуан больше, чем когда-либо, считает Консуэло своей «женой перед Богом». Она – самая любимая, хотя столько же писем, и порой в том же тоне, он пишет и Сильвии, и даже Нелли де Вогюэ, с которой порвал. Консуэло он в это время называет «мой птенец с перьями», умоляет ее слушать его и продолжать его любить. Никогда Сент-Экзюпери не будет чувствовать себя таким хрупким, таким неимущим, таким слабым. Перед отъездом супруги пообещали друг другу, что каждое воскресенье будут писать друг другу по письму, но не посылать их, а хранить у себя, и обменяются ими, только когда Антуан вернется. Консуэло их пишет, это даже превратилось в обряд, который она исполняет усердно и страстно. Ставка так велика (смерть, исчезновение, уничтожение их семьи), что эта воображаемая переписка становится магической и трагической одновременно.
Антуан пишет ей о своих желаниях и о том, как она ему нужна. Признается, что любовь, которая связывает их, загадочна, что письма, которые Консуэло ему пишет, освещают его дни. Она тоже пишет ему, что он – ее единственная надежда. «Пусть небо носит тебя вместе со всеми моими поцелуями и молитвами. Твоя Пимпренелъ». И действительно, Консуэло, живя в Нью-Йорке, укрытая от войны, больше не участвует в праздниках французских изгнанников. С тех пор как Антуан уехал, она уединилась в своей квартире, очень мало бывает на людях, а у себя принимает лишь нескольких надежных друзей, которым ее поручил Антуан, например Дени де Ружмона и Андре Рушо. В беседах на бумаге с Антуаном Консуэло внезапно находит прекрасные, очень поэтичные интонации, страстные и лирические. «Моя единственная музыка – ты, – пишет она ему в телеграмме. – Мой кругозор – только наша любовь и твоя работа. Умоляю тебя – начни большой роман. Друзья и издатели ждут тебя так же, как я жду твоего возвращения. Я так плачу оттого, что тебя нет здесь. Может быть, мои глаза не разберут твой мелкий почерк, но я услышу похвалы друзей, которые тебя верно ждут. Моим единственным рождественским подарком были твои телеграммы. Мой праздник начался с того, что я медленно и бережно приготовила для тебя постель: ведь Бог хочет, чтобы ты скоро приехал. Целую тебя очень крепко».
Октябрь 1943 года. Генерал де Голль обращается с речью к интеллектуалам, но не упоминает в ней Сент-Экзюпери. Так же как не упоминает Сен-Джона Перса и Андре Моруа, которые считались тайными противниками организованного генералом Сопротивления. Это тяжелый удар для Антуана, писатель-летчик оскорблен, и его твердое решение смыть с себя нанесенные ему обиды стало еще сильней. Он начинает думать об искуплении и о спасении, то есть его мысли приобретают мистическое направление. Это открывает путь к мученичеству. Ожидая, пока его отправят на «настоящий» фронт, он томится от скуки и пишет Нелли полные отчаяния письма, в которых называет себя «безработным» и «жалким». Соперничество между двумя женщинами, Консуэло и Нелли, прекратилось. Консуэло интересуется только Антуаном и больше не думает даже о том, чтобы противостоять сопернице, унижая ее презрительным молчанием. В городе Тунисе и городе Алжире Антуан снова принимается за работу над своим крупным произведением – «Цитаделью», но так и не закончит ее. Телеграмма, которую он отправляет Консуэло на Рождество, звучит патетически; он признается жене в своем отчаянии и даже называет себя старым и в то же время признается ей, что после отъезда стал любить ее вдвое сильней. А Консуэло видит, что события помчались с огромной скоростью и что история – как всего мира, так и ее собственной жизни – движется к смерти. Сопротивляясь этому, она упорно пишет убедительные письма Антуану, который за это прозвал ее маленьким упрямым крабом. «Я закончила обустраивать твой кабинет. Кресла красивые, столы полированные. Те тонны бумаги, которые ты торопливо исписал перед отъездом, я уложила аккуратно – и очень заботливо, будь спокоен – в два чемодана с очень красивыми замками; и я была рада, что навела у тебя порядок»[148]. Подробности домашней жизни, которые Консуэло сообщает мужу в письмах, играют далеко не второстепенную роль: напротив, они возвращают его в их жизнь вдвоем, в окружавшую их среду.
Проводы старого года вместо праздников были отмечены муками. Антуан провел эти дни в привычной для него теперь печали. Он говорил, что «очень грустен», и добавлял: «грустен глубоко»[149]. Он перебирает в уме свои навязчивые идеи и преследующие его кошмары: «человек-робот, человек-термит, человек, движущийся, как маятник, от работы на цепи… к игре в белот и обратно.
Человек оскопленный, лишенный всей своей творческой силы, который уже больше не способен даже создать в глубине своей деревни танец или песню»[150]. Мысль о вечной утрате, о том «никогда», что в свое время уже скорбно произносил Эдгар По, погружает Антуана в депрессию, которую замечают его друзья и хотят с ней бороться. Он знает, что, только летая, – воюя, как он говорит, – может быть, сумеет снова найти себя. Консуэло становится для него якорем, за который можно удержаться, становится той, кто способен дать ему единственную возможность на что-то надеяться. «Что останется из того, что я любил?» – уже сказал он генералу Шамбу в июне 1943 года. Этот его основной вопрос становится все острей и звучит все тверже. Он ставит под сомнение даже полезность своего ухода в армию. «Полезен ли я хоть чем-то в этой гигантской машине войны, которая идет на всех фронтах и в которой я лишь маленькая точка на небе?»[151] Свое отчаяние он поверяет и Нелли. Ей он пишет: «Могу ли я жить в мире, где был бы дома?»[152] Письма Консуэло освежают его, когда он их получает, обычно через посредников. Эти письма, написанные в ее стиле, то есть с большой непосредственностью и прямотой, восхищают и очаровывают Антуана: они так хорошо помогают ему вспомнить его веселую и неугомонную жену. Консуэло без смущения рассказывает ему о подробностях повседневной жизни, шепчет любовные словечки, которые его очаровывают. Но обыденность, позволяющая предвидеть исход войны, терзает его и приводит в отчаяние больше, чем война. С Консуэло он вообще не обсуждает эту тему, не желая омрачать их любовь. А вот Нелли он пространно пишет о катастрофическом будущем мира. Возникающая «сухая и бесплодная»[153] страна уже не будет «его» Францией, страной Сен-Мориса, страной его детства, где он ранними тусклыми утрами ходил по тропинкам Монтодрана, среди стоявших в ряд вдоль Луары кабачков, где любил выпить стакан белого вина со своим другом Леоном Вертом. В декабре 1943 года в городе Алжире с ним произошел несчастный случай, приковавший его к постели (он упал в лестничный пролет в доме своего друга доктора Пелисье и сломал позвонок). У него появилась причина жаловаться на свою жизнь: он всегда должен ждать, он не действует, не творит, он чувствует себя бесполезным и «безработным».
И тогда возникает центральный мотив последних месяцев его жизни. Знает ли он, что его конец близок? Предчувствует ли этот конец? Его мысли так мрачны, что в это вполне можно поверить. Он чертит словесные узоры на тему рождения и повторяет наперегонки сам с собой: «Мне нужно родиться, поселиться в какой-то судьбе»[154]. Консуэло часто упоминает о Боге и пишет Антуану, что ходит в маленькие церкви, популярные в Нью-Йорке, чтобы восстановить силы. Сент-Экзюпери уверяет, что потерял веру в Бога, но видит в монашеской жизни средство уйти от того «вырождения», которое он предсказывает. «Солемский монастырь и его григорианские напевы», возможно, стали бы лекарствами от болезни, которая его мучит. «Широкий церковный напев и широкое море», – пишет он Нелли; вероятно, это что-то вроде маленького стихотворения, в котором опущена часть слов и чувствуется большая сила. В письмах к Консуэло он менее серьезен. Но в этот раз, в городе – «мусорном ящике», как он называет Алжир, Антуан пересчитывает свои горести – отвращение к Нью-Йорку, ложных друзей, клевету, утрату родины, ее растворение в будущем мире, похожем на большой базар, желание умереть из-за этого и умереть так, чтобы послужить своему делу, чтобы взять на себя ответственность за него, чтобы полностью быть мужчиной. Он снова перечисляет ей то, во что он верит, – «лояльность. Простота, верность, нежный труд, а не игра в правду, когда лгут в изгнании, далеком от всего человеческого»[155].
Февраль 1944 года. Антуан снова чувствует горечь и отчаяние, но упорствует в своем желании «думать чисто». Больше он не отступит от этого правила. Бездействие лишает его сил, и он делает все возможное, чтобы получить задания. Праздность и физические страдания (ужасные боли из-за позвонка) усиливают его нетерпение и скрытый гнев. Он снова и снова перебирает в памяти свои трудности и признается Нелли, что «задыхается от горя». Но он также хочет надеяться – по крайней мере, так пишет своей матери. Когда же наконец закончится «долгая зима»?[156] В феврале 1944 года он отправляет письмо своей доброй двоюродной сестре Ивонне де Лестранж, вместе с которой провел много хороших часов в юности. Это письмо коротко, но оно – одно из самых прекрасных его писем того времени. «Мне так нужно переосмыслить все в его единственной сути, жить дружбой, домом, садом»[157], – признается он ей. Он утратил веру в себя, постоянно повторял, что «его» мир рушится. Это и, разумеется, его усталость, усиленная тем, что он называл «разрушением своего тела», заставляли близких считать, что он больше не хотел жить. Это подчеркивает Анна Эргон-Дежарден, которая тогда была в городе Алжире. «Родиться» – вот его лейтмотив. «Все же настанет время родиться»[158], – повторял он.
Антуан продолжает утверждать, что Консуэло – его единственная любовь (и пишет ей «Есть только вы и я»). Но не отказывается от случайных встреч, если они могут на мгновение заставить его поверить в идеальную мечту! Например, возвращаясь в город Алжир, он встретил в поезде молодую медсестру и заявил, что чувствует к ней пылкую страсть.
Эта молодая женщина не позволила себя обольстить и не забыла сообщить ему, что она замужем и беременна. Тем не менее Сент-Экзюпери стал настойчиво посылать ей письма, в которых называл себя маленьким принцем, заблудившимся на этой планете и несчастным. И в это же время он был способен писать Консуэло пламенные письма, в которых обращался к ней с мольбой «О Консуэло!», словно к Мадонне.
Но вот, 6 июля 1944 года, он телеграфирует в Нью-Йорк, что наконец снова начинает выполнять военные задания в качестве пилота во французской эскадрилье, прикрепленной к американской фотогруппе. Он заявляет, что «несмотря на свой возраст, счастлив» тем, что смог вернуться на службу. Ему дано право выполнить пять заданий, не больше.
Испариться, раствориться в воздухе
Он привыкает к этой службе, словно интуитивно знает, что этих заданий ему будет достаточно, чтобы «омыть» свою честь и вернуть себе чистоту. В это время он читает «Мысли» Паскаля; в этой книге находит трагическое и космическое начало, свойственные этому философу. В тоне его писем теперь звучит больше мистики. Антуан пишет странные слова, что «несет на себе грехи мира», придавая своему военному заданию жертвенный смысл. Жюль Руа, его верный друг, потом увидит в его смерти что-то вроде обращения в христианство и будет считать последние недели жизни Антуана путем к смерти, чем-то вроде Страстей Христовых. А Консуэло каждый вечер старательно читает молитву, которую муж написал для нее. Эта молитва – маленький шедевр, образец юмора и ясности ума, который позволяет увидеть, как много взаимопонимания и нежности было между супругами. Вот она: «Господи, Тебе не придется сильно утомить себя. Просто делай меня такой, какая я есть. Я выгляжу тщеславной в мелочах, но в больших делах я смиренна. Я выгляжу себялюбивой в мелочах, но в больших делах я способна отдать все, даже мою жизнь. Я часто выгляжу нечистой в мелочах, но я счастлива лишь в чистоте. Господи, делай меня всегда похожей на ту, кого мой муж умеет читать во мне. Господи, спаси моего мужа, потому что он по-настоящему любит меня и без него я бы осиротела. Господи, пусть он умрет первым из нас двоих, потому что он выглядит очень крепким, но слишком сильно тоскует, если не слышит, как я шумлю в доме. Господи, прежде всего избавь его от тоски. Сделай так, чтобы я всегда шумела в доме, даже если мне придется иногда что-нибудь разбивать. Помоги мне быть верной и не видеть тех, кого он презирает, и тех, кто его ненавидит. Защити, Господи, наш дом. Твоя Консуэло. Аминь».
В Нью-Йорке, где Консуэло теперь совсем не ориентируется, она регулярно пишет мужу. Она пишет ему и другие письма, которые хранит у себя, в изобилии дает ему советы и рекомендации, но в первую очередь умоляет писать ей. «Говорите со мной, Тонио, они ужасны – эта пустота, эти пропасти, которые вы умеете создавать между нами… Дорогой, я целую вас, я страдаю. Я не знаю, куда идти. Скорей дайте мне ваши руки, чтобы я была спокойна, чтобы я была маленьким кусочком вас»[159]. По вечерам, возвращаясь со своих первых заданий, он пишет, делает заметки, работает над рукописью, которая получит название «Цитадель» и которую он не увидит опубликованной. В Борго, где он в это время находится, у него мало дел, он почти не бывает на людях, лишь иногда рискует выйти в деревню. Не желая обременять Консуэло своими страданиями, много пишет о них Нелли, хотя официально порвал с ней. Очевидно, считает ее более мужественной, чем его жена, хрупкая луговая травка, которую он называет Пимпренель.
Нелли он признается: «Я больше не могу!» Свою мать не хочет слишком сильно волновать и пишет, что «чувствует себя очень хорошо. Совсем хорошо». Но не может удержаться, чтобы не открыть перед ней все свое смятение и грусть. И пишет знаменитую фразу, где в сжатом виде высказана вся его философия чувств: «Когда будет возможно говорить тем, кого любишь, что ты их любишь?»[160] Консуэло находится в том положении, в котором была все время с тех пор, как связала свою жизнь с жизнью Антуана: ждет его. Она отправляет ему короткую записку, в которой сообщает, что сломала палец. «Я пишу вам левой рукой. Но вы, мой дорогой и любимый, прошу вас, не сломайте себе ничего!»[161] В ночь перед своим последним полетом, с 30 на 31 июля, он выходил из дома, но никто не знает куда. Предполагают, что ходил в город, разумеется в танцевальный зал, чтобы выпить там с девицами. Но никто не может это подтвердить. Известно, что он обедал в ресторане «Саблетт» в Мьомо и еще раз проделал свои постоянные трюки, которые так ослепляли его поклонников. Может быть, он продолжил ночь в Бастии? Это неизвестно. Известно только, что он съел свой первый завтрак очень рано: это засвидетельствовал молодой офицер, с которым он беседовал и пил кофе. Потом этот собеседник – его фамилия Брио, и впоследствии он стал генералом – рассказывал, что Сент-Экзюпери выглядел бодро и был довольно спокоен. Сент-Экзюпери любил кутить, выпивать и развлекаться: доказательство этому – вечера, которые он проводил за выпивкой с Леоном Полем Фаргом. Опьянение боем, восторг оттого, что он летает, острота отчаяния, нервное напряжение, созданное этой ситуацией, – все это должно было держать его в состоянии настороженности и усиленной бдительности. Оно могло ввести в заблуждение тех, кто видел его последним.
Раннее утро. Небо над Борго ясное, значит, погода не вызывает беспокойства. В 8 часов 45 минут Антуан вылетает на задание.
В 10:30 пропадает радиосвязь с ним. В 13 часов он не вернулся. В 14 часов его объявляют пропавшим без вести. Майор Антуан Сент-Экзюпери не вернулся никогда. Новость о его исчезновении распространилась по базе, как огонь по пороховой дорожке, и придавила всех горем и печалью. А ведь он предупреждал, что сделает что-то важное: он говорил, что предпочитает «использовать себя до предела»!
Кровать в его комнате была безупречно застелена; значит, он, видимо, не спал в ночь перед драмой. Однако в изголовье лежали два письма. Одно было написано генералу Даллозу, другое, вероятно, Нелли. Эти два письма очень важны. В первом из них Сен-Экзюпери пишет о своем духовном одиночестве и признается: «Будущий термитник меня пугает». Это письмо завершается словами: «Я создан для того, чтобы быть садовником»[162]. Во втором письме, где чувства выражены еще сильней, он пишет о «качестве вещества». Пустоте и небытию он противопоставлял воплощение, вещество. Новым роботизированным городам противопоставлял «французское духовное наследие», то есть монастыри, соборы и красоту деревень и природы. Он еще раз высказал Нелли свои главные и основные стремления. Это те самые желания, которые Антуан всегда высказывал матери, то есть изначальные. Он хочет «учить детей читать» и «смириться с тем, что будет убит как простой плотник». Снова возникает слово «быть», ключевое понятие его мысли – желание принадлежать к чему-то, быть связанным с чем-то.
А Консуэло за океаном еще ни о чем не догадывается. Она пишет, она молится, она, как может, занимает себя делами. Но окружающее ее молчание не предвещает ничего хорошего. Снова начинаются муки ожидания. Так она ждала его возвращения из полетов, когда он служил в «Аэропосте». Так она ночами и бледными ранними утрами ждала его возвращения в Монтодране, играла и курила с людьми из нелетного состава и спорила с Дидье Дора, но при этом не сводила глаз с неба, пытаясь понять, что за маленький огонек блестит на нем – самолет Антуана или просто звезда. Старательней, чем когда-либо, она пишет свои знаменитые «воскресные письма», и с каждой неделей их становится все больше. «Знай, – пишет она, – что я всю жизнь буду ждать тебя, даже когда стану старой и у меня больше не останется памяти». Консуэло цепляется за его обещания, за его слова о том, что даже в пустыне он не будет чувствовать жажду, потому что станет пить воду из ее глаз.
Ни тело, ни самолет не были найдены, поэтому у нее еще оставалась надежда, хотя и слабая. Консуэло цеплялась за эту возможность, но в душе у нее было мрачное предчувствие. В Нью-Йорке стали ходить злые слухи: уж не дезертировал ли он? Консуэло не верит этим сплетням, но втайне думает, что ее муж укрылся в Ливии или где-то еще в деревне или в монастыре – в уединенном убежище, где может залечить свои раны и заново построить свою жизнь. Поскольку «тело и имущество» ее мужа не найдены, власти не могут объявить его мертвым. Из-за этого его авторские права заблокированы, и пока Консуэло не может получить от них никакого дохода. Поэтому она переезжает из квартиры, которую снимала у Греты Гарбо, в скромную квартиру-студию на Лексингтон-авеню, поступает в крупную сеть магазинов «Блумингдейл» на должность оформительницы витрин и снова начинает работать как художница. Она пишет красками, рисует, но в первую очередь занимается скульптурой. И ждет. Война кончается, а она снова остается одна. Ложные друзья на этот раз окончательно исчезли, однако некоторые из друзей ее поддерживают. Но она замыкается в своем одиночестве и горе. Консуэло оставила у себя Аннибала, пса породы мастиф, которого очень любил Антуан и с которым он весело играл на пляже Лонг-Айленда. Она становится более набожной, чем раньше, словно утрата мужа возродила в ней наивную религиозность южноамериканской женщины. «Верни его мне, Отец Небесный, умоляю Тебя, соверши чудо», – просит она Бога. Она не хочет смириться с очевидным. Она даже посылает папе римскому письмо с просьбой вступиться за нее и потребовать международного расследования, которое точно выяснит обстоятельства исчезновения ее мужа. Она сильней, чем когда-либо, верит в те невидимые силы, с которыми когда-то беседовала, чтобы позабавить своих друзей и очаровать их невероятными фантастическими рассказами. Консуэло верит в тайные нити, соединяющие мужчину и женщину такой любовью, о которой потом сочиняют легенды. Она хорошо запомнила советы, которые ей давали Дали и Пикассо, и пишет красками яркими, как она сама. Но теперь ее красные, зеленые и синие тона стали гуще и глубже, в них больше трагизма. Кроме того, она заново обдумывает свою любовь к Сент-Экзюпери. Она вычищает из этой любви все помехи, словно катышки и узелки с ткани, словно резинкой стирает все разногласия. Остается лишь не имеющая себе равных страсть, которая удерживала их вместе. Консуэло почти по-детски утешает себя в горе. Она снова и снова просит Бога: «Дай мне руку»[163] – и вспоминает, как Антуан, «ее» Тонио, говорил ей: чтобы роза была красивой, нужен садовник, который бы занимался розой, ухаживал за ней, поливал ее. Но что она может сказать теперь? Только это: «Сегодня тебя больше нет здесь, и твоя роза вянет без своего садовнка»[164]. Через пять месяцев после исчезновения Антуана она по-прежнему безутешна. Ненадолго покидает Нью-Йорк и укрывается в Кембридже, у своего друга по Гарвардскому университету, Джорджо де Сантилланы, который был другом обоих супругов. С ним она говорит на своем родном испанском языке. Гостя у него, она находит время писать новые письма Антуану, в которых подробно рассказывает мужу обо всем, что сделала, о живописи, о пианино, о том, как переписывает «Маленького принца», словно его герой стал их ребенком.
Ее картины начинают находить покупателей. Консуэло рада этому, потому что у нее уже почти нет денег; но она не обращает внимания на безденежье: богемный темперамент позволяет ей быть в одинаковой степени расточительной и экономной. Она пишет воспоминания, записывает обрывки фраз, которые ей говорил Сент-Экзюпери. И вспоминает его рассказ о том, что, когда ночью во время полета он чувствовал себя затерявшимся среди звезд и уже не знал, что перед ним – мерцающая Полярная звезда или огонь на земле, откуда ему подают сигналы, он говорил себе, что это «маленькая Консуэло» его зовет. «Твои истории направляли меня», – добавлял он.
В 1945 году, уверенная теперь, что Антуан уже не вернется, она наконец решает возвратиться во Францию. Ей немного страшно: она не вполне уверена в том, как ее примет семья мужа. Консуэло знает, как мало ее любят его родные, но решает отважно встретить эту трудность лицом к лицу. И вот она собирает свои вещи, и в первую очередь огромную кучу папок и архивов, которую ей оставил Антуан. Она упаковывает чемоданы и увозит с собой на корабле. Во Франции Консуэло снова обретает уверенность. У нее ни на мгновение не возникает мысль вернуться в Сальвадор. Она наконец готова отстаивать свои права вдовы, состоявшей в законном браке на условиях общности имущества супругов. Кто может отнять у нее эти права? Но она смутно чувствует, что ей будет трудно. Ее по-прежнему считают иностранкой, похитительницей, слишком шумной, и она знает, что поэтому ей придется потратить много сил, чтобы защитить свои права. Но она знает и свои обязанности. Хочет хранить память мужа, присутствовать на всех церемониях и в первую очередь стать посланницей его творчества, пропагандировать его книги на всех континентах, быть живой памятью о его слишком короткой жизни. У нее нет полного права на участие в посмертной публикации его большого труда – «Цитадели»: за изданием этой книги негласно надзирает Нелли де Вогюэ. Но Консуэло видит, как растет и достигает невероятного размера успех «Маленького принца». Она присоединяется к его пропаганде и даже иногда ставит свою подпись на экземплярах книги: разве она не одна из героинь сказки – покинутая роза, к которой Маленький принц потом захочет вернуться наперекор всему. Но прежде всего она снова берется за работу – лепит бюсты Сент-Экзюпери и статуэтки маленьких принцев, рисует его на почти наивных картинах в очень ярких тонах. Консуэло показывает свои работы на выставках и снова начинает появляться на людях. Латиноамериканская натура придает ей новые силы, и Консуэло снова начинает чувствовать вкус к жизни. Ее видят на коктейлях, вернисажах, театральных спектаклях, фестивалях. Садовод Дельбар, специалист по розам, создает сорт под названием «Консуэло де Сент-Экзюпери». Консуэло ездит по миру в качестве представительницы компании «Эр Франс» и получает от компании право летать всеми ее маршрутами бесплатно. Но в таких случаях командир экипажа усердно сообщает пассажирам, что «на борту находится графиня, вдова графа Антуана де Сент-Экзюпери, и следует оказать ей уважение». Консуэло принимает все эти мелкие почести, которые льстят ее тщеславию, – впрочем, эту ее черту замечал и Антуан, он ведь не упустил случая в своей сказке назвать розу «тщеславной». Однако это тщеславие преходящее, как сказано в псалме царя Давида. Оно – лишь погоня за ветром. Консуэло, конечно, знает об этом, потому что в глубине ее души есть мудрость родины – огненной страны. Она окружена маленьким кружком приближенных: ведь она всегда имела дар объединять вокруг себя поэтов и льстецов, бедных и богатых, молодых и старых. И среди них был молодой студент, присланный ее отцом помогать в секретарской работе (отец был ей не только родителем, но и другом). Этот юноша становится ее самым внимательным и самым верным доверенным лицом – верным настолько, что всюду сопровождал ее до самой смерти. Позже Консуэло сделала его своим единственным наследником, оставив с носом семью покойного мужа. Так она в последний раз посмеялась над родными Антуана, не сумевшими полюбить ее притом, что она этого хотела. Злые языки уверяли, что она пьет и немного меньше занимается живописью. А с тех пор как после неудачной попытки обосноваться в Солони поселилась в Грассе, в департаменте Вар, сплетники стали говорить, что теперь средства массовой информации забыли о ней. В этом высоко расположенном городе у Консуэло большой сельский дом, где она может писать картины, создавать скульптуры. Но главное то, что воздух здесь прохладней и полезней для ее здоровья: она страдает астмой. Сент-Экзюпери – центр ее жизни и каждого ее дня. Иногда, если ее просят дать интервью, она открывает большие сундуки, в которых хранятся все ее воспоминания. Консуэло признается: «Я всегда вздрагиваю, когда открываю папки и сундучки, в которых теснятся письма моего мужа, его рисунки, его телеграммы. Эти полные живой нежности и тайны послания хранят трагический и чудесный запах моего прошлого»[165]. Время идет, и круг приближенных редеет. Роза совсем завяла, от нее остались одни шипы: так говорит Консуэло, показывая свои ладони, исчерченные синеватыми венами. Она заставляет себя смеяться и даже шутить над этим, она принимает последние почести. Одна из этих почестей – долгая радиопередача Жака Шанселя Radioscopie на «Франс Интер», где Консуэло рассказывала о своей жизни щебечущим голосом.
Ее голос взлетал, становился чарующим, ее остроумные и легкие истории околдовывали слушателей. В общем, она проявила все, чем в ней восхищался Сент-Экзюпери, – искусство рассказчицы, изобретательность и истинный романтизм, из-за которых он говорил, что настоящая писательница и поэт – это она, потому что сам он умеет говорить лишь о том, что произошло с ним. В 1979 году ее здоровье ухудшилось, и она умерла во время приступа астмы.
Судьба распорядилась так, чтобы человек, которого она любила больше всех на свете, не имел могилы. Поэтому Консуэло была похоронена рядом со своим вторым мужем, писателем Гомесом Каррильо, в склепе на кладбище Пер-Лашез, где он покоится с 1927 года. Он, конечно, не сердился на то, что снова встретился с ней в невидимом мире, в которое она так верила.
Он ведь тоже любил ее, ввел в высшее парижское общество 1920-х годов и раньше Антуана сделал своей тайной советчицей и музой.
Сальвадор Дали (1904–1989) и Гала (1894–1982) Гениальный безумец и русская звезда
Кто когда-нибудь узнает, какой была глубинная, природная сущность Елены Дмитриевны Делувиной-Дьяконовой, называемой Гала? Кто смог бы без ошибки рассказать тайную и темную историю ее жизни? Поль Элюар? Макс Эрнст? Сальвадор Дали? Или те молодые возлюбленные на короткий срок, у которых на плече она любила отдыхать в золотистом свете Порт-Льигата. Кем на самом деле была Гала, которая прошла по своему веку прославляемая как звезда? Свет этой звезды искрился, но был резким, как блеск черного алмаза. Какая неистовая сила одушевляет ее, что отражается в маленьких черных глазах, в полном жизни пронзительном взгляде? Иногда в них видна злоба, иногда они полны яда, а иногда Гала похожа на древнюю богиню или на старинную мадонну, которая способна, как Медуза, превращать в камни влюбленных в нее мужчин. Дали рассказывает, что знал ее всегда, что их первая встреча произошла не в 1929 году, а намного раньше, в годы его детства, когда он, маленький мальчик, слушая советы своего учителя, вдруг увидел в книжке яркую картинку, где была изображена закутанная в меха русская девочка. Она сидела в санках, спрятав руки в муфту, и пристально смотрела на него пронзительными глазами. У него был и другой вариант рассказа об этом странном видении: в оптическом театре господина Трейтера он увидел картинку – силуэт сжавшейся в комок русской девочки в запряженных тройкой санях, за которыми гонятся волки с горящими глазами. «Она пристально смотрела на меня; от вида ее лица, такого гордого, я оробел, и мое сердце сжалось. Ее ноздри, такие же полные жизни, как глаза, придавали ей сходство с маленьким лесным зверьком. Эта живость еще сильней контрастировала с остальным лицом оттого, что черты были гармоничными, как у мадонн Рафаэля. Гала? Я знаю, что это была она»[166]. Да, именно тогда Гала остановила на нем свой выбор, уже тогда она сказала ему: «Мой малыш, мы больше не покинем друг друга»[167], пристально глядя на него маленькими глазами. Так же она глядела на него потом, когда они взбирались на скалы в маленьких бухтах Кадакеса. Значит, история их любви началась в верховьях жизни, у самых ее истоков, в холоде и снегу, в лубочной дореволюционной России, мифологизированной наивными китчевыми хромолитографиями. Совсем юная девочка, развитая не по годам. Удивительно, насколько она опережает ровесников: ребенок с увлечением читает Достоевского, Толстого и французских поэтов-романтиков. Именно она, властная и дикая, не захотела, чтобы ее называли Еленой. Ее мать Антонина ка кое-то время собиралась назвать ее Галей, и поэтому девочка берет себе имя Гала – два открытых слога, звучащие как крик, призыв или молитва. Это имя богини или название кометы, имя той, чьи желания непостижимы.
Даже ее рождение остается загадкой. Никто не знает точно дату. Год – 1895-й? День – 6 сентября или 25 августа? Час тоже неизвестен. Неизвестно и место рождения. Казань или Москва? Не вполне ясно, кто ее отец. Бесцветный чиновник из Министерства сельского хозяйства, всегда мертвецки пьяный и покинувший свою семью, чтобы уехать в Сибирь? Или элегантный, но властный, как тиран, друг ее матери, адвокат Иван Диульн, которого Гала называла своим крестным? Так передал ее слова Дали, рассказывая об их первой встрече в Кадакесе в 1929 году.
У нее есть свойство не поддаваться чарам и печалям прошлого. Уже в юности проявилась ее натура – неудержимая и сильная, не способная ни к угрызениям совести, ни к привязанностям. Она – сила, которая движется вперед и всегда направлена к будущему; ее не интересуют семейные тайны, воспоминания, остатки прошлого, но она уверена, что обладает мощной энергией. Никто не замечал у нее тайных ностальгий, приступов депрессии, романтических порывов. В ней буйствует свобода, которая побуждает ее любить героев Достоевского, превращающих свои раны в жизнь, в огненную силу. Она подобна пылающему костру, и пламя этого костра видно в ее глазах: они малы и глубоко сидят в глазницах, но их взгляд полон такой напряженной силы, что его не всегда можно выдержать. Она не красива в обычном смысле этого слова, но с детства очаровывает людей своей отвагой, капризами и тем, что сама называет «истерией». У нее бывают приступы гнева, которые производят впечатление на ее семью. Но буйные порывы могут утихать, и тогда она становится восхитительным ребенком, культурной девочкой с утонченными вкусами, которая любит поэзию и музыку. В семье Дьяконовых всегда очень высоко ставили искусство. Литература, в первую очередь поэзия, а также камерная музыка, которую любила играть ее мать, становились темами маленьких вечеров, в них участвовали все. В этих вечерах было то очарование, которым полны картины славянских художников – например, импрессиониста Грабаря, русского Моне или Боннара, любившего изображать отдых в сумерки в окруженных березами избах, сады, опоясанные живыми изгородями и засыпанные снегом, или обильно украшенные картинами и безделушками комнаты, в которых собираются вместе буржуазные семьи.
Итак, мать Галы, покинутая Дьяконовым, нашла убежище у своего друга Ивана. Он содержит всю семью и, несмотря на то что оба сына Дьяконовой, Николай и Вадим, его не любят, старается оказать детям всю помощь, необходимую, чтобы они получили образование. Семья в новом составе комфортно живет в Москве. Дети учатся, причем Гала делает это блестяще, изучают музыку и театр. Гала любит погружаться в созерцание и чтение. Читает она много, главным образом стихи; поэзия подходит к ее возбужденному пылающему уму, к ее тайно работающему воображению. Говорили, что тогда она любила залезать в меховые шубы своей матери или даже прятаться в платяные шкафы и рассказывать себе истории, как правило сказочные. И в детстве, и в юности она сохраняла эту склонность к игре воображения, к поэтическим мечтам, к невидимому. Отсутствие отца, по-видимому, не вызывает у нее досады, однако усиливает ее желание создавать для себя воображаемые миры. Если в школе кто-то спрашивает ее об отце, она отвечает, что он управляет поместьем, принадлежащим княжеской семье. Гала лжет без колебаний и смущения, и ее глаза выдерживают взгляд собеседника. Ее лицо очень рано становится гордым, почти высокомерным; она выглядит не дерзкой, но бесстыдной. Учится она с блеском, особенно успешно в древних языках и литературе, проявляет большое любопытство ко всему. Ей не хватает, может быть, только религиозного образования: ни мать, ни «крестный» не разбираются в религии. Гала не ходит на православные богослужения, но эти грандиозные и невероятно длинные литургии ей нравятся и волнуют ее воображение. Музыка, которая постоянно звучит в просторной квартире на Трубниковской улице, соединяется с печалью псалмов, которые поют в церкви, и усиливает ее чувствительность. Каждый год крестный ездит со «своей» семьей в путешествие. Гала мечтает о Западной Европе, о Швейцарии, о зимних спортивных курортах и роскошных отелях, о Лазурном Береге, Ницце, Каннах и Атлантическом побережье Франции, обо всех местах летнего отдыха, которые были созданы в XIX веке при Второй империи, – Аркашоне, Биаррице.
До революции осталось всего несколько лет. Гала, как и вся ее семья, мало интересуется политикой. Она не слышит требований и протестов народа, ее не беспокоит медленное умирание империи. В любом случае это не ее дело. Она слишком погружена в свои мечты и чтение и потому совершенно не замечает, как поднимается волна насилия, – не видит демонстраций, стихийно охватывающих города один за другим, не слышит жестких дискуссий, которых становится все больше. Она слишком эгоцентрична и потому не может мечтать о коллективистском идеале. Патологическая нервозность вызывает у нее одышку и приступы тоски. В такие минуты она укрывается в творениях своих любимых поэтов и создает для себя в воображении мир, принадлежащий только ей. Ее семья космополитическая, и поэтому Гала с семи лет неплохо говорит по-французски. Она читает в оригинале Виктора Гюго и Шатобриана. Позже, в швейцарском туберкулезном санатории, она откроет для себя великих романтиков и среди них Нерваля, который станет ее самым любимым писателем. О жизни Галы в то время совершенно ничего не известно: она предпочитала оставлять пробелы в своей истории, чтобы усилить легенду о себе, потому что очень рано почувствовала свою важность и необыкновенность. Станет ли Гала тоже поэтессой: она ведь уже неумело пытается писать стихи? Или будет музой? Или, что еще лучше, станет монахиней и уединится в каком-нибудь безвестном российском монастыре? Она этого не знает, но позже Дали признается вместо нее, что она постоянно была «неспокойной»[168]. Понимала ли она, что давление на грудь и боли, которые сжимали эту грудь в глубине, – симптомы болезни легких? Думала ли о том, что эта болезнь, если начнется, может принести ей свободу? Тогда ей обязательно надо будет уехать лечиться в Европу – например, в Швейцарию, где воздух прохладен и полезен для больных туберкулезом.
И там она наконец насладится той духовной независимостью, к которой стремится, и осуществит свое желание жить и узнать все основные чувства, из которых состоит жизнь. Она еще не встретилась с Полем Элюаром, которого потом поднимет на уровень настоящего поэта и в которого вдохнет всю свою жизненную энергию. Но она уже та, о ком он напишет в 1929 году в очаровательном сборнике «Любовь – поэзия», который посвятит ей. «Я чествую основное, я чествую твое присутствие. Ничто не прошло, у жизни выросли новые листья. Самые молодые ручьи выходят из-под земли в свежей траве. И жарко потому, что мы любим жару. Фрукты злоупотребляют солнцем, краски пылают. Потом осень пылко ухаживает за девственной зимой. Человек не созревает, он стареет. У его детей есть время постареть, пока он не умер. И он заставляет смеяться детей своих детей. Ты, первая и последняя, не постарела. И, чтобы осветить мою любовь и мою жизнь, ты сохраняешь свое сердце прекрасной обнаженной женщины». Так проходят ее детство и отрочество – в мощных порывах чувствительности и тайного честолюбия. В честолюбивом стремлении показать миру свою пылкость, свою дикость, свою невинность. Туберкулез не становится препятствием для этого желания, а, наоборот, усиливает и обостряет его. А еще он приближает ее к смерти. Гала всегда находилась не очень далеко от нее, но никогда не вела жизнь, направленную к смерти. Наоборот, она находилась в мощном потоке жизненной силы, которая сжигала ее, но всегда воскрешала. Поэтому отказ Галы от атеизма – признак того, что в ее душе было место мистике. Ее душа воспламеняется от любви, она строит тайные планы, упорно и долго вынашивает в душе конфликты, которым мешают развиться препятствия, замышляет великие дела, которые мечтает совершить. Ее очаровывают судьбы знаменитых персонажей славянских писателей. Ей близки Анна Каренина и Карамазовы. Ее маленькое лицо, треугольное и смуглое, и слегка раскосые глаза придают ей суровый и диковатый вид; правда, те, кто ее не любит, а таких много среди одноклассниц, считают это выражение лица лукавым. Из-за своей скрытой болезни она худеет, и с годами черты ее лица становятся азиатскими. На некоторых фотографиях, сделанных в 1910-х годах, Гала выглядит некрасивой, а ее лицо кажется хитроватым. В это время она еще не расцвела. Ее свобода и красота, которую позже воспоет Поль Элюар, еще скрыты внутри ее, свернутые в спираль. Они пока не вырвались на свет, для которого она себя решительно предназначила. Тот, кто читает ее записные книжки, недавно найденные в сундуке в замке Пуболь, где она похоронена, открывает для себя другую Галу, странную и беспокойную, просто героиню славянского романа. Она похожа на Люсиль де Шатобриан – «нервная, бледная и пылкая», как охарактеризовал романтическую душу Альфред де Мюссе. Ей нравятся русские поэты, сочинители невероятных рассказов, такие как Лермонтов, а также истории о вампирах, которые ее потрясают, привлекают и очаровывают.
Итак, отрочество Галы состоит из потрясений и столкновений. На фотографиях того времени выделяются ее легкие непослушные волосы и особенно глаза. Эти глаза, «пронзающие сердце», как потом скажет о них Поль Элюар, занимают все лицо, но не из-за величины, а благодаря силе их взгляда, подобного магниевой вспышке. Она не делает тайны из своих нервных приступов, а говорит о них сама. Несколько фраз на эту тему сохранились в ее интимных записных книжках, например: «Для моего возраста и моих физических сил я слишком, слишком нервная». Но эти «Интимные записные книжки»[169] свидетельствуют в первую очередь о том, что она чувствует себя покинутой. Это чувство не утихнет никогда. Ожесточение, с которым Гала потом старается раскрыть способности любимого мужчины, будь то Элюар, Макс Эрнст или Дали, несомненно, является признаком ее духовных блужданий, того, что ей трудно существовать в этом мире, и ее панического страха быть одной, быть покинутой. В своих записях Гала признается: однажды она оказалась в своей комнате одна, изолированная от братьев и сестры потому, что заболела скарлатиной. Мать вышла на прогулку вместе с ее кормилицей. «Когда наступила ночь, – пишет она, – я, не зная, как зажечь свет, осталась в темноте, взобралась выше и села у окна, чтобы смотреть на движение снаружи и на уличные огни и чувствовать себя не такой одинокой. Я больше не хотела поддаваться одолевавшему чувству, что меня покинули. Потом много раз я испытывала этот ужас оттого, что внезапно покинута, когда родители под разными предлогами уходили от меня на вокзалах. Позже я боялась, что отец покинет меня, моих братьев и сестру, чтобы покончить с жизнью, состоявшей из споров, скандалов и злобы, – с нашей жизнью разобщенной семьи. Потом, намного позже, я боялась, что меня покинет мать, хотя для этого страха не было никакого повода, или покинут мужчины, которые любили меня и которых я любила»[170]. Хотя не все признания, сделанные в этих «Интимных записных книжках», надо понимать буквально, их чтение позволяет сделать вывод о психической неуравновешенности Галы и ее влечении ко всему странному и невидимому. Даты и факты в записях не совпадают с теми, которые смогли установить ее самые надежные биографы, но ясно, что Гала выхватывает взглядом из своего прошлого в первую очередь то, что связано с общим впечатлением жестокости и одиночества. Сильная тревога омрачает каждый эпизод ее детства, начиная с рождения младшей сестры. Появление сестренки на свет было ужасным, и старшая дочь слышала все, потому что комната, где происходили роды, была рядом с ее собственной. А потом девочке показали «маленькую живую куклу», которая вызвала у нее отвращение. Затем была тень, она появлялась каждую ночь, когда рассказчица начинала засыпать, и мучила ее; были жестокие игры братьев рассказчицы. В общем, это было трагическое детство, наполненное болью. Но иногда ему придают очарование счастливые воспоминания о том, как она гуляла по Красной площади во время весенних народных праздников среди зевак, нищих и продавцов игрушек. Теперь, когда Гала вспоминает это, игрушки кажутся ей опередившими свое время, сюрреалистическими. «Цветные стеклянные фигурки шалунов, [которые] с огромной скоростью поднимались и опускались в трубках, наполненных окрашенной водой», «маленькие металлические мышки, [которые] в ужасе убегали» в «кружащиеся облака цветной сахарной ваты»[171]. Странные эти записные книжки, которые писались втайне: из русского детства память Галы удержала только игры с родными и двоюродными братьями в гостях у ее дяди с материнской стороны, Артемия, который жил в маленьком живописном поселке в глубине России, в Николаевске. «Я увидела мифологическое существо, – написала она, вернувшись в Москву, – колосса с могучими плечами и руками, который как ни в чем не бывало поднимал нас на воздух, усаживал по одному на каждое плечо, потом третьего на голову и начинал ходить…»[172]Как это далеко от прелестных рассказов Симоны де Сент-Экзюпери о детстве ее и остальных детей ее семьи в ласковой атмосфере замка Сен-Морис-де-Реман![173] Гала вспоминает только жестокие и опасные игры, грубые жесты, рассказы о детских кошмарах и ужасах и восхищение лесом. «Мы были до безумия романтичны, – пишет она. – Воображению самых младших лес казался знакомым благодаря светлячкам, добродушным и забавным улиткам, грибам – гномам-защитникам, зарывшимся в мягкий мох, более нежный, чем постель»[174].
В Европу!
В своих записках Гала ни разу не упоминает об отъезде из России в Швейцарию, когда ей было всего семнадцать лет. На старой, с глубокими складками фотографии, сделанной в то время, у нее загадочный и мрачный вид. Она держит на коленях кошку и выглядит удивленной и замкнувшейся в себе. Недоверчивый взгляд, сердитый вид: она явно возмущена тем, что незваный гость застал ее врасплох. И видно нечто странное: ее внутренний мир заперт на замок, но охвачен неистовой дрожью. Она ничего не пишет ни о своем отъезде в Европу, ни о туберкулезном санатории Клавадель в Швейцарии, возле Давоса, ни о своей встрече с Полем Гренделем, которого своим обаянием и вдохновением превратила в того поэта, которого мы знаем. Самое большее, что она себе позволила, – признать то, что Дали стыдливо называл ее «душевной болезнью». От тех, кто теснился в Порт-Льигате, образуя маленький кружок сюрреалистов, известно, что симптомы этой болезни проявлялись часто. Это были приступы рвоты, высокая температура, перемены настроения, вспыльчивость, агрессивность, сексуальная истерия и маниакально-депрессивные состояния. И все же Гала убедила свою семью позволить ей уехать в Европу на лечение; основным ее доводом стал прохладный воздух Граубюндена. Ее жизнь уже давно похожа на роман. Эту жизнь отягчают громкие ссоры, окружает печаль, из-за которой Галу в Париже будут считать высокомерной или всех презирающей. В конечном же счете эта печаль была вызвана отчаянием и острым осознанием смерти. Сознание своей обреченности на гибель она переживала как единственное освобождение, как разновидность счастья. «Несчастья, которых мы боимся, в конце концов всегда случаются, потому что все кончается старостью, и это наша смерть освобождает нас от нее», – написала она.
Этому фатализму Гала будет верна всю жизнь. Она собирается нести на себе груз жизни и исчерпать эту жизнь до конца, не сохранять, а, наоборот, тратить жизнь, сделать ее изобильной. Смерть, с которой она находится рядом в туберкулезном санатории, подает ей так много знаков, что Гала больше не боится ее. Именно поэтому она с этих пор отважно идет туда, куда поворачивает ее жизненный путь. По этой же причине Гала любит поезда и путешествия. Поезда нравятся ей тем, что вызывают у нее какую-то смутную печаль: они волокут пассажиров, которые отданы во власть их движущей силы, по землям, где пассажиры никогда не побывают. Должно быть, ее дар убеждать и решимость были сильны, раз родители позволили ей уехать одной. Это происходит в начале 1912 года. Она оставляет в Москве заплаканную мать и уезжает, нагруженная множеством рекомендаций, с которыми не знает, что делать. Она знает только, что едет к новой жизни. И вот 12 января Гала приезжает в Цюрих; там ее ждет шофер санатория, который отвезет ее к одиноким вершинам, в Давос. Это город в кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии. Он считается самым высокогорным городом Европы и находится на высоте 1560 метров. Еще в 1853 году на него обратил внимание немецкий врач доктор Шпенглер, специалист по легочным заболеваниям, который и сделал Давос известным курортом. И тут происходит то ли случайность, то ли знаковая встреча Галы с литературой. В Давосе за год до нее жил писатель Томас Манн и там написал свою культовую книгу «Волшебная гора», которую опубликует в 1924 году. Станет ли Гала, как его герой Ханс Касторп, пленницей горы среди тех, кого он называет «люди сверху»? Она ничего не знает обо всем этом, но, въезжая в Клавадель, уверена, что теперь ее жизнь изменится, что перед ней откроются другие двери, другие пути. Клавадель – роскошный санаторий, где лечатся состоятельные пациенты из разных стран. Он расположен в полукруглой долине среди заснеженных гор и еловых лесов, которые почти всегда закутаны в туман, словно в густую вату. Гала поселяется здесь и знакомится с местными обычаями, которые считаются ритуалами. Регулярные лечебные процедуры, отдых после обеда, сеансы отдыха в солярии, завтрак в постоянное время, каждое воскресенье – маленький праздник в больших гостиных. Безмолвие и простор за стенами санатория дают человеку почувствовать, как он мал и как бесконечно несчастен. Смерть присутствует везде, но незаметно – кроме тех случаев, когда у некоторых больных бывают приступы закупорки бронхов, за которыми другие наблюдают с тоской. Но Гала решает держать себя в руках. Ее дикий нрав не допускает никакой фамильярности. Ее сдержанность способна вызвать беспокойство и даже тревогу. Гала долго гуляет одна по долине, спускается в деревню, любит беседовать с садовником санатория, много читает и созерцает пейзажи. Ее внутреннее пламя – пусть не религиозный, но, во всяком случае, духовный пыл – находит себе здесь пищу: вид горных вершин очаровывает и успокаивает ее. Она никогда не бывает в гостях у других пациентов и вызывает любопытство тем, что держится на расстоянии. Только семнадцатилетний юноша Поль Грендель, кажется, начинает интересоваться ею. На его ухаживания она отвечает благосклонно, но без большого увлечения. С этих пор они гуляют и обедают вместе, а главное – обмениваются впечатлениями от прочитанных книг. Ее восхищает элегантность Поля: в отличие от других он завязывает галстук большим бантом, по романтической моде; а его внешняя хрупкость трогает ее душу. Он называет себя поэтом, с каждым днем становится все смелей, воспевает в еще неуклюжих стихах «хриплый» блеск ее черных глаз.
Гала чувствует непреодолимое влечение к нему, и из этого влечения рождается ее тайное призвание быть музой, негласной советчицей, повивальной бабкой и любовницей. На бале-маскараде, который организован персоналом санатория, молодая пара появляется в костюмах Пьеро и Коломбины. Они выглядят счастливыми и веселыми, но в этом бале есть что-то патетическое и болезненное, как в фантастических праздниках на картинах Джеймса Энсора. Здесь смерть пробирается всюду, и те, кто соединяются в пары, не уверены, что доживут до конца назначенного им лечения. Однако Гала, с ее могучей жизненной силой, завладела Полем Гренделем. Ее природная властность и внутренняя сила словно говорят ему: «Ну вот, теперь вы мой!» Так же она потом завладеет Дали, изобретая его. Гала поняла, что спасение ждет ее на этом пути. Она проведет в Клаваделе полтора года. За это время сформирует себя как личность, уточнит планы сделать свои желания безграничными. Затем она возвращается в Россию. Это 1914 год, весна. Она проведет в России два года, прежде чем, безумно любя Поля, соединится с ним в Париже. Она не чувствует особого восторга, снова оказавшись на родине, и намерена вернуться в Швейцарию, однако начавшаяся война разрушает эти планы. Европа в огне и крови, но Гала думает лишь о Поле и каждый день пишет ему письма. Ее «дорогой мальчик» ушел на фронт, служит в пехоте. От вида войны он крепнет как поэт, его образы станут сильней и грубей, иногда его стихи не так упорядоченны, как раньше. Гала освещает их своим огнем. Политические и идеологические споры, которые потрясают старую Россию, совершенно не интересуют Галу. Она упоминает в своих «Интимных записных книжках» о стихийных демонстрациях, покушениях, брожении умов, но рассказывает об этом тоном равнодушного свидетеля. Она стоит на границе нового мира, но это ее не касается. Теперь она – студентка Московского женского университета и думает только о своем «единственном мальчике» и об учебе; учится она усердно. Ее слишком нетерпеливое желание уехать во Францию утомляет семью, и в конце концов, обессилев, близкие уступают. Летом 1916 года Гала наконец покидает свою семью. На вокзале все ее родные плачут, а она нет; можно подумать, что у нее каменное сердце. Но неистовая сила всегда помогала ей сдерживать чувства, и у нее всегда было грубое, дикое стремление полностью исполнить свои желания. Поль на фронте, и потому на вокзале ее встречает отец Поля.
Гала одна в Париже. Она открывает для себя этот город и пытается привлечь на свою сторону родителей Поля, у которых живет. Они вовсе не рады этой еще только возникающей связи, но Поль хочет, несмотря на войну, ускорить свою свадьбу с Галой. Они оба влюблены друг в друга, и Поль с фронта организует свадьбу. А Гала? Неужели она влюблена так сильно? Она играет роль идеальной невесты, угождает будущим свекру и свекрови, украшает комнату, регулярно убирается в квартире, даже чинит фуфайки своего «жениха» – и, как наивысшее проявление своей любви, дает согласие перейти в католическую веру. Она пишет Полю о своей матери: «Она говорит, что у меня есть еще один талант – талант быть горничной. Я рада за тебя. Я ненавижу работу по дому: она не приносит никакой выгоды»[175]. Свадьба происходит 21 февраля 1917 года, когда Полю дают увольнение. Поль, еще не ставший Полем Элюаром, самым великим поэтом французского сюрреализма, сочиняет к этому дню стихотворение, посвященное Гале, в котором уже прославляет ее дар быть великой музой. Она владеет ключами от «исчезнувших» миров, волшебница, которая пробуждает и выводит на свет того, кого любит, воплощение целомудрия и в то же время богиня-мать и богиня-природа. «О дочь времен года с их разнообразием, твои ступни скрепляют меня с землей, и я люблю ее весь год. Наша любовь не обращает внимания ни на эту весну, ни на всю твою красоту, ни на всю твою доброту. …Все море сияет, все море покидает землю и ее безвестный груз – мечту об исчезнувшем мире, добродетель которого ты сохраняешь. Или лучше представляй себе, что удержала меня над волнами, что свет… и под солнцем ветер, который улетает от огромной земли»[176].
Наступает март 1917 года. Поль снова на фронте. В России Николай II отрекся от престола. Гала не следит за трагическими и радикальными событиями, которые происходят в ее родной стране. Она полностью посвятила себя Элюару, покорна ему, замирает от восторга перед ним. Но в ней по-прежнему живет неукротимая сила, которая никогда не позволит ей отказаться от ее глубинных желаний, от непримиримости и свободы. Немного позже Гала узнает, что беременна, и эта новость ее не радует. Однако она выносит ребенка и родит его 10 мая 1918 года в Нормандии, где укрылась. Так у супругов родилась дочь, которую назвали Сесиль, но Гала была очень мало привязана к ней. Скрытная и равнодушная к другим, она приняла на руки дочь, но отвергла ее так же, как когда-то новорожденную младшую сестру, которую ей дали в руки вместо куклы. «Вопящий кусок ярко-красного мяса, налитый кровью, раздувшийся», – рассказывает она в своих «Интимных записных книжках»[177]. Идет война, причем идет на всех фронтах. Как ни странно, война идет и в мире искусства. В Европе создание движения дадаистов скоро взорвет прежние принципы искусства и правила хорошего вкуса. Революция в искусстве распространяется по городам, словно огонь по пороховой дорожке. Она вспыхивает в Берлине, в Цюрихе и сильней всего в Париже, который скоро станет главным центром «нового искусства» местом рождения сюрреализма. Гала чувствует дух времени. Она всегда была прозорливой, это даже одно из ее характерных свойств – умение почувствовать современность, принять новые идеи, впитывать душой все, что может изменить старый мир. Первые брошюры со стихотворениями Поля (с этих пор его фамилия Элюар) делают его не знаменитым, но в какой-то степени известным в артистической среде. В Париже начинают блистать имена: Ман Рэй, Пикабиа, Марсель Дюшан, Жан Полан, Андре Бретон, Луи Арагон, Филипп Супольт, Ив Танги появляются на небосклоне новой поэзии.
Элюар приближается к ним. Главным местом их встреч становится Монпарнас. Гала всегда почти незаметна, но тайком ведет свою работу. Она без лишнего шума «делает» Элюара – ободряет мужа, успокаивает его, пробуждает в нем его собственную поэзию, дает ему толчок, необходимый для движения вперед. Безумно влюбленная в Поля, она также вносит в его жизнь свободу манер и нравов, к которой он, нелюдимый от природы, совершенно не склонен. Она раскрывает его для своих желаний, осмеливается исследовать новые области, в которых эротика соперничает за него с развратом. Отдав Сесиль ее деду и бабке, Гала освещает своим сиянием жизнь Элюара. Стихи, которые он ей посвящает, не оставляют никакого сомнения в том, что поэт любил ее страстно: «Я буду целовать тебя везде, в центре, вверху и внизу, и когда, взволнованная, ты задрожишь, в моих руках будет чаша, из которой еще не пили, и я опустошу ее не без интереса». Гала защищает и успокаивает его. «Человек ничего не боится на земле, когда у него есть хороший спутник», – пишет Элюар. Своему отцу он уже написал, чтобы убедить его в искренности их с женой любви друг к другу: «И я беру жену, чьи достоинства – простоту, чистоту, нежность и любовь – не нужно выставлять перед тобой, ведь ты их знаешь». В эти годы Гала становится для него единственной, близкой к небесным мирам («Существо, подобное серафиму, прекрасный ангел с целомудренным лбом»), богиней, богиней, которая увлекает его в небеса, но учит его любить землю («Твои ступни скрепляют меня с землей»).
Совсем немного подражая Бодлеру, он описывает ее волосы, которые вовсе не были достоинством: «Ее волосы, которые зажигает рыжий огонь, рушатся в движущемся ритме на ее затылок цвета живого янтаря». Однако рождающийся кружок сюрреалистов совершенно не ценит Галу. Из-за молчания и манеры держаться отстраненно она кажется дерзкой – впрочем, позже, в конце жизни к этому мнению присоединится и Элюар, сказав, что у нее жесткий взгляд.
В Клаваделе, рядом с юным Гренделем она непрерывно читала. Они рассказывали друг другу о своих открытиях и читали в основном Лотреамона, Рембо, немецких романтиков и особенно Ахима фон Арнима. Теперь, в Париже, пока Поль работает в агентстве недвижимости у своего отца, Гала по-прежнему погружается в книги, предпочитая стихи, в основном средневековых куртуазных поэтов и Аполлинера – одного из их наследников.
Не она ли пробудила в Элюаре его эротоманию? Так это или нет, в любом случае застенчивый и сдержанный юноша из Клаваделя в Париже ведет себя как настоящий донжуан. Он изменяет Гале с проститутками. Она не возмущается этим, а дает ему свободу, потому что знает: именно в этой свободе его поэзия пересечет границы, рискнет углубиться в неизвестные земли и одержит победу над поэзией древности. Отношения молодых супругов к сексу достаточно сложные. Элюар изменяет жене, но эти проделки не кажутся ему чем-то важным. Его единственная и главная женщина – Гала, «дева в легком платье». Но ожидает ли он, что она ответит ему тем же? Знает ли по-настоящему, кто такая Гала? Скоро правда вспыхнет перед ним с ослепительной яркостью: он узнает на собственном горьком опыте, что за человек его жена, когда она сойдется с Максом Эрнстом. А для Галы эта связь станет вторым шагом на пути к встрече с Дали, мужчиной ее жизни. В ноябре 1921 года супруги Элюар приезжают в гости к супругам Эрнст в Кельн. Максу Эрнсту тридцать лет, по словам Элюара, он был «хорошего роста, с голубыми глазами». На существующих фотографиях Эрнст действительно выглядит сильным и мужественным, достаточно спортивным. Гала и Эрнст быстро узнали друг друга и с первого взгляда почувствовали взаимную страсть, которую довели до завершения в Имсте, где снова встретились в обществе Арпа и его спутницы жизни Софи Тойбер, а также Тристана Туара.
То, что Гала и Эрнст любовники, уже несомненно, и Поль Элюар мирится с этим. Более того, он поощряет эту связь, словно хочет выполнять все желания жены и не противоречить ей. В сентябре Эрнст покидает жену и сына и приезжает к супругам Элюар в Париж, где живет у них. Это открытое заявление о любви втроем. Главная в этом любовном треугольнике – сумрачная и скрытная Гала. Элюар участвует в нем, но его роль в определенной степени двойственная. Он больше всего на свете любит свободу и потому не может вести себя как ревнивый муж, но его терзают разочарование и постоянная тревога, от которой он почти болен. Он пишет: «Болезнь – как дети, живя на земле, нужно болеть. Ты говоришь это спокойно, обоими глазами наблюдая за вечером. Неужели в это время, которое все портит, у тебя есть такая большая забота… что вода, которая падает между нами, падает между нами как в дыру?» Гала – его Дама и королева (так она подпишет маленькое предисловие, которое напишет в подарок Полю Элюару для маленькой брошюры стихов). Ее выбор не полагается критиковать. Однако образ девы в легком платье, которую он так недавно прославлял, в новом описании приобрел более сложные оттенки: «Дева молилась горячо, усиливая свои желания, свои пороки». А сам он теперь всего лишь кукла: «Это так, играй, и пусть мои руки шевелятся, пусть я буду жестикулировать, забавная вещь». А в «Кукле женщины» он заходит еще дальше: «Я твоя игрушка и твоя жизнь. Без меня ты жила бы одна с твоей тоской». Зимой 1923 года Эрнст пишет картину, которая сделает его знаменитым: «Воссоединение друзей».
На ней в академической традиции, несколько искаженной в результате разрушительных усилий художника-сюрреалиста, изображены все участники нового движения – Супо, Арп, Мориз, разумеется, Элюар, Арагон, Бретон, Де Кирико, Кревель, Френкель, Полан, Бааргельд, Деснос, Пере. Эрнст изобразил и себя, сидящим на коленях у… Достоевского, и Галу. На картине у нее угловатое лицо, как у персонажей Модильяни, изображена она во весь рост. Гала поворачивается назад, загадочная и единственная женщина в группе. Так она вошла в легенду о сюрреализме – муза и тайная советчица, «черная» (невидимая) звезда группы, призрак прорицательницы на фоне космоса.
С этих пор Гала творит историю. «Напрасно я выпрашиваю ласку ее глаз, или ее руки, или ее алых губ», – пишет Элюар. Все трое переезжают в Монморанси. Во время их поездок были перетасованы карты в игре «страна Нежности», которую, как казалось Элюару, он навязал жене и сопернику. Теперь Гала – владычица, дающая всему жизнь и порядок. Силы и нервы Элюара на пределе, и он покидает Францию. Его видят в Венесуэле, на Таити, в Панаме, на Яве, в Австралии. Гала вместе с Эрнстом отправляется его искать и находит в Сайгоне. Супруги воссоединяются и возвращаются в Европу без Эрнста, который в любом случае недолго еще продолжал бы эти «опасные связи», поскольку по натуре был непостоянным и неверным. Но все уже не так, как было раньше. Элюар стал прежним, но Гала сделалась другой. Теперь она еще сильней, менее послушна, более резка и, может быть, даже более мужеподобна. Она намерена жить по-своему и не зависеть ни от кого. Она едет в Россию повидать родных и остается там столько времени, сколько хочет, несмотря на мольбы Поля. И не испытывает никакого материнского чувства к бедняжке Сесиль, которую Элюар пытается успокоить. Наконец она возвращается в Париж, но теперь стала еще более скрытной и неразговорчивой. Чаще всего ее тонкие губы загадочно сомкнуты.
«Она равнодушно спокойна» – пишет Поль и добавляет: – Ты идешь от одной конкретности к другой самым коротким путем – путем чудовищ»[178]. А сам Элюар пытается восстановить стиль их прошлой, но еще такой близкой жизни. Снова начинаются его многочисленные любовные встречи с другими женщинами. Он просит у Галы согласия на эти встречи, и она охотно дает это согласие, но желание притупляется и растворяется. Он с горечью признает: «Прекрасные дни любви прошли». Тот, кто когда-то наряжался в костюм Пьеро рядом со своей Коломбиной в санатории Клавадель, разочарован: «Среди свинцовых облаков сулящая несчастье луна с красивым светлым черепом строит много догадок по поводу таинственного припева и, грустная, верит в разрыв». Гала взяла за привычку путешествовать в одиночку, резвится в Европе, в Берлине, в Локарно. Супруги оба живут в Париже, но теперь раздельно. Однако очевидно, что Элюар по-прежнему влюблен в жену. Его стихи окрашены почти верленовской нежной горечью, их тон элегический, как у жалоб Береники.
Роковая встреча
В 1929 году он однажды встретился с молодым художником-каталонцем, и тот пригласил его в гости в свою мастерскую в Кадакесе. И вот летом 1929 года Элюар и Гала едут туда. Рассказ меняет тему.
Кем был тогда Сальвадор Дали? Ему было двадцать пять лет, он был родом из знатной семьи, которая жила в Фигерасе. Очень рано стало заметно, что у Сальвадора любовь к оригинальности сочетается с сильными запретами. Он то экспансивен и эксцентричен, то становился очень сдержанным, даже замыкался в своем молчании и сомнениях.
В 1921 году он поступил в Мадридскую художественную академию, и в этом же году умерла его мать. Он получил классическое образование, но с трудом терпел учебу, и по этой причине его часто исключали из школ за непослушание и дерзость. Пока он полностью подражает в своих картинах художникам испанского барокко – то Эль Греко, то Веласкесу, и его работы не слишком оригинальны. Но в его душе таится более анархическое вдохновение. На эти свои стремления он находит ответы в сюрреализме и с 1925–1926 годов без приглашения примыкает к этому движению. Там он открывает для себя Магрита, Танги, Бретона и поэзию Шара. Все они раскрывают перед миром глубины своего воображения, не признавая святынь, но отважно и неистово. Сальвадор, еще не ставший Дали, видит в этом свой последний шанс. Сюрреализм освобождает его от внутренних препятствий и открывает перед ним пути для самовыражения. Он становится любовником Луиса Бунюэля, вместе с которым в 1929 году создал знаменитый короткометражный фильм «Андалузский пес». Но был ли он гомосексуалистом в том же смысле, что Бунюэль и Лорка? В этом можно усомниться: кроме Галы, Дали реализовал свои необузданные средиземноморские сексуальность и чувственность в живописи и в создании своего собственного мира. Молодой художник вызывает интерес у сюрреалистов. У него не слишком соблазнительная внешность, да и рост средний, но он всеми средствами старается сделать свой внешний вид необычным. Его невозможно не заметить: он в любое время года ходит в каталонских туфлях, которые сдавливают ему лодыжки, он носит за ухом цветы лавра или магнолии, смазывает волосы своим знаменитым гелем и помадой, надевает причудливые яркие рубашки. Когда работа для галереи Goemans начинает приносить ему небольшой ежегодный доход, Дали решает вернуться в Фигерас к своему отцу, точней, поселиться в Кадакесе, в скромном домике, который ему уступил отец. Кадакес – рыбацкий портовый городок у моря, приютившийся в маленькой бухте, образованной изгибом берега. Именно здесь, в Каталонии с ее зноем и прозрачным воздухом, в этом краю, где небо так сверкает, а море такое синее, Сальвадору хорошо, он чувствует, что здесь – центр его будущего творчества. Как позже Альбер Камю бросит якорь (в переносном смысле слова) в Типасе, так для Дали Кадакес станет местом, к которому он прикреплен, где все исполняется и распутывается.
Итак, вернувшись на родину, он приглашает к себе в гости друзей-сюрреалистов. Именно по его приглашению Магрит и Бунюэль приезжают на часть лета в Кадакес и супруги Элюар с дочерью тоже поселяются в этом маленьком рыбацком городе в гостинице «Мирамар», уже знаменитой тем, что в ней жили Пикассо, Магрит и Ман Рэй. Дали дал длинные, хотя и не полные объяснения по поводу глубин своей натуры, своей сложной сексуальности, своих фантазий, своих наваждений и своих периодических приступов истерии. В беседах с Андре Парино он говорит о Бунюэле только по поводу сотрудничества в кино, ни словом не касаясь своей с ним гомосексуальной связи, зато много рассказывает об отношениях с женщинами. Он перечисляет длинный ряд своих прихотей и причуд, начиная с дней его учебы в Мадриде и кончая днями его жизни в Париже. Эти причуды уже были началом его знаменитого параноидально-критического метода. Он всегда уверял, что именно благодаря этому методу стал Дали. Его фантазии и оригинальные поступки, которые пугали буржуа и были темой для пересудов и в Каталонии, и в Париже, свидетельствуют об одном и том же – о тоске, влечении к женщинам и в то же время о сексуальном напряжении, которое может разрешиться только судорогой, импульсивным порывом и бредом. Мастурбация, в одиночку или коллективная, будет играть важнейшую роль в его приближении к внутреннему миру. Воображение Сальвадора не дает ему покоя, изматывает его, мучит, как тиран, но одновременно очаровывает. Но все же главная и скрытая цель его поиска – вернуться во внутриутробный мир, словно преждевременная смерть матери прервала его развитие как мужчины и породила в нем это гнетущее желание вернуться в то, что он называл «вагинальным ушатом»[179].
Но Дали очень ясно осознает свои комплексы. Он страдает от них, но и пользуется ими и, даже страдая, эксплуатирует их. Делая это, он свиреп и жесток, что свидетельствует о его величайшей самовлюбленности и полнейшем эгоцентризме. Эта жестокость свойственна ему с раннего детства и приводит в растерянность окружающих его людей (отец высокомерно и сурово следит за ним, Дали это знает и хитрит с отцом). С помощью этого представления, в котором он актер и зритель одновременно, молодому художнику удается излить свою боль и при этом если не уменьшить, то хотя бы ограничить ее. Эта боль всегда выступает наружу в его насмешке. Пока Дали еще не торгует несчастьем, терзающим его душу. Его насмешка над собой еще чиста, не испорчена примесью бизнеса. То, что ему трудно чувствовать себя мужчиной, его склонность к самолюбованию, его заботы о своей внешности и своем лице, смелость, с которой он в строго католической и консервативной Испании делал себе макияж, прикалывал цветы к покрытым лаком волосам, сознательно ища для себя сомнительный стиль, – все это свидетельства хрупкости и искренности. Эта хрупкость и искренность растрогают Галу так же, как его друзей-сюрреалистов. Молчаливый Магрит и его жена приехали в Кадакес по приглашению Дали, и это показывает, как сильно Сальвадор мог заинтересовывать собой и очаровывать других. В это время Дали однажды так охарактеризовал веселую компанию своих парижских и испанских друзей: «маленькие негодяи, алчные и ловкие дьяволята». Позже он сказал: «Я был охвачен бешенством самоуничтожения и пробовал на прочность все ценности, словно для того, чтобы проверить, насколько они крепки, и создать новую иерархию из ценностей, выбранных моим гением»[180]. И добавил, что в то время он очень ясно осознавал свою рождающуюся гениальность, потому что приобрел «прочные знания и техническое мастерство, которые позволяли [ему] использовать все возможности [его] клавиатуры в самой благородной классической традиции, при этом позволяя говорить самым тайным силам [его] подсознания»[181]. Он заставил свою личность совершить все «театральные эксцессы», развил в [ней] все противоречия, самые бредовые наклонности, самые безумные вымыслы». Теперь ему оставалось только «завоевать любовь, славу и деньги»[182]. Именно в этом ожидании себя самого Дали находился, когда перед ним появилась Гала. Он объяснял, что его сексуальность – сердцевина его живописи и возникающих в его сознании образов – питается тремя источниками: «неземной» духовностью; утонченной, грубой и холодной жестокостью и грубыми непристойностями, которые он связывал не только с экскрементами, но и с украшениями (золотом, драгоценностями). «Золото и дерьмо представляют одно и то же»[183]. Убедившись, что он не может, как герой-донжуан из прочитанного им порнографического романа, «заставить женщин лопаться с хрустом, как арбузы»[184], он «терзался» из-за своей слабости. Самым сильным симптомом этих мучений были «припадки неудержимого смеха, доходившие до истерики; они были как бы доказательствами движений, происходивших в глубине [его] сознания». В Париже Дали уже дает волю своим тайным стремлениям: «Андалузский пес» и две картины самого художника – «Мрачная игра» и «Великий мастурбатор» – взбудоражили маленький кружок сюрреалистов. Постепенно и медленно ум Дали, который он сам называл «эффективным», и маниакальные выходки помогли ему справиться с тревогами и встретиться лицом к лицу с судьбой. Произошло настоящее посвящение Дали в художники: он познакомился с аристократами-коллекционерами (семьей Ноай, семьей Дато, графиней Куэвас де Вера), с художниками (Задкиным, Бранкузи, Дереном, Кислингом) и поэтами (Десносом, Пере). Среди них еще не хватало того, кого называли принцем поэтов-сюрреалистов, – Поля Элюара.
Галерист Геманс рассказывает Сальвадору о нем: «Он друг Пикассо, знаком со всеми талантливыми художниками, опытный коллекционер и продавец произведений искусства, имеет вес у сюрреалистов». И добавляет главное: «В 1917 году он женился на женщине, у которой восхитительное тело. Он хранит в бумажнике ее фотографию и показывает тем из своих друзей, которые умеют ему льстить. Сейчас она в Швейцарии. Ее зовут Гала». Дали охотно уступает Бретону место председателя в «клубе» сюрреалистов под тем предлогом, что в любом случае «сюрреализм – это [он]», уезжает в Кадакес и приглашает своих новых друзей к себе в гости. Позже он говорил, что тогда «для него настало время встретиться с Галой», и это, несомненно, было так. Тогда в его уме постоянно возникала и укреплялась смутная мысль о какой-то встрече, которая поможет ему проявить себя. Он считал, что «растрачивает свой гений на смех, сперму и видения», так что «да, настало время, чтобы Гала вернула [ему] душу»[185]. Но весь этот путь к встрече проходил невидимо, в лабиринтах его бредовых видений, в смутном осознаваемом, но несомненном для него ощущении, что «смертельная игра»[186], в которую он играет несколько последних лет, скоро закончится и он войдет в другой мир, где наконец будет царствовать женщина-богиня, она станет творить и защищать его. В это время он, судя по свидетельствам многих источников и по некоторым его собственным косвенным признаниям, был еще девственником, несмотря на сильную эротическую активность, выражавшуюся почти полностью в онанизме, на гомосексуальные встречи и одержимость женщинами. Его «перегретое воображение отчаянно [ждет] спасательного круга». Дали начеку, его чувства обострены. Он жадно ждет той минуты, когда наконец сможет стать тем, кто он на самом деле. Кто станет той феей, колдуньей, музой, святой, которая его освободит?
И наконец приходит Гала
Когда семья Элюар приезжает в гостиницу «Мирамар» в Кадакесе, у Дали происходит один из его мощных неконтролируемых приступов смеха, однако Гала остается холодна как лед. На следующий день они снова встречаются в гостинице в час аперитива. Он очень заботливо нарядился для этой встречи. «Мужскими были только белые брюки»; в остальном он был одет как гермафродит – рубашка с пышными рукавами, браслет, ожерелье из фальшивого жемчуга, напомаженные волосы. Это был настоящий маскарадный костюм! Гала не узнает его. Назавтра он снова меняет наряд. Теперь придумывает для себя образ «оборванца»: разрезает рубашку ножницами, натирается «гнусным мускусом», который составил из рыбьего клея и козьего помета, наносит себе порезы и дает струйкам крови высохнуть так, чтобы остались красные полоски вдоль его рук. И наконец, намазывает свое туловище синькой!! Но, увидев издали голую спину Галы, «великолепную, атлетическую и хрупкую, напряженную и нежную, женственную и энергичную», Дали ослеплен и очарован. Он стирает все следы своего нелепого наряда и подходит к ней, трясясь от приступов смеха и от спазмов. Гала смотрит на него удивленно и серьезно, и Дали потом говорил, что в ее зрачке «был призыв». Любая превосходная степень слов слишком слаба, чтобы описать эту встречу, которую Дали поднял на уровень мифа. Все говорят, что он в ту минуту нашел свою «родственную душу»[187]. Он не только оказался во власти русского и космополитического очарования Галы, он предчувствует, что теперь вся его жизнь будет преломляться в этой любви, как свет в призме. Полился поток его признаний: до встречи с ней он был только «пропастью, полной ужаса, полной страха»; он «гениальный ребенок, потерявшийся в этом мире», его ужасный смех – лишь «крик отчаяния и ярости, призыв всего существа, последнее послание разума, который теряет дорогу в лабиринте небытия».
Все это он только что понял – осознал мгновенно при свете вспыхнувшей как молния долгожданной любви. Это признание сделало для него доступной любовь к женщинам, от которой он, в сущности, никогда не отказывался и которую подсознательно чувствовал, но скрывал это. Их встреча вызвала беспокойство у Элюара. Необычной в ней была сила доходившей до самозабвения любви Дали к Гале. Необычным было его отчаяние до этой встречи и то, что его засыхавшее тело словно воскресло от прикосновения Галы. Гала услышала крик Дали и ответила на него. Они вдвоем идут прогуляться на пляж и ходят вдоль скал по маленьким бухточкам Кадакеса. У Дали снова начинается приступ безумного смеха, но Гала берет его за руку и говорит ему таинственно и властно: «Мой маленький, мы больше не покинем друг друга». Так она поставила печать под «договором о чуде Дали»[188]. Повествование Дали о его прошлом становится ясным и отчетливым именно после рассказа об этой минуте. Он говорит о достоинствах Галы и о чуде, которое она с ним сотворила, и, как отрицательную противоположность, противопоставляет им свою душевную неудовлетворенность и боль. Гала помогла его гению раскрыться – в этом он уверен. Поэтому Дали говорит, что она его «усыновила», называет себя «ее ребенком, ее сыном, ее любимым». Она сразу становится для него мадонной, которая «открывает небо» и помещает его в облаках. Она «защитница, [его] божественная мать, [его] королева»[189]. Но его тревога по поводу гетеросексуальных отношений, которую он выразил в своей знаменитой картине «Великий мастурбатор», вовсе не угасла. Обладать Галой как женщиной для него настоящее мучение, но он знает, что это обязательный шаг на пути к чуду. Они становятся любовниками, и это происходит в дни сбора винограда. «Я хотел бы глубоко погрузиться в нее, чтобы лакать, есть, разрывать ее плоть. И я неистово кусал ее губы, пока вкус ее крови не наполнял мой рот, и я мог сосать, как материнское молоко, эту жидкость, более сладкую, чем мед. Я становился вампиром. Я становился свирепым, я падал в бездну неслыханного удовольствия. Я был любовником»[190]. В то знойное лето Гала стала его «маяком», его «двойником», его «я» – таким признанием завершает он свой рассказ! «Я чувствовал себя мужчиной, освободился от своих страхов и своего бессилия. Она наделила меня той земной вертикальной силой, которая позволяет мужчине проникнуть в женщину»[191]. Итак, искусство Дали развивается и освобождается. Художник, который «наслаждался образами» и предавался «погоне за экстазом»[192], теперь находит в телесном слиянии с Галой пищу для своих картин. В этом смысле все творчество Дали – дань его любви к Гале, и наоборот – Гала по-настоящему существует только в той проекции, в которой ее представил себе Дали, чтобы войти в мир своего творчества. Мастурбация, игравшая в его жизни роль основы до встречи с Галой, еще недавно позволяла ему добиться взрыва образов, вырывавшихся из его сознания непосредственно перед наслаждением. По его словам, это момент приятного эротического удовольствия и большого напряжения творческих сил. Так постепенно возник его знаменитый параноидально-критический метод. Но с появлением Галы этот расклад изменился и ощущений стало больше. Дали объяснял: «В последний момент перед тем, как я взрывался в ней после того, как проник в нее и ласкал ее моим членом в естественном и нежном ритме, я чувствовал, как из глубины моего существа поднимаются мощные образы, которые так восхищали меня, что голова начинала кружиться»[193]. Значит, он (это он признавал и сам) применял тот же прием, что и Пруст, который поднимал на поверхность реальности то, что было погребено, используя в роли инструментов связанные с ним запахи, видения и звуки.
Обретение Галы Дали воспринимал как «чудо», благодать и экстаз. Так разве он мог бежать или уклониться от этой любви? Гала окончательно входит в его жизнь как эмоциональный двойник, сестра, возлюбленная, мадонна. Она становится необходимой героиней его жизни. Он не находит достаточно слов, чтобы выразить почтение к ней, потому что именно через ее посредство, благодаря ей он смог создать свой «эликсир, свое наслаждение и суть той силы, которая позволяет [ему] побеждать и господствовать над миром»[194]. Гала, которая уже преобразовала Элюара, теперь начинает работать над жизнью Дали. Он признает, что она «успокаивает» его, «проявляет» его, что она его «делает». Возможно, этот труд Пигмалиона больше всего подходит Гале. В это время она начинает понимать, какой властью обладает; теперь она хочет сама применять эту власть. Потом она с величайшей простотой признает, что имеет этот дар, сказав: «Я создала Дали, величайшего художника нашего времени. Он стал Божественным благодаря мне, и этого мне достаточно». А теперь она решила, что будет полностью исполнять свою роль тайной советчицы и создательницы гения. События ускоряются. Гала возвращается в Париж. Дали в Кадакесе пишет, почти под ее гипнозом, «Великого мастурбатора» и «Портрет Поля Элюара». Написать портрет – самое меньшее, что он был обязан сделать для поэта, у которого только что увел жену. Он знает, что Гала, даже когда ее нет рядом, поддерживает его и стимулирует творчество, открывает перед ним двери. Но отец Дали считает иначе. Для него Гала – интриганка и наркоманка, которая может принести его сыну только вред. Дали не желает покориться, тогда отец отрекается от него и прогоняет из Кадакеса. Дали в ответ обривает себе голову и зарывает волосы в песок на пляже своего городка вместе с раковинами морских ежей, которые, по его словам, «пахнут как женские гениталии». А потом он возвращается в Париж. И организует выставку, которая приносит ему огромный успех: все картины проданы. «В моей жизни переворачивается страница: я выхожу из тени на свет», – пишет он.
Гала становится неизбежной; для него любовь к ней – одержимость, полное слияние двоих навечно. Он говорит, что хочет «уподобить ее себе и раствориться в ней»[195]. Он хочет запереться на замок вдвоем с любимой, и это происходит: Гала соглашается уединиться с ним в маленькой гостинице в Карри-ле-Руе, на Лазурном Берегу. Там они снимают две комнаты – в одной будут жить, в другой он станет писать картины. Они несколько недель проведут там, не выходя наружу и приоткрывая дверь лишь для того, чтобы принимать подносы, которые им приносят горничные. Живопись и любовь. «Оргиастические объятия, звериные, но совершенные и прекрасные в своей неумеренности». Дали проводит долгие часы, открывая для себя тело Галы, а она отдается ему, как раскрытая раковина. Она подставляет Дали все – свои груди, гениталии, живот, а он «методически исследует ее». Влюбленным приходится поневоле покинуть это убежище: у них закончились деньги. Теперь Гала берет их жизнь в свои руки. Она возвращается в Париж, чтобы забрать деньги, которые им должна галерея «Геманс», ведущая дела Дали. А он в это время получает от своих новых меценатов, семьи Ноай, заказ, который позволяет молодой паре спокойно провести зиму. В замке Сен-Бернар, держа в руке чек на 29 000 франков – аванс за картину, Дали понимает, что деньги – «волшебная палочка». Денежные средства, которые он добывает, станут источниками творчества. Из этого смутного чувства в Сальвадоре Дали родился Avida Dollars – «жаждущий долларов» (такую анаграмму из его имени придумал Андре Бретон в 1949 году. – Пер.).
Но Гала для него главней всего – и денег, и даже славы. Она – суть Дали, для него она не имеет себе равных, как для Данте несравненной была Беатриче, с которой Дали часто сравнивает Галу. Любить Галу – значит вернуться к изначальным истокам, в тепло плаценты, в материнскую утробу – и, самое главное, чувствовать под своим пальцем родинку на мочке ее левого уха, драгоценный талисман. Эта родинка пробуждает во влюбленном художнике порывы чувств – «альфу и омегу Дали»![196] Влюбленные возвращаются в Каталонию, но они твердо решили, что больше не вернутся в Кадакес. Хозяйка гостиницы, которая дружит с ними, а живет в соседнем маленьком рыбачьем порту Порт-Льигат, дарит им хижину на пляже. Они принимают подарок и превращают его в домик, который Дали называет своим «гнездом» и своей «ракушкой». Но тут Гала заболевает плевритом. Дали лечит ее и нежно заботится о ней. Когда она возвращается к жизни, он привозит ее обратно в Порт-Льигат. «Здоровье вернуло мне Галу-наставницу, и я снова стал ее удовлетворенным возлюбленным». Что значит «Гала-наставница»? Выздоровев, Гала собирает все свои способности, свою беззастенчивую свободу, независимость своего ума, свой любовный жар, свою склонность бросать вызов, свою яростную жажду жизни и осмеливается гулять по пляжу с «победоносно обнаженной» грудью. Но слава еще не пришла. Галерея Геманс обанкротилась, Бунюэль предал Дали – не дал ему роль в своем последнем фильме «Золотой век», хотя предполагал это сделать. Дали, оставшийся без денег и упавший духом, переживал тогда очень тяжелое время. Гала спокойно принимает эти трудности, отчего возлюбленный еще сильней восхищается ею. Он продолжает писать картины, и в один из дней своего отчаяния, после сильной мастурбации, в самый момент своего знаменитого взрыва образов сильно ударяет себя кулаком по щеке, чтобы заглушить душевную боль, и ломает себе зуб. Этот зуб он сразу же начинает считать талисманом, трофеем и пишет о нем: «моя затвердевшая сперма, которую я только что вернул себе». Он подвешивает этот зуб на нитке в центре домика, решив, что будет усиленно работать для семьи Ноай и складывать полученные деньги в сейф, а потом поедет в Париж, чтобы там сделать состояние. «Мой приносящий счастье зуб из спермы заставит пролиться золотой дождь на дом в Порт-Льигате. Это будет золото, которое я заставлю литься струей из моего гения»[197]. Гала в этом предприятии следует за ним. Сейчас она больше, чем когда-либо, его женщина, его супруга, его двойник, его вера.
Вера в смысле «мое убеждение», уточняет он. Дали лихорадочно пишет свои картины, а она присматривает за ним – «доблестная маленькая душа, сияющая в темноте, как маяк надежды». Они снова, как в дни медового месяца, запираются ото всех. Теперь они свободны от всех парижских артистов и интеллектуалов, которые их предавали. Они будут избегать «снобизма, порока, наркотиков, коммерции, педерастии и его франкмасонства». Он станет «твердым как скалы Порт-Льигата, непреклонным, гордым, но уверенным в [себе]»[198]. Гала почти полностью бросила Элюара и Сесиль – своего ребенка. Чтобы побудить Элюара к творчеству, она несколько раз соглашается встретиться с ним, но постепенно замечает, что Дали заполняет всю ее жизнь. Элюар грезит о ней, но знает, что в эти дни, в конце 1929 года, он переживает последние вспышки той любви, которую не сможет ему дать даже сменившая Галу Нюш. Он пишет пылкие стихи, но это лишь стихи. Их мелодика безупречна, но нет подлинного чувства реальности: «Мой язык весь целиком в твоем рту, в твоих гениталиях. Мой член украшает тебя спермой. Она у тебя на ладонях, на животе, на грудях, на твоем безумно полном жизни лице. И мы снова начинаем обнимать друг друга, ласкать друг друга, пронзать друг друга». Но его вдохновение напрасно рождает эти образы: Гала полностью посвятила себя Дали.
Она медленно «далинизируется» – усваивает от Дали его экстравагантность: ведь и в ней самой живет никогда ее не покидавшее русское безумие.
Путь наверх
Их первые успехи в Париже невелики, но у Дали появляются покровители: им интересуется аристократия, в том числе принц Павел Сербский и князь Фосиньи-Люсинж, который вводит его в круг самых состоятельных людей, а также Ротшильды. Он пишет сюрреалистические картины, к великому несчастью Андре Бретона, который осуждает его манеру раскрывать сюрреалистические тайны, опошляя их. Но Дали не волнует это осуждение. Он продолжает работать, несмотря на опасность оказаться в изоляции. Гала ободряет его и в каком-то смысле становится его агентом – организует встречи, ведет бухгалтерию, старается установить высокие расценки. Они часто возвращаются в Порт-Льигат; так они будут поступать в течение всей своей невероятной жизни. Каждый раз их словно околдовывает это место. Неподвижность моря между скалами, стоящими среди воды, странная, почти нереальная маленькая бухта, ветер, который дует между голыми склонами, – все полно для них очарования. Они решают скупить маленькие дома в окрестностях бухты. Постепенно на этом месте будет построено сюрреалистическое поместье Сальвадора Дали, фантастическое королевство, подобное своим владельцам. После обеда, за которым следует короткий ритуальный отдых, Дали начинает писать, а Гала берет лодку, которую он изобразил на картине, и плавает на ней между скалами. Так она – странная фея, заблудившаяся в море, – проводит много часов, собирая актинии и морских ежей. Дали рассказывает, что в это время они «приросли друг к другу как две раковые опухоли – одна в желудке, другая в горле Времени»[199]. Так проходят для них 1930-е годы – в творческой лихорадке и неуверенности в завтрашнем дне. Гала совершенно не нравится тем, кто окружает Дали, и не делает никаких усилий, чтобы им понравиться. Она своенравная и скрытная, она равнодушна к другим, она эгоистка и всех презирает, к тому же она в высшей степени скупа. Ей дают прозвище Злюка. Дали ничего не может с этим сделать: Гала живет в нем, она словно растворилась в нем. Выставки 1931, 1932 и 1933 годов еще не подняли его на вершину славы, но он начинает приобретать известность как «интересный» художник. Он увеличивает число своих оригинальных выходок. «Это для того, чтобы его заметили», – говорят те, кого известность Дали огорчает. А их немногие друзья говорят: это потому, что живут в естественном для них поэтическом очаровании. Дали придумывает сюрреалистические предметы, бесполезные и «безумные»; их трудно сбыть, но они очаровательны. Они веселят владельцев галерей, но те ничего не покупают. В это время он создает искусственные ногти, украшенные зеркалами, мебель, изготовленную с учетом формы туловища или конечностей будущих покупателей, и т. д. Гала ходит по галереям, излагает там планы Дали и возвращается с пустыми руками и часто разочарованная, но влюбленные не теряют надежды, словно предчувствуют будущий успех – неизбежный, очевидный, неотвратимый. Дали больше, чем когда-либо, сознает, что становится Дали. Он уверен в том, что имеет дар ясновидения, и убежден, что Гала изгнала из него злых духов. В «Тайной жизни Сальвадора Дали» он пишет: «Она была предназначена стать моей Градивой – силой, движущей вперед, моей победой, моей супругой». При таких обстоятельствах Бретон, продвигавший его вначале, становится не нужен. Дали очень скоро пожелал стать величайшим из сюрреалистов, хотя не был формально принят в их движение. Более того, он стал считать, что он один – НАСТОЯЩИЙ сюрреалист. Обо всем этом он высказался очень ясно, говоря о сюрреалистической школе. «Они объяснили мне, что при автоматизме нужно изображать все, что происходит в моей голове, без всякого контроля со стороны разума, эстетики или морали. Так у меня оказались средства, идеальные возможности для связи. Но очень скоро Бретон был шокирован присутствием непристойных элементов. Он не хотел ни экскрементов, ни мадонны. Но сразу вводить запрет – это же противоречие в основе чистого автоматизма, раз эти экскременты приходят мне на ум напрямую, биологически». Поэтому немилость со стороны Бретона и его друзей стала для Дали почти освобождением: он был врагом любых «инквизиторских процессов» и предпочел снова остаться вдвоем с Галой. Он снова свободно распоряжался своим умом и своей психикой, был свободен для любви, которую дарила ему Гала, и все это способствовало приходу его славы. Она управляет их домом, выбирает для Дали подходящие рабочие принадлежности, покупает рамки, ухаживает за холстами. И 30 января 1934 года они наконец официально вступают в брак. Начинается удачное время: многочисленные выставки, особенно в Нью-Йорке, приносят Дали большой успех. Теперь он считается одним из самых интересных и самых новаторских художников своего времени. Однако это не приносит мира и покоя его душе. Напротив, крайности его параноидально-критического метода приводят его к мрачным минутам депрессии и боли. Гала всегда рядом, чтобы успокоить его. «У каждого мужчины может быть жена, но только Гала умеет исцелять душу», – признается он. Поэтому ее считают немного колдуньей, и она поддерживает этот образ загадочной женщины. Она – абсолютная тайна, как Надя у Бретона, по-своему безумная и в любом случае пылкая. Она поддерживает свою экстравагантность и свои сюрреалистические капризы, но не забывает о себе. Она неразлучна с Дали и усваивает его манеру вести себя и его привычки, обращает на себя внимание собственными эксцентричными выходками, бывает у великих кутюрье, начиная со своей подруги Шанель до Скиапарелли. А они одевают Галу бесплатно потому, что она служит рекламой их моделей в светском обществе. Оба супруга в эти предвоенные годы окружают себя приближенными и поклонниками, бывают в парижском высшем обществе, не пропускают ни одного маскарада или частного концерта в салонах семей Бомон и Полиньяк. Там можно привлечь к себе коллекционеров, там можно найти деньги. Дали и Гала это знают. Они не отрицают, что жаждут заработать много денег, считают, что достаточно настрадались от безденежья, и не хотят еще раз проходить через такие испытания. Дали согласен жить бедно только в Порт-Льигате, в доме, который когда-то был их скромной хижиной, но теперь, после покупки ими соседних хижин, должен стать маленьким дворцом, сказочным сюрреалистическим поместьем, покои которого будут связаны между собой мостами и мостиками. Этот дворец действительно возникнет в конце 1960-х годов – такой, каким его сейчас видят посетители. Постоянное присутствие Галы рядом с Дали теперь граничит с обожанием. Разумеется, он уподобляет ее Деве Марии, она становится мадонной, увиденной со спины и спереди, но также идолом, и даже заимствует лицо у Христа в восхитительной «Тайной вечере». Война в Испании, трагическая смерть Гарсиа Лорки, любовником которого Дали короткое время был до встречи с Галой, усиление боевых действий во всей стране приводят супругов к решению бежать и быть после этого вместе. Как когда-то Гала не интересовалась советской революцией, так теперь Дали не особенно интересуется гражданской войной в Испании. В конце своей жизни он получит дворянство, но согласится принять эту честь лишь потому, что титул маркиза ему присвоит король Испании, недавно восстановленный на своем троне. Дали считает, что он в первую очередь далиниец и лишь потом испанец. Значит, их отъезд – не изгнание. Супруги на время останавливаются во Франции, в Италии, но больше всего времени проводят в Соединенных Штатах, куда Дали регулярно ездит вместе с Галой. Однако на этот раз угрожавшая миру большая война наконец разражается.
Слава и рождение мифа
В начале августа 1940 года они вдвоем поднимаются на борт корабля «Эксцельсиор», который идет в Нью-Йорк. В этом городе супруги останутся на восемь лет. За это время они создадут легенду. Американский период творчества Дали не богат шедеврами: за время, которое прошло после его встречи с Галой, художник уже создал свои самые прекрасные картины. Годы эмиграции станут главным образом временем создания мифа. Дали совершенствует свой образ «великого сюрреалиста» (так его назвала «Чикаго дейли ньюс»). Гала увлеченно и усердно помогает ему решать эту задачу. Она отлично видит, какой сильный интерес к ним обоим может возникнуть у американцев, которые любопытны и слабо разбираются в терминологии искусства. Поэтому она побуждает Дали блефовать перед американской публикой, то есть теперь в первую очередь не писать картины, а удивлять, забавлять, восхищать. Дали начинает заниматься серийным производством в искусстве – создает литографии, которые подписывает в спешке. (Позже некоторые станут говорить, что он заранее подписывает еще нетронутые доски.) У обоих кружится голова от мечты о славе и богатстве, и оба неистово рвутся к этой цели. Он придумывает украшения и предметы, иллюстрирует журналы, декорирует квартиры, создает серии мебели. Воображение Дали не знает предела, и он становится любимцем Нью-Йорка. Нет званого вечера, на который бы не пригласили обоих супругов, и на каждом вечере они привлекают внимание всех гостей. Им больше не нужны даже экстравагантные или невероятные наряды. Напротив, они одеваются достаточно скромно: он чаще всего одет в темный костюм и белую рубашку с красным шелковым галстуком, она почти незаметна в очень строгих или простых платьях. Но они удивляют и умеют распространять вокруг себя аромат тайны. Русская душа Галы отлично справляется с выполнением смелого плана по обольщению американцев. Гала без шума выполняет обязанности коммерческого агента Дали. В этом качестве она неумолима: никогда не торгуется – соглашайтесь или отказывайтесь. В 1943 году супругами увлекся миллиардер Рейнольдс Морзе, и хитрая Гала поддерживает это увлечение. Морзе восхищается творчеством Дали, но главным образом чувствителен к моде на его работы. Миллиардер дает художнику большие суммы денег, платит наличными за одни картины и заказывает другие. Он приобретет больше ста картин Дали и почти тысячу рисунков и гравюр.
Эта роскошная жизнь продолжается все военные и послевоенные годы. Дали и Гала бывают у всех бежавших из Европы артистов и знаменитостей, которых приютил Нью-Йорк. Они хорошо знакомы с Гарбо, с Маном Рэем, с Сент-Экзюпери и его женой Консуэло, с Кларком Гейблом, с Хичкоком, с Габеном и со всем Голливудом. Их везде легко узнать: его – по усам, которые он называет «не-ве-ро-ят-ны-е», произнося это слово по слогам, а ее, такую скрытную на публике, – по огненным глазам, единственному, что ее выделяет. Одинокие герои истории о себе, которую они сами создали, эти двое проходят сквозь толпу, не обращая на нее внимания, равнодушные к чужим взглядам. Более, чем когда-либо, Гала для Дали – его «Градива, идущая вперед», а вернее, движущая его вперед сила. Их маленькое предприятие работает на полную мощность. Дали производит по своим рисункам серии сумочек, украшает предметы обихода, своим всегда бодрствующим умом дает толчок развитию прикладных и декоративных искусств, в буквальном смысле слова заново изобретает дизайн и пишет свои воспоминания. А Гала читает каждую страницу и каждую строчку этих воспоминаний. Она все сортирует, хранит, складывает – и ничего не рвет, поскольку считает, что каждый черновик и каждое слово Дали стоит целое состояние. Он хочет быть еще и архитектором. И находятся инвесторы, которые, почуяв выгодное дело, предлагают ему декорировать ночные клубы, такие как клуб, который он «увидел» в бреду, находясь в Акапулько. Тот клуб из видения был огромен, его населяли фантастические звери, и в нем даже была арена.
Однако любовь между супругами продолжается, несмотря на эту бурную деятельность, которая в конце концов повредила гению Дали. Он стал жертвой собственного безумия. Когда-то он называл себя одним из величайших художников всех времен (другие – Рубенс и Гойя). Теперь он рад жить в своем веке и считает себя намного ниже Рафаэля! Но Гала не стала ценить его меньше из-за этого. Наоборот, она продолжает тот медленный и терпеливый труд, который начала с их первой встречи в Кадакесе. Она сделает человека гением! В этом ее судьба, говорит она. Однако Гала уже давно стала вспыльчивой и необузданной. У нее есть любовники, и совесть совершенно не мучит ее из-за этого. В основном это молодые люди, жиголо, от которых ей нужно лишь одно – утолять свой сексуальный пыл. Она не вносит в эти похождения ни капли чувства, не известно ни об одном ее любовном увлечении, в котором участвовало бы сердце. Многие, и в разных местах, даже называли ее совершенно холодной и циничной. Дали оказался в западне: он должен постоянно поставлять публике что-то новое, все больше изобретать, все больше удивлять. Иногда его произведения бессознательно отражают его внутреннюю жизнь. В это время появились его «мягкие часы». Можно догадаться, что они возникли вовсе не беспричинно. Наоборот, они отражают личную драму Дали – его сексуальное бессилие или его сложную, неоднозначную сексуальность. Сильней этих сложностей оказалась только Гала: после их с Дали встречи она всегда была у него единственной. Не известно ни об одной его любовной истории с женщинами, кроме любви к ней. Женщины, которые его окружали, в основном похожие на гермафродитов, были для него только силуэтами, мимолетными призраками. Именно в это время он достиг вершины своего коммерческого искусства. Уже не зная, что придумать, чтобы удовлетворить свою жажду денег и свою любовь к эпатажу, и сознавая в глубине души, что он губит себя, когда подписывает своим именем серии шапок или пепельниц, он наконец публикует свои книги: «Тайная жизнь Сальвадора Дали» (в русском переводе «Моя тайная жизнь». – Пер.) и «Сокрытые лица». В них он много раз упоминает о Гале, но говорит лишь то, что уже было известно. Однако в них много намеков на ее идеализацию, на ее превращение в эфирное существо. Так Дали начинает большой поворот в своей живописи. После торжествующего сюрреализма его увлекает мистицизм. Он героизирует образ идущей вперед женщины, которую называет то Градивой, то Изольдой. Центр этого образа – Гала, но Изольдой не полагается обладать сексуально. И Гала входит в его мифологию через парадные ворота святости. Он в буквальном смысле вводит ее в алтари. Как церковь может объявить женщину святой, так Гала становится его мадонной или Ледой. В его воображении рождаются восхитительные картины – пейзажи Порт-Льигата с неизменными сказами на заднем плане и Гала со спины или анфас, величественная и непокорная. Ему удается передать ее отличительную особенность – сочетание грации с неподвижностью и молчанием. По примеру Данте или одного из своих любимых поэтов, русского поэта Блока, который любил женщин, идеализируя их, любил, по выражению Бодлера, «идеи красоты», Дали начинает превращать свою любовь в нечто отвлеченное. А Гала? Она готова быть тайной советчицей и создательницей гения, но, возможно, не хочет поневоле быть бесстрашной богиней. В «Сокрытых лицах» Дали излагает свое новое искусство любви. Уже в день их встречи он потребовал, чтобы Гала управляла им в любовных ласках («Скажите мне, что я теперь должен сделать. Скажите мне это непристойно, чтобы я стал мужчиной и зверем»)[200]. Теперь он стремится сделать их отношения духовными и мистическими, достичь оргазма без физического контакта. Но для Галы этого мало. Собственное творение превзошло ее, и теперь она убегает и отступает. Она путешествует без Дали, встречается со случайными любовниками – молодыми мужчинами, не талантливыми и не гениальными, и щедро одаривает их – дарит спортивные машины и роскошные вещи. Дали не обижается на это. Не стал ли он подсматривать за чужой любовью, как делал Элюар? Или он вернулся к своему первоначальному предпочтению – к мастурбации, которой он неистово предавался и которая, возможно, была главным источником его творчества, единственной «фабрикой» образов, питавшей его искусство? В 1948 году супруги возвращаются во Францию, затем переезжают в Испанию. Порт-Льигат пострадал, и Дали хочет сразу же исправить нанесенный поместью ущерб. Они покупают еще несколько хижин и задумывают построить жилище из рыбацких хижин, превращенных в более прочные помещения, связанные между собой, которые образуют что-то вроде сюрреалистической крепости на краю пляжа.
Перед ними открывается великолепный вид на бухту Порт-Льигат, который они хотят сделать частью своей резиденции. Они придумывают такие дверные проемы и окна, чтобы этот пейзаж вошел в их дом. Бухта, в которой лежат посреди маслянистого моря огромные скалы, присутствует всюду, она навязывает этому дому себя и свой мифический, идеализированный облик. От пейзажа до картины всего один шаг, и Дали легко его делает. Как у великих классиков, французских и итальянских, пейзаж у него становится фоном для картины, местом из сна, составленным заново, восстановленным. Живопись, обустройство дома, контракты с производителями предметов роскоши, реклама, «фабрика» литографий, тысячи которых продаются по всему миру, – все это полностью занимает время Дали. Гала ведет их денежные дела, жестко торгуется при составлении каждого договора и подписывает контракты на все более баснословные суммы. Но между этим подозрительным меркантилизмом, который многие считают испорченностью, и истинным внутренним миром Дали лежит целая пропасть. Книга «Дневник одного гения», в которой он описал свою жизнь в 1952–1963 годах, – свидетельство того, что он в это время продолжал большой духовный труд. Уже в 1948 году, возвратившись из Соединенных Штатов, Дали опубликовал «Пятьдесят магических секретов мастерства» – пособие по искусству живописи. Такие пособия в свое время написали Винчи и Делакруа.
В эти годы и до 1974 года Дали оберегает его муза. Она продолжает всем заведовать, все придумывать. Ее конечная цель – сделать из него художника, занятого только своим искусством, свободного от всех материальных препятствий. «В будущем [1953] году, – пишет он в своем «Дневнике», – я стану самым совершенным по качеству отделки и самым быстрым художником в мире»[201]. Имея эту возможность распоряжаться собой, которую получил благодаря Гале, он восхваляет себя: «Каждое утро, просыпаясь, я ощущаю величайшее удовольствие, которое впервые за этот день открываю для себя, – удовольствие быть Сальвадором Дали, и в изумлении спрашиваю себя, что еще чудесного сделает сегодня этот Сальвадор Дали. И каждый день мне трудно понять, как другие люди могут жить и при этом не быть ни Галой, ни Сальвадором Дали»[202]. Однако эта мания величия не вредит его дарованию: у него огромные творческие способности и точность наблюдений величайшего художника, и он своей обостренной совестью чувствует, как они велики. Он наслаждается «дикой» жизнью в своем каталонском доме, который открыт северному ветру и не имеет себе равных в мире: «Перед тем как мы засыпаем, Галатея съедает большую сверхминдалину из сельди! Это воскресенье [7 сентября 1953 года] должно было также закончиться огромным яйцом из морского геологического сахара, совершенно рафаэлевским, галатеиным и далинийским. А в Париже в это время дерьмовый сюрэкзистенциализм находится в полном упадке». Он пишет картины, и Гала каждый вечер тает от восхищения перед ними. Он называет их с Галой жизнь «химерической»[203]. Гала освещает эту жизнь, и Дали без конца благодарит ее: «Я художник только благодаря тебе. Без тебя я бы не поверил в свои дарования! Дай мне руку! Я люблю тебя все больше и больше, и это прав да…»[204] «Атомная Леда», написанная в 1949 году, несомненно, одна из его величайших и бессмертных картин. Дали знает, что в ней он достиг вершины мастерства. Гала на этой картине парит над землей, ее обнаженное тело не вызывает никаких эротических чувств и кажется эфирным. Это сюрреалистическое вознесение Галы в небеса происходит между двумя скалами залива Порт-Льигат, которые гораздо выше, чем на самом деле, и увеличивают неоклассическую торжественность картины. Он пишет и другие картины в духе мистики и спиритуализма, которым он теперь привержен. В центре этой мистики, как богиня, царит Гала. Мотив Пресвятой Девы усиливается. В этом отношении «Мадонна Порт-Льигата» – настоящий шедевр, загадочный и по исполнению, и по смыслу.
Тело Мадонны словно разрезано на части и является, как говорил Дали, из «таинственных девических шатров». В 1960 году он пишет картину из того же мистического ряда, на которой Гала изображена со спины, – прославляет и возвеличивает эту часть ее тела, которую воспевал уже Элюар. На первый взгляд картина кажется суперреалистической, но великолепный, классически совершенный, идеальный изгиб поясницы выходит за пределы реализма. Сюжет облагорожен и увековечен настолько, что тело модели, находясь рядом со зрителем, остается для него, в сущности, недоступным. Никакие эротические побуждения не могут потревожить ни женщину на картине, ни душу того, кто смотрит на нее. Гала здесь застыла неподвижно в своей святости. Однако она вовсе не похожа на святую деву. Она больше напоминает беспутную женщину, одержимую сексом. Но Дали не хочет видеть ничего, кроме их нерушимого, нерасторжимого единства, на котором он построил свою жизнь. Ничто – ни жиголо, ни временные любовники – не могло их разлучить. Однако Гала не желает жить как монахиня, запершись в своем доме, а Дали обязывает ее это делать. Она служит ему и ухаживает за ним – правда, иногда поступает при этом необдуманно. Она управляет их состоянием, расширяет границы империи Дали на всех континентах, готова осуществлять самые причудливые идеи, лишь бы они приносили хорошую прибыль. Но в ней до сих пор есть что-то от непокорной русской девочки. У Галы есть своя жизнь, и свои чувства она иногда выражает в прозе. Это короткие рассказы, написанные второпях, не связанные между собой и разнородные; но они много говорят о ее душевном состоянии, о неистовой силе ее души и о попытках Галы вернуть молодость – свежесть, как она говорит. Она знает, что эта свежесть давно утрачена, потому что ее тело стало изнашиваться.
Закат мифа
Внешне разлад между супругами почти незаметен, но у Галы, кроме их общей жизни, есть еще и собственная – обычно внутренняя, можно сказать, тайная. Но иногда эта жизнь происходит у всех на глазах. Гала пишет о своей короткой связи с каким-то красивым молодым мужчиной. От близости с ним у нее «осталось ощущение чего-то доброго, чего-то свежего и сладкого, как зрелый плод, ощущение молодости безгранично щедрой, но серьезной, искренней и благородной; нежной молодости», которую она «никогда не встречала ни у кого другого. Бескорыстной легкости, которая парит надо всем, не привязываясь ни к чему и ни за какое вознаграждение». «Как хорошо, – продолжает она, не вполне ладя с орфографией, – быть под защитой, притом под защитой высокого мальчика, о котором я знаю только, что он – это он, что он рядом, что его голос звучит как струя прозрачной воды, которая льется на нежнейший бархат. И еще вот что: я желала его потому, что мне ничего о нем не было известно. Я не знала ни чем он занимается, ни откуда он, ни где живет, ни из какой он семьи (sic)»[205]. Дали все знает, но ничего не хочет видеть. Секс был для него навязчивой идеей, но художник часто не обращал на него внимания и выражал свою сексуальность иначе. Она взрывалась в его причудливых видениях такими мощными образами, что реальный секс мог быть лишь чем-то второстепенным и смешным по сравнению с его напряженным воображением. Им владеют другие люди. Его окружают агенты, мошенники, плуты, даже сводники; приближенные, бездельники, манекенщицы, трансвеститы, транссексуалы, наркоманы, полусумасшедшие – целая куча всякой человеческой дряни, которой хватает денег, чтобы путешествовать в самолетах. Гала не ослабила свою хватку, но теперь действует иначе, потому что немного устала держать Дали на поводке. «Двор» художника стал больше, чем когда-либо, это уже целый мирок, но Гала смотрит на него равнодушно и даже не замечает его. Все становится далинийским – роскошная одежда, духи, сладости, товары широкого потребления. Из Порт-Льигата постоянно вылетают, как ракеты, идеи, все одинаково странные. Он полон образцами новых изделий, необычных и причудливых. За это отвечает Дали; он не хочет, чтобы хотя бы один день прошел, а ничего нового не было создано. Гала часто путешествует и приобретает привычку внезапно уезжать, иногда вместе с Дали, чаще всего в Париж, где они занимают номер-сьют в отеле «Ле Мерис» в Тюильри.
Там они принимают посетителей и просителей и устраивают необыкновенные вечера, на которых подают икру в огромных хрустальных раковинах и накладывают ее половниками гостям, с которыми Гала даже незнакома, потому что совершенно равнодушна к этой «фауне» и к прихлебателям, осаждающим буфеты. Но она всегда возвращается в Порт-Льигат, свою изначальную пристань. Однако в 1968 году Дали купил ей замок, лежавший в развалинах, и восстановил его ценой больших затрат. Замок Пуболь превратился в величественное здание. Гала стала его владелицей, а Дали мог приезжать туда лишь по ее приглашению. Это было непременное условие, на котором настояла Гала. Однако оно не вызвало у художника досаду. Наоборот, он с радостью взял на себя это обязательство: оно льстило «его утонченному мазохизму» и «его энтузиазму»! Она получит от него то, чего хочет. Дали будет должен в знак уважения к ней, своей Даме, привозить ей похожие на сновидения скульптуры и картины, которые украсят залы, подъезды и сады замка. Особенно ей нравятся предметы декора в стиле испанского Средневековья и XVII века – балдахины, обивка, ковры, высокие стулья, монументальные канделябры, гербы и доспехи. Поэтому ей очень по душе потолки, которые он расписывает. Роспись будет только на потолках, чтобы, как он говорит, Гала, поднимая взгляд вверх, всегда находила [его] в своем небе. Но в любом случае сказочное изгнание Галы – еще одна фантастическая и литературная идея Дали. Разве в 1943 году он не написал в «Сокрытых лицах» под руководством Галы историю своей героини Соланж де Кледа, которой ее любовник купил замок, чтобы она уединилась там, устав от их совместной жизни, и жила там, как ей хочется? Там она переживала горечь и сладость его отсутствия. Так не стал ли замок Пуболь еще и замком Соланж де Кледа? Не было ли это новой извращенной эротической игрой влюбленных, которую Дали сам сразу же назвал «кледанизм»? И действительно ли счастлива Гала? Она носит в волосах огромный бант, который Коко Шанель сделала специально для нее и посоветовала больше никогда не снимать, и трогает душу своим одиночеством и хрупкостью. И все же чувствуется, что она всегда закована, как в доспехи, в свою суровость и грубость. В «Интимных записных книжках» она описывает себя так: «маленькая женщина, с маленькой грудью, с лицом похожим на маленький круглый камешек, с бешено бьющимся сердцем, которое то подскакивает до самого горла, то падает в плоскую подошву одной из [ее] греко-римских ступней». И заявляет, что ее «ложная дерзкая отвага на самом деле – мучительная застенчивость». Теперь она словно бы насытилась разоблачениями и уловками, бешеной деятельностью и ежедневными исступленными восторгами. Издалека, с самого дна ее души, поднимается что-то, сохранившееся в ней от русской души, печальной и обиженной, и ее легендарные злоба и эгоизм слабеют. Вспоминает ли она в такие минуты о своей дочери Сесиль, которую покинула – оставила сначала Элюару, потом его семье? Сесиль живет своей жизнью, она уже вышла замуж, но мать не хочет или почти не хочет увидеться с ней, а дочь плачет каждый раз, как только с ней заговаривают о матери. Далеко ли ушел в прошлое день, когда в Соединенных Штатах Гала произвела сенсацию на маскараде сюрреалистов, появившись в черной шляпе, украшенной трупиком младенца? Лоб младенца Дали расписал муравьями, а к его черепу прикрепил омара. Осознавала ли она тогда всю степень кощунства? Не рискнула ли она, всегда называвшая себя немного колдуньей и волшебницей, навлечь на себя кару потусторонних сил?
Тем временем Дали продолжает писать картины, но главным образом занимается рисунками и гравюрой. Он иллюстрирует Евангелие от Иоанна, Апокалипсис, «Дон-Кихота Ламанчского», «Божественную комедию» – эпические произведения. Супруги больше не выставляют напоказ свое неразрывное единство, как делали много лет, но Гала рядом и тиранически властвует над Дали. Люди из его окружения все тесней толпятся вокруг него. Они уже предчувствуют, что конец близко? Может быть, да. У Дали есть поставщик женщин – не любовниц на одну ночь для него, а женщин для оживления его «двора». Этого человека зовут Жан-Клод Дюбарри. Родом он гасконец, из города Ош, а аристократическая фамилия, в которую он нарядился, – лишь прозвище. Гала и Дали высоко ценят его слово «мушкетера» и, по свидетельству Галы, называют его «Правда». Этот Дюбарри находит для «мэтра», как называют Дали, женщин такого типа, который тому нравится, – высоких блондинок. В основном это манекенщицы из картотеки модельного агентства, которым Дюбарри владеет в Барселоне, так что для него нет ничего легче, чем их набрать. В Порт-Льигате они показывают себя в так называемых «живых картинах», которые он устраивает в патио – китчевом подобии садов Гранады. Однако оргий, слухи о которых могли разносить некоторые сплетники, на самом деле не было. Дали не занимался сексом со своими гостьями. Самое большее – они могли изображать вместе с женоподобными юношами содомские сцены. Это были любимые фантазии Дали, который теперь открыто стал любоваться чужими сексуальными актами и высоко ценил живые картины на тему «мифическая содомия», как он их называл. Для него это было завершением его онанизма. Он был большим любителем этих пародий на итальянские фильмы из античной истории. Живые картины были смешными и одновременно такими неожиданными, что это делало их прекрасными.
В середине 1960-х годов в окружении Дали появилась Аманда Лир – молодая женщина, сексуально привлекательная, но как гермафродит. Она не стала соперницей Дали, которого в любом случае невозможно было свергнуть с трона, но стала его любимицей. Ходили слухи, что Аманда – транссексуал. Ее низкий голос и широкие, немного схожие с мужскими, ладони и шея позволяли это предполагать, хотя у Аманды была фигура сирены – обязательное условие, чтобы стать новой советчицей Дали. Аманда поддерживает эти двусмысленные толки, Дали ее обожает, а Гала поддерживает ее, потому что знает: Аманда Лир внимательна к Дали, более того, любезна с ним и даже защищает его. Аманда везде рядом с ним – на коктейлях, на вернисажах, на спектаклях, на корридах. Гала с тех пор, как муж удалил ее из Порт-Льигата, почти исчезла из «двора» Дали и почти не появлялась в Порт-Льигате, даже вывезла оттуда свои личные вещи. Однако все здесь напоминает о ней, словно в Порт-Льигате остался ее призрак. Аманда, которой Дали дал прозвище Звезда, пишет картины и участвует в далинийской игре. Она – королева сумасбродных и эксцентричных выходок. Иногда она вместе с Дали приезжает в Пуболь к Гале. Та принимает их как гостей, с которыми едва знакома, готовит им чай со льдом, в большой столовой, похожей на монастырскую трапезную. С Амандой Дали возвращается к сюрреализму, его жизнь снова становится странной. А Гала хвалит удовольствия монашеской жизни. Теперь она наконец чувствует себя хорошо в уединении. Дали, как обычно, колеблется, выбирая то аскетизм, то пышную роскошь. Но он не учел, что Аманда устала. Она влюбчива и с каждой новой любовной связью (в особенности за время связи с певцом Дэвидом Боуи) все больше выходит из далинийской комедии. Гала из своего замка Пуболь продолжает заботиться о муже, беспокоиться о его здоровье. Она и теперь чувствует себя ответственной за него.
Но постепенно их сладостное безумство превращается в старческое слабоумие. Гала, которая старше Дали, живет в Пуболе с кратковременными любовниками или с поселившимся у нее американским рок-артистом Джеффом Фенхольтом. Но все идет не так, все кажется искусственным и напрасным. Недостатки Галы становятся заметней. С каждым днем она делается все сварливей и скупей, склонной к непредсказуемым вспышкам гнева. Она зла со своей прислугой, то есть с садовником и кухаркой, и отвратительно ведет себя с шофером Дали, постоянно курсирующим между ее замком и Порт-Льигатом на синем «кадиллаке» мэтра. Похоже, что настал час, когда маски падают и комедия кончается. Гала больше не властная муза, уверенная в своем могуществе, она перестала быть и несговорчивым агентом мужа. Она уступила другим свои права и сама не знает, когда и почему это произошло. Ее ум медленно затуманивается, словно он износился и устал от усиленной деятельности и бурного воображения. Дали больше не интересуется ничем, кроме своих проектов музея, в котором будут надежно укрыты его уникальные работы. Он считает, что вокруг них было столько движения и шума, что они не должны быть забыты и уничтожены. Этот музей в конце концов был открыт в 1974 году в Фигерасе. А через семь лет музей почтили своим присутствием король и королева Испании. Сохранились фотографии их визита. На этих снимках Гала застыла неподвижно и держит короля за руку, на ней восхитительная туника из атласа с вышивкой, в волосах – знаменитый бархатный бант, на шее – простой кулон. Дали стоит между королем и королевой, на нем темный костюм в полоску; он причесан как одна из «менин» Веласкеса и взмахнул своей тростью с золотым набалдашником. С этой тростью он никогда не расставался, и говорили, что раньше она принадлежала Саре Бернар.
В 1978 году Париж оказал Дали честь, избрав его в Академию изящных искусств. Разумеется, избрание не было единогласным, но, когда супругов фотографировали по этому случаю, они еще играли свою комедию. На этой фотографии Гала смеется и, кажется, вновь обрела ту свою улыбку, которую когда-то так любил Поль Элюар. А Дали ликует, он вне себя от гордости. Все почести, которые он получил за свою жизнь, словно слились вместе здесь, в Париже, под куполом института. Это избрание для него – реванш за детство, и за унижения, которые он терпел от равных себе, и за бедность в начале творческого пути. Но Дали неудержимо слабеет. А Галы больше нет рядом с ним, чтобы окружать его заботой и вниманием. Говорят даже, что она хочет с ним развестись, что она всячески ругает его и прилюдно унижает. Он мучится, но терпит эти страдания. Он не пишет картин и в короткий срок становится впавшим в детство стариком. Когда супруги встречаются, они ссорятся, ведут себя друг с другом грубо и даже жестоко.
Гала сломала шейку бедра, перенесла операцию и решила торжественно вернуться в Порт-Льигат. В 1982 году она прибыла туда на «кадиллаке» как мадонна. И поселилась в комнате, украшенной как для похорон и полностью задрапированной барочными тканями. А 10 июня того же года она умерла рядом с Дали. Он желал, чтобы она была похоронена в Пуболе, и уже получил разрешение администрации. Ее тело, завернутое в одеяло, везли – все же незаконно – по ухабистым дорогам Каталонии, и оно тряслось на заднем сиденье «кадиллака». На следующий день Гала была похоронена в склепе своего замка. Дали был так подавлен и в таком смятении, что не присутствовал на церемонии похорон. Но он поклонился ее могиле, которая была приготовлена заранее и украшена его скульптурами, и решил больше не жить в Порт-Льигате. Он переселился в Пуболь и прожил там без Галы еще семь долгих лет. Это были ужасные годы. «Придворные» разъехались, рядом с Дали остались лишь несколько близких, которые присматривали за ним, он не защищен от искателей наживы, которые ждут его смерти. Но в любом случае он уже ничего не может контролировать. Обессиленный, он забился в свои комнаты. Без Галы он только половина себя. Он терпит рядом с собой только одного человека – своего верного друга по имени Робер Дешарн. Прежний пыл, словоохотливость и сумасбродство покинули его. Он лишь тень, которая повторяет одни и те же вздорные слова или бредит. У него больше не возникает ни одной новой идеи, ничто не пробуждает в нем желания взяться за кисть. Он может много часов подряд смотреть на какой-нибудь предмет, на окно. Но иногда его сознание проясняется, и он начинает прославлять свою музу, свою «божественную Галу» в коротком предисловии, которое пишет для каталога. И 23 января 1989 года он, наконец, умирает.
Все было достигнуто. Все, о чем они договорились в тот знаменитый день в Кадакесе среди скал, в августе 1929 года, осуществилось. Гала, самая совершенная из спутниц – тайных советчиц, сделала Дали самым блестящим (наравне с Пикассо) художником XX века. Кроме того, она превратила их любовь в миф, который Дали прославил в своих картинах. Их старость была ужасной и проходила далеко от огней рампы и от славы, которую они знали прежде, каждый из них в конце жизни снова оказался в одиночестве и отчаянии. И все-таки верно сказано, что ни от чего нельзя отречься и ничто не рассеивается полностью. Произведения Дали и теперь воспевают и будут воспевать всегда тайную и скрытую красоту Галы. Заколдованный лабиринт Порт-Льигата помнит об их такой необыкновенной жизни. Итог их странной близости – имя, в которое слились их имена: Гала Сальвадор Дали. После этого у художника было все: «Меня зовут Дали, что на каталонском языке значит «желание», и у меня есть Гала»[206].
Бальтазар Клосовски де Рола, называемый Бальтюс (1908–2001) и Сэцуко Идэта (1943) Сеньор и его модель
Всех, кто хотел узнать о жизни Бальтюса и записать его воспоминания, он имел привычку отсылать к своей живописи. Он говорил, что в его жизни нет ничего интересного, потому что она вся вложена в картины, которым он посвятил свое существование. Поэтому Бальтюс долго оставался художником, слава которого огромна, но о котором очень мало знают. Сохранилось немного свидетельств о его богемной молодости, о его подозрительном уединении в замке Шасси в Морване с Фредерикой, его племянницей по первой жене, о том, как он позже управлял знаменитой виллой Медичи в Риме, где жил как князь эпохи Возрождения, и, наконец, о его уединенной жизни в последние годы в прекраснейшем шале в мире, в Россиньере, в кантоне Во, вместе с новой женой, очаровательной Сэцуко, японкой по происхождению, для которой он и купил это изумительное жилище у подножия гор. После смерти Бальтюса преподаватель одного из американских университетов, Николас Фокс Вебер, написал его биографию. Это было нелегким делом: так прочно Бальтюс замуровал подходы к своему прошлому и запер на два поворота ключа все двери, ведущие туда. Он заново изобрел свою жизнь, ввел в заблуждение значительную часть своих собеседников (которых было мало) и даже себя обманывал по поводу своей жизни, рискуя твердо поверить в собственный обман. Так он снова околдовывал себя чарами жизни и одновременно отказывался от жизни настоящей. В конечном счете это был сюрреалистический образ жизни. Как ни странно, этот способ существования хорошо подходил владельцу Россиньера, хотя тот сильно критиковал сюрреалистов и полностью презирал их. Николас Фокс Вебер имел редкую честь быть принятым в Россиньере, но после нескольких встреч с Бальтюсом решил уехать оттуда и работать над биографией без него. По словам биографа, мэтр хотел увести его на свою территорию, чтобы не позволить ему узнать факты, о которых Вебер догадывался и которым искал подтверждение. На четвертой странице своей книги биограф рассказывает о своем первом приезде к художнику в Швейцарию: «Первые случаи лжи и первые тревоги Николаса Фокса Вебера, который скоро догадался, что живущий в уединении великий мастер согласился принять его лишь затем, чтобы убедить его воспеть ему славу, а слова и музыку сочинит сам мастер». Потрясенный и раздосадованный этими первыми впечатлениями, Вебер решил больше не приезжать в Россиньер. В результате появилась книга, которую наследники Бальтюса посчитали скандальной, а вдова художника встретила презрением. Но все же эта книга не была осуждена.
Николас Фокс Вебер был убежден, что Бальтюс сам создал легенду о себе и упрочил этот миф; что он сам придумал себе дворянские титулы, был еврейского происхождения, но всегда это скрывал и что твердость, с которой он отрицал свою любовь к маленьким девочкам, подозрительна. Исходя именно из этих предпосылок, которые Бальтюс и его семья считали кощунственными, биограф выполнил свою работу. Мы должны признать, что расследование Вебера расставляет все по своим местам и чаще всего он убеждает читателя в своей правоте. От мифологизации до мистификации всего один шаг, и Бальтюс сделал его. В этом он тоже был сюрреалистом, не осознававшим своего сюрреализма: ведь Андре Бретон и Жорж Батай, восхваляя сюрреалистическую авантюру, утверждали, по примеру Рембо, что настоящая жизнь находится в каком-то ином мире и что каждому сюрреалисту следует заново пересматривать свою жизнь в зависимости от будто бы случайных знаков и встреч. Именно согласно таким указателям Бальтюс построил и перестроил свою жизнь. Можно вспомнить, что, например, Дали и Пикассо тоже были мастерами в искусстве вымысла. Значит, существовала «загадка Бальтюса», существование которой долгое время поддерживал сам художник, потому что был заинтересован в ней. Вызывающие смущение доказательства, игра с его происхождением и превращение в спектакль его повседневной жизни были топливом для этой загадки. Это лишало Бальтюса всякой возможности быть искренним и правдивым. По словам его биографа, разоблачителя мистификации, творчество Бальтюса менялось с каждой его новой ложью и с каждой сменой облика, а в конце жизни его дарование ослабло: картины стали посредственными, и Бальтюс стал повторяться. Что же из этого правда? Надо ли принимать как святыню все утверждения и разоблачения Николаса Фокса Вебера? Но, с другой стороны, почему мы должны отрицать их все сразу? Нет ли все-таки еще и правды Бальтюса – своеобразного искупления, которое он пережил в золотом свете того великолепного шале, где закончил свои дни? Не была ли истинной по крайней мере любовь, соединившая его с юной японкой Сэцуко Идэта, на которой он женился. Он заставил и свою первую жену Антуанетту де Ватвиль, и свою молодую любовницу Фредерику признать Сэцуко. Она защищала своего мужа, родила ему двоих детей (из которых один ребенок, сын, умер в раннем детстве, в Риме) и непрерывно ухаживала за ним до самой его смерти. Свою встречу с Сэцуко Бальтюс превратил в миф. Они встретились в 1962 году, во время поездки художника в Японию, а поездку организовал Андре Мальро, в то время министр культуры в правительстве генерала де Голля. Бальтюс создал легенду о совершенной и гармоничной паре, в которой супруги дополняют друг друга и в их отношениях не может появиться никакой изъян. Легенду об идеальной паре, в которой слились Восток и Запад и которую не может разлучить большая разница в возрасте между любящими. Шале в Россиньере было свидетелем этого ровного существования, в котором единственным движением было лишь тайное дыхание творчества. Неужели перед нами новая, осовремененная версия легенды о Филемоне и Бавкиде? Похоже, что в этом случае весельчак Бальтюс отбросил прочь прикрасы великого соблазнителя. Возможно, в тишине среди гор, укрытый от пагубных городских сплетен, он наконец нашел страну ласковую, как край его детства. И почувствовал неизбежную тоску по чистому и невинному миру, похожему на те, которые описывал Вергилий, в котором его мать Баладина и ее спутник жизни, Райнер Мария Рильке, наконец встретились бы снова.
История Бальтюса и Сэцуко Идэта начинается в Токио весной 1962 года. У Бальтюса в это время сомнительная репутация. Он еще не великий и почитаемый мастер, не граф из кантона Во. Его картины еще не продаются за огромные суммы, почти сравнимые с ценами на картины Пикассо. Но он уже создал огромное количество произведений, и они, может быть, самые сильные и красивые из его работ. Среди них, правда, есть много картин, которые создали ему репутацию любителя маленьких девочек, в том числе знаменитый скандальный «Урок гитары», и большие сюрреалистические картины, например «Пассаж коммерции на улице Сент-Андре в Париже». И вот Бальтюс в роли посланника Франции прибывает в Японию, чтобы подготовить там выставку произведений искусства, популярных в Париже. Это происходит в 1962 году. За год до этого Мальро, старый друг Бальтюса, назначил его директором Французской академии. Что может быть более волнующим, чем такое поручение? Жить в летней резиденции семейства Медичи, на холме Пинчио, с которого, словно по волшебству, виден весь город, направлять творчество двадцати двух пансионеров, реставрировать, если он пожелает, интерьеры, а главное – стать кем-то вроде представителя французской культуры в Риме. Вот что поручает ему Мальро и предоставляет полную свободу действий. Бальтюс покидает свое уединенное сельское убежище в Шасси, в верхней части Бургундии, и переезжает в Вечный город. Рим опьяняет его: он снова переживает свои первые волнения художника, снова видит картины итальянских художников-примитивистов, глядя на которые он, еще юный, сделал свое ослепительное открытие. После сырых туманов Морвана он возвращается на путь Пуссена, в золотой свет Рима. В этой чарующей обстановке дендизм Бальтюса мог стать тоньше. Для пансионеров он становится требовательным, но очень внимательным учителем. Но главное – он обнаруживает в себе страсть к реставрации. Поселившись на вилле Медичи, он очень быстро, почти сразу, представляет себе, какой она, по его мнению, должна быть. Его назначение на этот престижный пост вызвало недовольство в авторитетных кругах. Предполагали, что оно – результат благосклонности властителя: до этого все директора были из академической среды, а Бальтюс, разумеется, к ней не принадлежал. Но ему нравились такие двусмысленные и рискованные положения: они пробуждали в нем инстинкты сеньора, которые он всегда хотел удовлетворять. Он был элитистом и считал привилегии неотъемлемым правом, а над сплетнями смеялся. Значит, Бальтюс оказался на своем месте. В это время ему было пятьдесят три года. Видели, как он давал указания командам садовников, подготавливая долгосрочную работу по полной перепланировке садов и желая найти следы времени Медичи. Ради этого он без колебаний приказал срубить под корень все высокие пальмы, посаженные в XIX веке. Его легко было узнать: тонкая и стройная сухая фигура, острые черты лица, взгляд как у орла или у насекомого, очень подвижные зрачки, резко очерченный нос. С теми, кто к нему приближался, он вел себя как человек, обладающий неоспоримой властью, и этим почти пугал их. Но в его взгляде иногда мелькало что-то доброе, он прекрасно умел слушать других и в любых обстоятельствах был элегантен и благовоспитан, как истинный аристократ. Теперь известно, что Бальтюс долго вел игру по поводу своего происхождения. Он вовсе не был аристократом по рождению, но непрерывно убеждал всех в своей родовитости и хвалился дворянскими титулами, которых не имел. Однако Бальтюс обладал чувством внешнего приличия и вкусом к роскоши. Он не выставлял эту роскошь напоказ, но жил только в домах высшего класса и всегда придавал большое значение украшению своих высоких и просторных комнат. Он предпочитал мебель строгого стиля и подчеркивал ее достоинства очень красивой безделушкой, вышитой тканью, картиной. Его биограф рассказывает, что, приехав в Вечный город, Бальтюс сказал своему гиду, что «одна из его целей – найти себе молодую жену-японку и привезти ее в Рим»[207]. Это для него означало забыть свою молодую спутницу Фредерику, которую он тоже привез в Рим из Шасси, и законную жену, Антуанетту де Ватвиль, с которой он жил раздельно, но еще не развелся и которая надолго приезжала к нему. В то время его репутация соблазнителя уже была легендарной. Ее поддерживали картины Бальтюса, на которых он изображал едва созревших девочек-подростков. В это время он уже говорил, что не понимает, почему они вызывают столько вопросов, а иногда и упреков: ведь, по его утверждению, все это было лишь воображение и поэзия, без всякой эротики. На одном из завтраков среди гостей оказалась группа симпатичных девушек-японок, изучавших французский язык и приглашенных французским культурным центром. Среди них находилась и юная Сэцуко Идэта, происходившая из очень древней и благородной семьи самураев, в которой умели и соблюдать традиции, и вести современный образ жизни. Она жадно тянулась к европейской культуре, с ненасытной жадностью читала французские и английские книги, и с помощью одной из своих подруг проникла в окружение Бальтюса: ему ведь обязательно понадобятся переводчики, когда он будет посещать японские храмы. Сэцуко сразу поняла, что в этот момент решается ее судьба. Величавая осанка Бальтюса, его обворожительные слова и взгляды произвели на нее впечатление, а красота его картин восхитила. И Сэцуко сразу же влюбилась в него, страстно и романтически. Разница в возрасте – тридцать четыре года – ее не пугала. Наоборот, ее любовь была похожа на старинные японские легенды, в которых очень старые артисты влюблялись в девочек-подростков и наставляли их в искусстве подчинения и почтительности, обучали благоразумию или эротике. Изящество Сэцуко и ее быстрый ум, в свою очередь, покорили Бальтюса.
Она внезапно стала для него родником с освежающей водой. Вероятно, он устал от долгой близости с более недоверчивой и серьезной Фредерикой. А в Сэцуко, наоборот, была резвость и что-то опьяняющее. Странная внутренняя сила, благодаря которой она иногда осмеливалась идти впереди мэтра, сочеталась в ней со сдержанностью и простотой, унаследованными от предков. И действительно, Сэцуко была воспитана в японских традициях. Она знала старинных японских поэтов и мудрецов и любила восточные обряды. Но при этом она считала, что ее страна должна открыться западному миру, усвоить западный образ жизни, идти в ногу со временем. А Бальтюс, воспитанный западной культурой, двигался в восточном направлении: у него с подростковых лет сохранился большой интерес к Востоку и особенно к восточным религиям, в первую очередь к буддизму. Он восхищался великой империей Сун, и в своем великом синкретизме не видел разницы между китайской или японской горой на эстампе и видами горы Биттенберг, у подножия которой он когда-то отдыхал со своей семьей: в обоих случаях – одинаковые туманные рассветы, та же дикая природа и тот же безмятежный покой во всем пейзаже. У него всегда был грандиозный замысел объединить Запад и Восток, заимствовать технические приемы у обеих цивилизаций и связать их одну с другой.
Бальтюса пленило серьезное лицо Сэцуко, похожее на лица фарфоровых кукол или гейш, ее взгляд, в котором отражался проницательный ум, и веселость, которую она умела проявлять (причем имела большой талант соблюдать при этом чувство меры). Но иногда их взгляды не совпадали. Бальтюс часто сердил Сэцуко своей мятежной, нарушавшей правила свободой. Молодая японка уважала образование, а Бальтюс не был с ней согласен. Он был знаком с богемой из Сен-Жермен-де-Пре, бывал в гостях у всех авангардистов, участвовал во всех скандалах. Хотя не принадлежал к школе сюрреализма, часто бывал анахроничным и разрушительным по духу, как сюрреалисты. Он скорее был последователем Бодлера и всегда практиковался в том, что этот поэт называл выдающимся и аристократическим искусством не нравиться. В молодости он был мятежным и диким и ассоциировал себя с Редклифом, героем романа «Грозовой перевал», жестоким, но горячо любимым братом. На своем знаменитом автопортрете «Король кошек» он изобразил себя высокомерным и мрачным, а рядом написал своего кота, который трется о его ноги, подняв хвост. Художник и в зрелом возрасте сохранил в своем облике ту аристократическую надменность, благодаря которой он казался высшим существом, благородным дворянином из прошлого. Ему до того хотелось быть одним из таких сеньоров, что он даже придумывал себе престижные родословные. Постарался ли он настолько окутать туманом свое прошлое, что скрыл в этом тумане даже основные черты своей жизни – еврейское происхождение, отношения с Рильке, который заменил ему отца? И подчеркнутую склонность к совсем юным девушкам (в этом он уподоблялся итальянским примитивистам, которыми особенно восхищался)? И свои постоянные старания скрыть родословную он тоже превратил в оборванный след? И любовь к роскоши и пышности? И легкость, с которой жил в этой роскоши после долгой нищеты? И свою властность и резкость тоже? Годы жизни в Россиньере как будто сломали их, и под ними открылись мягкость и приветливость, которые его биограф не упустил случая назвать тактическими приемами. А может быть, все это снова были лишь случайные мнения посторонних, предположения завистников и мелочные сплетни, вызванные его желанием жить уединенно и скрытностью? Когда Бальтюс встретил Сэцуко, он исчерпал очарование своей молодой любовницы Фредерики, которая жила на его укрепленной ферме в Шасси. Шаловливая Сэцуко покорила его своей восхитительной сдержанностью, чуткостью и почти колдовским обаянием. К тому же Бальтюс уже в Токио был настроен на то, чтобы найти себе новую спутницу жизни и именно японку. Это стало бы осуществлением его давней мечты. У Фредерики Тизон характер был твердый: по рассказам свидетелей, она была способна на сильные вспышки гнева и на большое презрение. И она уже поселилась на вилле Медичи, которую Бальтюс решил превратить в необыкновенный дворец. Свобода действий, которую дал ему Мальро, очень пригодится. Бальтюс восстановит роскошь семейства Медичи и, разумеется, будет жить как Медичи, окруженный приближенными. Обслуга на вилле стала носить ливреи, ничто не было чрезмерным для того, чтобы вернуть вилле ее старинное великолепие. Бальтюс пригласил туда всех знаменитостей – от Софии Лорен до Феллини. Он даже стал частым гостем в Ватикане, потому что новый папа, неожиданно и удачно для художника возглавивший церковь в 1978 году, был поляком, как и сам Бальтюс! Художник явно был далеко от грубоватого сельского очарования Шасси. А ведь там Бальтюс смог написать великие шедевры, в том числе и великолепные пейзажи, в которых есть та же прозрачность и уравновешенность, что в великих картинах французских классиков. Он сумел наделить поля и долины Морвана неописуемым золотистым изяществом, от которого не так уж далеко до Никола Пуссена. Сэцуко не вернулась из Японии вместе с ним: она поселилась в Риме через несколько месяцев по настоянию Бальтюса. Фредерика жила слишком близко от него; Антуанетта де Ватвиль тоже приезжала время от времени. Это ускорило отъезд и его первой жены, и Фредерики, которой Бальтюс уступил свой дом в Шасси. Сэцуко стала хозяйкой Дома Франции, и его посетителей очаровывали ее изящество и элегантность (по желанию Бальтюса она одевалась в традиционные кимоно). Очень скоро молодая женщина сумела приспособиться к ритму жизни виллы и перепадам настроения Бальтюса. Для этого у нее, в основном благодаря происхождению, были ум, выдержка и зрелость, которые не смогла бы так быстро приобрести ни одна западная молодая женщина. Но Бальтюс еще был женат. Значит, следовало развестись. Это оказалось нетрудно: Антуанетта де Ватвиль уже давно не жила с ним и считала, что Сэцуко достойна стать новой женой ее мужа. Поэтому она согласилась на этот брак, и 3 октября 1967 года Бальтюс женился на юной японской студентке после двух долгих обрядов – буддийского и синтоистского, за которыми последовал прием во французском консульстве. Сэцуко великолепно приспособилась к новой жизни, а эта жизнь превзошла то, о чем мечтала студентка, влюбленная в западную культуру.
Она в буквальном смысле слова царила в Доме Франции, но управляла им очень сдержанно и умело, внимательно следя за тем, чтобы не совершать промахов, и заботилась о том, чтобы создавать обстановку, в которой слияние двух культур было бы приятным. Бальтюс, по словам спутницы жизни его друга Джакометти, который был туда приглашен, принимал гостей как принц, или, точнее, как граф, выгодно используя знатную родословную, которую себе придумал. Сэцуко эта мистификация не обманывала, но, если Бальтюс создавал миф о себе, этот миф в конце концов каким-то образом превращался в действительность. От вымысла до реальности в конечном счете был всего один шаг, который он и сделал – легко и весело. Он настолько полно чувствовал себя потомком знатного рода, что в Россиньере, в дни его старости и зрелости Сэцуко, и он, и она поверили в эту искусственную знатность и, нисколько не тушуясь, слушали, как их называют «господином графом» и «графиней». Но вот что странно: почти никто не пытался разоблачить эту ложь, словно все привыкли к ней и даже поверили в нее. Осанка Сэцуко и природное благородство Бальтюса вводили людей в заблуждение, а их элегантность, изящество и точность движений поддерживали иллюзию, хотя и были естественными.
А Фредерика вернулась в Шасси, в деревенское одиночество и сырость Морвана, но суровость укрепленной фермы, ее ветхость и несомненная поэтичность разрушения залечили рану от расставания с Бальтюсом. Фредерика продолжила заниматься собственным творчеством: она была выдающейся рисовальщицей, настолько хорошей, что, как говорили, копировала поразительные по своей правдивости карандашные рисунки Бальтюса. Получилось так, как всегда хотел Бальтюс. А художник желал, чтобы его любовные встречи происходили в местах, о которых он заботился. И еще он считал, что его любовь должна становиться легендой и быть подобна его заботе о месте этой любви. Замки, вилла Медичи, необыкновенное шале были не просто вершинами его карьеры, а пунктами в жизненном плане. Может быть, истоки этого желания надо искать в детстве – еврейское происхождение, потеря отца, восхищение тем, кто был ему вместо отчима, – Райнером Марией Рильке. (Ведь было время, когда Бальтюс намекал, что, возможно, он сын Рильке, хотя это совершенно невероятно.) А еще – вообще вся обстановка предвоенного времени, душевное одиночество, отроческие мечты, желание завершить свое образование путешествием, как сделал когда-то Жан-Жак Руссо, то есть отправиться в поездку по Италии, чтобы увидеть итальянскую живопись. И Бальтюс тоже переехал через Альпы. Ему тоже нравились духовные приключения, он тоже хотел проникнуть в самую сердцевину тайны мира. Он запирался на целые ночи в старинных часовнях и при мерцании свечей пытался понять, из чего сделаны произведения Мазаччо и других величайших, но забытых художников, которым он хотел подражать. Этим семейным и духовным блужданиям противостояла мощная и властная потребность закрепиться в далекой от него традиции, жить в местах, наполненных историей и воспоминаниями, говорить себе, что он звено многовековой цепи не только как наследник великих мастеров, но и как потомок знатного рода. Бальтюс всегда вел себя как наследник знатного сеньора. Королем кошек он, несомненно, был, но он был и сеньором – господином внутреннего мира, ночные тайны которого знал потому, что исследовал их и испытал на себе. Разве такое знание могло существовать в бедности, в жалкой обстановке парижской мастерской? Даже мастерскую во дворе Рогана он облагородил: на тех немногих картинах, где он ее запечатлел, видна глубокая и серьезная красота этого места. Значит, Бальтюс создал легенду о себе. Из-за этого многие обвиняли его во лжи и предательстве. Итак, он не был знатным. Он был заядлым эротоманом, но утверждал, что ищет в своих малолетних моделях только черты ангела, следы божества. Скрытный и нелюдимый, он тем не менее написал «Урок гитары», в котором так много эротики, даже педофилии – и, по собственному признанию, написал для того, чтобы вызвать скандал и обратить на себя внимание[208]. Он, человек с очень высокой духовностью, любил кинозвезд и блестки. Загадочный, он создавал двусмысленности и требовал от собеседников, чтобы они слушали только его. Все эти его особенности в конце концов были выставлены на всеобщее обозрение.
Но что тогда можно сказать о его такой сильной и долгой любви к Сэцуко Идэта? Какая любовь и какой договор связали их так крепко? Бальтюс ответил на эти вопросы одному из своих последних собеседников, с которыми разговаривал с 1998 по 2000 год; последняя беседа состоялась за несколько месяцев до его смерти[209]. Бальтюсу нужно было изменить жизнь. Фредерика больше не соответствовала его внутреннему поиску. Может быть, он исчерпал все ее очарование и всю ее энергию, хотя по картинам, на которых он изобразил Фредерику, можно угадать, какой эта энергия была мощной и дикой. Тело Фредерики, восхваляемое, возвеличенное, иногда приобретает такие же пышные формы, как у героинь Майоля или Пикассо. Сильное и победоносное, оно могуче и полно жизненных соков. Оно словно выступает из картины – так происходит, например, в удивительной картине «Выход из ванны» (1957), где Фредерика, написанная в профиль, поднимается из ванны, и ее образ невероятно правдив. Или в «Девушке в белой рубашке», где она утверждает себя во всей царственности молодой женщины.
И во многих рисунках, которые Бальтюс сделал с нее, ее лицо он видел похожим на сочный плод.
Но в 1962 году Бальтюс открывает для себя новые просторы: должность директора виллы Медичи внезапно помогает ему осуществить мечту о славе и величии. Теперь у него есть возможность жить в роскоши, в тех самых местах, где жили Медичи. Эта дерзкая привилегия и случай – разумеется, организованный судьбой, – позволяют ему с этих пор осуществить тайные честолюбивые стремления, стереть свое происхождение. Теперь он может заставить людей забыть, что он сын эмигрантов, польских евреев, что у него нет дворянской частицы перед фамилией, что он не потомок ни Биронов, ни Романовых, ни Понятовских, как он уверял! Итак, вилла Медичи в самый подходящий для этого момент дала новый толчок его карьере и честолюбивым стремлениям. Перед ним открывается новая жизнь. Он остается таинственным, каким был раньше. Он достаточно молод, чтобы начать жизнь заново, и готов организовать эту жизнь согласно своему представлению о ней. И тут как очаровательное волшебное видение возникает грациозная Сэцуко. О ее появлении он вспоминал через тридцать семь лет в приглушенной ласковой атмосфере шале Россиньер, где, казалось, был укрыт от репортеров. (Бальтюс все же поддерживал связи с прессой, но контролировал их: он иногда принимал у себя представителей «народной» прессы (то есть той, которая пишет о новостях и частной жизни известных людей. – Пер.). Основы легенды были нерушимы и прочно укоренились в его памяти. Появление Сэцуко было для него «внезапным и чудесным». «С тех пор она самое дорогое для меня существо, которое оберегает меня; она внимательна даже к малейшей из моих слабостей и оплошностей человека, который уже не видит, уже не очень хорошо ходит и нуждается в помощи близких, чтобы подняться в свою комнату или стряхнуть пепел с сигареты в пепельницу»[210]. В течение многих десятилетий он рассказывал о своей встрече с Сэцуко одинаково: «Сэцуко Идэта была молодой студенткой и жила тогда у своей тети в Осаке. Она происходит из старинного семейства самураев, которое сумело сохранить обряды знати Древней Японии. Я пригласил ее приехать на виллу Медичи, директором которой был с 1961 года. Сразу же я понял, что она много значит для меня, и в 1967 году мы поженились. Мы никогда не расстаемся, она охраняет мой труд, защищает меня от навязчивых людей, дает мне советы и делает огромное множество дел: наводит порядок в наших архивах, иногда смешивает краски, которые я ей указываю, и всегда охотно выполняет эту неблагодарную и требующую терпения работу. Сэцуко обеспечивает мое благополучие. Она пренебрегает собственным творчеством – не пишет картины, хотя я всегда советовал ей это, потому что считаю восхитительными интерьеры нашего шале, которые она изобретает заново и в которые вносит все цвета своей родной Японии»[211]. Было видно, что и через много лет после встречи его пламенная любовь и пылкая страсть не угасли, хотя покрылись пеплом времени и стали гореть ровней. Сэцуко в его сознании ассоциировалась с защитой, дружелюбным и сочувственным вниманием, с мирной семейной жизнью. А кроме этого, она была организатором, вносившим порядок в его очень плотно занятую и творческую жизнь. Но обращает на себя внимание, что он не упоминает о Сэцуко как о своей модели, а она охотно ему позировала в годы жизни на вилле Медичи. Она так быстро стала сначала спутницей жизни, потом женой, потом матерью, и всегда была тайной советчицей Бальтюса потому, что с этого времени стала для него той, кто установит связь между культурами дальневосточными и западными. А Бальтюс уже очень давно испытывал интуитивное чувство, что мировое искусство объединяет все культуры, и его самым горячим желанием как художника было вернуться к этому фундаментальному единству. Все есть во всем – изумленно повторял при каждом своем новом открытии его друг Пикассо, когда обнаруживал не только общее между африканским искусством и наскальной живописью, но также общие черты и у того и у другой с кубизмом. Это же чувствовал Бальтюс. Уже в годы своего такого печального и романтического детства он ясно видел тесную связь между альпийским горами, среди которых жил, и горами на картинах великих китайских и японских художников. Эту связь можно заметить в некоторых из его картин и рисунков. Ее и должна была олицетворять Сэцуко. «Эпоха Возрождения грубо оторвала западную цивилизацию от восточной, – говорил он. – Это их разделение произвольно и причиняет вред. Я сильно верю в связи, которые их соединяют, и не вижу между ними никакой разницы в интуитивных представлениях и во взглядах на смысл нашего мира. Поэтому нет никакой разницы между моими дорогими сиенцами и искусством Дальнего Востока. Сэцуко укрепила во мне эту уверенность»[212]. И он недвусмысленно добавляет: «Она соединяет меня с двумя цивилизациями и этим осуществляет связь, в которую я верил всегда, еще задолго до знакомства с ней. И она освоилась здесь, в горном краю Во, где мы живем. Ей хорошо знакомы высокие горы, которые нас окружают, хотя они не привлекают ее, и она часто предпочитает более ровные местности. Но она придала этому шале черты своей страны: она носит традиционную японскую одежду, мы часто едим японские блюда, она коллекционирует статуэтки, кукол и заводные игрушки. Даже украшенные резьбой фасады шале издали напоминают о дальневосточном храме»[213].
Итак, Сэцуко – это связь, мостик между двумя государствами и двумя цивилизациями, а Фредерика все еще остается символом одной эпохи, одной цивилизации, чистой, без примесей сутью «французской» живописи. Сэцуко – мост, соединяющий противоположности и различия этого мира.
Вот почему она становится его любимой моделью. Попросив у художника разрешения позировать ему, она позволила создать его самые прекрасные шедевры – карандашные наброски, рисунки и в первую очередь две восхитительные картины, которые перекликаются одна с другой: «Японку с черным зеркалом» и «Японку у красного стола»; их он терпеливо писал с 1967 по 1976 год. Укрощение эротики, позы модели, использование, на первый взгляд, только экзотических предметов (изображены лакированные вещи и японская мебель, но есть также ваза и поднос, написанные в западной манере) говорят о покорности модели и о ее верности сеньору виллы. Бальтюс не дает воли своим эротоманским порывам, но Сэцуко их успокаивает и одновременно обостряет. В загадочной гейше, которая ползает по своей циновке и смотрится в свои зеркала, есть покорность и властность одновременно. Похоже, что новая игра идет по новым правилам. Бальтюс уже не живет в Шасси, в медлительной сельской Франции, с моделью, разумеется, более буйной, но в конечном счете более послушной. Живя с Сэцуко, Бальтюс ведет другую игру – более яростную и опасную. Он пускает в ход свою власть сеньора. Он по-иному фильтрует свои впечатления, смотрит на мир с иных точек зрения. Воплощая в своих работах Тоскану, он добавляет к ней ферменты и ароматы Востока. Он потратил десять лет на то, чтобы написать Сэцуко, которой тогда было двадцать пять лет. Две картины дополняют одна другую и противоположны одна другой. Они словно ведут между собой странный диалог. У японки с черным зеркалом изящные пропорции тела, а фигура другой, той, что у красного стола, выглядит нескладной. Ее ноги слишком длинны, а левая рука выглядит неуклюжей (как и положено левой). Правая, медленно ползя, хочет наклонить к себе зеркало, но ее жест кажется полным отчаяния, словно она просит о помощи. Она – свирепый и опасный зверь, но в то же время порабощена. Ее кимоно и пояс едва прикрывают наготу. А у другой японки, той, что у красного стола, из-под развязанного кимоно виден выбритый лобок, мясистый, как фрукт. Кто она – изображенная на картинах женщина? Это до сих пор остается загадкой. Ее полузакрытые слегка раскосые глаза-щели похожи на глаза фарфоровой куклы, в них видны жестокость и одновременно нежность, усталость и грусть. В обеих картинах чувствуется тишина и ожидание, во время которого происходит нечто такое, что невозможно выразить словами. Но в то же время за этим ожиданием кто-то наблюдает, подсматривает, скрываясь за другими щелями – за узкими решетками. Такими решетками чаще всего бывают загорожены части комнат в японских домах удовольствий. Итак, Сэцуко воплощает сразу удовольствие, желание, тайну и страх. Она вынута из своего кимоно как вещь, предназначенная для удовольствия, как эротический подарок, но в то же время таит в себе угрозу, потому что незнакома. Так Бальтюс объединяет все данные восточного и западного искусства. Это Бальтюс читал Сада во время своей поездки в дальневосточный мир. Это Сэцуко, хранительница тайной и в конечном счете очень мало расшифрованной истории японского искусства, вошла кошачьей походкой в мир своего нового «господина и учителя».
В Риме они жили роскошно, но при этом держались очень скромно. Бальтюс полностью реорганизовал Французскую академию, сам участвовал в реставрации огромных парадных залов, возвращая им прежнюю красоту. Нередко видели, как он осколком бутылки скреб штукатурку на стене, чтобы искусственно состарить ее и создать налет времени. Краски в этих залах неяркие, как и в его картинах того времени. Это приглушенные, притушенные тона – переходы времени, следы воспоминаний. Та, кого Клод Руа назовет «Дамой, явившейся с Востока»[214], движется в это среде, такой западной и утонченной, с легкостью, которая радует и очаровывает Бальтюса. Его семейный союз с Сэцуко удовлетворяет его изначальную потребность – чтобы между двумя цивилизациями, западной и восточной, был заключен союз и чтобы его живопись была связью между ними. Карандашные рисунки на бумаге, которые он делал с нее в 1963–1964 годах, изображают Сэцуко властной и крайне скрытной, и при этом по-детски грациозной. Он наделяет ее чертами ребенка, даже теми, которыми наделял своих юных моделей; он бережно, в покое, который дает утоленное желание, переносит на бумагу черты ее лица. В Риме Бальтюс находит средство объединить все свои желания. Он осуществит их позже, почти в одиночестве – в Россиньере; там он будет вдали от светской жизни и ближе к своим истокам – к детству. Но пока, в Риме, Бальтюс и Сэцуко используют обе грани своих личностей. Одна грань – тяга к самым престижным знакомствам во всех кругах – от мира кино до мира политики, церкви (они принимают у себя кардиналов из курии и епископов), литературы (Мальро, Дюрас), театра и т. д. Другая грань – сильное желание творческого уединения, желание освятить свое интуитивное чувство, соединить свои две культуры и участвовать в наконец-то свершившемся наступлении чего-то великого и творческого. Всегда было два Бальтюса и две Сэцуко. Один Бальтюс так жаждал славы, что придумывал себе знатное происхождение, которое удивляло окружавших его людей и иногда становилось предметом язвительных насмешек, а позже в самом деле бесстрашно претендовал на титул графа, требовал, чтобы Сэцуко называли «графиня», как в комедиях Мариво, уверял, что она «принцесса» своего далекого королевства. Этот Бальтюс присоединил к своему имени частицу «де» и стал именоваться «де Рола» (никто так и не узнает точно, откуда взялось это имя). Он жил, окруженный слугами, как один из Медичи (эту привычку он приобрел еще в Шасси). Другой Бальтюс в своей тайной мастерской (мало кто может похвастаться, что побывал в ней) постигал тайны души. Иногда он изображал истории, происходящие в каком-то далеком мире, возрождая и перерабатывая тему Трех Сестер (очевидно, речь идет о богинях, управляющих судьбой. – Пер.). А иногда писал обнаженных девушек, только что расставшихся с детством, в еще раннем утреннем свете. Среди его работ есть, например, «Обнаженная в профиль» и загадочная картина под названием «Пробуждение», на которой девушка лежит, раздвинув ноги, словно предлагая себя, и держит на животе игрушечную синюю птицу, крылья которой дрожат, а рядом из своей ивовой клетки выходит кот с расширенными золотистыми зрачками.
В «Читающей Кате» – работе, созданной между 1968 и 1976 годами – девушка уютно устроилась в низком широком кресле и делает вид, что читает книгу, но и не думает читать: ее взгляд направлен вправо, на что-то желанное, что Бальтюс не показывает, но на что намекает. Раздвинутые ноги девушки позволяют угадать, что скрывается за чтением. На картине нет ни мебели, ни предметов – только стены, отделанные так же, как он в то же время отделывал стены виллы Медичи. Фрески как в давние времена, старинные, выбеленные мелом стены, толстые, как торт «наполеон». От картины исходит ощущение безмятежного покоя.
Однако нужно отметить, что взгляд Бальтюса на девушек изменился. Эротическое напряжение по-прежнему существует, но скрытое: оно проявляется не так откровенно, как в более смелой и грубой картине «Мечтающая Тереза», написанной в 1938 году. Дело в том, что за это время многое изменилось: Бальтюс пишет уже не в маленькой темной комнате двора Рогана, а в жилище семейства Медичи. Богемный в 1930-х годах Бальтюс теперь стал «графом де Рола»! Сэцуко тоже остается волнующей моделью Бальтюса: она позирует ему в знаменитой «турецкой комнате». Бальтюс освещает своих женщин и девушек новым светом, более священным; он окружает их золотистым сиянием, которое создает расстояние между ними и обычными смертными, превращает их в почти нереальных фантастических персонажей. У них нет волос на теле. Этих волос не было уже у его моделей послевоенных лет («Комната» (1947–1948), «Туалет» (1957) или «Синяя простыня» (1958). Они позируют в ролях невинных девушек. А он, художник, наделяет их тем божественным величием, которым девушек окружает свет, но помещает их в ситуацию эротического ожидания. Они девственницы, и тот, кто их изображает, мог бы стать тем, кто лишит их невинности. Так граф де Рола, подобно жестокому сеньору из сказки XVIII века, накалывает на булавки своих жертв – одну за другой. Так же он потом поступит и с Сэцуко, заставив ее позировать в турецкой комнате. Но по картине, которая получилась в итоге, видно, что эта модель не так послушна, как остальные девушки. Похоже, что Сэцуко знает, чего хочет. Ее желание – покоряться господину, но при этом быть главной в своих отношениях с ним. Поэтому картина, написанная с нее, теряет тот эротизм, которого Бальтюс обычно требовал от других своих моделей. Сэцуко берет на себя обязанность позировать. Насколько предварительный рисунок Бальтюса открывает тело модели всем самым вожделеющим взглядам, настолько же в окончательном варианте, на холсте, это эротическое буйство подавлено. Искусственность позы, роскошь деталей, внимание к керамическим изразцам и к плиткам пола, плавность изгибов тела превращают эту картину в портрет, предъявляемый миру и свободный от грубой эротики. Такая эротика могла оказаться на первом плане, например, в «Туалете Кати» или в «Прекрасных днях» (1944–1946). Но с тех пор Бальтюс стал достаточно известным мастером и теперь мог не опускаться до провокации, как когда-то сделал в «Уроке гитары». Он представляет миру свою будущую жену (на которой женится через год после завершения картины). И художник, и модель, видимо, уверены в том, что поднимаются вверх, и в своем могуществе. В «Прекрасных днях» на первый план выступает грубая страсть, граничащая с насилием: в очаге потрескивает огонь, девушка открывает свои ноги, а мужчина раздувает огонь в камине. А в «Турецкой комнате» страсть вдруг оказалась усмиренной и смягченной. Картина почти слащавая, как работы художников-ориенталистов, когда они изображали одалисок. Так Сэцуко показывает себя господину и миру. Кроме того, она в уединении пишет собственные картины, удовлетворяя свое законное и необходимое, артистическое честолюбие. Бальтюс никогда не пытался придираться к ней или издеваться над ней из-за этого. Наоборот, он находил отголоски своих собственных поисков в ее искусстве, которое она еще не совсем очистила от примесей, в ее манере изображать интерьеры, пейзажи и целые отдельные миры. В 1968 году у них родился сын Фиумо, который, к несчастью, умер через два года. Этот мальчик страдал тяжелым заболеванием опорно-двигательного аппарата, которое не позволяло ему держать голову. В 1973 году у супругов родилась их единственная дочь Харуми, которую Бальтюс искренне и горячо любил. Сэцуко придумывала для детей японские сказки, делала им кукол-марионеток, сочиняла очаровательные маленькие комедии. В семье установилось странное равновесие между роскошью и простотой, между глубоким по содержанию творчеством и светской жизнью. В это время Бальтюс в своей римской мастерской переживает прекрасные минуты, создает легенду о себе и становится, наравне с Пикассо, величайшим художником XX века. Супруги продолжают свое восхождение в обществе и увеличивают известность, несмотря на многочисленных критиков, которые тайком злословят по поводу показной роскоши Французской академии, несмотря на действия других, равных Бальтюсу по положению, критиков, которые продолжают выступать против его повторного избрания главой виллы. Ходят слухи, что Сэцуко убеждает Бальтюса участвовать в том цирке, который представляет собой общение с репортерами, и поддерживать легенду о том, что он знатный сеньор. Новое желание мастера подсказано все той же любовью к роскоши и пышности: это замок Монтекалвелло в Тоскане. В обмен на несколько своих рисунков он поручает великому декоратору обставить этот замок мебелью, но при этом навязывает исполнителю собственные вкусы – никаких излишеств, лишь несколько предметов мебели, старинные ткани, несколько безделушек и картин. Особое внимание уделяется – так же, как на вилле – стенам: они покрыты непрозрачной глазурью, которая придает их цвету глубину, достойную тосканских примитивистов. Подчеркнуты следы фресок эпохи Возрождения и фризы, окружающие некоторые из комнат. Здесь снова сочетаются богемность и роскошь, праздничность и скромность – основные черты Бальтюса. Рядом с Сэцуко он продолжает работать в высшей степени терпеливо и непрерывно. А когда становится ясно, что супругам в конце концов придется покинуть виллу Медичи, они решают купить столетнее шале в самой глубине одной из швейцарских долин. Когда-то в этом доме была гостиница, в которой останавливались знаменитости, в том числе Гете и Виктор Гюго. Сэцуко страстно полюбила этот дом. Для нее и для того, чтобы продолжить легенду о себе, Бальтюс купил его – тоже в обмен на несколько картин. Шале одинаково похоже и на один из храмов Ангкора, и на японскую пагоду; в любом случае оно напоминает какое-то фантастическое здание. В нем десятки комнат, на фасаде вырезаны христианские изречения. Теперь оно стало храмом, в котором Бальтюс собирался закрыться и куда был намерен приглашать аристократию от литературы и искусства и просто аристократию. Он снова – сеньор прежних времен, и его имя на слуху у всех; он уединившийся монах и вечно светский человек. С этих пор супруги стали жить в этой усадьбе, вдали от мира, но так, что до них долетали отголоски его жизни. В конечном счете уединение к лицу Бальтюсу. Он снова полностью обрел свободу художника. Он знает, что Россиньер будет завершением долгой истории, главной сутью его жизненного опыта. В Россиньере он снова нашел то, что всегда было его основной заботой, – скрытую духовность, движение души, которого он хотел достичь своей живописью. В уединении среди суровых гор, но в ласковой позолоченной тишине своего шале, Бальтюс составляет из воспоминаний свою историю. Сэцуко защищает его и ухаживает за ним. Внутренняя отделка помещений, которую она выбрала по своему желанию, тоже соединяет их две истории. Стены обшиты деревянными панелями из светлой сосны, от которых воздух в комнатах кажется золотистым. Окна и двери, украшенные маленькими изразцовыми плитками, выходят на склоны гор. Мимо регулярно проезжает маленький поезд «Моб», над которым шефствует Сэцуко. Он ловко спускается из одной долины в другую, своими свистками успокаивает обитателей шале и делит день на части. Сэцуко превратила ход времени в ритуал. Армия слуг, от которой Бальтюс не захотел отказаться, служит мастеру и его супруге, а иногда их дочери Харуми и сыновьям Бальтюса от первого брака с Антуанеттой де Ватвиль. Редких гостей в этом доме принимают просто и скромно. Бальтюс покинул роскошь виллы Медичи, чтобы очиститься среди пейзажей, которые описывал Жан-Жак Руссо. На стенах висят две картины, его собственные работы – «Король кошек» и «Княгиня Волконская». На комоде гордо возвышается бюст Джакометти. То там, то тут видны воспоминания о прошлом – коллекции японских кукол и столы, всегда заботливо накрытые. Посуда на них элегантная, без показной роскоши, и дом часто очаровывает музыка Моцарта. После обеда Бальтюс смотрит фильм. Он очень любит вестерны, и Сэцуко, которая велела установить в шале домашний кинотеатр, идет навстречу его желанию. Каждый из супругов работает в своей мастерской. Мастерская Сэцуко находится в комнате, примыкающей к гостинице, а мастерская Бальтюса расположена в бывшей риге, которая превратилась в «святая святых». Туда имеют доступ лишь немногие избранники. Там – под доброжелательным наблюдением Альберто Джакометти и мышей, которым Бальтюс дал прозвище «стендалевские» за их любимую забаву: они упорно развлекаются тем, что грызут трубы, выкрашенные в красный и черный цвета, – хранятся величайшие произведения искусства, которые движутся перед глазами Бальтюса и его гостей благодаря системе роликов, которую установила Сэцуко. В Россиньере произошло что-то, ставшее началом новой жизни. Может быть, Бальтюс перестал быть неоднозначным и парадоксальным? Иными словами, не стал ли Россиньер местом, где он отказался от лжи? Неужели понадобилось столько лет парадов и масок, чтобы наконец стала видна основная, истинная натура Бальтюса? И не внесла ли Сэцуко большой вклад в эту перемену, несмотря на упорные слухи о том, что это она вдохновляла его на попытки стать знаменитым и добиться славы. Непроницаемая «графиня», в сущности, знает все это. Она знает, кто ее враги, и знает, какие злые сплетни они разносят. Но она не отступает перед этими злыми сиренами и зловещими Кассандрами. Она идет путем, который проложила для себя вместе с Бальтюсом. Она продолжает писать картины в ласковой тишине Россиньера, в тепле большой и высокой фаянсовой печи XVII века, внутри которой почти можно уютно свернуться. Она занимается кошками и птицами, следит за порядком в доме, составляет меню, управляет всеми хозяйственными и финансовыми делами, готовит проект создания Фонда Бальтюса, рисует интерьеры, которыми Бальтюс всегда восхищается, несмотря на явную неумелость рисунков. В основном ей удаются картины, написанные краской, – кошки, японские интерьеры, натюрморты с фруктами и особенно сказочные комические сценки, в которых животные, одетые как люди, красуются на маскарадах или званых обедах. Внезапно, в зависимости от настроения, она создает фантастические или сказочные произведения, которые очаровывают Бальтюса, потому что именно эти рисунки вызывают у него детские воспоминания, сказки, в которых действительность внезапно рушилась и уступала место тому, что Райнер Мария Рильке называл «открытым пространством», в котором могут потонуть все тайны мира. Старость к лицу Бальтюсу. Сэцуко, родившаяся в 1943 году, намного моложе, чем ее супруг, родившийся в 1908 году. Она, которая так много унаследовала из прошлого своей родной Японии, оберегает гениального художника. Он был ее поклонником, любовником, мужем, натурщиком и спутником в течение всей своей жизни художника. Она помогла ему укорениться в жизни, помогла ему сделаться тем загадочным и великолепным художником, которым он был, а сама иногда отходила в сторону со скромностью гейши. Но в действительности именно она хозяйка в Россиньере. Бальтюс почитает и уважает ее. Она всегда мелкими скользящими шагами ходит по просторному дому – невесомая тень в расписанном красками шелковом кимоно, она всегда в одинаковом настроении и помогает увековечить мгновение. Похоже, что история их жизни продолжается вдали от шума светской жизни. Однако коллекционеры, интеллектуалы и художники приезжают в Россиньер. Бальтюс и Сэцуко устраивают для них изящно организованный прием и с редкой изысканностью накрывают для гостей чайный стол. Кошки проскальзывают между фарфоровыми чашками, осторожно ходят по вышитой скатерти под нежными взглядами хозяев дома. В Россиньере кошки входят в ближайшее окружение хозяев. Бальтюс ни в чем не отрекается от титула, который присвоил себе в 1937 году в подписи под автопортретом. Он король кошек, а они его горячо любимые подданные. Он вспоминает о том, как лишился своего любимого кота Мицу, когда тому было только восемь лет. Его отчаяние тогда было огромным, а любовь к кошкам стала сильней. В шале для них есть отдельные комнаты, а еще комнаты специально для птиц, которые могут там спокойно летать. У Сэцуко тысяча дел: она сажает пышные растения и ухаживает за ними, поливает и ставит в вазы срезанные утром свежие цветы. Она вышивает на шелковых подушках кошек, смешные сценки, в которых немало места занимают животные, расписывает маленькие деревянные шкатулки, шьет жилеты для Бальтюса, мастерит футляры для очков или портсигары и вышивает их в технике petit point. Это не просто дамское рукоделие, это художественные работы: она сама придумывает их формы и узоры, которые связаны с историей ее жизни и ее мечтами. Бальтюс, старея, становится чище душой и довольствуется малым. Он имеет привычку говорить, что его жизнь скромная и спокойная. От «лжи», которой он когда-то окружал себя словно для того, чтобы украсить бедствиями своей эпохи, остаются легенды, которые он, конечно, продолжает поддерживать, но которые теперь обманывают лишь немногих. Однако, поскольку он достиг величайшей славы как художник и перенес на холсты непонятные очертания таинственных миров, никто не пытается с ним спорить. Сэцуко перешла в католическую веру. Он, прикасавшийся к пылкой непристойной эротике, теперь тоже вернулся в церковь: под балдахином над его кроватью висят четки, и его защищает икона Девы Марии. Многих комментаторов его творчества удивляет, что Бальтюс присоединился к основному сообществу христиан. Это не совмещается с его работами. Критикам не нравится, что тот, чье творчество они всегда считали разрушением старых устоев, в конце концов пришел к религии и, кажется, почувствовал влечение к народной набожности. Поэтому они считают, что причина тут в старческой слабости организма, и предпочитают милосердно молчать на этот счет. Но Бальтюс, наоборот, желает говорить об этом. Он даже утверждает, что имел видение. По его словам, в тот момент, когда он чувствовал, что уходит из жизни, ему явился Христос и приказал жить дальше, потому что его путь еще не окончен и есть труд, который он должен выполнить. Кроме того, в последние годы своей жизни Бальтюс начал новую картину. Юная девушка лежит на кровати, в ногах у нее гитара, в правом углу комнаты стоит на задних лапах далматин; он прижался к квадратным стеклам окна и как будто ждет какого-то гостя. Бальтюс возвращается к своим основным темам – угроза, исходящая от незнакомца, пришедшего из внешнего мира; девушка, отданная во власть тайны его прихода; большие портьеры, окаймляющие картину; и гитара – намек на знаменитую работу художника 1934 года. Но осознавал ли Бальтюс, как трудно ему будет работать теперь, когда он уже почти лишился зрения, а его тело и дыхание медленно слабели? Сэцуко каждый день приводила мужа в его мастерскую или приходила к нему, в сытный запах терпентиновых масел. Бальтюс каждый день (если свет подходил для работы) добавлял новое движение или новую тональность в какой-нибудь из элементов картины и долго размышлял перед ней. Между ним и Сэцуко существовало почти волшебное равновесие. Она понимала его с полуслова, но главное, успокаивала своим мирным молчанием. Однако творческий дух, всегда, словно огненная искра, дававший Бальтюсу бодрость и с годами отразившийся на лице художника, сопротивлялся старческому засыпанию. Бальтюс никогда не считал катастрофой то, что время уходит. Наоборот – и благодаря влиянию Сэцуко – он всегда, до самого конца, проявлял невероятные творческие способности и – главное – был молод душой и одевался в молодежном стиле, в согласии со своим представлением о дендизме. Он носил кашемировые свитера и иногда даже надевал спортивные брюки (в таком наряде он позировал Анри Картье-Брессону). К этой одежде он кокетливо добавлял яркий платок на шее или надевал куртку в австрийском стиле, очень элегантную. Его мысли и разговоры всегда вращались вокруг живописи и в первую очередь – вокруг приключений современного искусства, которые он пережил. Но Бальтюс не произносил ни одного резкого слова, разве что в тех случаях, когда заходила речь об отклонениях сюрреализма. Он был благосклонен ко всем. Даже в его взгляде была доброта – а когда-то его пронзительный орлиный взгляд и жестокие замечания вызывали страх. Теперь он был невероятно тих и спокоен, и Сэцуко внесла вклад в это умиротворение своего супруга. Его редкие появления на людях всегда были тщательно подготовлены и происходили строго по определенному ритуалу. Бальтюс был одет как лорд, седые волосы аккуратно зачесаны назад, в кармане куртки – шелковый носовой платок. Его манеры были светскими и раскованными; казалось, ему не мешают ни его слепота, ни глухота. Всегда любезный, почти преувеличенно любезный, он появлялся перед публикой в обществе Сэцуко. Она в своей традиционной одежде, хрупкая внешне, но державшаяся уверенно, составляла со своим супругом пару, поистине достойную картины. Так проходили в Россиньере дни – полные новообретенной гармонии, оживленные движением слуг-филиппинцев. Лю, личный врач и лакей Бальтюса, очень внимательно заботился о нем. Ни одно последствие старости не должно было стать заметным. Малейшая оплошность хозяина исправлялась, чтобы все снова оказывалось на своем месте, в прежнем порядке. Сэцуко следила, чтобы этот порядок соблюдался неукоснительно и во всех мелочах, и делала это невозмутимо и грациозно, без нетерпения и торопливости. В Большом шале царили элегантность и спокойствие, которые кажутся почти нереальными, если вспомнить, какие неистовые страсти охватывали Бальтюса в те времена, когда он принимал себя за брата сестер Бронте, грубого и дикого героя «Грозового перевала».
Каждое утро, приходя в свою мастерскую, где стояли на мольбертах его главные картины, он жадно смотрел на них и вел с ними мысленную беседу. «Вид Монтекалвелло», где изображены тосканские горы, все в складках и вмятинах, как горы на картинах старинных китайских художников, говорит о желании художника снова побывать на горных высотах. Горы с детства были для Бальтюса местом, где душа становится выше. Его переселение в Россиньер, где он закончил жизнь, берет начало в этом желании возвыситься духовно. На закате своей жизни Бальтюс наконец подчинился тайному велению искусства. Он мог подвести итог своей жизни только так – среди перемешанных в беспорядке клочков земли и скал, укрывшись от скверны мира и городов, посреди «магических» гор, возле которых он наконец мог, без ведома внешнего мира, приблизиться к Богу. Девочки на его картинах, которые вызывали такие сильные эротические ассоциации и которых критика так упорно считала эротичными, тоже истолкованы по-новому в одиночестве среди гор. Больше никаких намеков на секс. В прошлом было столько ожиданий, промежуточных состояний, ангельских периодов жизни, мужских и женских одновременно, которые ему хотелось изобразить на картинах. Сэцуко подтверждала его правоту: в любом случае она не делала ничего, что вызвало бы неудовольствие ее господина. Обычаи ее родной Японии и безграничное восхищение супругом, разумеется, не позволяли ей оспаривать то или иное его утверждение. И в итоге в этом удивительном месте, среди красот долины, так далеко от городского зловония и городских сплетен, царили вновь обретенная нежность и что-то вроде Божьего, почти монашеского покоя. Этим покоем супруги наслаждались как ниспосланной им благодатью. Если им наносили визит люди состоятельные и высокомерные из-за своего богатства, Сэцуко не отказывала таким гостям. Это были потенциальные покупатели, опытные коллекционеры, которых она не могла не впустить в Большое шале. Поэтому она неизменно подавала им изысканное угощение на вышитых скатертях. Гостям разносили несколько видов чая в китайских фарфоровых чашках, на серебряных блюдах подавались пирамиды из пирожных, стол был уставлен цветами. После этой уступки возможным коллекционерам за ними закрывалась решетка из кованого железа, и в Россиньер возвращалось спокойствие – как в буддийском храме, на который шале часто бывает похоже. Графиня снова окружала Бальтюса своей неслыханной добротой. Эту доброту она проявляла нежно, но никогда не делала этого преувеличенно или демонстративно. Ее нежность была почти холодной, но Бальтюс знал, что Сэцуко всегда рядом. «Она делает многое для этого спокойствия сердца и души, – говорил он. – Ее присутствие переполняет меня, оно мое утешение за все потери и несчастья, с которыми я должен мириться в силу моего возраста»[215]. В последние месяцы жизни Бальтюса время в Россиньере словно остановилось. Его дыхание ухудшалось уже в течение двух лет. (Из-за этого он кашлял, но, бросая вызов болезни, продолжал курить сигареты из светлого табака, а именно «Кэмел». Они всегда лежали в маленькой вазочке на низком столике, к которому он неизменно направлялся после еды.) Теперь оно с каждым днем становилось все слабей. Он говорил тихо, его лицо наконец стало спокойным и добрым. Сэцуко присматривала за ним, не ослабляя внимания ни на миг. Поскольку дом деревянный, она прислушивалась к шагам мужа из своей мастерской, где писала очаровательные миниатюры. Последней картиной Бальтюса стала та самая муза, увенчанная цветами, которая бросила на пол свою мандолину и, кажется, замерла в изнеможении, почти без чувств на диване, а ее далматин тоже ждет прихода гостя. Картину в конце концов назвали «Ожидание», и теперь в Россиньере все было полно ожиданием. Конец казался неизбежным, но Бальтюс по-прежнему хотел возвращаться в свою мастерскую. Его приводили туда, и он там размышлял. Говорят – хотя, может быть, это продолжает развиваться легенда? – что за два часа до смерти он пожелал снова вернуться в мастерскую и долго оставался там, словно прощаясь с ней. Его ум, конечно, тогда уже был затуманен приближением смерти. Он умер 18 февраля 2001 года рядом с Сэцуко, которую любил всем сердцем и с которой создал мифическую пару. Через десять дней ему должно было исполниться девяносто три года. Похороны организовала Сэцуко. Они были одновременно скромными и роскошными, как сам Бальтюс. Художника, который терпеть не мог сюрреализма, проводили в последний путь похоронами, которые в некоторых отношениях были похожи на сюрреализм. Нет, это было больше чем сюрреализм. Они были в духе того «непривычного»[216], чему он постоянно задавал вопросы: задрожали покрытые вмятинами скалы, которые он писал красками и рисовал. Накануне его похорон в Альпах произошло довольно сильное землетрясение (4 балла по шкале Рихтера).
И вот 24 февраля несколько сот человек собрались вокруг его останков. Была отслужена большая торжественная месса; ее служили местный приходский священник, архиепископ Варшавский и еще один священник. Так Бальтюс снова соединил себя со своими польскими корнями и связанной с ними католической традицией. В качестве сопровождения для церемонии семья выбрала мессу Монтеверди. Затем сыновья покойного, Фаддей и Станислав, поставили гроб в карету, которую везли две лошади. За катафалком следовала верхом на коне девушка, одетая во все черное. В шествии, как и следовало, было что-то поэтичное и нереальное. Падавший снег делал его похожим на фантастическую сказку. Гроб был задрапирован шалью, которой Бальтюс любил накрываться, когда в его мастерской было слишком сыро, и его мундиром рыцаря ордена святого Маврикия. Когда гроб опускали в могилу, музыканты трубили в рога.
Но это было еще не все. За гробом шли, сосредоточенно и взволнованно, не только жители селения Россиньер, но и знать, прибывшая со всех концов мира. То есть вместе шли «люди» и народ. В толпе узнавали Ага-Хана, Виктора-Эммануила Савойского, голливудских звезд – например Ричарда Гира, людей из мира театра и моды, а также певца Боно, которого Бальтюс особенно любил и который тихо пел для своего друга. Маленькая толпа испытывала совершенно необычное чувство: Бальтюс как будто шел вместе с собравшимися. В их памяти остались его улыбка – сдержанная, но лукавая, в которой была легкая ироническая насмешка над суетой этого мира, над тем, как ей можно воспользоваться, над необходимой ложью. Но главное в этой улыбке – глубокое убеждение, что нет ничего истинного и ничего ложного, все – правда и ложь одновременно. Бальтюс улыбался тому, что он, как герои сказок, которые он любил в детстве, играл с вымыслами, но при этом никогда не обманывал и оставался верен глубинной истине предметов и существ. По сравнению с правдивостью жизни в Россиньере, по сравнению с его смирением в старости, по сравнению с равновесием, которое поддерживала в его жизни Сэцуко, ложь и построение карьеры вдруг стали казаться суетными и смешными. Словно все наконец соединилось, все было собрано вместе и вновь стало единым целым в тот период жизни, когда он вернулся к образам своего детства, к доброжелательности Рильке, к материнской любви, к жизни в Альпах, с которой он сумел связать легенды и мотивы Японии – родины его жены.
В «Воспоминаниях Бальтюса» он сказал: «Те, кто верили, что я занимался созданием легенд, увидят, что ошибались. Да, существовала только эта жизнь – история художника, стоящего лицом к лицу с холстом, это сражение и эта связь, которую он сплетает каждый день, чтобы достичь этих минут озарения и, кроме того, достичь смысла. Я всегда верил в мудрость Востока, в ее обезоруживающую простоту. Действительно, «небо дает человеку столько даров, сколько он способен принять», как сказал китайский художник Шитао. Поэтому нужно всегда поддерживать себя в этом состоянии принятия и дарения»[217].
Маргерит Дюрас (1914–1996) и Ян Андреа (1952) Священное чудовище и его добыча
Была ли долгая связь Маргерит Дюрас с Яном Андреа настолько случайной и настолько невероятной, как об этом говорили? Что это было – организованный заранее случай? Роковой удар судьбы? Или женщина-хищница средних лет, охотница до молодых любовников, поймала добычу? Или молодой честолюбец, новый Растиньяк, сошелся с ней ради карьеры? Как «эта любовь», как назвал их связь Ян Андреа, могла продолжаться так долго? Какие тайны души – а может быть, скрытые горести – были на первом плане в этом союзе, который оказался таким прочным, что продолжался больше пятнадцати лет и распался из-за смерти писательницы? Что в тогдашней жизни Маргерит Дюрас однажды, в день одиночества и отчаяния, заставило ее открыть дверь молодому студенту из Кана и решить, что он должен остаться с ней? Несомненно, это Маргерит все решила или подчинилась велению судьбы и в тот момент отдала себя в ее власть. «Осужденная писать», – говорила она о себе, подразумевая порабощение, заброшенность, одиночество и изгнание, которые может принести такая жизнь. «Осужденная писать» – пленница безумной любви к писанию книг. У этой любви она однажды попросит милосердия, открывая дверь незнакомому молодому мужчине.
Шел 1980 год, точней, лето этого года. Это было особое время для Маргерит: она провозгласила роль писателя священной и присвоила искусству слова высшую власть. Она будет промежуточным звеном, посредницей, а еще лучше – медиумом. В 1970-х годах она была на виду у мира и теперь еще играет роль бойца на всех фронтах, которую взяла на себя в 1968 году. Но в 1980-х годах она отказалась от захвата этих территорий. С этих пор она говорит, что подчиняется другим предписаниям и отвечает на другие вызовы. Марксизм и ситуационизм, ленинизм, иногда даже сталинизм, право исповедовать который она дерзко отстаивала, и феминистское движение уступили место Экклезиасту, Блезу Паскалю, Эмили Дикинсон и писателям более духовного направления. В 1970-х годах она исповедовала философию активности и переживала события того времени как последние следы военных лет. Что же произошло в промежутке между тем временем и этим новым отношением к писательскому творчеству – уходом в него как в монастырь? Каким своим душевным склонностям, которые ощущались уже в начале ее творчества, она теперь поверила?
Может быть, эти ее своеобразные романтические странствия начались после разрыва с Жераром Жарло? По-видимому, она покинула поле боя из-за отчаяния, но эта самовольная отлучка оказалась творческим отпуском: это время было наполнено мощным литературным творчеством. Оправилась ли она вообще от удара, который получила, когда ее покинул тот, кто приучил к спиртному, но и сумел пробудить в ней неистовую любовную силу? Она никогда не любила так бурно: до этого ее любовные чувства были почти болезненными. Вот как далеко увела ее эта любовь. В любом случае Жарло, покинув Маргерит ради актрисы Франсуазы Арнуль, сам того не зная, открыл писательнице новую дорогу – путь полной отдачи себя творчеству. Отсюда последовали горькие и, кажется, окончательные выводы относительно любви. Она имела привычку говорить, что женщина, которая сильно любила, не может жить после этой любви. Как будто перед ней опустилась решетка, и она уже никогда не сможет приблизиться к тому, что сумела потрясти в ней эта страсть[218]. Она приняла приговор и постепенно создала себе новую судьбу.
Она будет писательницей Маргерит Дюрас. Не сочинительницей романов, не «рассказчицей историй», как она любила уточнять, а писательницей в полном смысле этого слова, с учетом его древней этимологии. То, что она напишет, не может быть названо романами. Оно будет называться текстами, сочинениями. А почему бы и не поэмами? Началась сакрализация: она будет пифией; то, что она напишет, будет пророчествами и видениями, ее голос станет голосом прорицательницы. Но в этом почти мистическом одиночестве всегда будет место для любви. Пусть даже не реальной, а воображаемой любови. Желание, двигатель писательского творчества, станет возбуждать требование, чтобы перед ней явилась, снизошла к ней иная истина. В 1979 году она отказывается от всех рекламных поездок и поездок по университетам, которые ей предлагают ее издатель или французские культурные центры, и говорит, что теперь желает заниматься только писательским творчеством. Писать. Это единственное спасение от чувства утраты, от пустоты существования, от душевного отчаяния, от духовного одиночества. Ее подруга и соседка в Нофль-ле-Шато, Мишель Мансо, свидетельствует об этом в своей книге воспоминаний «Подруга»: «Я всегда хочу иметь место для того, чтобы быть одной и любить. Любить неизвестно что, неизвестно кого, неизвестно, как и сколько времени. Но иметь в себе место для ожидания: никогда не знаешь, что случится. Для ожидания любви – возможно без другого человека, но именно любви». На самом деле Маргерит имела в виду человека, с которым переписывалась и кому отправила множество писем. Этот человек – не кто иной, как драматический и литературный критик газеты «Монд» Мишель Курно. «Я хотела вам сказать, что вы были этим ожиданием». Что это – недвусмысленное признание в любви? В этом нет никакой уверенности. Курно не станет ее любовником: может быть, он понимает, что для писательницы их переписка – начало нового, более тайного и личного опыта, в котором, вопреки фактам, он не участвует. В любом случае Дюрас разрушает все возможные надежды на любовную авантюру. «Я человек неверный, – пишет она ему. – Та любовь, которую я чувствую к вам, – я знаю, что она иллюзорна и что через внешнее предпочтение, которое я оказываю вам, я люблю лишь любовь». Уже в одном из своих «вульгарных», как она их называла, романов 1950-х годов Маргерит недвусмысленно утверждала, что осуществленная любовь не способна воплотить в себе настоящую любовь: «Ни одна любовь в мире не может занять место любви». То есть любовь в ее представлении – пограничная потребность, воображаемый передовой рубеж, где происходит встреча и слияние, доисторическое место, где нет разницы между мужчиной и женщиной, изначальная невинность.
Преувеличенность политических и социальных требований в это время, в конце 1970-х годов, сделала ее чем-то вроде иконы для революционеров. Она включается в их игру и позирует на этой сцене – навязывает себя средствам массовой информации. Ей, похоже, нравится роль великой жрицы левых радикалов и священного чудовища. В эти годы ее имя появляется в словарях, и там ее называют одной из самых символических фигур французской литературы. Она смакует это признание как лакомство, но в то же время окружающие начинают замечать, что она держится немного в стороне от происходящего рядом. Эта отстраненность – не позерство и не рисовка, а скорее неприспособленность к правилам жизни, в которой она не узнает себя – к человеческой комедии, к игре самолюбий. Тщеславию этих людей она станет противопоставлять знаменитый псалом царя Давида: «Всё лишь суета и погоня за ветром».
Ее роль в феминистском движении противоречива и неоднозначна. Отчасти эту неоднозначность создала она сама: по словам Ксавьеры Готье, вместе с которой она позже напишет «Болтушек», писательница не желала присоединяться ни к чьему делу, кроме своего собственного. Эта молодая феминистка пыталась загнать ее в свои окопы и задавала ей вопросы о женском гомосексуализме в то время, когда Дюрас, брошенная своим любовником, вкладывала всю свою сексуальную энергию, всю свою жизненную силу в творчество, которое было для нее не спасательным кругом, а полноценной потребностью. «Я познакомилась с тобой, когда у тебя не было мужчины-любовника. Может быть, ты воспользовалась этим, чтобы излить, чтобы выплеснуть содержимое своей переполненной души женщины, которая слишком много вынесла», – писала Ксавьера Готье.
В этой переполненности души, содержимое которой выплескивалось через край, феминистки увидели возможность, что Дюрас встанет в их ряды. В это время писательница была «на мели» в личной жизни. Но Маргерит Дюрас никогда не была такой говорливой, неожиданной (особенно в кино) и изобретательной в творчестве, как в этот период жизни после Жарло. Без любви, которая удалилась от нее, она словно стала свободна для других душевных состояний, для других открытий. А значит, более способной свидетельствовать о том, что она позже стала называть «видением». То есть о тайнах мира, важнейших открытиях, о пророческих откровениях. Уже в 1974 году, в «Болтушках», Ксавьера Готье интуитивно поняла эту дилемму. «В ваших книгах, – писала она, – есть эротическое напряжение, которое никогда не может быть удовлетворено». Дюрас уклоняется от ответа на эти слова, не признается. Она постоянно владеет собой, но не всегда может контролировать себя полностью. «У меня была сексуальная жизнь, – отвечает она, – эффективная (как сказать это вежливо?), скажем, очень много раз и… очень бурная. С мужчинами… Я много жила с мужчинами, – продолжает она, – исключительно с мужчинами, и понемногу замечаю, что я меняюсь в этом отношении. И что я все больше бываю с женщинами. Или – я должна это сказать – с гомосексуалистами». Ксавьера Готье хватается за подсказку, которую Дюрас бросает ей как спасательный круг, и отвечает: «Да, может быть, нужно было бы поставить вопрос об отношении женщин к мужскому гомосексуализму». Но Дюрас и тут уклоняется, не отвечает по-настоящему. Или отвечает, но намеком. «Я всегда любила только мужчин, – повторяет она, – и у меня есть стоящий чего-либо эротический опыт только с мужчинами – бурный и страстный». Не ослабло ли в этот момент ее самообладание? Она признается: «У меня были эксперименты с женщинами, но они всегда были полным… результаты были положительными, но совершенно недостаточными. Через два дня я уже скучала по мужчине». Однако есть все основания полагать, что Дюрас считала, что как писательница она имеет возможность все познать и все знать, не обязательно переходя к действию. «Ты считаешь, – пишет она, – что раз я не знала его [женский гомосексуализм], то не могу о нем говорить? Я очень хорошо вижу. У меня есть примеры вокруг. Я очень хорошо вижу, чем может быть эта любовь».
«Это тебя соблазняет?» – спрашивает в ответ Ксавьера Готье. «Нет!» – сразу же и решительно отвечает Дюрас.
Одиночество, тишина в душе, призыв этой тишины, жажда раскрыть ее тайну и сильная боль от неизлечимой и непонятной раны, которую она старается растравить, – все это отдаляет Дюрас от мира. Но в то же время она всегда была крепка силой, которую унаследовала от предков-крестьян. У нее прочные корни в земной жизни, и потому она твердо стоит на земле. Она вспоминает свою мать, которая голыми руками боролась с Китайским морем. Все это удерживает ее в реальном мире и не дает погрузиться в безумие. В 1975 году многообещающий успех «Песни Индии», шедевра Дюрас, отправил ее в путь по дорогам Франции. Она считает, что ее присутствие необходимо, поэтому берет свой страннический посох, садится на R16 и ездит по стране, представляя свой фильм в киноклубах и университетах. На ее презентации приходит мало народа. Часто у нее всего около пятидесяти слушателей, не больше. А на литературных и философских факультетах их еще меньше.
Но она считает свои поездки крайне важными. В один осенний день, а именно 14 ноября, Маргерит оказывается в Кане. «Песню Индии» показывают в кинотеатре «Люкс». Среди зрителей есть молодой мужчина. Он оцепенел от восхищения, как очень многие мужчины вокруг нее, он покорен изумительной мощью Дюрас-оратора. Она начинает говорить, произносит несколько слов, и внезапно они кажутся неизбежными, нерушимыми, неоспоримыми. Это уже не слова, а изречения, в которых провозглашается вера; самые строгие критики позже назовут их догмами.
Итак, в зале находится молодой мужчина. В одном из местных учебных заведений объявлен конкурс на должность преподавателя, и он предлагает себя как кандидат. Он довольно застенчив, сдержан и неразговорчив. Как только кончается просмотр, он подходит к Дюрас и представляется ей. Его зовут Ян Леме. Дюрас не проявляет к нему интереса: все ее внимание сосредоточено на собственной легенде. Однако она знает, что вызывает у многих своих читателей бурные и сильные чувства, которые они чаще всего хранят в тайне. Она не жалуется на это, считая, что ее творчество законно излучает первобытную эротическую силу, которая служит основанием для этих навязчивых «обыкновенных страстей»[219], как сказала бы Анни Эрно. Разве ей не показалось забавным поведение одного из гостей на вечере, который устроила социалистическая партия в честь избрания Франсуа Миттерана? Этот мужчина тогда подошел к ней, встал напротив нее и начал мастурбировать. Эту славу она целиком принимала за законное признание ее гениального дарования и творчества, которое она сама считала одним из самых мощных в истории литературы. И действительно, вокруг нее к этому времени уже сформировался кружок приближенных – настоящий маленький двор. Все актеры, даже самые знаменитые, хотели, чтобы она ими управляла: все они почти благосклонно соглашались сниматься в ее фильмах.
Студенты регулярно и с религиозным трепетом пишут ей письма, на которые она никогда не отвечает. Она уже давно чувствует себя царицей всех, кто оказывает ей эти преувеличенные почести – тиранически жестокой и одновременно сострадающей им. Ян Леме – один из тех, кто чувствует к ней «беспредельную», как она сказала бы, страсть. Каждый день питая свою душу ее книгами, он оказался в сетях этих чарующих произведений, которые возвращают читателя к чему-то древнему и далекому. Встреча с ней на публике в Кане для Яна – одно из самых значительных событий его жизни. Подойти к ней для него (так же как для всех читателей, оказавшихся во власти ее чар и попавших в сеть, из которой трудно вырваться) уже значит оказаться в плену, надеть на себя восхитительное ярмо богини-матери, слово которой «невозможно разбить».
Значит, вот под каким знаком началась история их любви – под знаком покорности и чар. Под знаком неоспоримого неравенства, хотя речь писательницы была выдержана в духе братства, коммунизма и закончилась общепринятыми условностями. Однако мало кто знал, какие парадоксальные чувства таились в ее душе. Мало кому было известно о минутах ее отчаяния и страдания, физического и душевного, о ее суровом одиночестве и в то же время приступах самолюбования, о ее неистовом эгоизме, о том, как она умеет замыкаться в себе, ревниво оберегая свой внутренний мир, и о ее презрении к другим. В тот ноябрьский день 1975 года Ян Леме еще не знает истинного положения дел. А если бы он и знал, то все равно принес бы себя в жертву, потому что уже давно был пленником Маргерит Дюрас. Он давно уже попал в сети ее образов.
История этой любви началась там, в темноте, во время неформальной встречи в кинотеатре «Люкс». Еще никто не мог предвидеть, какого легендарного размера достигнет это чувство с 1980 по 1996 год. А пока Дюрас играла своей известностью и своим умением соблазнять. Эта сердцеедка никогда не отказывалась от времени, «разрушенного», как она говорила, но тем более прекрасного, и уходящего, не отрекалась от старости, отметины которой уже давно появились на ее лице. Она, по-видимому, никогда не сомневается ни в себе, ни в своих словах, которые произносит с уверенностью, вызывающей одновременно изумление и беспокойство. В течение пяти лет, которые еще разделяют влюбленных, Дюрас будет продолжать начатую работу, идти по пути, который плохо виден, рассматривать его и составлять карты – свои книги, одну за другой. Сооружать безвестную плотину против смерти, как когда-то ее мать строила плотины из джутовых мешков и песка, чтобы замедлить движение приливов Китайского моря. Это были годы, насыщенные творчеством – литературным и кинематографическим, но это были и годы одиночества. Писательница жила то в своем доме в Нофле, то в Трувиле, в роскошном особняке, разделенном на части, каждая из которых имела нескольких владельцев, и обычно пустом. Ян Леме не забыл потрясшую его осеннюю встречу. Побывать на просмотре «Песни Индии», когда в зале присутствует сама создательница фильма, – далеко не рядовое событие. Еще более необыкновенным и неожиданным было то, что Ян говорил с ней после просмотра, взволнованный скрытыми желаниями, бурными, но обузданными чувствами, тайнами души, которыми полон фильм. Позже Ян вспоминал, что это была для него пора ожидания. Время словно замерло, и он ждал настоящей встречи, на которую Дюрас непременно должна была его пригласить. В своей маленькой книге воспоминаний «Эта любовь»[220], посвященной истории их любви, он немного точнее обрисовывает контуры этой страсти. Книгой, породившей его любовь к Дюрас, был роман «Лошадки Тарквинии», который его соседка забыла в их квартире. Свое чувство он назвал «любовью с первого взгляда» еще до встречи с Маргерит Дюрас. Значит, сначала любовь родилась от книги. Ее чтение вызвало эмоциональный шок, оно прорвало повседневность, разорвало обычный порядок предметов, явлений и мира. Значит, книга стала началом чего-то. Объяснения, которые дает Ян, в конечном счете слишком обычны для такой ситуации.
Восхищение, столбняк, самозабвенное подражание. Поскольку персонажи этого романа пьют кампари, Ян тоже начал его пить. «В Кане было нелегко найти в бистро кампари…» – пишет он. Чтение не оставляло места ни для каких других занятий. «Я забросил все, – рассказывает он, – все другие книги – Канта, Гегеля, Спинозу, Маркузе… Я начал читать всё – все ее книги, их заголовки, истории, все слова». Опьянение стало постоянным. Королева Дюрас околдовала его. Разве он мог теперь сбросить с себя эти чары? Встречу в «Люксе» он помнит очень хорошо. Ничто не забыто, все врезалось в его память. «Великая сцена», как такие события называют в психоанализе; начальная сцена, потому что с нее все началось, после нее изменился взгляд, способ видеть и ощущать мир, способ понимать мир и жить в нем. В беседе с одним из биографов Маргерит Дюрас, опубликованной в 2010 году, он признался: «Я очень хорошо помню: она приехала в своем маленьком жилете от «Черрути», из коричневой кожи, который ей подарил Стефан Чалгаджиев, продюсер фильма (потрясающий продюсер), и я задал ей вопросы – я, который был очень застенчивым…»[221] Он попросил подписать ему экземпляр «Разрушить, говорит она» и признался, что хотел бы написать ей письмо. «На адрес вашего издателя», – уточнил он. «Нет, – ответила она, – пишите мне на улицу Сен-Бенуа, дом 5…» Он стал торопливо писать ей, еще не зная, ответит ли она. Одно письмо, два, а потом, если верить воспоминаниям самой Дюрас, «иногда по письму в день». «Это были очень короткие письма, вроде записок, да, что-то вроде призывов, которые человек кричит в невидимом губительном месте, в какой-то пустыне. И в этих призывах была очевидная красота».
Воспоминания Дюрас, которые она опубликовала в 1992 году в книге «Ян Андреа Стейнер», свидетельствуют о невероятной работе алхимика, которую она выполнила. Из всего – из мира, из новостей, из любовей, похороненных, неосознанных или подавленных, из прохожих, попавшихся ей навстречу на улице, – она создает, как золото, свои сочинения, творит суть своих книг, как пчела производит мед. Дюрас знает, что из писем юноши, которого она мельком видела в Кане в пивной после кинопросмотра, она тоже сможет сделать книгу. Они будут новыми ключевыми вехами на ее литературном пути.
В эти годы, с 1975-го по 1980-й, Дюрас писала и творила с неистовой силой, а внутри ее все скользит, провисает, рушится. Передышка, которую ей дал алкоголь, закончилась. Она стала пить, но уже не так, как пила с Жарло. Теперь ей нравится говорить, что она пьет, чтобы заполнить пустоту, которая образовалась в ее душе из-за отсутствия Бога, который не отвечает на ее отчаянные крики, обращенные к Нему. Она пьет одна, это одиночество становится мистическим, и она испытывает те же муки и те же ощущения, что и великие мистики, чьи сочинения она любит, – Хуан де ла Крус и Тереза Авильская. Что-то в ее душе движется к ним, понимает их и признает своими. Не пугало ли ее тогда, что она отказалась от своей фамилии Донадье (которая звучит как французское словосочетание, означающее «дай Богу». – Пер.) и таким образом отказалась давать ему что-либо, стала писательницей и сама пожелала стать Богом? Как правило, она укрывается в Нофле, но соглашается на несколько поездок, в том числе совершает поездку в Израиль и по этому случаю называет себя «почетной еврейкой». Хотя ее политические увлечения естественным образом должны были бы сделать ее защитницей дела палестинцев, она яростно поддерживает Бегина и Государство Израиль в память о холокосте, который называет самым огромным событием XX века, и говорит, что он сделал ее «умной»[222] и имел огромную разоблачительную силу.
В Нофле она не принимает почти никого и отдается во власть алкоголя – литрами пьет простое вино – не виски, как в 1950-х годах, не кампари, как в 1960-х, а столовое вино, которое покупает у стойки поселкового бара (где есть и табачный киоск). Но в это время душевных и физических невзгод, в дни психологической катастрофы, она пишет, она снимает фильмы и черпает из какого-то неизвестного ей самой источника силы, чтобы творить все интенсивней. В это время были созданы «Грузовик», «Кинотеатр «Эдем», «Корабль «Ночь», «Негативы рук», «Кесария» (воспоминание о ее путешествии по Галилее, которое глубоко потрясло писательницу) и фильмов «Аврелия Штайнер» (их два с таким названием. – Пер.). В большинстве случаев она сначала писала текст, а потом снимала по нему фильм. Но во всех текстах сквозь элегическую жалобу звучит рассказ о том, какое несчастье – одиночество и разлуки, о неустанном поиске любви и связи с людьми. Содержание всех этих сочинений, которые Дюрас называет текстами из-за неоднородности, не позволяющей отнести их ни к одному жанру, вращается вокруг этой экзистенциальной нехватки, этой тоски. Она объясняет странствия писательницы и иногда, по контрасту, объясняет ее суровость. Например, «Корабль «Ночь» – преувеличенно пылкие диалоги двух влюбленных, которые беседуют по телефону, но никогда не встречаются – это отголосок виртуальной переписки, которую писательница вела с Мишелем Курно, в сущности не ожидая от него ответа. Так происходит своего рода перемещение беседы влюбленных (она заключена в границы написанного текста) и ее обострение. В этих словах, похожих на заклинания, телесное начало абстрагируется от самого себя, уничтожает себя и соединяется с неистовой и жгучей речью великих мистиков. В «Кесарии» писательница заново открывает силу Расина, который считался мастером изображения страсти, и уподобляет страсть территории желания, неизведанной и далекой, на которую нужно войти. Так мир Расина становится «страной лесов», единственным местом, где может быть понято желание женщины, которая стала «колдуньей». Воспоминание о рассказе Мишле, которому она курит фимиам со времени событий 1968 года, стало символом ее собственного пути. У нее тоже не будет другого выхода, кроме как укрыться в густых лесах, где ее слово может быть высказано и будет звучать в лад с природой вдали от городов, где живут мужчины-преследователи, которые, как в Средние века, травят женщин, если те разговаривают с луной и танцуют в ее лучах. Духовная независимость писательницы, которую она подчеркивает с этого времени, свидетельствует о настоящей эволюции в ее творчестве. Уподобляясь колдунье из рассказа Мишле, она исключает себя из общества и становится одиночкой, кем-то вроде богини-матери, которая теперь будет преподносить людям свои тексты, как дельфийская пифия провозглашала свои пророчества. Но в то же время Дюрас не теряет своего места в мире, наблюдает за ним, критикует его и бичует его пороки. Она знает обо всех событиях в издательской среде, в театре, в кино, в прессе, в политике. Она сурово управляет своими контрактами, потому что никогда не забывает, что колониальная администрация обидела ее мать. Она все время близка к реваншу и в каком-то смысле к тому, чтобы отомстить. Она всегда твердо говорит, что никто не может ее «провести», что она умеет разглядеть хитрости своих приближенных и их намерения.
Итак, она пьет в глубине этого дома в департаменте Ивелин. Дом она тоже превращает в легенду. Он стоит у дороги, по которой парижские женщины в 1789 году шли в Версаль, и писательница еще слышит их крики и вопли. По ночам голоса этих женщин звучат в ее одиноком жилище, и тогда она пьет, с каждым разом все больше. А Ян Леме в это время пишет ей письма, которые она по-прежнему не читает, но все же не выбрасывает. Одни письма коротки, как крики или как японские стихотворения, в других, более длинных, речь идет о ее текстах, о ее душевном состоянии. Из этих писем, на которые Дюрас не дает ответа, уже можно составить летопись «этой любви». Ян заблудился в лабиринте этих отношений, которые он начал сам и которые, может быть, ему уже не по силам. Но сила и интенсивность творчества Дюрас сливаются с его собственными вопросами и его собственным одиночеством, и в этом слиянии столько мощи, что Яну уже невозможно вернуться назад. Так бывает в трагедиях: это неотвратимо, неизбежно. Его письма не оставляют никакого сомнения в его чувствах: это – начало страстной любви. Они делят на части годы, еще разделяющие его и ее, и чем дальше, тем сильней звучит в этих письмах мотив согласия. «Я совершенно согласен с вами – полностью», – пишет он 11 февраля 1977 года. «Я всегда рядом с вами – нечувствительно для вас, но упорно» (23 августа 1978 года). «Я хотел снова сказать вам, мадам, и буду говорить всегда: я возле вас, и моя любовь к вам по-прежнему цела» (19 февраля 1979 года). Ян становится все смелей: он считает себя «единственным, кто правильно читает» ее. «Я перечитал «Корабль «Ночь». Десять страниц унесли меня в изгнание – от вас, от меня» (декабрь 1979 года)[223]. Постоянство молодого студента не единственный его козырь, и не оно заставило Дюрас уступить. Но в это время алкоголь продолжает ее разрушать. Она чувствует, что умирает, и даже говорит об этом Мишель Мансо. Когда писательнице становится страшно, она обращается за советом к своему врачу, а тот прописывает ей антидепрессанты. В сочетании с алкоголем они вызывают у нее головокружение и обмороки. В больнице города Сен-Жермен-ан-Ле, куда ее поспешно доставляют, она, оставленная без спиртного, пытается вернуться к жизни. Ей удается пить меньше, она пытается соблюдать диету и благодаря этому худеет. В это время, в конце 1979 года, Маргерит находит новые причины, чтобы жить и любить жизнь. Ей шестьдесят четыре года, она знаменита в Европе и в Соединенных Штатах, университет наконец начинает интересоваться ею. Правда, ее фильмы не имеют коммерческого успеха, но их считают «хорошим началом» ее работы в кино. Ее приглашают на фестивали авангардистов и радикального кино, и к ней возвращается та энергия, которая – Дюрас это знает – досталась ей от ее матери. Однако писательница остается нервной, вспыльчивой и даже злой в обращении с близкими. Ее интересует лишь одно – писать, продолжать свой труд.
Больше всего она любит прогулки в автомобиле. На нем она ездит в пригород и привозит оттуда идеи, находит там новые творческие тропы, по которым всегда идет в ногу со временем. Она издает сборник «Зеленые глаза», в котором у нее появляется новый тон, новый подход к миру и к материальной жизни. Ян Леме уже давно не верит, что она ему ответит, но продолжает ей писать. Его письма даже слишком сдержанны, но в них чувствуется страсть, которая стала еще сильней от его убеждения, что он не может ее утолить. Но именно в феврале Дюрас, одинокая в личной жизни и страдавшая от тоски, стала искать кого-нибудь, с кем она могла бы говорить, кто бы ее внимательно слушал. И она наконец отвечает молодому студенту – единственному, кто проявил столько постоянства, что писал ей, ни разу не получив ответа. Он, как персонажи «Корабля «Ночь», охвачен неистовым, но бессильным эротическим напряжением, которое в психоанализе называется «черным оргазмом». Значит, вымысел становится реальностью. Дюрас отвечает. Это происходит в феврале 1980 года. В книге «Ян Андреа Стейнер» она объясняет: «Я вспоминаю одно душераздирающее, искаженное письмо. Оно привело меня в уныние, словно в моей жизни произошла какая-то неприятность, словно недавно и неожиданно началось какое-то новое одиночество». В начале февраля, а именно 6-го числа, Ян отвечает. Он «обессилел от удовольствия, без ума от радости и устал». Ход событий ускоряется. Дюрас словно открыла свои плотины. Разрушила стену одиночества, которая отделяла ее от других – и от другого. Может быть, она была готова к появлению мужчины в своей жизни. Она живет в Трувиле, начинает снова чувствовать его курортное очарование и вновь ощущает присутствие моря, которое, кажется, всегда готово затопить ее квартиру. Но ей не хватает творчества. К счастью для нее, Серж Жюли, директор ежедневной газеты «Либерасьон», звонит ей и рассказывает замысел, который пришел ему на ум в один из его приездов к ней в гости: он представил себе, как «она смотрит на море и перед ней появляются куски мира – шаги детей, отпечатки на песке, обломки потерпевших крушение судов». «Я отлично видел, как она одна делает целую газету, глядя из своего окна». Не согласится ли она писать по одной заметке в неделю для его отдела новостей? Маргерит соглашается не раздумывая: знает, что это – невероятная возможность снова заняться тем, что она называет «текущее писательство», вспомнить его язык, гибкий и текучий, в котором автор ловит слова на их «гребне», как она говорит, то есть мгновенно, и они рассказывают о состоянии мира с самой большой свежестью и точностью. Итак, у моря, в одиночестве «Черных скал», Дюрас приоткрывает свою дверь. Отвечая юному незнакомцу, она неосознанно осуществляет в жизни историю, которую придумывала, когда без надежды на благоприятный исход писала Мишелю Курно любовные письма, не предназначенные для публикации. Это была история возможной любви, как в «Корабле «Ночь», это было похоже на крики любви, которые доносят до нас из древних пещер «негативы рук»[224]. Но знает ли Маргерит, что вызов, который она бросает, отвечая Яну Леме, может обернуться ловушкой? В ней, несомненно, всегда была двойственность: она покорялась желанию, любви, творчеству и одновременно была госпожой. Получив письмо от Дюрас, Ян сразу же ответил ей. А потом продолжал посылать письма до того дня в июле 1980 года, когда наконец позвонил ей из Кана. Дюрас мгновенно оценила ситуацию и, как она поступала всю свою жизнь, сделала роковую ставку. Она сказала: «Приезжайте в Трувиль, это недалеко от Кана, мы выпьем вместе по рюмке».
Он приезжает 29 июля и звонит ей по телефону. Маргерит просит его перезвонить во второй половине дня и принести бутылку красного вина. И наконец она принимает его в своей квартире, купленной в 1960-х годах. Тогда особняк «Черные скалы», в котором она поселилась, продавался по частям, и все, кто принадлежал к артистическому миру Парижа, поделили здание между собой за несколько дней. Окна здесь выходят на море, и тот, кто глядит в них, видит его прямо перед собой. По ночам рокот волн звучит в комнатах так громко, что мешает жильцам спать. Но писательнице нравится именно эта угроза, которая нарастает и не прекращается по ночам, так что кажется, будто ты находишься в открытом море. Возможно, это напоминает ей о больших приливах Китайского моря, уничтожавших работу ее матери.
Однако сценарий этой встречи не только что придуман. Дюрас часто применяла его. Она любит такие резкие, неформальные встречи, которые могут стать «начальными», как она говорила – началом чего-то нового. И прежде всего – началом новых событий в ее жизни. Она начинает разговор со своим молодым гостем, они беседуют, обмениваются впечатлениями, пьют вино. И вот уже поздно – больше 23 часов. Последний автобус до Кана ушел, Ян не может вернуться домой. Дюрас предлагает ему переночевать в комнате ее сына, которая теперь свободна. Он соглашается. Ян будет жить в этой комнате до самой смерти писательницы, а умрет она в 1996 году. За десять лет до смерти, в 1986 году, Дюрас опубликует книгу «Голубые глаза, черные волосы», в которой сделает много признаний. Она будет утверждать, что никогда не писала автобиографию, но здесь намеки на ее собственную жизнь точны и, несомненно, прозрачны.
Могла ли Дюрас играть роль соблазнительницы перед сдержанным и застенчивым от природы Яном? Она хорошо знала эту роль, которую играла уже много раз. Она знала мужчин, любила их физическую силу и грубость полового влечения. Нашла ли она все это у Яна Леме? В этом можно усомниться. Но Дюрас уже много лет как изменила свое отношение к мужской силе, которой столько раз покорялась. Теперь она знает, что любовь и даже сексуальное влечение доступны и женственным, даже женоподобным мужчинам, а может быть, и гомосексуалам. Ее увлекает эта тайна, и, возможно, Ян Леме в этом отношении становится для нее подопытным кроликом, объектом для эксперимента. В своей книге «Эта любовь»[225] Ян Леме об этой своей первой ночи в Трувиле говорит уклончиво. Перешел ли он в комнату писательницы из комнаты ее сына? Он незаметно уходит от ответа на этот вопрос, скрывается за витиеватыми словами. Сама же Дюрас в книге «Голубые глаза, черные волосы» говорит об этом так: «Я нахожусь в темной комнате. Вы там. Мы глядим наружу». Что значат слова «черная комната»? Она употребила их в прямом смысле или имела в виду свое литературное творчество и «темная комната» – место, где из искр рождаются слова и тексты? В книге «Любовник» она назовет его местом посвящения и эксперимента. Короче говоря, может быть, «комната» – место писательского труда? Уже в 1970-х годах Дюрас упоминала об этом особом месте внутреннего мира, предназначенном для творчества, и называла это место «внутренней комнатой». Блез Паскаль (которым Дюрас восхищалась) тоже называл его «темная комната» или «задняя комната». Это место всех страхов и место явления всех видений. Кстати, уже на следующий день после первой встречи с Яном Дюрас сказала о нем Бюль Ожье (известной актрисе. – Пер.) именно в этом духе: «Я только что встретила ангела». Значит, Ян был для писательницы заменой ангела, посланцем потустороннего мира – мира нездешнего, но который она уже давно предчувствует, хочет рассмотреть лучше и на берегах которого желает оказаться. Поэтому Ян представлялся ей необходимым мистическим посланцем, который станет проводником на пути к неизвестным областям, которые она видит еще «неразборчиво». Значит, маловероятно, что эта первая ночь прошла так, как она обычно проходит в любовных романах.
Но ни он, ни она не говорят, что не произошло ничего. Связь могла быть установлена иначе.
Так началось это новое приключение в жизни Маргерит Дюрас. Писательница смутно чувствует, что встреча с Яном – знак судьбы, ее последняя милость – возможность разделить свою жизнь с другим человеком, разорвать трагический круг одиночества. Она считает, что присутствие рядом этого мужчины никак не может лишить ее творческого дара или помешать ей писать книги. Наоборот, его двойственность подсказывает ей на подсознательном уровне, что Ян станет стимулом для ее творчества и в то же время облегчит ей тяжесть уединения и разобщенности с людьми. Поэтому чувство, зародившееся при этой встрече, было подлинным и сильным. В окружении писательницы сплетничали о ее новом увлечении и насмехались над ним. Пару прозвали «Гарольд и Мод» (персонажи известной комедии. Гарольд, юный сын богатых родителей, имитирует самоубийство, чтобы обратить на себя внимание равнодушной к нему матери, но при этом всерьез интересуется тайной смерти и ездит на все похороны, которые случаются в округе. На одних похоронах он встречается со старой женщиной Мод, которая горячо любит жизнь, и это изменяет его судьбу. Гарольд настолько привязывается к своей почти 80-летней подруге, что предлагает ей стать его женой. – Пер.), но писательнице это безразлично. Яна не считают ни интриганом, ни жиголо. Его принимают скорее хорошо, чем плохо: в своих легких костюмах из небеленого льна он похож на персонажей Марселя Пруста; он ведет себя сдержанно и предан писательнице. В этом увлечении писательницы увидел пользу для себя даже ее сын Жан, которого она прозвала Ута (так во французских диалектах называется мелкий клещ; летом эти клещи нестерпимо раздражают людей, а Жан в детстве тоже не давал покоя своей матери). Он решил, что под присмотром Яна мать будет в большей безопасности. Новому «пансионеру» писательницы быстро объяснили, какие у него будут обязанности. Дюрас усадила Яна за свою пишущую машинку, попросила его переписывать ее тексты и заниматься корреспонденцией. Но каким великим делом были эти поручения для того, кто уже пять лет безгранично восхищался Дюрас! Постепенно она и Ян стали настоящей парой – с привычками, маленькими причудами, домашними ссорами, мелкими или низкими поступками, но и с ослепительными моментами восхищения, с минутами полного согласия, моментами тайного взаимопонимания и секретами. Дюрас продолжает писать заметки для еженедельного раздела новостей в «Либерасьон». Ян день за днем печатает ее тексты на машинке. Дюрас смотрит телевизор, который постоянно держит включенным, чтобы видеть выпуски новостей. Событий в мире достаточно; она чередует хронику и материал, взятый из жизни, смешивая телевизионные новости с происшествиями курортного Трувиля и сиюминутными впечатлениями. Замысел Сержа Жюли вернул Дюрас в журналистику: в 1960-х годах, чтобы прокормиться, она уже пыталась писать для прессы. Тогда в своих статьях она уделяла много места деталям, ассоциациям и мгновенным впечатлениям. И теперь по-прежнему считает себя кем-то вроде Пруста, который улавливал мгновения, видимые лишь ему, и рассказывал о них другим, превращая то, что увидел, в летопись своего времени. Однако она сразу соглашается писать газетную хронику, поскольку уверена, что это новое приключение станет стимулом для ее творчества и ее жизни. Дюрас почти на сорок лет старше своего юного студента, и между ними нет ничего общего – говорят, словно хлещут ее бичом, те, кто насмехается над ней или осуждают. А она говорит Мишель Мансо, что возраст тут ничего не значит, все дело в жизненной энергии. А у Дюрас этой энергии много – так же, как у ее матери. Понемногу их отношения становятся прочными. Куда бы Дюрас ни поехала, она всегда берет с собой Яна. В Париже судачат об их связи, но шепотом, и с недоумением спрашивают друг друга о ней. В книге «Голубые глаза, черные волосы» Дюрас сама задает себе вопросы на этот счет. Ей известно о гомосексуальных наклонностях Яна Леме. «Он, – пишет Дюрас, – говорит, что никогда не мечтал о женщине, никогда не думал о женщине как о той, кого можно было бы любить». Но Дюрас, констатировав это, не хочет останавливаться на достигнутом и прощупывает Яна вопросами. «С вами никогда не случалось этого?» – спрашивает она, снова став прежней, со свойственной ей интуицией и агрессивностью (некоторые даже сравнивали ее с сыщиком). «Никогда», – отвечает Ян. «Вы хотите сказать: никогда с женщиной?» – «Да, никогда». Может быть, именно с этой минуты, с этой трагической констатации, которая вскоре нарушила ее душевное равновесие, Дюрас решила пойти обходным путем? Раз у него такие предпочтения, она обойдет эту проблему. Она пойдет кружным путем. Проделает ход под преградой и уничтожит ее. Дюрас начинает превозносить красоту Яна, его невинность, которую объявляет первозданной, изначальной, даже представляет его себе бесплотным.
«Он мог бы не существовать в этом мире», и еще выразительней – «не возникнуть в цепи ее жизни». Ян – мутант, Ян – пришелец из другого мира, Ян, существовавший раньше мира, несотворенный. Вот какую историю создает теперь писательница – другую историю, единственную, с которой она может жить, которая приемлема для нее. Не мифологизируя Яна, она не смогла бы терпеть его рядом, даже могла бы умереть от такого соседства.
Но в их отношениях проявляется и ее жестокость. Она со своей женской проницательностью хочет подвести его к себе, привести на границу женской тайны, и пусть он погрузится в эту тайну, пусть утонет в ней. «Она сказала ему, чтобы он пришел посмотреть на это… Когда-нибудь ему ведь придется это сделать, хотя бы один раз, порыться в этом месте, где роются все и которого он не сможет избегать всю жизнь. Сегодня вечером или позже – какая в этом разница? …Прийти посмотреть один раз, чтобы увидеть… Будет это сегодня или позже, он не сможет этого избежать». В своем сочинении Дюрас задним числом рассказывает и открывает перед другими то, что стало для нее крушением надежды и горем. Она фиксирует на бумаге мучения, которые Ян вытерпел по ее указанию, и описанием этих мук оправдывает себя за то, что причинила их. «Он говорит, что не может. Он не может сделать ничего подобного с женщиной». Однажды он все же пытается переступить эту великую границу, но терпит поражение. Эту сцену Дюрас тоже описывает, придав ей форму отрывка из сочинения. «Она кричит от гнева, она готова ударить его, но сдерживается; потом уже не кричит, а плачет. А после этого она засыпает. Он подходит к ней. Он будит ее, он просит ее сказать, что она думает. Она думает, что им уже поздно расставаться». Значит, готово место для чего-то необратимого и неотвратимого. А именно такие ситуации сильней всего воодушевляют Дюрас, какую бы цену ей ни пришлось заплатить за это. Она говорит Яну, что может любить мужчин и «так». Она испытывает к нему, с его бессилием любить, огромную нежность, его горе – и ее горе, невозможность любить и для нее.
Дюрас пишет: «Она говорит о том отвращении, которое вызывает у него. Она говорит, что разделяет с ним это отвращение к себе…» Чтобы спастись от своего несчастья, она переделывает эту историю. Придумывает для себя другие связи с ним, говорит, что «любит его по ту сторону его самого, что он не должен бояться». На этом новом этапе своей любви Дюрас была близка к безумию и смерти. «Эта любовь отняла все, – объяснила она. – Мне остается только позволить ему вести меня за собой». Ян, несомненно, был пленником этой любви: он принимает связанные с ней риски и соглашается сделать свою ставку в этой игре. Дюрас сопротивляется, защищается, как муха, которая бьется об оконное стекло, хотя знает, что умрет от этого. Именно о такой смерти мухи она расскажет потом в «Пишите»[226], своей последней настоящей книге.
Итак, с этих пор Дюрас идет по жизни рядом с верным спутником. Она принимает невыносимость и очарование их отношений, их тайну, потому что теперь на собственном опыте знает, что любовь возможна и без телесной близости и что, даже если эта близость невозможна, бывают дни, когда «любовь становится полоской света в темноте». И знает, что может настать день, когда любовь проявится полностью. Раскроется неожиданно и окажется огромной.
Последующие годы, когда любовь и близость двоих то озарялись светом, то покрывались тенью, были для писательницы временем напряженного творчества. Дюрас продолжала двигаться вперед по пути, который уже давно начертила для себя, но теперь готова идти по нему до конца. Как автор книг она уже известна всем и получила полное – «мировое», как она скажет позже – признание. У Яна были часы славы. Иногда он чувствовал себя носителем силы, которая без его ведома таинственным образом зажгла в писательнице творческий огонь, – искрой, от которой загорелся пожар.
Их видят вместе в Трувиле и Париже, в Нофле и за пределами Франции, например во время «исторической» поездки Дюрас в Канаду, где ее принимали в культурных центрах и университетах. Ян следует за ней как тень, никогда с ней не расстается, но так незаметен, что почти кажется, будто его нет. В 1987 году, в книге «Материальная жизнь», Дюрас дает объяснения по поводу своих отношений с Яном, и настойчивость, с которой она это делает, свидетельствует о том, какой ужас и какую тревогу вызывала в ней эта история. «В шестьдесят пять лет, – говорит она Жерому Божуру, – у меня случилась эта история с Я. А., гомосексуалистом. Несомненно, она – самое неожиданное, что произошло в этот последний период моей жизни, самое ужасное, самое тревожное». Она задает себе вопрос об опасности, которую создала для себя, написав «Голубые глаза, черные волосы». Это был поиск правды, она должна была сделать это, чтобы достичь предела своей искренности, предела справедливости, рискуя погубить себя. Это она объясняет в трагической развязке. «Здесь, – говорит она, – есть люди, которые не умеют любить и которые переживают любовь. Но это слово не появляется у них на губах, не появляется и сексуальное желание, чтобы выразить любовь, выплеснуть ее, а потом быть в состоянии болтать и пить спиртное. Нет. Одни слезы». В конце концов писательнице пришлась по душе «эта любовь», как называет их близость Ян. Дюрас понравился отказ от сексуальной близости, которой она когда-то очень дорожила, стала нравиться обратная сторона этой любви. Это был новый опыт, что-то неизвестное, и она захотела очистить его от шелухи, а потом рассказать о нем, сделать из него литературный текст. «То, что происходило каждый день, было не то, что случалось каждый день, – продолжала она. – Случалось так, что то, что не происходило, было самым важным за весь день. Когда не случалось ничего, именно это вызывало больше всего мыслей». Значит, их отношения для нее – ряд символов-отпечатков, а переживать эту любовь для нее то же, что переписывать текст буквами другого алфавита, и она собирается это сделать. Эта любовь – крик души, напряжение эротической силы, которая, возможно, мощней, чем осуществленный секс.
Это мистическая страсть, которая естественно вписывается в ее литературный и экзистенциальный путь: Дюрас ведь всегда восхищалась воздержанием кармелиток, страстью Терезы Авильской к Иисусу и таинственным свойством воздержания усиливать и обострять чувства. Согласно всем традициям, в том числе, и особенно, традиции того континента, на котором Дюрас провела детство, такое обострение чувств позволяет человеку постигать тайны.
После смерти Дюрас Ян Андреа рассказал о своей жизни в автобиографической книге. Постепенно он входил в мир писательницы, легко осваивался в нем, усваивал ее мании и обороты речи. Рассказывая о себе, он пишет как она; кстати, эту же странную мимикрию многие отметили и у других друзей – «придворных» писательницы. Зима в безлюдном особняке в Трувиле стала пережитой по-иному «Песней Индии». Как Яну, сделавшемуся пленником Дюрас, было не преисполниться восхищения? Он был рядом с Дюрас и в легендарном зале, построенном по проекту Малле-Стивенса. Они вместе пили красное вино, купленное в городе, в продуктовом супермаркете на улице Бен, и озорничали как дети. Иногда она оставляла его одного и уезжала в Париж. Возвращаясь, она, по словам Яна, «запирала [его] в комнате. Она не терпела, чтобы кто-то другой имел возможность смотреть на [него]. Она хотела быть избранницей. Быть единственной». Жить рядом с ней было нелегко. Это означало уничтожение себя самого, утрату собственной личности, стирание собственного таланта. Другая грань характера Дюрас – ее поведение в домашней жизни. Она любила, чтобы все было расставлено по местам, чтобы утром кровати были застелены, всем командовала и за всем надзирала, объявила свой овощной суп лучшим в мире, и все, что она делала, было окружено ореолом гениальности. Яну скоро стало душно возле нее. Но как он мог устоять против ее феноменальной жизненной энергии, вспышек ее гения, ее пророчеств и окружавшего ее ореола наставницы? А когда она терпит крах и не получает того, что требовала, как внезапно не почувствовать горе вместе с ней, не заплакать с ней, не впасть вместе с ней в отчаяние? И он, и она приспосабливались к этой жизни. «Нужно пройти через это», – прагматично сказала Дюрас. Старейшина совладельцев «Черных скал», очень придирчивый человек, начал нервничать из-за этой пары. Почти постоянные эксцентричные выходки двух этих жильцов выводили его из себя. Разве допустимо петь во все горло: «С Капри все покончено», носить дуршлаги на голове и орать на балконе! Эти проделки восстанавливали против Дюрас и Яна остальных редко появлявшихся обитателей особняка, гнев которых воспламенял своими докладами сторож. Писательница и ее возлюбленный все чаще ссорятся, как правило под действием спиртного. Дюрас выбрасывает из окон чемоданы Яна, окликает его с высоты своего этажа, выгоняет из квартиры среди ночи. На следующий день Ян возвращается, она принимает его, и все начинается снова. Дюрас продолжает жить с ним. Они путешествуют, их принимают в посольствах и культурных центрах. Она унижает Яна, приказывает ему молчать, называет себя «злой», но в их отношениях есть доля садомазохизма. Иногда Ян убегает, и похоже, что он бежит именно от нее. Дюрас отправляется в погоню – зовет друзей, садится в свой автомобиль и едет его искать. В Париже, куда они снова переехали, она просит Люс Перро, журналистку с TF1, которой несколько раз давала интервью, сопровождать ее в этих поисках. Дюрас заходит в ночные клубы гомосексуалистов, спрашивает, там ли Ян, и уходит. Происходит что-то, по ее словам, «невыносимое», чего она, в сущности, уже не может контролировать.
По ее словам, «ангел», которого она ищет, «не делает ничего». Его праздность выводит Дюрас из себя: ее-то ум и творческие силы всегда в работе и в бурном движении. Стараясь чем-нибудь занять Яна, она дает ему задания по редактированию, поручает собрать разрозненные тексты ее журналистской поры, которые затем будут изданы под заглавием «Outside». Она усаживает его за пишущую машинку и диктует ему тексты или просит его их перепечатать.
Все это происходит в обстановке скрытого соперничества, которым Дюрас умело манипулирует. Понятие «комната» стало символическим и означало место отдыха, но также, и в первую очередь, место скрытого от других труда, поэтическое место, где добываются обрывки тайн. Теперь комната становится обычным, «смертным» пространством: когда Дюрас пишет, они вместе пьют в комнате, где она творит. Постепенно и неудержимо в их отношениях начинается сдвиг. Еще в начале их жизни в «Черных скалах» их там прозвали «супруги Тенардье». Постепенно Дюрас начинает чувствовать, что умирает. Ян, по словам Мишель Мансо, ничего не видит. Она предупреждает его. Но что-то адское связывает писательницу и Яна во время этого спуска в преисподнюю. В минуты, когда ее ум особенно ясен (благодаря алкоголю), Маргерит иногда ненавидит и презирает своего спутника жизни. «Утром, – пишет она, – когда я слышу, как вы, всегда поздно, спускаетесь вниз по этажам, легкий, очаровательный, мне приходят на ум тошнотворные слова «педераст», «педик», «тётка». И это – Он. И вы появляетесь – очаровательный молодой мужчина, но я задаю себе вопрос: что он делает у меня? Остается лишь сказать, что только вас во всем мире я поддерживаю в той мерзости, которую вы представляете собой для меня».
Разумеется, этот вопрос о гомосексуализме был центральным для их встречи и для их отношений. Дюрас не могла избегать этой темы: она-то считала гетеросексуальную любовь самой близкой к «природе». В этом отношении писательница доходила до того, что многие из окружения считали ее суждения преувеличенными, а саму Дюрас нетерпимой. Она писала: «Я представляю себе страсть только гетеросексуальной, молниеносной и короткой. Когда мужчина проникает в женщину, оказывается затронуто ее сердце – я имею в виду орган. Тот, кто не знает этого, не может говорить об обладании, а говорит о сексуальной игре».
Она заходит еще дальше в своем радикализме: заявляет, что писатель, который не знает, как любят женщины, – не настоящий писатель. Он не может проникнуть в сердцевину вещей и тайн, в пылающее сердце мира. Женственность Яна, томность и слабость его гибкого тела в просторной льняной одежде, его неопрустовский облик могли тронуть душу писательницы, потому что в Яне было что-то детское. Но они были так далеки от сложившегося у нее представления о мужчине и мужественности, что в конце концов она стала презирать Яна. «Он, – говорила она о своем «любовнике-педерасте», – занимается лишь одним – пародией на любовь, любовью с педерастами… Я считаю, что педерасты никогда не занимаются любовью. Любовник-педераст женщины может войти в нее лишь с ужасом и отказываясь это делать». Ян рассказывает, что однажды он смог заняться с ней любовью, но таким способом, который Дюрас не смогла ни «понять», ни принять. Он уснул на своем «неподвижном» половом члене и не смог дать ей то, чего она желала. «Я думаю, что наш ад может служить примером, – сказала она. – Ни один педераст не способен понять то, что говорит женщина, которая имеет любовника-педераста. Я сама встревожена. Должно быть, тут дело в принадлежности к какой-то тайной религии». Эти слова жестоки, однако позволяют понять, во что Дюрас собирается преобразовать эту ситуацию. Священное родство этой необычной, если не противоестественной, то неестественной связи с религией приводит писательницу на те территории, мысль о которых всегда преследовала ее. С этих пор Ян будет ее орудием познания великих тайн мира, по следу которых она шла, как старый гуру. Именно об этом сказал Барт (видимо, речь идет о французском философе Ролане Барте. – Пер.): «Эта женщина знала». Но Дюрас понимает: чтобы знать, нужно без оглядки броситься в боль и неясность, в бесконечную тьму проселочных дорог и тупиков, на которых она постоянно рискует собой и любит рисковать.
Оба возвращаются в Париж. Они покидают Трувиль и тот дикий край пляжа, где стоит старый особняк и куда в сумерках часто приходят любители понаблюдать тайком в полной (как в соборе) тишине за парами, которые занимаются любовью. В Сен-Жермен-де-Пре Дюрас берется за свой «труд», как она его называет. Все условия благоприятны для написания книг, создания фильмов, изобретения чего-то нового. И через все ее творчество проходит восхваление этой любви. Поездки и всевозможные труды не исчерпывают ни ее разочарования, ни ее злобы. Отъезды и возвращения Яна вызывают у нее растерянность; она теряет голову, как покинутая героиня Расина. Дюран чувствует, что писательский труд – ее освобождение, что только работа может успокоить ее скорбь по несостоявшейся любви. Она пишет короткие записки – слова, обрывки фраз. И эти строчки, сохранившиеся в ее архивах, много говорят о ее душевном состоянии в то время. Она пытается успокоить Яна, обещает отказаться от своих требований. «Моего требования на этом уровне больше нет. Вы другой. Мы разные, и это самое большое различие – разная сексуальность», – пишет она. Но как избавиться от этой любви? Как проживать ее иначе? Великолепный писательский труд полностью захватывает ее. Надо описать эту «безумную любовь» словами в текстах, чтобы она обрела плоть и кровь хотя бы в этом огненном писательском труде. Пусть она достигнет сути вещей хотя бы так. Задача писательницы становится все более религиозной. Дюрас сражается тем же оружием, которым пользовались Тереза Авильская и Хуан де ла Крус. «Я начну писать, чтобы излечиться от лжи кончающейся любви». Постепенно ее отношение к Яну изменяются, она начинает смотреть на своего спутника иначе. Дюрас не отвергает Яна, она по-прежнему предлагает ему свой дом и свою жизнь, но теперь делает это по-другому. Она осознает, что эта близость «погубила» их, что они не «вышли из ада», но теперь им невозможно расстаться.
Что у нее даже исчезло желание. «Значит, это возможно. Будь свободен», – пишет она Яну. С этой минуты он больше не Ян Леме. Он становится другим человеком, героем романа, персонажем в галерее ее образов. В любом случае для нее это единственный способ не соблазняться «ангелом». Он уезжает на какое-то время, возвращается, потом убегает снова. Дюрас страдает от этого, но работа оказывается сильней чувств. Она не может ни забыть Яна, ни отказаться от него, и тогда он становится трагическим ядром ее творчества, героем признаний, записанных наспех впечатлений, которые еще хранятся в архивах, порученных Институту мемуаров современной печати (IMEC) в департаменте Кальвадос. И героем текстов, которые становились фильмами, – например, «Человек с Атлантики», экранизация которого была выполнена превосходно. После этого впечатляющего фильма Ян еще много раз становился героем произведений Дюрас. И фильм снят в конечном счете о Яне, и опубликованный позже текст, по которому он был поставлен, написан, в сущности, о нем. И о невозможности для Дюрас жить с ним, о ее затаенном страдании оттого, что он ее не желает. «Человек с Атлантики» – чудо: это кинофильм, в котором нет картин, а иногда экран даже чернеет. Только слова, похожие на расиновскую элегию, рассказывают о несчастной любви. Дюрас интуитивно, смутно представляя себе, что делает, образумилась и положила конец невозможной любви. Какое-то время она – из гордости и потому, что знала о своей способности изменять ход событий одними своими словами, одной лишь мощью своей неистовой писательской энергии, – верила, что Ян откажется от любви к мужчинам и будет обладать ею. Но теперь она сама отказывается от идеала, который осмеивают противники, постоянно называя ее романтичной буржуазной женщиной, которая придумала себе стиль, но, в сущности, пишет что-то, похожее на романы в фотографиях.
Поэтому ночь скрывает экран и книгу. Дюрас хочет приблизиться к тому, что она называла «внутренней тенью»[227], «тенью-историей каждого человека». «Я буду еще и так называть ту магму – гениальную всегда, без всяких исключений, – которая делает человека живым, кто бы он ни был, в каком бы обществе он ни жил, и во все времена». Эта тьма звучала как молитва с самого начала ее писательской жизни, и в этом фильме Дюрас сумела ее воссоздать.
Фильм сбивает с толку зрителей, которых Дюрас уже предупредила в рекламном объявлении, опубликованном в «Монд»: «Не рискуйте выходить, не входите…» Эти слова она адресовала тем, кто не понял бы вызов, брошенный фильмом.
В парижском доме Дюрас царят беспорядок и смятение. Она пьет все больше, Ян не живет в доме, она томится от тоски, уединяется, сожалеет, что сошлась с ним. «Да, педерастия – двойная измена, предательство желания и предательство человека. Я никогда не вернусь к этому ужасу. Только что я жила на территории, окруженной двумя обманами, и жалею обо всем начиная с первого дня – то есть жалею о том, чего не было, но что, как я думала, было». Наконец Ян возвращается – и видит, в каком упадке находится Маргерит. Любовь, конец любви, ненависть к гомосексуализму, страх за Яна, отчаяние и одиночество – все это смешивается и разрушает писательницу. «В писательском творчестве человек – это кто-то. В жизни он меньше является кем-то»[228]. Итак, она уже ничто. Ян, испуганный ее упадком, зовет друга-врача. Тот приходит и настаивает, чтобы Дюрас легла в клинику для энергичного вывода токсинов из организма. Вначале она возражает, но позже соглашается, словно ее изумительная жизненная сила начинает одерживать победу.
Дюрас ложится в американскую больницу в Нейи, и начинаются дни и ночи страданий, когда она не раз была близка к смерти. А потом, как луч света, возникает слабая надежда на возрождение. Но все очень непрочно, она очень близка к новому падению в ад. Она публикует, может быть, одно из самых личных своих сочинений – «Болезнь смерти». Это длинное произведение невидимо посвящено Яну, что признает он сам. Неоднозначность его короткой текстовой части вызвала споры среди критиков, но все считают этот текст великолепным. «К чему вы хотите прийти в этом тексте?» – сразу же спросил писательницу критик Жак Пьер Амет. Это предупреждение об эпидемии СПИДа? Месть, направленная против гомосексуализма? Месть гомосексуалистам, о которых Дюрас заявляет, что они для нее омерзительны? «Все скоро начнется, кроме вас; вы никогда не начинаетесь», – пишет она, имея в виду мужчину. Она вычеркивает Яна из своей жизни, вычеркивает его из числа людей. Это тяжело и жестоко, но Ян смиряется и даже говорит: «Это красивый текст». Постепенно он возвращается к ней, но те годы, которые они проведут вместе, уже не будут ничем похожи на два первых года, состоявшие из страсти и буйства. Дюрас, которая была в одном шаге от смерти, возвращается к единственной страсти своей жизни – писательскому труду и творит очень энергично – пишет, ставит спектакли, снимает фильмы, восстанавливает отношения с друзьями, снова становится центром своего круга приближенных и всего артистического мира Парижа. Ее отношения с Яном стали спокойными. Дюрас преобразовала эту страсть, превратила ее в трагическое чувство, а ведь и на писательское творчество она теперь почти всегда смотрит как на трагедию. Больше чем когда-либо эталоном для нее становятся Расин и Береника, покинутая Пирром. Ее, как она сказала Жаку Пьеру Амету, интересует «непознаваемое», которое она собирается откапывать в самых черных глубинах «внутренней тени». Ян участвует в ее повседневной жизни. Он всегда рядом, он присутствует на репетициях ее пьесы «Саванна-Бей», высказывает свое мнение, но умеет и отойти в сторону.
Они неразлучны, но в их отношениях произошел надлом. Дюрас страдает от этого больше, чем Ян. Она желает его и оплакивает невозможность осуществить это желание. Наслаждение она найдет в творчестве. Однако она отважно пытается выбраться из этой западни. Она выводит себя на сцену в «Любовнике» (не признаваясь по-настоящему, что изобразила себя), и скоро всемирный успех этого произведения уносит ее жизнь далеко от прежних берегов. Этот успех отвлекает ее от любовных переживаний и не дает погрузиться глубже в отчаяние из-за любви. Ее самолюбование, самовлюбленность и эгоизм находят в этой удаче богатую пищу. Она смакует свой успех, наслаждается местью за мать и всемирным признанием, которое, по собственному мнению, должна была получить уже давно.
Через несколько лет она возвращается к сочинению произведений с менее ясным смыслом, которые, на первый взгляд, кажутся не такими легкими, как «Любовник», хотя и рискует разочаровать своих новых читателей. Но для нее этот шаг жизненно важен. Она не пишет книги одну за другой, у нее нет карьерных планов. Для нее важна лишь история ее внутренней жизни, которую она поднимает до уровня всеобщей истории. «Выдуманные истории – это не для меня», – говорит она. В книге «Голубые глаза, черные волосы», опубликованной в 1986 году, еще чувствуется свежесть ее губительной любовной раны. Это заметно в персонажах повести: они – двойники ее и Яна. Об этой книге она скажет: «Это история любви, самой великой и самой ужасной из тех, о которых мне было дано написать. Я это знаю. Человек знает это для себя. У этой любви нет имени. Она, как утрата, погибла без слов»[229].
Чаще всего их видят вместе. Ян – верная тень Маргерит. Он даже осмеливается написать книгу об их отношениях. Эта книга получит название «M. D.» и будет опубликована в издательстве Minuit. Взаимное влияние писательницы и ее спутника так велико, что сочинение Яна часто принимают за одну из работ Дюрас. Маргерит с такой силой отражается в его душе, что он пишет как она – в ее очень личном стиле, глубокомысленно, выбрасывая из фраз неважные для смысла слова.
Но быть подражателем опасно. Постепенно Ян становится клоном Дюрас, одним из ее неясных, мимолетных героев, похожим на мужчин из «Песни Индии», которые сопровождают Дельфину Сейриг в ее блужданиях по длинным коридорам отеля «Трианон Палас», или на мужчин в белом из «Разрушить, сказала она».
Дюрас требует от Яна решительных поступков. Она велит ему написать записку, текст которой составляет сама, и подписаться под этой запиской. «Вы напишете: я не люблю вас. Поставите дату и свою подпись. В конце письма вы добавите: я не могу любить женщину…» Статус писательницы, который укрепили успех «Любовника» и скандальная известность «Боли», сделал Маргерит еще более самоуверенной и властной. Наконец достигнуто то положение вещей, которого смутно желал Ян. Дюрас знает, что никогда не покинет его, что у нее нет на это сил, и знает, что после своих побегов он будет возвращаться к ней. Рассказ «М. D.» с клинической точностью свидетельствует о жестокости лечения и страсти, о заточении и одержимости, о «вампиризации» Яна и жестокой грубости Маргерит, о ее способности захватывать людей в плен и подчинять их себе. Ян знает: чтобы повесть продолжалась, надо в нее войти. И он входит в ее бредовые галлюцинации. «Вы говорите: смотрите, за батареей торчит гвоздь, к гвоздю привязана собака. Я хочу знать, кто это сделал. […] Я вхожу в вашу комнату, я выбрасываю мертвую собаку. Я возвращаюсь к вам. Вы говорите: Я прекрасно понимаю ситуацию, вы это знаете. Я говорю: в С. Тала умерла собака. Вы не отвечаете»[230]. Дюрас выздоравливает в обстановке вновь найденной любви, которая теперь стала мирной. Странная нежность связывает Дюрас и Яна, словно они прошли через грозившее им смертью испытание.
«Все принадлежит вам – и слова, и я, – говорит Ян. – Между вами и мной окончательный разрыв. Я вас люблю». И Маргерит отвечает Яну так, словно любовь делает человека бессмертным: «Я люблю тебя, я верю, что не умру». Дальше он приводит ее слова: «Только вы связываете меня с миром». Она очень быстро публикует «Эмили Л.». И пишет книги одну за другой, словно такой ритм, такое дыхание нужны ей, чтобы иным образом исчерпать эту пожирающую ее жестокую страсть. Появляется «Эмили Л.», потом «Материальная жизнь», после этого Дюрас начинает обдумывать новую книгу – «Летний дождь», но работа над ней была прервана новым лечением в больнице Лаеннек, куда она попала из-за дыхательной недостаточности. Дело в том, что в это время Дюрас и Ян снова начинают пить, и пьют очень много. Они мертвецки напиваются в Трувиле, на нормандском побережье и особенно в Париже. Всем становится известно, что они алкоголики, но оба смеются над этой дурной славой. Писательница становится еще более самовлюбленной. Она позволяет себе все – скандалы, непристойности, парадоксы, неподходящих в смысле приличия друзей, непоследовательные поступки. Она говорит о себе в третьем лице. Ян, верный спутник, сопровождает ее, но всегда держится в стороне. Оба толстеют, и бывший юный «ангел» с фигурой героя Пруста утратил свою стройность. Дюрас считает себя «отвратительной», но считает это «скатывание вниз» приятным: она ведь всегда была в восторге от проклятых поэтов.
Ян продолжает трудиться. Он печатает на машинке, переписывает тексты, приводит их в порядок и отдает ей. Но иногда он убегает. Дюрас не знает, куда он исчезает в этих случаях, но догадывается, разумеется, о его похождениях по барам и отелям с мужчинами, которых встречает на набережной. Порой Ян выходит из себя, захлебывается от гнева, злобы, досады, словно отталкивает ее от себя. «Вы шлюха с нормандского побережья, вы идиотка! Мне из-за вас неловко!» – кричит он ей. Дюрас терпит все – вспыльчивость Яна, вспышки его гнева, его грубые слова, его садизм.
Каждый из двоих старается спастись, но каждый всегда возвращается к другому. Дюрас чувствует к Яну презрение и одновременно нежность. Теперь он для нее как горячо любимый сын. Она боится, что он умрет. Теперь она знает, что ей нечего ожидать от него. Только писательское творчество сможет дать ей то наслаждение, которого она хочет достичь. Из глубины своих слов, своих речей, которые она достает из бездны, она каким-то неясным образом получит оргазм. В больнице Лаеннек ей делают операцию, исход которой неясен. Она впадает в кому и остается в этом состоянии несколько месяцев. Наконец врачи просят у ее сына разрешение отключить аппарат искусственного дыхания, который поддерживает ее жизнь. Сын просит подождать еще несколько дней. Врачи соглашаются, давая ей последний шанс остаться в живых. В июне 1989 года Дюрас приходит в сознание, уверенная в том, что вернулась к жизни. Где она нашла силы, чтобы воскреснуть, она не знает; врачи тоже не знают этого и говорят о чуде. Дюрас спрашивает, что происходит в мире. Ей рассказывают, что китайские студенты подняли восстание на площади Тяньаньмэнь. Дюрас говорит, что она счастлива проснуться одновременно с надеждой на революцию! Она просит подать ей ее кольца и сумочку. Кольца, чтобы никто их не украл, она хочет надеть на пальцы (боязнь, что кольца украдут, – одна из ее старческих навязчивых идей). А потом кричит, чтобы ей принесли бумагу: она хочет что-нибудь написать. И вот уже идет работа над «Летним дождем». Ян шепчет слова у ее изголовья. Она повторяет его имя как что-то само собой разумеющееся, как что-то очевидное. Однако у нее пропал голос: произошли изменения в голосовых связках. В горле у нее дыра после трахеотомии, но это не важно. Дюрас приспособится к ней, даже сделает так, что это отверстие придаст ей обаяние и солидность. Иногда она будет прятать его под шейным платком – пестрым или с «леопардовым» узором. Но чаще всего будет выставлять всем напоказ это отверстие и в нем металлический язычок, двигающийся вместе с ее дыханием. Ее голос стал еще более впечатляющим, пророческим и колдовским. Фильм, поставленный Жаном Жаком Анно по «Любовнику», приводит Дюрас в ярость. К ней возвращается ее прежняя энергия, ее обычная буйная сила. Чтобы отомстить за себя, она пишет книгу «Любовник из Северного Китая» и говорит о том, что бы она сделала вместо книжки с картинками, которую снял Анно. В 1992 году Ян окончательно становится частью ее творчества: она публикует книгу «Ян Андреа Стейнер». Он стал персонажем из мира ее образов, она больше не пытается сделать его своим любовником. Его имя больше не Ян Леме; она сделала его евреем (Стейнер – еврейская фамилия), включила в большой цикл своих «Аврелий». Теперь она не сводит с него глаз, находит его восхитительным и прекрасным, фотографируется с ним везде и во всех ракурсах: он участвует в продвижении этой книги на рынок. Ян подчиняется с тем сумрачным и отстраненным видом (возможно, это его стиль?), из-за которого он выглядит чуждым всему. У него вид человека, который согласился, чтобы у него отняли способность быть самим собой, и готов быть тем, что она захотела из него сделать. Но, с другой стороны, разве он мог поступить иначе? Ведь в конечном счете это он во всем виноват: он не смог доставить ей то наслаждение, которое давали когда-то прежние многочисленные мужчины. Ян смутно чувствует себя виноватым и находит в этом чувстве оправдание для своего постоянного присутствия рядом с Дюрас, для своей преданности ей. И как ей не принять эту любовь? Пока биографы писательницы издают свои книги, в которых выставляют всем напоказ и анализируют все периоды ее жизни, она угасает в своем доме в Нофле или в Париже, на улице Сен-Бенуа. Последние три года своей жизни, с конца 1992 по март 1996 года, Дюрас жила уединенно. Теперь она только старая одинокая женщина, которая повторяется и болтает вздор. Критики и даже Ян говорят, что она «несет чепуху». У нее есть мании и навязчивые идеи, она бывает гордой, когда это неуместно, и тщеславной, как королева. Это не болезнь Альцгеймера, но похожее на нее заболевание, связанное со старческой дегенерацией памяти. Она еще находит силы, чтобы опубликовать свое последнее настоящее произведение – книгу «Пишите». Это настоящий шедевр, в котором она собирает все составные части своей жизни, великолепное прощание, которое напоминает о Шуберте. В этой книге она говорит об алкоголизме, о поисках Бога, об одиночестве, о писательском труде, но в первую очередь о тирании писательского труда. О Яне нет ни слова. Как будто все наконец стало ясно, и она осознала, что только писательский труд был ее жизнью, энергией, которая несла вперед и заставляла идти на любой риск. Она больше почти никого не принимает у себя. У нее бывают только бывший спутник жизни и отец ее сына Дионис Масколо и ее сын Жан по прозвищу Ута да несколько все еще близких друзей. Но Ян в это время начинает свое затворничество вдвоем с писательницей. Легенда должна быть завершена. Раз Дюрас захотела, чтобы он разделил с ней заточение, никто не сможет упрекнуть его в том, что он это сделает. Именно он теперь управляет ситуацией. Он присматривает за ней, купает, завивает ей волосы, иногда выводит на прогулку. Проходит месяц за месяцем, Дюрас скучает. Париж нашел себе новых кумиров. То тут, то там говорят, что Ян держит Дюрас под замком, что невозможно увидеться с ней или зайти к ней в гости, что он дал указания медсестрам не пускать к ней никого. И действительно, они неизменно отвечают, что «мадам отдыхает», спрашивают у собеседника его имя и говорят, что «сообщат о нем месье Андреа». Дюрас соглашается с такой жизнью. Понимает ли она, что ее держат в заточении? Вряд ли. Какой-то части ее души нравится эта ситуация, эта трагическая и полная любви жизнь при закрытых дверях, похожая на упрощенную трагедию Расина. Она говорит много, обо всем и что попало – все, что приходит ей в голову. Иногда среди этого бреда вспыхивает, словно молния, одно из ее озарений. Она снова становится той великой писательницей, которой была, и этот бред, эти слова, которые она бросает на вечер днями и ночами, становятся гениальными и таинственными творениями писателя. Ян записывает все обрывки ее фраз, ее банальные и загадочные слова, собирает их вместе и публикует под названием «Это всё». Эта книга станет последним словом Дюрас. Агония писательницы становится зрелищем. Пресса будет горячо осуждать эту бессвязную мешанину, но среди потока слов иногда можно найти золотой самородок – точное слово, которое вытягивает остальные. Одна за другой следуют фразы-признания, жалобные, патетические и потрясающие. К Яну она обращает свои последние слова, такие обыкновенные и такие чистые. Она напоминает ему, как несколько лет назад сказала: «Я дойду до того, что стану почти ничем»[231], имея в виду, что исчерпает себя всю, до нити, из которой ткала слова. «Я люблю вас, до свидания», – говорит она. Иногда она начинает говорить о Боге, о рае, о невозможности встретиться друг с другом в ином мире, но в первую очередь о жизни, в которой все держится друг за друга и все друг друга дополняет. Еще она говорит, что распадается на части, разваливается, «не может держать себя целой». Она чувствует, что терпит поражение, но не плачет из-за этого, вспоминает главным образом свою мать, вновь обретает свою любовь к ней, странную и неразрушимую. Ян находится рядом с Маргерит, но иногда не может подавить желание жить и дышать свежим воздухом. Тогда он убегает, а за ней в его отсутствие по очереди присматривают медсестры. На рассвете он возвращается, и снова начинается долгое ожидание смерти. Ян становится все ближе для нее. Она чувствует, что уходит из жизни, и просит, чтобы он продолжал разговаривать с ней, заботиться о ней. «Скажи мне до свидания. Это всё. Я больше ничего не знаю о тебе. Я уплываю с водорослями. Иди со мной». «Иди в мое лицо»[232]. Смерть уже у нее за спиной, и ей хватает времени еще лишь на несколько слов, беспорядочно произнесенных в ужасе угасания. «Я больше совсем не могу держаться», – говорит она. Утром 3 марта 1996 года, в 8:30 она наконец умирает. И сразу возникает новый спор. Ян слишком поздно сообщил о смерти Маргерит ее сыну Уте и уже в начале дня отправил ее тело в траурный зал кладбища Пер-Лашез. Сам Ян объяснил это нежеланием, чтобы у дома собралась толпа поклонников ее творчества. Но Ута воспринял его решение как оскорбление для себя и своей матери. Так наконец проявилась обоснованная злоба сына. Он посчитал оскорблением даже объявление о религиозной похоронной службе в церкви Сен-Жерменде-Пре: Дюрас ведь всегда громко и открыто заявляла, что она атеистка. Но хорошо ли сын, критиковавший решение Яна, знал свою мать? Ведь она также постоянно жаловалась, что Бог молчит, и говорила, что именно из-за этого молчания стала пить, не только ради удовольствия, но еще, и главным образом, от отчаяния. Сразу вышло наружу все, на что Маргерит Дюрас не обращала внимания в своих необычных отношениях с Яном. Маргерит и Ян обменялись «бумагами», которые дали Яну право контроля над всеми ее неизданными произведениями и всеми театральными и литературными адаптациями ее текстов. Эти «бумаги» делают его «душеприказчиком» писательницы. Доходы от исполнения этих обязанностей обеспечивают Яну вполне комфортную жизнь. Начинается судебный процесс. Друзей Дюрас вызывают в финансовую инспекцию, чтобы объяснить, какого рода отношения были у Яна с Маргерит. Дело приобретает отвратительный и нездоровый характер. Возникают сомнения. Начинаются разговоры о злоупотреблении слабостью, о мошенничестве.
Ян молчит, укрывшись в однокомнатной квартире над Кафе де Флор, которую ему оставила (но лишь до его смерти!) Маргерит. Говорят, что он никого не хочет видеть, пьет и принимает много успокоительных лекарств. Многие заступаются за него, другие его осуждают. Но кто может сказать, чем на самом деле была эта страсть? Кто может знать тайну этой встречи? Кто может быть судьей в этом деле?
Война была объявлена, когда Ян запретил Уте опубликовать маленький текст Дюрас на тему кухни. Сын писательницы потерял на этом деле много сил и денег. Книга сразу после публикации была изъята из продажи и стала коллекционной редкостью. Но Ян не отступает. Он решил, что будет бдительным стражем произведений и памяти Дюрас даже во вред ее родному сыну. Однако он позволил себе рассказать о страсти, соединившей его и писательницу. «Эта любовь» наконец вышла в свет. Это довольно большая книга, она трогает душу, но слишком похожа на произведения Дюрас, и потому не обеспечила своему автору имя настоящего писателя. Однако она раскрывает трагизм этой страсти и говорит о том огромном влиянии, которое та имела на творчество Дюрас с 1980 года. Книгу экранизировала Жозе Дайан, роль Маргерит в фильме исполнила Жанна Моро. Он сделан хорошо, как обычно сделаны фильмы Дайан, но все же остается фильмом для немногих: слишком много заточения, слишком много вычурности. И слишком много самолюбования. История Маргерит и Яна ограничена пределами темной комнаты, и зритель не имеет никакой возможности отождествить себя с персонажами. Эта любовь показана как любопытный феномен. Фильм, слишком непонятный и слишком глубокий по содержанию, не может найти отклик у широкой публики.
Маргерит так боялась, что Ян умрет раньше ее, однако он пережил эту любовь. Он человек верующий, и публикует маленькое сочинение о Боге. Иногда дает интервью, бывает на книжных выставках, участвует в мероприятиях в честь Дюрас, но большую часть времени достаточно далек от жизни литературы и Парижа. Порой его видят в Шартре, где, как говорят, его принимает другая писательница. Но долгая близость с Дюрас выжгла его душу, лишила способности быть самим собой и присоединила его к созданным Дюрас великим теням – к вице-консулу, который в садах Лахора кричит о своей любви к Анне Мари Стреттер, к нищенке из Саваннакхета, к матери Дюрас на ее рисовых полях, которые затопляло Китайское море, к бесплотным силуэтам из С. Тала, к полифонии голосов из «Песни Индии», к глупости мальчика Эрнесто из «Летнего дождя». Сейчас Яну шестьдесят один год. Столько же лет было Дюрас в 1975 году, когда она встретила его, в то время совсем молодого, двадцатитрехлетнего. Тот, в ком она видела «ангела», уже утратил свежесть и почти женскую грацию взглядов и жестов. Страсть, которую он узнал, познакомила его с вибрациями иного мира. Он идет по времени, не участвуя в жизни по-настоящему, неся тяжелый груз многих лет, прожитых с Дюрас, – лет, когда он согласился утратить себя, позволил ей и ее произведениям поглотить себя, согласился на стирание себя и отчуждение. В каком-то смысле он согласился на то, о чем она просила его перед смертью: «Приходите любить меня. Приходите. Приди в эту белую бумагу. Вместе со мной»[233].
Примечания
1
Paul Claudel, Ma soeur Camille, каталог выставки, Музей Родена, 1951.
(обратно)2
«Волна», скульптура Камиллы Клодель, 1897–1903.
(обратно)3
Camille Claudel, Correspondence, édition d’Anne Rivière et de Bruno Gaudichon, Paris: Gallimard, 2008.
(обратно)4
Там же, с. 38.
(обратно)5
Camille Claudel. Указ. соч., с. 37.
(обратно)6
Camille Claudel. Указ. соч., с. 39.
(обратно)7
Camille Claudel. Указ. соч., с. 77.
(обратно)8
Там же, с. 94.
(обратно)9
Camille Claudel. Указ. соч., с. 117.
(обратно)10
Camille Claudel. Указ. соч., с. 128.
(обратно)11
Там же, с. 137.
(обратно)12
Camille Claudel. Указ. соч., с. 139.
(обратно)13
Там же.
(обратно)14
Там же, с. 141.
(обратно)15
Camille Claudel. Указ. соч., с. 155.
(обратно)16
Camille Claudel. Указ. соч., с. 165.
(обратно)17
Там же, с. 166.
(обратно)18
Camille Claudel. Указ. соч., с. 172.
(обратно)19
Camille Claudel. Указ. соч., с. 194.
(обратно)20
Там же, с. 202.
(обратно)21
Camille Claudel. Указ. соч., с. 206.
(обратно)22
Там же.
(обратно)23
Там же, с. 209.
(обратно)24
Там же, с. 202.
(обратно)25
Camille Claudel. Указ. соч., с. 212.
(обратно)26
Camille Claudel. Указ. соч., с. 216.
(обратно)27
Там же, с. 218.
(обратно)28
Там же, с. 230.
(обратно)29
Camille Claudel. Указ. соч., с. 234.
(обратно)30
Camille Claudel. Указ. соч., с. 244.
(обратно)31
Там же.
(обратно)32
Там же, с. 246.
(обратно)33
Camille Claudel. Указ. соч., с. 252.
(обратно)34
Там же.
(обратно)35
Там же, с. 253.
(обратно)36
Camille Claudel. Указ. соч., с. 258.
(обратно)37
Camille Claudel. Указ. соч., с. 262.
(обратно)38
Camille Claudel. Указ. соч., с. 267.
(обратно)39
Там же, с. 286.
(обратно)40
Camille Claudel. Указ. соч., с. 288.
(обратно)41
Там же, с. 276.
(обратно)42
Там же, с. 268.
(обратно)43
Camille Claudel. Указ. соч., с. 302.
(обратно)44
Camille Claudel. Указ. соч., с. 307.
(обратно)45
Anne Delbée, Une Femme, Camille Claudel, Paris: Presses de la Renaissance, 1982.
(обратно)46
Atle Naess, Munch, Les Couleurs de la névrose, Paris: Hazan, 2011. P. 91.
(обратно)47
Atle Naess. Указ. соч., с. 112.
(обратно)48
Atle Naess. Указ. соч., с. 115.
(обратно)49
Atle Naess. Указ. соч., с. 123.
(обратно)50
Atle Naess. Указ. соч., с. 145.
(обратно)51
Там же.
(обратно)52
Atle Naess. Указ. соч., с. 152.
(обратно)53
Atle Naess. Указ. соч., с. 153.
(обратно)54
Atle Naess. Указ. соч., с. 155.
(обратно)55
Atle Naess. Указ. соч., с. 156.
(обратно)56
Atle Naess. Указ. соч., с. 161.
(обратно)57
Там же, с. 162.
(обратно)58
Atle Naess. Указ. соч., с. 165.
(обратно)59
Atle Naess. Указ. соч., с. 168.
(обратно)60
Там же, с. 173.
(обратно)61
Atle Naess. Указ. соч., с. 193.
(обратно)62
Atle Naess. Указ. соч., с. 198.
(обратно)63
Atle Naess. Указ. соч., с. 294.
(обратно)64
Там же, с. 301.
(обратно)65
Alma Mahler, Journal intime, préface d’Alexis Tautou, Paris: Rivages, 2010.
(обратно)66
Alma Mahler. Указ. соч., с. XX.
(обратно)67
Alma Mahler. Указ. соч., с. 15.
(обратно)68
Alma Mahler. Указ. соч., с. 311–312.
(обратно)69
Alma Mahler. Указ. соч., с. 315.
(обратно)70
Там же, с. 318.
(обратно)71
Alma Mahler. Указ. соч., с. 331.
(обратно)72
Там же.
(обратно)73
Там же, с. 358.
(обратно)74
Alma Mahler. Указ. соч., с. 380.
(обратно)75
Alma Mahler. Указ. соч., с. 381.
(обратно)76
Там же, с. 385.
(обратно)77
Там же, с. 390.
(обратно)78
Там же, с. 394.
(обратно)79
Françoise Giroud, Alma Mahler ou l’Art d’être aimée, Paris: Robert Laffont, 1988. P. 67.
(обратно)80
Françoise Giroud. Указ. соч., с. 67.
(обратно)81
Alma Mahler. Указ. соч., с. 398.
(обратно)82
Frangoise Giroud. Указ. соч., с. 63.
(обратно)83
Там же.
(обратно)84
Там же, с. 92.
(обратно)85
Françoise Giroud. Указ. соч., с. 95.
(обратно)86
Frangoise Giroud. Указ. соч., с. 99.
(обратно)87
Там же, с. 103.
(обратно)88
Там же, с. 104.
(обратно)89
Françoise Giroud. Указ. соч., с. 152.
(обратно)90
Françoise Giroud. Указ. соч., с. 178.
(обратно)91
Oskar Kokoschka, Mirages du passé, Paris: Gallimard, “L’imaginaire”, 1984.
(обратно)92
Oskar Kokoschka. Указ. соч., с. 31.
(обратно)93
Oskar Kokoschka. Указ. соч., с. 29.
(обратно)94
Françoise Giroud. Указ. соч., с. 186.
(обратно)95
Oskar Kokoschka. Указ. соч., с. 26.
(обратно)96
Oskar Kokoschka. Указ. соч., с. 35.
(обратно)97
Françoise Giroud. Указ. соч., с. 207.
(обратно)98
Oskar Kokoschka. Указ. соч., с. 27.
(обратно)99
Anne Baldassari, Picasso / Dora Maar: Il faisait tellement noir… Paris: Flammarion, 2006.
(обратно)100
Цит. по: Alicia Dujovne Ortiz, Dora Maar, prisonnière du regard, Paris: Le livre de poche, 2010. P. 65.
(обратно)101
Anne Baldassari. Указ. соч.
(обратно)102
Цит. по: Alicia Dujovne Ortiz. Указ. соч., с. 229.
(обратно)103
Цит. по: Alicia Dujovne Ortiz. Указ. соч., с. 386.
(обратно)104
Kristoff. P. 76.
(обратно)105
Цит. по: Christian Parisot, Modigliani, Paris: Gallimard “Folio”, 2005. P. 51.
(обратно)106
Цит. по: Christian Parisot. Указ. соч., с. 64.
(обратно)107
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, “Le Voyage”.
(обратно)108
Цит. по: Christian Parisot. Указ. соч., с. 168.
(обратно)109
Цит. по: Christian Parisot. Указ. соч., с. 209.
(обратно)110
Там же, с. 225.
(обратно)111
Цит. по: Christian Parisot. Указ. соч., с. 267.
(обратно)112
Посмотрите, например, на «Венеру Вертикордию» (1864–1868) или на «Блаженную Беатрису» (1863–1870) Данте Габриеля Россетти.
(обратно)113
Воспроизведено в Marc Restellini, Le Silence éternel, Modigliani-Hébuterne (1916–1919), Paris: Pinacothèque de Paris, 2008. P. 186–193.
(обратно)114
Carolyn Burke, Lee Miller, dans l’oeil de l’Histoire, une photographe, Paris: Autrement, 2007. P. 25.
(обратно)115
Mark Haworth-Booth, Lee Miller, Paris: Hazan / Jeu de Paume, 2008. P. 16.
(обратно)116
Цит. по: Carolyn Burke. Указ. соч., с. 51.
(обратно)117
St. Petersburg Times, 5 октября 1969.
(обратно)118
Mark Haworth-Booth. Указ. соч., с. 20; Antony Penrose, Les Vies de Lee Miller, Thames & Hudson, 2008.
(обратно)119
Цит. по: Carolyn Burke. Указ. соч., с. 97.
(обратно)120
Neil Baldwin, Man Ray, Paris: Plon, 1990. P. 158.
(обратно)121
Цит. по: Carolyn Burke. Указ. соч., с. 98.
(обратно)122
Цит. по: Neil Baldwin. Указ. соч., с. 151.
(обратно)123
Mark Haworth-Booth. Указ. соч., с. 30; Antony Penrose. Указ. соч., с. 30.
(обратно)124
Lee Miller, “Ce qu’ils voient dans le cinéma”, Vogue, août, 1956.
(обратно)125
Цит. по: Neil Baldwin. Указ. соч., с. 161.
(обратно)126
Цит. по: Neil Baldwin. Указ. соч., с. 163.
(обратно)127
Цит. по: Mark Haworth-Booth. Указ. соч., с. 92.
(обратно)128
Цит. по: Neil Baldwin. Указ. соч., с. 165.
(обратно)129
Antoine de Saint-Exupéry, Lettres à sa mère, Paris: Gallimard, 19**.
(обратно)130
Antoine de Saint-Exupéry, Lettres à sa mère.
(обратно)131
Antoine de Saint-Exupéry. Lettres à sa mère, с. 204.
(обратно)132
Antoine de Saint-Exupéry. Lettres à sa mère, с 205.
(обратно)133
Там же, с. 209.
(обратно)134
Там же, с. 212.
(обратно)135
Antoine de Saint-Exupéry. Lettres à Rinette, c. 140.
(обратно)136
Antoine de Saint-Exupéry. Lettres à sa mère, с. 206.
(обратно)137
Antoine de Saint-Exupéry. Lettres à Rinette, с. 141.
(обратно)138
Consuelo de Saint-Exupéry, Mémoires de la rose, Paris: Plon, 2000, с. 30.
(обратно)139
Consuelo de Saint-Exupéry, Mémoires de la rose, с. 30.
(обратно)140
Antoine de Saint-Exupéry, Lettres à sa mère, с. 30.
(обратно)141
Antoine de Saint-Exupéry, Lettres à sa mère, с. 30.
(обратно)142
Consuelo de Saint-Exupéry, Mémoires de la rose.
(обратно)143
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 19…
(обратно)144
Antoine de Saint-Exupéry, Lettres à sa mère, с. 219.
(обратно)145
Antoine de Saint-Exupéry, Ecrits de guerre, Paris: Gallimard, 19**.
(обратно)146
Consuelo de Saint-Exupéry, Mémoires de la rose.
(обратно)147
Там же.
(обратно)148
Consuelo de Saint-Exupéry, Lettres du dimanche, Paris: Plon, 2001.
(обратно)149
Antoine de Saint-Exupéry, Ecrits de guerre, с 376.
(обратно)150
Там же, с. 380.
(обратно)151
Antoine de Saint-Exupéry, Ecrits de guerre, с 387.
(обратно)152
Там же, с. 407.
(обратно)153
Там же, с. 408.
(обратно)154
Antoine de Saint-Exupéry, Ecrits de guerre, с 447.
(обратно)155
Там же, с. 451.
(обратно)156
Там же, с. 473.
(обратно)157
Antoine de Saint-Exupéry, Ecrits de guerre, с. 482.
(обратно)158
Там же, с. 503.
(обратно)159
Consuelo de Saint-Exupéry, Lettres du dimanche, 2000.
(обратно)160
Antoine de Saint-Exupéry, Ecrits de guerre, с 512.
(обратно)161
Там же, с. 513.
(обратно)162
Antoine de Saint-Exupéry, Ecrits de guerre, с. 516.
(обратно)163
Consuelo de Saint-Exupéry, Lettres du dimanche, с. 120.
(обратно)164
Там же, с. 121.
(обратно)165
Consuelo de Saint-Exupéry, Lettres du dimanche, с. 114.
(обратно)166
Gonzague Saint Bris et Vladimir Fédorovski, Les egéries russes, Paris: JC Lattés, 2010. P. 129.
(обратно)167
Selon les mots rapportés par Dalí lors récit gu’il fait de leur première recontre à Cadagués, en 1929.
(обратно)168
Gonzague Saint Bris et Vladimir Fédorovski. Указ. соч., с. 131.
(обратно)169
Gala Dalí, Carnets intimes, Paris: Michel Lafon, 2012.
(обратно)170
Gala Dalí. Указ. соч.
(обратно)171
Gala Dalí. Указ. соч., с. 20.
(обратно)172
Там же.
(обратно)173
Simone de Saint-Exupéry, Cinq Enfants dans un parc, Paris: Gallimard, 2000.
(обратно)174
Gala Dalí. Указ. соч., с. 30.
(обратно)175
Bertrand Meyer-Stabley, La Véritable Gala Dalí, Paris: Pygmalion, 2006. P. 33.
(обратно)176
Там же, с. 35.
(обратно)177
Gala Dali. Указ. соч., с. 30.
(обратно)178
Bertrand Meyer-Stabley. Указ. соч., с. 59.
(обратно)179
Salvador Dalí et André Parinaud, Comment on deviant Dalí, Paris: Robert Laffont, 198*. P. 80.
(обратно)180
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 70.
(обратно)181
Там же, с. 71.
(обратно)182
Там же.
(обратно)183
Там же, с. 89.
(обратно)184
Там же.
(обратно)185
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 107.
(обратно)186
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 106.
(обратно)187
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 110.
(обратно)188
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 111.
(обратно)189
Там же.
(обратно)190
Там же, с. 114.
(обратно)191
Там же, с. 116.
(обратно)192
Там же, с. 117.
(обратно)193
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 117.
(обратно)194
Там же, с. 118.
(обратно)195
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 121.
(обратно)196
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 125.
(обратно)197
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 131.
(обратно)198
Salvador Dalí et André Parinaud. Указ. соч., с. 132.
(обратно)199
Цит. по: Bertrand Meyer-Stabley. Указ. соч., с. 89.
(обратно)200
Gonzague Saint Bris et Vladimir Fédorovski. Указ. соч., с. 181.
(обратно)201
Salvador Dalí, Journal d’un génie, Paris, с. 124.
(обратно)202
Salvador Dalí, Journal d’un génie, с. 124.
(обратно)203
Там же.
(обратно)204
Там же.
(обратно)205
Gala Dalí. Указ. соч., с. 174–175.
(обратно)206
Salvador Dalí, Journal d’un génie, с. 178.
(обратно)207
Nicholas Fox Weber, Balthus, Paris, Fayard, 2003. P. 596.
(обратно)208
Это заявление было сделано в 2000 году во время одной из встреч автора с Бальтюсом в Россиньере.
(обратно)209
Беседы с Аленом Вирконделе, в результате которых были написаны и опубликованы «Воспоминания Бальтюса» (Mémoires de Balthus, Paris: Editions du Rocher, 2001).
(обратно)210
Alain Vircondelet, Mémoires de Balthus, Paris: Editions du Rocher, 2001.
(обратно)211
Там же.
(обратно)212
Alain Vircondelet. Указ. соч.
(обратно)213
Alain Vircondelet. Указ. соч.
(обратно)214
Claude Roy, Balthus, Paris: Gallimard, 1996. P. 233.
(обратно)215
Claude Roy, Balthus, Paris: Gallimard, 1996. P. 233.
(обратно)216
Выражение Зигмунда Фрейда (das Unheimliche).
(обратно)217
Claude Roy. Указ. соч., с. 233.
(обратно)218
Сказано в беседе с автором осенью 1995 года.
(обратно)219
От заголовка книги d’Annie Ernaux, Passion Simple, Paris: Galimard, Folio, 1994.
(обратно)220
«Cet amour-là», вторая работа Яна Андреа, опубликованная в 1999 году.
(обратно)221
Цит. по: Jean Vallier, C’était Marguerite Duras, tome, Paris: Fayard, 2009.
(обратно)222
Интервью Алена Вайнштейна, «Les Nuits Magnétiques», France Culture.
(обратно)223
Цит. по: Jean Vallier. Указ. соч., с. 757.
(обратно)224
В фильме Маргерит Дюрас «Негативы рук» она пытается разгадать тайну пещер, которые разрисованы отпечатками изуродованных раскрытых ладоней. Все отпечатки повернуты лицевой стороной к дневному свету, и, по мнению Дюрас, они могли быть криком любви, обращенным к миру и людям…
(обратно)225
«Cet amour-là», вторая работа Яна Андреа, опубликована в 1999 году.
(обратно)226
Прочтите эпизод с агонией мухи в Ecrire. Paris: Gallimard, 1994.
(обратно)227
Разговор с Аленом Вирконделе, см. Marguerite Duras, Paris: Seghers, 1972.
(обратно)228
Цит. по: Laure Adler, Marguerite Duras, Paris: Gallimard, 1998. P. 501.
(обратно)229
Цит. по: Laure Adler. Указ. соч., с. 545.
(обратно)230
Yann Andréa, M.D., Paris: Editions de Minuit, 1983. P. 118.
(обратно)231
Marguerite Duras, C’est tout.
(обратно)232
Там же.
(обратно)233
Marguerite Duras. Указ. соч.
(обратно)

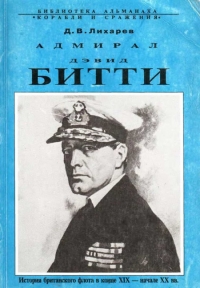
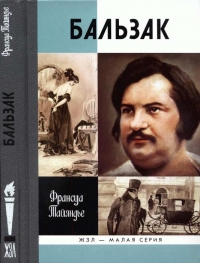
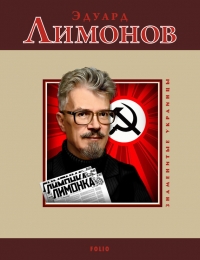
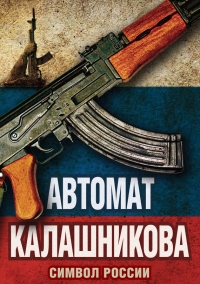
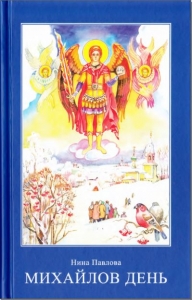




Комментарии к книге «Легендарная любовь. 10 самых эпатажных пар XX века. Хроника роковой страсти», Ален Вирконделе
Всего 0 комментариев